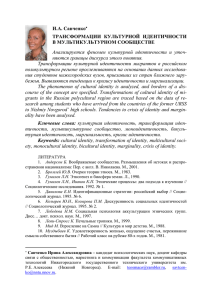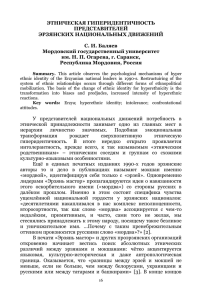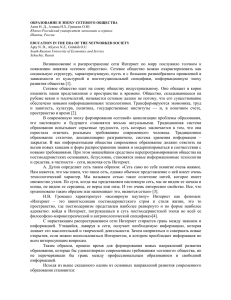Размышления над новой книгой ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ ИЛИ ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ?
реклама
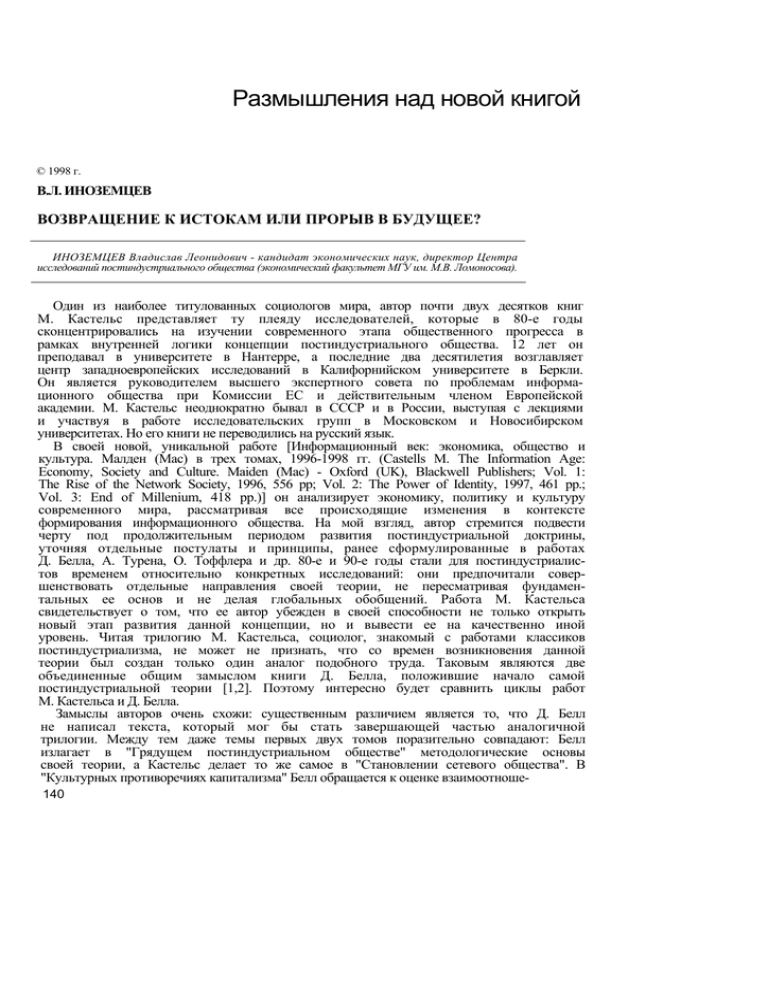
Размышления над новой книгой © 1998 г. В.Л. ИНОЗЕМЦЕВ ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ ИЛИ ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ? ИНОЗЕМЦЕВ Владислав Леонидович - кандидат экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества (экономический факультет МГУ им. M.B. Ломоносова). Один из наиболее титулованных социологов мира, автор почти двух десятков книг М. Кастельс представляет ту плеяду исследователей, которые в 80-е годы сконцентрировались на изучении современного этапа общественного прогресса в рамках внутренней логики концепции постиндустриального общества. 12 лет он преподавал в университете в Нантерре, а последние два десятилетия возглавляет центр западноевропейских исследований в Калифорнийском университете в Беркли. Он является руководителем высшего экспертного совета по проблемам информационного общества при Комиссии ЕС и действительным членом Европейской академии. М. Кастельс неоднократно бывал в СССР и в России, выступая с лекциями и участвуя в работе исследовательских групп в Московском и Новосибирском университетах. Но его книги не переводились на русский язык. В своей новой, уникальной работе [Информационный век: экономика, общество и культура. Малден (Мас) в трех томах, 1996-1998 гг. (Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture. Maiden (Mac) - Oxford (UK), Blackwell Publishers; Vol. 1: The Rise of the Network Society, 1996, 556 pp; Vol. 2: The Power of Identity, 1997, 461 pp.; Vol. 3: End of Millenium, 418 pp.)] он анализирует экономику, политику и культуру современного мира, рассматривая все происходящие изменения в контексте формирования информационного общества. На мой взгляд, автор стремится подвести черту под продолжительным периодом развития постиндустриальной доктрины, уточняя отдельные постулаты и принципы, ранее сформулированные в работах Д. Белла, А. Турена, О. Тоффлера и др. 80-е и 90-е годы стали для постиндустриалистов временем относительно конкретных исследований: они предпочитали совершенствовать отдельные направления своей теории, не пересматривая фундаментальных ее основ и не делая глобальных обобщений. Работа М. Кастельса свидетельствует о том, что ее автор убежден в своей способности не только открыть новый этап развития данной концепции, но и вывести ее на качественно иной уровень. Читая трилогию М. Кастельса, социолог, знакомый с работами классиков постиндустриализма, не может не признать, что со времен возникновения данной теории был создан только один аналог подобного труда. Таковым являются две объединенные общим замыслом книги Д. Белла, положившие начало самой постиндустриальной теории [1,2]. Поэтому интересно будет сравнить циклы работ М. Кастельса и Д. Белла. Замыслы авторов очень схожи: существенным различием является то, что Д. Белл не написал текста, который мог бы стать завершающей частью аналогичной трилогии. Между тем даже темы первых двух томов поразительно совпадают: Белл излагает в "Грядущем постиндустриальном обществе" методологические основы своей теории, а Кастельс делает то же самое в "Становлении сетевого общества". В "Культурных противоречиях капитализма" Белл обращается к оценке взаимоотноше140 ния общества и личности; Кастельс исследует аналогичные вопросы в "Силе самосознания". Между тем композиционный и даже эмоциональный контекст работ совершенно несопоставим. У Белла мы находим фундированное изложение давно проработанной и четко усвоенной им самим концепции. Он определяет постиндустриальное общество с различных его сторон более сорока раз, не только отмечая основные принципы, вокруг которых строится это общество [3, pp. 112-116, 119], но и анализируя условия возникновения и ход его становления [4, pp. 146-155]. При каждом удобном случае он справедливо подчеркивает, что "концепция постиндустриального общества является аналитической конструкцией, ...парадигмой, определяющей новые направления организации и стратификации развитых западных обществ" [3, р. 483]. При этом вся проблематика рассматривается на примере США как общества, уже обладающего постиндустриальными чертами. Иную картину мы наблюдаем у Кастельса. В первой части трилогии, наиболее насыщенной теоретическими обобщениями, можно найти лишь абстрактную апелляцию к понятию "сетевого общества". Автор подчеркивает глобализацию современных технологий, экономики и культуры, растущую взаимозависимость всех обществ и всех их элементов друг от друга, но не определяет ни одно из используемых им фундаментальных понятий. Лишь отмечается, что "впервые в истории структурной единицей хозяйственной организации становится не отдельный субъект, индивидуальный или коллективный, а сеть, представленная многими личностями и организациями" [5, р. 198]. Именно такое состояние характерно для общества, которое обозначено автором как информационное (informationalism), и четкого определения которого мы ни разу не встречаем во всех трех томах его исследования [5, pp. 17-19, 21 note]. В этой связи понятно, что его подход не ограничен и не может быть ограничен рамками одной страны или даже группы стран. Уже в первой части, при анализе хозяйственных процессов, исследуется опыт целого ряда государств, а проблема глобализации рассматривается как прямое следствие становления информационной экономики, как ее неотъемлемая черта [5, pp. 69—80, 145-148]. В отличие от Белла, который рассматривает постиндустриальное общество лишь как теоретическую конструкцию, возможность использования которой еще требует доказательства, Кастельс считает информационную экономику чем-то данным, полагая ее основным элементом зарождающегося общества, которое он называет "сетевым" (network society). Сложно преодолеть ощущение, что в работе происходит постоянное смещение этих двух социальных форм. Хотя автор зачастую указывает, что элементами "сети" выступают контрагенты (subjects), которые, как правило, не являются индивидами, хотя и могут состоять из них [6, р. 10], он всем ходом своих рассуждений дает понять, что в сегодняшних условиях "сети" (nets) становятся не менее важным способом связи индивидов, чем само общество. В такой ситуации анализ информационной экономики становится первой частью концепции, второй - с неизбежностью оказывается исследование развивающейся индивидуальности человека и его места в современном социуме. Пытаясь определить информационное общество, М. Кастельс основывается на том, что таковое отмечено не большей, нежели ранее, ролью знания, а изменением направления его приложения. Указывая, что новый социум, как и традиционный индустриальный строй, предполагает высокую роль знания, он подчеркивает, что определяющим его внутреннюю структуру является перенесение наиболее ярких проявлений технологического прогресса в область прежде всего информационных технологий [5, р. 91]. Именно это обстоятельство делает присущий данному обществу тип хозяйства намного более космополитичным по сравнению с его предшественниками, позволяя сетевой форме связи занимать доминирующие позиции среди всех иных форм социального взаимодействия: "информационная экономика, - пишет автор, - глобальна, то есть позволяет в каждый момент времени оперировать в масштабах всего мира" [5, р. 92]. 141 Данный тезис несет в работе весьма существенную логическую нагрузку, именно на его основе утверждается, что "переход от индустриализма к информационализму (informationalism) не эквивалентен переходу от аграрного хозяйства к индустриальному, как не может он быть сопоставлен и со становлением сервисной экономики [5, р. 92]. По сути дела, М. Кастельс предлагает рассматривать информационное общество как качественно отличное от прежних типов социальных структур. Подобное утверждение радикально противоречит всесторонне аргументированному положению Д. Белла о том, что "постиндустриальное общество не замещает индустриальное, или даже аграрное общество, ...оно добавляет новый аспект, в частности в области использования данных и информации, которые представляют собой необходимый компонент усложняющегося общества" [4, р. 198], и, как обладающее заметной новизной, требует серьезного обоснования. Однако его в работе нет. Более того, предлагая это - прямо противоположное выдвинутому Д. Беллом - положение, М. Кастельс проводит исследование структуры занятости и структуры общественного продукта в современном обществе [5, р. 221], получая данные, вполне аналогичные тем, которые отмечали применительно к сфере услуг его предшественники. Тем не менее он остается приверженцем утверждения исключительной значимости перехода к информационному обществу. На мой взгляд, отсутствие новой аргументации при выдвижении новых тезисов нельзя считать сильной стороной данной работы. Несовершенство его трактовки современного информационного общества можно отметить и на примере анализа такой важнейшей проблемы, как вопрос о структуре и роли современных социальных элит. Данная проблематика всегда находилась в центре внимания постиндустриалистов. При этом, в большинстве случаев они полагали, что в современных условиях рабочий класс и буржуазия противостоят друг другу на крайне ограниченном пространстве индустриального сектора и даже не могут быть определены как социальные классы [7, р. 133], а новая элита возникает как меритократия, членами которой становятся "ученые, математики, экономисты и представители новой интеллектуальной технологии" [3, р. 344], образующие в совокупности технократический класс - доминирующую группу постиндустриального общества [8, р. 70]. В отличие от этих авторов, М. Кастельс, считающий, что сегодня "власть заключена в человеческом сознании, в информационных кодах и репрезентативных образах, вокруг которых общества организуют свои учреждения, а люди строят свою жизнь и определяют свое поведение" [6, р. 359], полагает, что в новом обществе ни обладатели прав собственности, ни представители класса управленцев не являются вершителями судеб мировой экономики. На их место приходят "глобальные финансовые сети и институты, являющиеся нервными центрами информационного капитализма" [9, р. 343]. Между тем утверждение, что "всемирные финансовые рынки являются сегодня реальными коллективными капиталистами" [9, р. 342-343], на мой взгляд, не проясняет ни социальной структуры современного общества, ни направлений его прогресса. Другой стороной трактовки современного социума является у М. Кастельса анализ взаимодействия информационного общества как целого с составляющими его личностями. Отмечая, что "общества информационной эры не могут быть в полной мере поняты лишь на основе оценки структуры и динамики network societies" [9, p. 352], он признает необходимость анализа субъективного фактора в современной экономике, не считая взаимодействие личности и социума все более гармонизирующимися, утверждая, что "современные общества во все возрастающей степени структурируются вокруг противостояния сетевых систем (Net) и личности (Self)" [5, р. 3]. Данный тезис требует пояснения. Безусловно, в сегодняшних условиях борьба личности против распространяющейся унификации и отчуждения, против господствующих общественных институтов составляет одну из важных сторон жизни социума, быть может, не настолько существенную, как это полагает А. Турен [10, pp. 15, 117], но все же достойную внимания. Поэтому положение о том, что "теория информационного общества, в отличие от концепции информационной экономики, должна учитывать 142 историко-культурную специфику не в меньшей мере, чем структурные сходства, связанные с распространяющейся технико-экономической парадигмой" [5, р. 22], не может вызвать серьезных возражений. Более важным представляется иной аспект проблемы. Автор прямо указывает, что "глобализация и реструктуризация хозяйства, появление организационных сетей, распространение культуры виртуальной реальности и развитие технологии ради развития технологии - все эти основные черты информационной эры - становятся источниками кризиса государства и гражданского общества в том их понимании, какое существовало в индустриальную эпоху" [6, р. 358]. Такой констатацией отмечены не только работы М. Кастельса, однако в них она становится основанием для противоречивых, а порой взаимоисключающих выводов. С одной стороны, автор признает, что становление и развитие информационного общества представляет собой явление прогрессивное, с другой - он утверждает, что "по мере того как networks преодолевают факторы времени и расстояния, люди во все возрастающей степени стремятся самоопределиться в пространстве и возродить свою историческую память" [6, р. 67]. Последнее служит условием развития той identity, которая порождает развитые формы самосознания субъекта и социальные движения последних десятилетий; и первые, и вторые выступают в работе фундаментальными признаками современного мирового порядка и тоже не расцениваются как проявление регресса. Таким образом, развитие информационного общества и самореализация личности представляются в относительно равной степени прогрессивными процессами, однако в то же время определяются автором не как взаимодополняющие, а как противоположные. Тем самым мы подходим к проблеме identity, которая является центральным элементом всего второго тома данной фундаментальной работы. Считаю, что это понятие наиболее близко русскому термину "самосознание", однако оно используется автором столь часто и в столь разных значениях, что в некоторых случаях целесообразно отмечать его наряду с русскими аналогами. Осмысление понятия самосознания М. Кастельс начинает с утверждения о том, что самоопределение личности в современных условиях становится столь же важным источником развития, как и технико-экономические изменения [5, р. 4]. Этот тезис вполне справедлив, широко распространен в современной западной социологии и не может вызвать существенных возражений. Столь же несомненным выглядит и констатация растущей роли личности и повышающего значения ее внутренней самооценки [5, р. 24]. Между тем следует обратить особое внимание на важное ограничение понятия identity, вводимое автором при его определении. Он пишет "identity представляет собой процесс, в ходе которого субъект осознает себя и осмысливает ценностные ориентиры своей деятельности на основе определенного культурного подхода или группы подходов образом, исключающим необходимость широкого обращения к иным социальным структурам (курсив мой. - В.И.)" [5, р. 22; 6 , р. 6 ]. В эт ом с л у ча е а в т о р в е с ьм а ж е с т к о р а з г р а н и ч и в а е т с а м о о п р е д е л е н и е человека и общественные институ ты, считая их двумя различными, а порой и противостоящими дру г дру гу формами социальной организации. Такая трактовка кажется несколько условной и является, на мой взгляд, данью традиции. Именно ввиду столь однозначного определения identity рассматривается автором как оборотная сторона "сетевого общества", как причина фактически всех проявлений человеческой природы, оппозиционных или хотя бы считающих себя оппозиционными сложившемуся хозяйственно-политическому строю. Развивающееся самоопределение однозначно трактуется М. Кастельсом как причина и одновременно как следствие "нарастающего разрыва между глобализацией и личностью, между Сетью (Net) и Личностью (Self)" [5, р. 23]. В связи с этим соответствующее понятие используется в работе для обозначения множества явлений, которые, на мой взгляд, правильнее было бы рассматривать как разнопорядковые, нежели происходящие из одного источника. 143 Рассматривая применение автором понятия identity, можно утверждать, что оно используется им как бы на двух различных уровнях. На первом оно применяется в широком смысле, обозначая весьма различные явления. Так, М. Кастельс говорит о существовании биологической и культурной identity и о взаимодействии между ними как об одном из источников прогресса [5, р. 15], полагает, что на этапе распада советской системы во всем социалистическом лагере произошел переход от идеологической identity к укорененной в создании людей исторической identity [5, р. 24]; противопоставляет социо-биологическую и глобальную identity [6, р. 127]; квалифицирует "самосознание тела" (body identity) в качестве следствия изменившихся представлений о содержании и роли сексуальности [6, с. 235] и исследует с этих позиций социальные движения, порождаемые стремлениями к сексуальной свободе как играющие важную роль в становлении новых типов общественных взаимоотношений [6, pp. 240, 242]. Подобные примеры можно продолжать. Второй уровень применения данного термина представляется гораздо более концептуальным. Здесь автор выделяет три типа identity, каждый из которых способен выступать реальным движителем социального прогресса. Первый, обозначенный М. Кастельсом как "законообразующее самосознание" (legitimizing identity), характерен для индустриального строя и соответствует системе ценностей, порождающей традиционное гражданское общество и национальное государство; второй - "самосознание сопротивления" (resistance identity, or identity for resistanse) обусловливает переход к новому типу ценностей, формирующемуся вокруг признания значения локальных общностей, тех, которые автор вслед за А. Этциони называет (community); третий же, обозначаемый им как project identity, становится основой формирования личности как Субъекта (sujet) в понимании А. Турена [6, pp. 8-9]. Подобная трактовка объективно становится для автора основанием оригинального осмысления современной реальности, приводящего его к концепции, состоящей из известных постулатов сторонников постмодернизма и его собственных, в большей части весьма дискуссионных, тезисов. М. Кастельс повторяет широко распространенный тезис, когда утверждает, что индустриальная система с присущим ей индивидуализмом и порождаемой ею отчужденностью человека от человека вызывает нарастающий кризис личности, угрожающий социальному прогрессу [5, р. 24]. Между тем он указывает, что роль самосознания и самоопределения возрастает сегодня в первую очередь потому, что именно они становятся источником, из которого люди черпают понимание значимости собственной деятельности [6, р. 7]; отсюда - вывод, согласно которому именно развивающееся самосознание становится сегодня тем центром устойчивости в постоянно меняющемся мире, которым ранее выступали различные социальные институты [6, р. 360]. Однако подобный подход контрастирует с широким использованием понятия identity. Обозначая им весьма разнообразные формы проявления протеста против существующей реальности, автор не может убедить читателя в том, что эта тенденция способна сделать социум более стабильным и совершенным. Основным проявлением растущего значения самоопределения М. Кастельс считает социальные движения [6, р. 138], причем указывает, что рост самосознания, зовущего к сопротивлению, идет параллельно со снижением роли законообразующего самоопределения, падением значимости государства и других социальных институтов [6, pp. 66-67]. Выходом видится рост влияния коммунального самоопределения, когда человек стремится найти свое место в относительно локальном сообществе себе подобных. Это положение настолько преувеличено автором, что он не останавливается даже перед определением граждан, не отягощенных принадлежностью к подобным группам, как identity-less individuals [6, p. 356], вне зависимости от того, насколько совершенны они в других аспектах. В этой ситуации уместно вспомнить слова Т. Мора, писавшего пятьсот лет назад о своем идеальном обществе: "утопийцы верят, что после земной жизни за пороки установлены наказания, за добродетели назначены награды, а тех, кто думает иначе, они даже не числят среди людей" (курсив мой. - В.И.) [11, сс. 259-260]. Мрачная социальная утопия Т. Мора 144 имеет нечто общее с идеями М. Кастельса, если проанализировать их более подробно. По мере проникновения в авторскую трактовку современных форм identity все более трудно преодолеть впечатление, что под таковыми понимаются скорее не конструктивные, а деструктивные, либо легко превращающиеся в них начала. Автор вскользь признает, что одним из важнейших факторов устойчивости криминальных сообществ становится их cultural identity, лишь укрепляющаяся по мере их глобализации [9, р. 204], resistance identity, столь воспеваемая М. Кастельсом, оказывается в значительной мере порожденной body identity [6, p. 359], т.е. уходит своими корнями в области бессознательного и биологического. Еще больше вопросов вызывает утверждение автора о том, что сила социальных движений, основанных на стремлении к самоопределению, обусловлена их автономностью как от институтов государства, так и от логики капитала и прогресса технологии [9, р. 352]. В этом случае читатель сталкивается с утверждением, которое может быть истолковано как предположение о позитивной роли фундаменталистских движений и иных объединений фанатиков всех мастей, так как только они в полной мере отвечают отмеченным требованиям. В этой связи становится понятным, почему автор с таким вниманием относится к разного рода маргинальным движениям, религиозному сектантству, к политическому экстремизму, подобному запатистскому восстанию в Мексике, а также к криминальной экономике как мировому явлению. На последней проблеме остановимся подробнее, поскольку она занимает совершенно особое место в проведенном автором анализе. На примере ее оценки можно заметить, сколь настойчиво он стремится изобразить заинтересовавшие его по той или иной причине явления как фундаментальные и обусловленные глубинными причинами. Отмечая, что "включение криминальной деятельности в международные networks составляет одну из принципиальных черт современного глобального хозяйства" [9, р. 167]. М. Кастельс отмечает по меньшей мере три стороны, которые должны убедить читателя в важности данного феномена. Во-первых, он полагает, что развитие криминальной экономики становится следствием роста взаимозависимости между формальным сектором хозяйства и государственными институтами [9, р. 75]; во-вторых, что вытекает из предшествующего обстоятельства, криминальные сообщества не только преследуют свои вполне определенные цели, но могут также рассматриваться как отражение попыток отдельных групп людей и даже целых территорий влиться в современную глобальную экономику [9, р. 337]; в-третьих, таковые обладают существенным культурным влиянием, так как оказываются действенным инструментом распространения соответствующей системы ценностей среди широких слоев общества, в первую очередь среди молодежи [9, р. 214]. Не отрицая всех отмеченных автором обстоятельств, отмечу, что они не могут служить основанием для отнесения включенности криминальной деятельности в networks к числу фундаментальных характеристик современного мира. На этом примере мы сталкиваемся с тем, сколь далеко могут зайти теоретические рассуждения в случае, когда очень хочется придать проблеме, к которой автор обратился одним из первых среди западных социологов, значение, соответствующее самомнению. Стремление обозначить тесную связь между хозяйственными и культурными сторонами общественной жизни и рассмотреть те или иные экономические достижения как порожденные культурными и политическими факторами проявляется у автора постоянно. Он утверждает, что в своем большинстве социальные движения, возникшие после 1968 г., не были реакцией на экономические проблемы и процессы, а носили чисто культурный характер [9, pp. 339-340]. По его мнению, "технологическая революция, реструктуризация экономики и культурное развитие сочетаются как равнопорядковые факторы, приводящие к формированию тех новых отношений производства новой системы власти и новых традиций опыта, на которых строится современное общество [9, т. 340]. Более того, роль культурной сферы, как и роль самоопределения, имеет, по его мнению, явную тенденцию к повышению, а куль145 турные противостояния кажутся автору "основной формой столкновения социальных сил в условиях информационной эры" [9, р. 348]. Выводы, которые он делает из подобных рассуждений, не могут не вызывать противоречивых оценок. Если к идеям относительно того, что богатство культуры африканских народов способно привести к возрождению континента при условии, что таковое будет происходить на основе принятия и развития свойственных его населению ценностей [9, р. 127], можно отнестись с некоторой долей понимания, то предпринимаемый М. Кастельсом более конкретный анализ экономик стран Юго-Восточной Азии может вызвать сегодня лишь усмешку. Утверждения о том, что культурная среда этих стран позволит им стать лидерами мировой экономики, в нынешних условиях не нуждаются в комментариях. Автор пишет, что японские инвестиции в экономику государств данного региона формируют роль этой страны как центра новой империи [9, pp. 213-215]. Но этим вряд ли утешатся японские финансисты; сегодня они, как никакие другие увязшие в безнадежных долгах своих соседей. Он рассуждает о том, что Южная Корея развивается очень успешно, инвестиции там используются крайне умело, а внешний долг, как и расходы на его обслуживание, становится все меньше [9, р. 251]. Но этого не ощущают сами корейцы, сдающие сегодня свои золотые украшения, чтобы хоть немного уменьшить бремя внешнего долга, достигшего немыслимых размеров. Можно анализировать отдельные стороны работы М. Кастельса, отмечая ее достоинства и недостатки. Однако подведем некоторые итоги. Здесь придется вновь, как и ранее, сравнить его с книгами Д. Белла. Оба автора в своих работах отталкиваются от реальных процессов, происходящих в современном социуме, оба оперируют большим количеством статистических данных, оба стремятся проследить наиболее важные, по их мнению, исторические тенденции. Между тем книга Д. Белла представляется менее заданной изначально, она начинается обзором воззрений на предмет его исследования, продолжается оценкой реальных процессов и завершается разделом "Coda" - фактически небольшой самостоятельной брошюрой - содержащим подробные выводы, к которым приходит автор. В то же время труд М. Кастельса открывается введением, в котором предварительно излагается все основные его идеи, и завершается заключением, текст которого по уровню аргументированности мало чем отличается от предваряющего работу, факты, статистические данные, графики и схемы, в изобилии содержащиеся в трех томах, оказываются как бы иллюстрациями, мало способствующими усвоению главных идей книги, а то и вовсе не вписывающимися в основную линию изложения. Хорошо известно, каким образом определял цель своего исследования Д. Белл, таковой для него было создание завершенной концепции постиндустриального общества как парадигмы, открывающей путь к исследованию современного мира [1, pp. 119, 483]; как теории, показывающей, каким образом постиндустриальные тенденции совершенствуют существующий социум [4, р. 198], как они добавляют к ранее возникшим институтам новое измерение, "углубляющее комплексность общества и природу социальной структуры" [12, р. 167]. В отличие от него, М. Кастельс движим иными мотивами, которые становятся понятыми с учетом того, какие события последнего времени отмечены им как наиболее существенные. Так, автор отмечает, что планета впервые организована вокруг общепризнанных экономических правил [9, р. 338], чем признает вроде бы растущую унифицированность мира, и в то же время утверждает, что характерными чертами современной эпохи выступают два феномена: дезинтеграция многонациональных государств и развитие самосознания наций, ранее не имевших своей государственности [6, pp. 51—52]; приход информационной эры [9, р. 346] и переход к обществу, основанному на опыте персональных взаимодействий [там же], впечатляет его не больше, чем активизация запатистского движения [6, р. 72-83], деятельность религиозных сект [6, pp. 97-104], возникновение мировой криминальной экономики [9, pp. 166-205], неожиданный (!) коллапс советского коммунизма [9, р. 338] и формирование Европейского союза [9, р. 355]. Складывается впечатление, что зрелый исследователь решил взглянуть на 146 мир глазами ребенка, которому интересно все, что происходит вокруг. Более того, он сам высказывает этот тезис в форме, способной стать достойным эпиграфом к его трехтомнику, когда пишет: "Но если нет ничего нового под солнцем, то стоит ли пытаться что-то исследовать, о чем-то думать и писать, что-то читать?" [9, р. 336]. Однако работы, ставшие итогом именно такого подхода, никогда еще не открывали новой эпохи в развитии науки; не откроет ее, судя по всему, и фундаментальный, на первый взгляд, труд Мануэля Кастельса. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ \.Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. N.Y., Basic Books, 1973. 2. Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism. N.Y., Basic Books, 1976. 3. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. N.Y., Harper/Collins, 1996. 4. Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism. N.Y., Basic Books, 1996. 5. Castells M. The Rise of the Network Society. 6. См.: Castells M. The Power of Identity. P. 10. 7. Touraine A. La retour de l'acteur. P., 1988. 8. Touraine A. The Post-Industrial Society. N.Y., 1974. 9. Castells M. End of Millenium. 10. Touraine A. Pourrons-nous vivre ensemble? Egaux et defferents P., 1997. 11. Mop Т. Утопия. М., 1978. 12. Bell D. The Third Technological Revolution and Its Possible Socio-Economic Consequences. // Dissent. Vol. XXXVI. № 2. Spring 1989. Книжная полка социолога Революция притязаний и изменение жизненных стратегий молодежи: 1985-1995 годы / Под ред. B.C. Магуна. Ин-т социологии РАН. М.: Изд-во Ин-та социол. РАН, 1998. 148 с. САГАТЕЛЯН Г.Ш. Рабочий класс и соревнование: методология и историография проблемы. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1997. 147 с. СМЕЛЗЕР Н. Социология / Пер. с англ.; Науч. ред. В.А. Ядов. М: Феникс, 1998. 688 с. Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технология разрешения. Вып. 13. Региональная конфликтология: Казахстан / РАН. Ин-т социологии; Центр конфликтологии. М., 1997. 262 с. ТАТАРОВА Г.Г. Методология анализа данных в социологии (введение) / Учеб. пособие для вузов. М: Изд. дом "Стратегия", 1998. 224 с. (Высшее образование). ФЛЯЙНЕР Т. Что такое права человека / Пер. с нем. Г. Люхтерхандт. М: ИГПИ, изд-во "Логос", 1997. 136 с. ШАМПАНЬ П. Делать мнение: новая политическая игра / Пер. с фр. М.: Socio-Logos, 1997. 336 с. ШЕРЕГИ Ф.Э., ХАРЧЕВА В.Г., СЕРИКОВ В.В. Социология образования: прикладной аспект. М: Юристъ, 1997. 301 с: диагр. (Социология). Экономика и социология труда: учебник для студентов / Удм. гос. ун-т и др. Ижевск, 1997. 621 с. Материал подготовила B.C. СЫЧЕВА 147