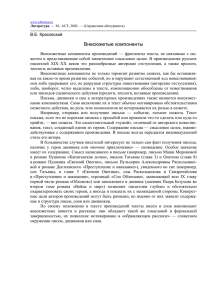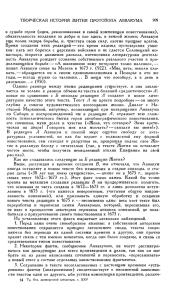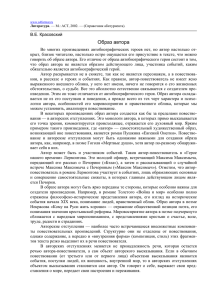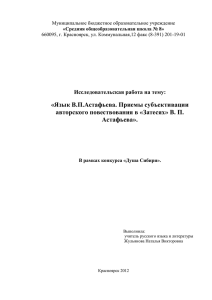Саморукова И
реклама

1 Саморукова И.В. «Скрытое»: конструирование авторской интенции в ситуации ненадежности повествования. Статья посвящена проблеме границы между абстрактным автором и повествователем в художественных текстах нового времени, а также способам конструирования этой границы. Проблема границы между автором и нарратором связывается в статье с «эстетическим режимом» художественной мысли, когда само повествование воспринимается как знак, подлежащий декодированию и интерпретации. В этом докладе речь пойдет о проблеме границы между так называемым абстрактным автором и повествователем. Абстрактный автор - одно из многих названий (то же имплицитный автор, концепированный автор, «реальный автор» (М.Бахтин)), которое дается теоретиками для обозначения общего конструктивно-концептуального принципа организации литературного произведения, так сказать, центра связности его структуры и семантики. Общепринятым сегодня является признание несводимости автора к любой из нарративных инстанций текста, прежде всего к самому нарратору. Отсюда - взгляд на автора как на семантический эффект, результат субъективного читательского восприятия, которое, однако, опирается на объективно существующие в тексте «симптомы» авторского присутствия. Такую позицию можно считать компромиссом, своеобразным итогом долгих дискуссий по этой проблеме1. Однако сами эти дискуссии, казалось бы, уже отошедшие в прошлое, были порождены осознанием проблематичности конструирования (интерпретации) авторской интенции в текстах нового времени. Появившаяся в эпоху романтизма, эта проблематичность сама по себе становится симптомом «ненадежности» художественного повествования, «Ненадежность» заключается в том, что читатель не может безоговорочно доверять словам повествователя, что сам нарратив воспринимается как некий знак, подлежащий расшифровке, декодированию – только так мы и можем реконструировать авторский взгляд. Логическое определение статуса 2 художественного повествования как не подлежащего верификации в качестве истинного или ложного, тоже является одним из свидетельств его ненадежности. Однако проблематичность, ненадежность художественного повествования существовала не всегда, имеет исторически преходящий характер. По мнению Жака Рансьера, она связана с изменением «режима художественной мысли», под которым философ понимает «специфический способ связи между различными практиками [в художественном произведении] и способ зримости и осмысляемости этих практик»2, иными словами способ мысли в искусстве и мысли об искусстве. Тот художественный режим, который проблематизировал границу между автором и повествованием, Рансьер называет «эстетическим художественным режимом». Он ознаменовал переход от «изображения к выражению», от поэтики в аристотелевском понимании этого слова к «поэзии». Изобразительный режим определяли четыре принципа, нормирующие отношения между словом и действием, между словом и намерением, в нашем случае - авторской интенцией: 1) принцип вымысла (суть поэмы в подражании действию, а не в формальном использовании языковых ресурсов); 2) принцип жанровости, согласно которому вымысел должен соответствовать некоему жанру, который в свою очередь определяется природой того, что подлежит изображению; 3) принцип уместности – должна соблюдаться подобающая жанру природная, историческая, моральная, конвенциональная уместность речей и действий; 4) принцип действенности, предполагающий примат речи как действия, что подразумевает вписанность ее в социальную ситуацию3 . При таком режиме авторская интенция опирается на жанровую норму и границы между автором и повествованием, в частности, между автором и нарратором, оказываются четко просматриваемыми внешними границами. Это даже не столько границы, сколько жанровые рамы. В конкретных произведениях внешняя граница может проявляться, например, в виде обрамляющего текста, в котором провозглашается 3 дистанция между автором и нарратором. Граница может быть реализована и в виде жесткого следования жанровой картине мира, как в плутовском романе. Граница может быть обозначена и включением в произведение фрагментов морального, философского дискурсов, жестко отделенных от собственно рассказывания истории - зон прямого авторского комментария, в которых выключается режим вымысла. Автор конструирует интенцию текста, следуя четырем вышеперечисленным принципам, благодаря которым его активность обретает нормативный, надежный характер. Мы полагаемся на слово, потому, что оно изображает готовый предмет согласно правилам. «Эстетический режим искусства», по выражению Рансьера, «меняет космологию» произведения: «Примату вымысла противостоит примат языка. Распределению по жанрам – антижанровый принцип равенства всех представляемых тем. Принципу уместности – безразличие стиля в отношении представленной темы. Идеалу речи в действии противостоит модель письма»4 . «Эстетический режим», как мы видим, устанавливает внутренние границы между автором и повествованием, точнее, он превращает конструирование этой границы в проблему произведения. Авторская интенция подчеркивает антинормативный, а следовательно, ненадежный характер самого повествования и прежде всего повествователя. Какие же способы используются для конструирования этой границы, которая теперь становится основным «местом» обнаружения симптомов авторского присутствия? Самым проблематичным здесь оказывается не первое лицо гомодиегетического повествования, ибо в этом случае, как и прежде, довольно часто используются рамочные конструкции, а как раз так называемое третье лицо, лицо безличного субъекта письма, которое больше не может быть воспринято как прозрачный голос опирающейся на жанр нормы. Первое лицо, особенно если повествователь оказывается героем произведения, само по себе воспринимается как безусловный знак эстетической границы. Хотя в этом случае прием может оказаться и уловкой 4 для сокрытия определенной моральной интенции текста, защищающей конкретного автора от сурового общественного мнения, как в случае, например, с У. Берроузом и подобного рода «этнографической литературой». Но последнее все же не отменяет статус первого лица как знака эстетической границы. Мало того, чем более вызывающ этический облик рассказчика, тем больше у автора оснований дистанцироваться от него эстетически. Таким образом, этическое становится знаком эстетической границы (разумеется, в большинстве случаев есть и другие способы выстраивания границы, как-то фрагментация повествования, система интертекстуальных связей, пародия и пр., но о них будет сказано позднее). Безличное «третье лицо» при новом режиме художественной мысли, когда эта мысль становится заблуждение своей «скрытым» самого мнимой надежностью. повествования, Эта мнимая вводит в надежность становится предметом, с одной стороны, авторской заботы., а с другой, читательской активности. Наивное письмо, как и наивное восприятие ненадежного (то есть художественного в современном смысле этого слова) повествования, подобно мальчику из сказки Андерсена о голом короле, обнажает «сомнительность» всякого художественного письма, вступившего в режим субъективной рефлексии изобразительных норм. Вот яркий пример этому из повести И.Бунина «Деревня». Речь идет о фрагменте, где рассказывается, как самоучка Кузьма Красов решил заняться литературным творчеством и писать для народа: «Там Кузьма и писать стал, - начал рассказом о том, как один купец ехал в страшную грозу, ночью, по Муромским лесам, попал на ночлег к разбойникам и был зарезан. Кузьма горячо изложил его предсмертные мольбы, думы, его скорбь о своей неправедной и «так рано пресекшийся жизни...». Но базар без пощады окатил его холодной водой: - Ну и дурак же ты, прости господи! «Рано»! Давно пора черту пузатому! Да и как же это ты узнал-то, что он думал? Ведь его же зарезали?»5 . 5 Наивный писатель Кузьма выбирает для своего «рассказа» нетрадиционного для «базарного вкуса» героя и включает в свое повествование элементы языковой рефлексии. Это подчеркивается и бунинским повествователем, использующим в своей речи прямую «цитату» из рассказа Кузьмы. Наивный читатель оспаривает возможность знания «автора» о своем предмете. Одним из способов преодоления «ненадежности» третьего лица - и одновременно способом выстраивания границы между абстрактным автором и повествователем - становится объемная система «повествовательных перспектив», или «точек зрения», по Б.Успенского 6. Под «точкой зрения» понимается соотношение субъекта речи и ее объекта в различных планах: в идеологическом (оценочном), словесном, пространственно-временном, психологическом (последнее можно назвать системой фокализаций). Субъект речи ( нарратор) здесь оказывается производной своего отношения к объекту речи, он становится не постоянной жанровой величиной, но переменной, которой управляет некий центр композиционной связности текста, то есть автор. Композиция теперь предстает как монтаж повествовательных перспектив, как некая система внутренних границ. Следствием объемной системы повествовательных перспектив становится усиливающаяся фрагментация самого повествования, которое перестает подчиняться принципу «действенности» словесного оформления того, что русская формальная школа называла «фабулой». Напомню, что состав фабулы, по Томашевскому, это все события, связанные с основным происшествием, все поведение, все поступки действующих лиц, принимающих участие в действии, совершенно не зависящий от того, в каком порядке и как будет об этих событиях сообщено автором 7 . Само это определение можно рассматривать как рудимент «изобразительного режима художественной мысли», который предусматривает готовый предмет повествования, предмет, существующий до самого рассказа. Фрагментация уже не позволяет говорить о готовом предмете, реконструкция фабулы, довольно популярная в аналитической практике, ничего не дает, а часто 6 становится и вовсе невозможной. Какова фабула романа М.Лермонтова «Герой нашего времени»? Похождения Печорина или путешествия «проезжающего офицера», в ходе которых он узнает о многих любопытных вещах, в том числе и изучает Печорина по свидетельствам? Но предмет повествования не создается все же самим повествованием, и уж тем более нарратором, скорее наоборот – предмет захватывает нарратора и управляет им, рождаясь из работы автора с материалом, с языковым миром, с пошатнувшимися правилами репрезентации. Фрагментация, таким образом, может быть рассмотрена как граница, обозначающая авторское присутствие. Высказанная мысль о том, что предмет повествования рождается из работы автора с материалом, с языком, требует пояснений. При изобразительном режиме художественной мысли предмет определялся жанровыми конвенциями – всякий жанр предполагал уместную тему, которую следовало представлять уместными способами. Когда жанровая иерархия начинает разрушаться, «тема» и «стиль» ( если уж пользоваться языком «поэтики») перестают автоматически подчиняться принципу взаимного соответствия. Теперь связь осуществляется в режиме свободной рефлексии поэтических конвенций. Эта свобода сосредоточивается в авторе, который и представляет собой принцип свободного соотнесения «темы» и «стиля». Разумеется, эта свобода не исключает неких правил, неких новых конвенций, но теперь они как бы перемещаются внутрь личности автора как существа культуры. Своеобразным показателем этой перемены можно считать и появление в 19 веке таких практик интерпретации текста, как биографический метод и культурно-историческая школа. Итак, авторская интенция реализуется в том, как в произведении перерабатывается материал, как осуществляется остранение, рефлексия, смещение конвенций. Эта проблема не может быть решена, если оставаться лишь внутри нарративных структур. Необходимо выйти в контекст произведения. Этот контекст представляет собой не только «внешнюю 7 среду», он может быть встроен в само произведение как система интертекстуальных отсылок, в виде пародии или стилизации. Внутренний контекст произведения – это и зона приращения его смыслов в процессе исторической жизни, зона расширения ( сужения) авторского присутствия за счет активности читателя. В этом контексте возникает и такая фигура, как автор-персонаж, то есть помещенная внутрь повествуемого мира фигура сочиняющего данный текст. Эта фигура, как правило, принципа автора. связности представляет собой знак рефлексии самого Благодаря этому приему внутри автора как центра формируется граница. Эстетический режим художественной мысли становится почти тотальным. Авторская интенция в таких текстах становится почти прозрачной. Зачастую требуются особые усилия, чтобы скрыть эту прозрачность и удержаться в привычном режиме «скрытого смысла». Не эту ли цель преследует пресловутое «двойное кодирование», имитирующее не перестававший работать в массовой литературе «изобразительный режим»? Художественное повествование превращается в рефлективное письмо, само расшифровывающее собственные симптомы, делающее как бы излишними практики обнаружения скрытого авторского присутствия. Кризис аналитических практик литературоведения, включая структурализм и деконструкцию, нарастающий интерес к социологическому анализу предпосылок литературного текста, к его рецепции, связан, безусловно, с дошедшим до своего предела эстетическим режимом, когда границы между мыслью в искусстве и мыслью об искусстве стираются. 8 1 Подробнее об этом : Шмид В. Нарратология. М.,2003. С.48-50. 2 Рансьер Ж. Эстетическое бессознательное. СПб.,2004. С. 47. 3 Там же. С.119. Там же. 4 5 6 7 Бунин И.А. Деревня // Бунин И.А. Собр. соч. в 4-х томах. Т.2.М.,1988. С..150. Успенский Б. Поэтика композиции. СПб.,2000. Томашевский Б.В. Поэтика. Краткий курс. М.,1996. С.75.