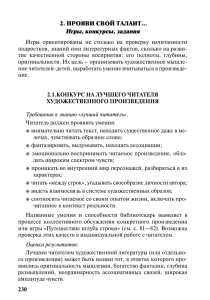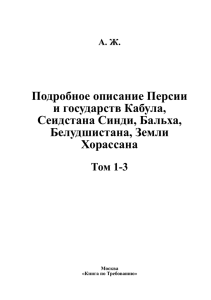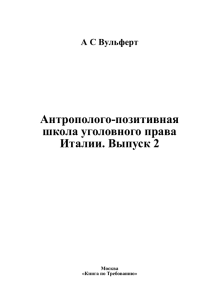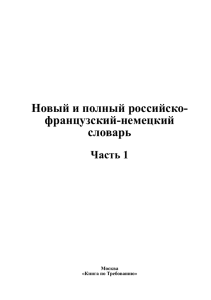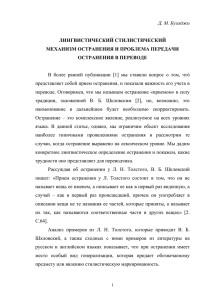Одомашнивание и остранение. О передаче речевого колорита.
реклама
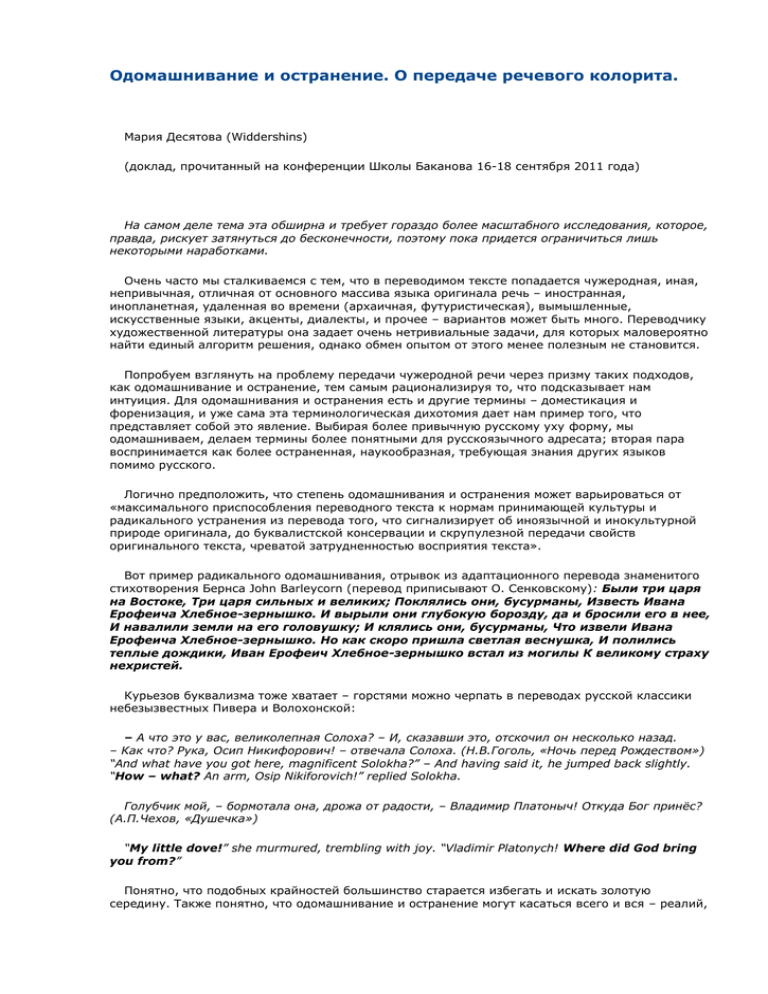
Одомашнивание и остранение. О передаче речевого колорита.
Мария Десятова (Widdershins)
(доклад, прочитанный на конференции Школы Баканова 16-18 сентября 2011 года)
На самом деле тема эта обширна и требует гораздо более масштабного исследования, которое,
правда, рискует затянуться до бесконечности, поэтому пока придется ограничиться лишь
некоторыми наработками.
Очень часто мы сталкиваемся с тем, что в переводимом тексте попадается чужеродная, иная,
непривычная, отличная от основного массива языка оригинала речь – иностранная,
инопланетная, удаленная во времени (архаичная, футуристическая), вымышленные,
искусственные языки, акценты, диалекты, и прочее – вариантов может быть много. Переводчику
художественной литературы она задает очень нетривиальные задачи, для которых маловероятно
найти единый алгоритм решения, однако обмен опытом от этого менее полезным не становится.
Попробуем взглянуть на проблему передачи чужеродной речи через призму таких подходов,
как одомашнивание и остранение, тем самым рационализируя то, что подсказывает нам
интуиция. Для одомашнивания и остранения есть и другие термины – доместикация и
форенизация, и уже сама эта терминологическая дихотомия дает нам пример того, что
представляет собой это явление. Выбирая более привычную русскому уху форму, мы
одомашниваем, делаем термины более понятными для русскоязычного адресата; вторая пара
воспринимается как более остраненная, наукообразная, требующая знания других языков
помимо русского.
Логично предположить, что степень одомашнивания и остранения может варьироваться от
«максимального приспособления переводного текста к нормам принимающей культуры и
радикального устранения из перевода того, что сигнализирует об иноязычной и инокультурной
природе оригинала, до буквалистской консервации и скрупулезной передачи свойств
оригинального текста, чреватой затрудненностью восприятия текста».
Вот пример радикального одомашнивания, отрывок из адаптационного перевода знаменитого
стихотворения Бернса John Barleycorn (перевод приписывают О. Сенковскому): Были три царя
на Востоке, Три царя сильных и великих; Поклялись они, бусурманы, Известь Ивана
Ерофеича Хлебное-зернышко. И вырыли они глубокую борозду, да и бросили его в нее,
И навалили земли на его головушку; И клялись они, бусурманы, Что извели Ивана
Ерофеича Хлебное-зернышко. Но как скоро пришла светлая веснушка, И полились
теплые дождики, Иван Ерофеич Хлебное-зернышко встал из могилы К великому страху
нехристей.
Курьезов буквализма тоже хватает – горстями можно черпать в переводах русской классики
небезызвестных Пивера и Волохонской:
– А что это у вас, великолепная Солоха? – И, сказавши это, отскочил он несколько назад.
– Как что? Рука, Осип Никифорович! – отвечала Солоха. (Н.В.Гоголь, «Ночь перед Рождеством»)
―And what have you got here, magnificent Solokha?‖ – And having said it, he jumped back slightly.
―How – what? An arm, Osip Nikiforovich!‖ replied Solokha.
Голубчик мой, – бормотала она, дрожа от радости, – Владимир Платоныч! Откуда Бог принѐс?
(А.П.Чехов, «Душечка»)
―My little dove!‖ she murmured, trembling with joy. ―Vladimir Platonych! Where did God bring
you from?‖
Понятно, что подобных крайностей большинство старается избегать и искать золотую
середину. Также понятно, что одомашнивание и остранение могут касаться всего и вся – реалий,
идиоматичной лексики, имен, топонимов и т.п. Мы же остановимся на таком аспекте, как речь,
чужеродная, инакая для языка перевода.
Сама по себе она тоже является примером отстранения – создаваемого самим автором для
своих же читателей, читающих на одном с ним языке. Зачем? И какие формы может принимать
эта самая чужеродная речь?
Причины ввода «чужеродности»:
- аутентичность/достоверность (странно если представитель инакой культуры, цивилизации,
иного времени начнет изъясняться сразу на понятном языке)
- комический эффект
- остранение как таковое – подчеркнуть межкультурные различия, так и или иначе
противопоставить персонаж остальным.
И здесь тоже возникает масса подвидов:
- иностранец как он есть – турист, пришелец с другой планеты и т.п., изъясняющийся только
на своем языке, отличном от языка оригинала. Язык может быть при этом и реально
существующим, и вымышленным. Возможна обратная ситуация – носитель языка оригинала
попадает на территорию носителей чужого языка – туристом, пришельцем и т.п. В любом случае
чужеродная речь будет задумываться как непонятная процентов на 90%.
- язык оригинала, претерпевший изменения со временем – т.е. это либо архаичные формы
(реально воспроизведенные автором или вымышленные), либо, наоборот, формы
футуристические (новояз «1984», «Заводной апельсин»). Интересный пример можно найти в
«Опасных приключениях Мигеля Литтина в Чили»: после двенадцатилетнего изгнания опальный
чилийский режиссер возвращается на родину инкогнито для съемок документального фильма и,
столкнувшись в командировке с необходимостью побриться, ищет парикмахерскую, где ему
могли бы оказать эту услугу. Как ни странно, у молодых работников нескольких парикмахерских
подряд просьба вызывает удивление. Разгадка проста: «Прося побрить меня, я употреблял
глагол «расурар», которым в Чили давным-давно уже никто не пользуется, теперь говорят
«афейтар». Поэтому в парикмахерских, где работает молодежь, просто не понимали этого
старомодного оборота. А здесь, наоборот, оживились, увидев пришельца из прошлого». В
подобных случаях мы наблюдаем частичное совпадение с языком оригинала – т.е. читатель в
массе своей углядит знакомые корни, догадается по контексту, нащупает что-то привычное в
переработанной манере изъясняться. Остранение здесь тоже получается частичным – но все же
подчеркнутым. «Вроде бы знакомое, да не то. Вроде наш – а не совсем».
- диалекты, сленг, профжаргон и т.п. – пласты существующего языка, современного ткани
повествования (понятно, что автор может воспользоваться всем этим в диахронии – язык
«офеней», например, диалекты старинных форм европейских языков, придумать сленг для
новояза – но для места и времени повествования эти пласты все равно будут современными).
Здесь среди авторских задач наряду с остранением преобладают, скорее, стремление к
аутентичности и профессиональная, социальная и т.п. идентификация.
- расхождения между вариантами одного языка –
британский/американский/австралийский/канадский, испанский кастильский и
латиноамериканский, немецкий – австрийский, швейцарский и т.п. Здесь, опять-таки, почти
наверняка работает остранение – различия между вариантами так или иначе подчеркиваются.
Вот пример из «Белого сердца» Хавьера Мариаса (главного героя, испанца, окликает в Гаване
с улицы незнакомая мулатка):
«- И что ты там делаешь? Не видишь, что я целый час тебя жду? Ты почему мне не сказал, что
ты наверх уже поднялся?
Кажется, она кричала именно это, слегка нарушая порядок слов и злоупотребляя (если
сравнивать с тем, как говорим мы, испанцы) местоимениями».
Как видно уже из самой классификации, степень «остранения», присутствия, пропитанности
текста иноязычностью может быть весьма различной. Произведение со стопроцентной степенью
остранения (вроде «глокой куздры») вряд ли окажется длинным. На произведение
среднестатистического (для своей литературной формы) объема можно «растянуть» либо сленг
(«Заводной апельсин») с новоязом («1984»), либо поток сознания – манера речи, синтаксис
(«Шум и ярость» Фолкнера), либо особенности речи одного или нескольких персонажей
(инвертированная речь мастера Йоды, например).
Поэтому обычно авторы ограничиваются тем, что обозначают остраненность в полной мере в
каком-то одном месте, а затем она становится условной – то есть читатель должен домысливать
ее сам. Это, например, речь Элизы Дулиттл в «Пигмалионе» - в самом начале Шоу воспроизводит
фонетически лишь пару фраз, как пример: «Ow, eez ye-ooa san, is e? Wal, fewd dan y' de-ooty
bawmz a mather should, eed now bettern to spawl a pore gel's flahrzn than ran awy atbaht pyin. Will
ye-oo py me f'them?», оговаривая, что «попытка воспроизвести ее отчаянный диалект без
фонетической транскрипции неосуществима за пределами Лондона».
Далее чужеродная речь присутствует вкраплениями, как изюм в кексе, либо остается в виде
стилизации.
Надо отметить, что наибольшая степень остранения и в том, и в другом случае достигается в
самом начале – когда читатель только начинается наталкиваться на непривычное. Чем дальше,
тем больше и вкрапления, и стилизация делаются привычными и понятными.
Это все более или менее хорошо, понятно, объяснимо, когда мы говорим об оригинале и
читателях, знакомящихся с произведением на языке оригинала. Нас же, разумеется, интересует,
как быть, когда чужеродная, инакая речь попадается нам на перевод.
Здесь я хочу обратиться к опыту и наблюдениям Умберто Эко, изложенным в его
фундаментальном труде, посвященном переводу, - «Сказать почти то же самое».
Первая глава «Войны и мира» - романа, написанного, разумеется, по-русски, - начинается с
долгой беседы по-французски. Не знаю, много ли русских читателей, живших во времена
Толстого, понимали по-французски; возможно, Толстой считал само собой разумеющимся, что в
его время тот, кто не понимал по-французски, не был в состоянии читать и порусски. Вероятнее, однако, что он хотел, чтобы читатель, даже не понимающий пофранцузски, осознал, что российские аристократы наполеоновской эпохи были
настолько далеки от жизни русского народа, что говорили на языке, бывшем тогда
международным языком культуры, дипломатии и утонченных манер, - хотя это и был
язык врага.
Перечитав эти страницы, вы увидите, что совершенно не обязательно понимать, о чем говорят
персонажи: важно понимать, что говорят они по-французски. Мало того, Толстой из всех сил
старается обратить внимание читателя на то, что говоримое персонажами по-французски – это
предмет беседы блестящей, светской, но к развитию событий не имеющей почти никакого
отношения. Например, в известный момент Анна Павловна говорит князю Василию, что он не
ценит своих детей, и князь отвечает[по-французски]: «Лафатер сказал бы, что у меня нет шишки
отцовства». На что Анна Павловна возражает по-русски: «Перестаньте шутить. Я хотела серьезно
поговорить с вами». Читатель может и не знать, что именно сказал Василий: достаточно понять,
что он сказал по-французски нечто пустое и остроумное.
И все же мне кажется, что читатели, на каком бы языке они ни говорили, должны понимать,
что эти персонажи изъясняются по-французски. Я задаюсь вопросом о том, как можно перевести
«Войну и мир» на китайский, транслитерируя звуки неизвестного языка, лишенного каких-либо
особых исторических и стилистических коннотаций. Чтобы достичь такого же эффекта
(персонажи из снобизма говорят на языке врага), нужно было бы говорить по-английски. Но
тогда была бы утрачена отсылка ко вполне определенному историческому моменту, поскольку
русские в ту эпоху воевали с французами, а не с англичанами. [В существующем переводе на
китайский французский текст дается латиницей, затем следует китайский перевод
иероглификой]
***
Чтобы показать, как двойная оппозиция – «остранение»/ «одомашнивание» и «архаизация»/
«модернизация» - может образовывать различные комбинации, упомяну русский перевод «Имени
розы».
Я не старался осовременивать своих персонажей: напротив, я хотел, чтобы читатель стал как
можно более «средневековым». Например, я ставил его перед чем-нибудь таким, что в его глазах
должно было выглядеть странно, но при этом показывал, что другие ничуть не удивляются, и
тогда становилось ясно, что такой-то предмет или такая-то манера поведения в средневековом
мире были нормальными. Или же, напротив, я намекал на что-нибудь такое, что современный
читатель воспринял бы как нормальное, и показывал, как персонажи этому изумляются, - дабы
благодаря этому стало видно, что речь идет о чем-то для того времени непривычном (очки,
например).
Эти повествовательные решения не приносили переводчикам хлопот, однако проблемы
возникали из-за частых латинских цитат – они также вводились с намерением воссоздать
обстановку того времени. Я хотел, чтобы мой Образцовый Читатель, дабы войти в атмосферу
средневекового аббатства, глубоко прочувствовал не только его обычаи и обряды, но и его язык.
Само собой, разумеется, я думал о читателе западном, у которого латынь, так сказать, на слуху,
даже если он ее никогда не изучал.
Тем не менее, американский издатель побоялся, что многие латинские слова окажутся
непонятны его читателям, и Уивер, с моего одобрения, кое-где сократил слишком длинные
цитаты, вставив в них парафразы по-английски. Это был процесс «одомашнивания» и
модернизации одновременно, благодаря чему некоторые пассажи стали читаться легче, а дух
оригинала передан не был.
Нечто совершенно противоположное произошло с переводчицей на русский язык Еленой
Костюкович. Мы подумали, что американский читатель, даже не изучавший латыни, все же знает,
что речь идет о языке средневекового церковного мира; кроме того, прочитав
выражение De pentagono Salomonis, он сможет опознать нечто похожее на Пентагон и Соломона.
Но русскому читателю эти латинские фразы и заглавия, транслитерированные кириллицей, не
скажут ровным счетом ничего – еще и потому, что для русского читателя латынь не связывается
ни со Средневековьем, ни с церковной средой. Поэтому переводчица предложила вместо
латинского использовать церковнославянский, язык средневековой православной церкви.
Благодаря этому читатель мог испытать то же чувство временнОй удаленности, проникнуться той
же атмосферой религиозности, понимая при этом (по крайней мере, смутно), о чем идет речь.
Таким образом, Уивер модернизировал, чтобы «одомашнить», а Костюкович «одомашнивала»,
чтобы архаизировать.
***
В моем «Имени розы» появляется персонаж по имени Сальватор, говорящий на языке,
составленном из обломков различных языков. Конечно, в итальянском тексте использование
иностранных слов создает эффект остранения, но, если бы персонаж говорил Ich aime spaghetti,
а английский переводчик передал бы это многоязычное выражение как I like noodles,
вавилонский эффект был бы утрачен.
Самым интересным случаем частичной переработки, а для меня и самым удивительным, стал
перевод первой главы моего «Баудолино». Там я изобрел некий псевдопьемонтский язык, на
котором писал почти неграмотный парнишка, живший в XII веке, то есть в эпоху, от которой у
нас нет документов на итальянском языке – по крайней мере, из той местности.
<…>
В остальном тексте, написанном уже на современном итальянском, Баудолино и его
сограждане часто прибегают к словечкам и выражениям на родном диалекте. Я прекрасно
понимал, что это оценят лишь те, для кого этот диалект родной, но полагался на то, что даже
читатели, которым пьемонтский диалект чужд, все же смогут уловить некий стиль, диалектные
интонации. На всякий случай (следуя типичной привычке людей, говорящих на диалекте,
сопровождать местное выражение переводом на итальянский, если нужно донести его смысл) я
дал, так сказать, переводы темных выражений. Серьезный вызов для переводчика! Ведь если
они хотели сохранить эту игру между диалектным выражением и его переводом, им пришлось бы
найти соответствующее диалектное выражение, но в таком случае они лишили бы язык
Баудолино его паданской окраски. Таковы случаи, в которых утрата неизбежна – если, конечно,
не прибегать к акробатическим трюкам.
Как мы видим, переводчик должен оценить, какой степени остранения и с какой целью
пытается добиться автор, и дальше решать, какими средствами добиться той же степени
остранения. Как показывает пример «Имени розы», иногда средства могут быть совсем
неожиданными – остранение через одомашнивание.
Как быть, когда перед нами диалекты и сленг?
Об этом пишет в своей «Теории перевода» В. Н. Комиссаров: «Многие территориальные
диалекты тесно связаны с социальной характеристикой их носителей, и в этих случаях их
использование в оригинале указывает на принадлежность данного персонажа к определенной
социальной группе. Иначе говоря, они выполняют функцию социального диалекта, который
характеризует речь членов какой-то социальной или профессиональной группы людей.
Лингвистические особенности социального диалекта имеют более общий, нелокальный характер,
поскольку аналогичные социальные группы, а тем более аналогичные профессии, часто
обнаруживаются у многих народов. Поэтому передача дополнительной информации, которую
содержат элементы социального диалекта в оригинале, оказывается в переводе возможной. Как
правило, переводчик имеет возможность использовать при передаче речи английского матроса
специфические слова и выражения, распространенные среди русских матросов, или
воспользоваться русским воровским жаргоном для воспроизведения некоторых особенностей
речи английского преступного мира.
Решение этой задачи облегчается тем обстоятельством, что социальный диалект отличается от
общенародного языка лишь отдельными языковыми особенностями, своего рода «указателями»
(markers). Присутствие в тексте хотя бы небольшого числа таких указателей обеспечивает
воспроизведение данного вида информации в переводе:
«Не do look quiet, don't 'e? D'e know 'oo 'e is, Sir?»
«Вид-то у него спокойный, правда? Часом не знаете, сэр, кто он такой?»
Роль совокупности грамматических (don't вместо doesn't) и фонетических ('е вместо he, 'e
вместо you, 'oo вместо who)признаков, указывающих на принадлежность говорящего к
простонародью, выполняется в переводе одним просторечным оборотом: «Часом не знаете?»
Он же пишет и о передаче иностранных акцентов – контаминированной речи:
«При этом переводчик может либо использовать существующие в ПЯ [принимающем языке]
способы изображения речи иностранца, либо бывает вынужденным изобретать новые способы
передачи контаминированной речи. Во многих языках имеются стандартные, общепринятые
способы изображения неправильной речи человека, принадлежащего к определенной
национальности и говорящего не вполне правильно на неродном для него языке. Эти способы
различны для разных видов контаминированной речи, так что изображение английской или
русской речи немца не похоже на передачу речи китайца. Приемы передачи контаминированной
речи во многом условны, хотя они могут отражать и реально существующие различия между
языками. Например, ошибки в выборе глагольного вида характерны для всех иностранцев,
говорящих по-русски, а замена синтетической формы будущего вида на аналитическую («Я буду
уходить» вместо «Я уйду») свойственна для немца, но не для француза. При наличии в ПЯ
общепринятого способа передачи определенного типа контаминированной речи переводчик
пользуется таким способом независимо от характера контаминированных форм в оригинале.
Когда в оригинале изображена контаминированная речь иностранца такой национальности, в
отношении которой в ПЯ не существует установившегося способа изображения,
контаминированные формы в переводе вводятся переводчиком хотя и с учетом привычных
способов передачи речи иностранца на ПЯ, но без обязательного следования общепринятому
стандарту. Передача намеренной контаминации в переводе может быть сплошной или
выборочной. При сплошной контаминации искажается вся или большая часть речи иностранца.
При этом следует учитывать, что некоторые стандартные способы изображения неправильной
речи могут восприниматься не только как речь иностранца, но и как речь человека
малообразованного, например, русское «твоя моя понимай нету» или «мало-мало». Отбор и
использование контаминированных элементов в переводе должны соответствовать
прагматической характеристике передаваемых элементов оригинала.
Вот пара примеров (Михаил Идов, «Кофемолка» - на русском языке роман вышел в авторском
переводе):
1. [Эркюль – кондитер-француз, живущий в Нью-Йорке и по отзыву общего знакомого «не
говорит по-английски»]
—Садись,— приказал Эркюль и толкнул в нашу сторону два стула. Мы повиновались. — О'кей.
У нас пять минют. Хорошо. Оливье рассказал мне о вас. Вы хотите открыть Вьен-кафе,
правильно?
—Да, безусловно.
—Почему Вьен? Почему не Пари?
2. Хозяин магазина оптики, красивый серб с трагическими бровями, вдумчиво изучил листовку
сквозь очки «Катлер энд Гросс». «Я не могу обнаружить, — сказал он на своем неестественном,
но безукоризненном английском, — никаких нарушений этики со стороны вашего
конкурента. За исключением одного кардинального недостатка — он не является вами».
В действительности, самое, наверное, нелегкое для переводчика при работе над такой вот
контаминированной речью – просчитать, как будет говорить на его языке носитель именно
такого иностранного. Можно поступить по методу Сидера Флорина, звонившего в зоопарк,
узнать, какие звуки издает жираф, и отыскать где-нибудь разговаривающего с акцентом «живого
представителя». Но можно построить и «математическую модель» на основе особенностей
иностранного языка – зная, например, что в японском не различаются «л» и «р», что в чешском
ударение чаще всего падает на первый слог, а во французском на последний, что в китайском
значение слова может зависеть от интонации, отталкиваясь от того, синтетический это язык или
аналитический и так далее. Важно иметь в виду, что легче всего в чужом языке усваивается
лексика - базовая, не идиоматичная, затем грамматика, так же начиная с базовой, поэтому у
недостаточно владеющего языком хромает синтаксис, падежи, согласование в роде и числе,
предлоги, управление, словообразование. Труднее всего поддается фонетика – звуки,
интонация, ударения. Мы примерно представляем, что в языке перевода труднее всего дается
иностранцам – в русском, например, это как раз вышеперечисленное – ударение, склонение,
спряжение, согласование. Если получится, можно играть на идиоматике – буквальном понимании
фразеологических оборотов, скажем, а также на неразличении регистров
(«вежливые/невежливые» формы обращения, панибратство или, наоборот,
высокая/книжная/архаичная/деловая лексика и синтаксис в разговорных ситуациях и т.п.)
Что делать с региональными вариантами?
Как и в случае с территориальными диалектами, различия, понятные носителю языка,
«неносителю» ничего не скажут, поэтому приходится переводить либо описательно, как в
приведенном выше примере из «Белого сердца» («Кажется, она кричала именно это, слегка
нарушая порядок слов и злоупотребляя (если сравнивать с тем, как говорим мы, испанцы)
местоимениями»), либо искать другие пути, подбирая, например, синонимические пары в языке
перевода и дополнительно характеризуя региональные варианты:
‗If you were in a drug-store,‘ said Stahr, ‗having a prescription filled—‘
‘You mean a chemist’s?‘ Boxley asked.
‗If you were in a chemist‘s,‘ conceded Stahr, ‗and you were getting a prescription for some member
of your family who was very sick—‘
‗—Very ill?‘ queried Boxley.
‗Very ill. Then whatever caught your attention through the window, whatever distracted you and
held you would probably be material for pictures.‘
– Представьте, что вы пришли к фармацевту, – начал Стар.
– В аптеку? – с британской педантичностью уточнил Боксли.
– В аптеку, – согласился Стар. – Допустим, кто-то из родственников слѐг…
– Заболел?
– Да, и вы покупаете ему лекарство. Всѐ, что вы заметите в окне, что привлечѐт ваше
внимание, – это и может стать основой сюжета.
(Ф.С. Фитцджеральд, «Последний магнат», пер. И. Майгуровой)
Ну и напоследок о том, как быть, когда чужеземная для языка оригинала речь
оказывается родной для языка перевода. Тут мы опять вспоминаем об остранении и
одомашнивании – понятно, что по возможности одомашнивания нужно избежать. В «Заводном
апельсине» это достигается графически – сленг на основе русских слов оставлен латиницей.
За примерами вновь позволю себе обратиться к Умберто Эко:
Один из вопросов, всегда меня занимавших, таков: как французский читатель может получить
удовольствие от первой главы «Войны и мира» во французском переводе? Вот он читает книгу на
французском, где персонажи говорят по-французски, и эффект «остранения» утрачивается.
Впрочем, франкофоны уверяли меня: чувствуется, что французский язык этих персонажей
(может быть, по вине самого Толстого) – это французский, на котором явно говорят иностранцы.
[восемь различных переводов романа с 1879 по 1972 гг. так или иначе выделяют французский
текст Толстого – либо курсивом, либо малыми прописными, либо в примечаниях]
***
В моем романе «Остров накануне» действует отец Каспар, немецкий священник, который не
только говорит с немецким акцентом, но и напрямую переносит в итальянский язык
синтаксические конструкции, типичные для немецкого, что создает комический эффект.
«О майн Готт. да извинит меня всемилостивейший Господь за то, что я использую его имя всуе.
Будем исходить из сведения, что, когда Царь Соломон сконструировал свой храм, он организовал
большую морскую экспедицию, как свидетельствует текст Книги Царств, и эта большая
экспедиция отправилась на остров Офир, с которого доставила Соломону, сколько это будет –
quadrigenti und viginti? – Четыреста восемьдесят. – Четыре сотни и восемьдесят
золотых талантов, это очень значительное количество денег...»
Но Буркхарт Кребер, переводя на немецкий язык, оказался в немалом затруднении. Как
передать по-немецки такой итальянский, которым говорил бы немец? Переводчик вышел из этого
затруднения, решив, что главная особенность отца Каспара состоит не столько в том, что он
немец, сколько в том, что он немец XVII века, и заставил его говорить на чем-то вроде барочного
немецкого. Остается в силе и эффект «остранения» и чудаковатость отца Каспара. Однако
затруднение с числительным пришлось убрать.
***
В «Маятнике Фуко» я вывел одного персонажа, Пьера, говорящего на очень «офранцуженном»
итальянском. Переводчики, которым надлежало подумать о том, как он говорил бы на их языке,
но с французским акцентом и с французскими словечками, особых затруднений не испытали, но
перед переводчиком на французский, наоборот, встали серьезные проблемы. Он мог бы
решиться на то, чтобы вывести на сцену персонаж, говорящий (положим) с немецким или
итальянским акцентом, с немецкими или итальянскими словечками, но он осознавал, что мой
персонаж отсылал к ситуациям, типичным для французского оккультизма конца XIX века.
Поэтому он решил подчеркнуть не тот факт, что Пьер – француз, но то, что в любом случае он –
персонаж карикатурный, и заставил его прибегать к выражениям, выдающим его марсельское
происхождение.