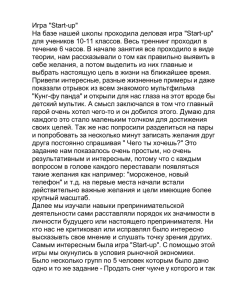Е.О. Самойлова Концепт «желание» и семиотика (на материале
реклама

Е.О. Самойлова Концепт «желание» и семиотика (на материале испанского языка) Любой дискурс и любое сообщение, в первую очередь, носят прагматический характер, вместе с тем их отличительной чертой является референциальность т.е. направленность на определенного эмпирического субъекта или группу субъектов. В Теории информации стандартной схемой такой коммуникации будет являться схема Отправитель – Сообщение – Адресат и влияющие на коммуникацию коды и субкоды. В независимости от того, какой это речевой акт, устный или письменный, может произойти искажение информации, или же неправильная интерпретация того или иного сообщения. Выражения, носящие дезиративную оценку (ДО), также могут интерпретироваться по-разному в зависимости от субъекта действия. Хотя основным лексическим ядром таких выражений являются значение «желания», в прагматической коммуникации можно выделить другие оттенки, например: хотеть, стремиться, жаждать, страстно желать, добиваться и т.д. Эти и другие лексические значения могут проявляться по-разному, в зависимости от прагматической цели коммуниканта речевого акта, и избранных им контекстуальным и ситуативным кодам и субкодам. Так, ДО может быть выражена через повествовательные структуры, например, нарративной функцией сообщения: Tengo sueño de vivir en un castillo... (и далее идет описание мечты); мотивом пожелания: Deseo salud y felicidad; мотивом стремления: Ambicionar el triunfo; мотивом намерения: Voy a escribirles. Но ДО зависит не только от повествовательной структуры, но и от стилистических и риторических кодов. Код – понятие, широко используемое в семиотике и позволяющее раскрыть механизм порождения смысла сообщения. В трудах Р.О. Якобсона и Эко «код», «семиотическая структура» и «знаковая система» выступают как синонимичные понятия (при этом «код» отличается от «сообщения» так же, как в концепции Соссюра «язык» – от «речи»). Иначе говоря, «код» может быть определен трояким образом: (1) как знаковая структура; (2) как правила сочетания, упорядочения символов, или как способ структурирования; (3) как окказионально взаимооднозначное соответствие каждого символа какому-то одному означаемому (У.Эко). Стандартным примером кода может послужить простая фраза «Quiero un buquet de rosas», где все высказывание составляет знаковую структуру (каждая буква, и слово знак, благодаря которым мы получаем целое высказывание), сюда же можно отнести и способ структурирования. 60 Каждый отправитель сам выбирает структуру своего сообщения, основываясь на нормах и правилах языках, однако, стилистически он может выделить желаемое: Yo quiero un buquet de rosas, Un buquet de rosas quiero. Также это высказывание, хотя и состоит из знаков, каждый знак имеет свое собственное значение, но в целом мы получаем целое высказывание, которое отсылает адресата к окказициональному объекту – букету роз. Согласно Ю.М.Лотману, «код» психологически ориентирует нас на искусственный язык и некую идеальную модель языка (а также «машинную» модель коммуникации), тогда как «язык» бессознательно вызывает у нас представление об исторической протяженности существования; если код не предполагает истории, то язык, напротив, можно интерпретировать как «код плюс его история» [3: 369]. Установление, использование и дешифровка кодов следуют принципу экономичности (см. артикуляция) и иерархичности (так, Якобсон ввел понятие «субкод» для описания системы с несколькими кодами, один из которых доминирует, а остальные находятся между собой в отношениях иерархии) [2: 364-365]. Наряду с термином «код» употребляется термин «субкод». Он обозначает разновидность, подсистему некоего общего кода, коммуникативное средство меньшего объема, более узкой сферы использования и меньшего набора функций, чем код. Например, такие разновидности современного русского национального языка, как литературный язык, территориальный диалект, городское просторечие, социальный жаргон, – это субкоды, или подсистемы единого кода (русского национального языка). Субкод, или подсистема, также может члениться на разновидности и тем самым включать в свой состав субкоды (подсистемы) более низкого уровня и т.д. Например, испанский язык, является кодом, который в свою очередь делить на литературный – кастильский и диалекты (каталонский), а также который может быть кодифицированным и разговорным, т.е. различаться по функциям. В соответствии с этим зависит и выражение желания. Например, человек, не знающий молодежного сленга, или профессионализмов, может не понять смысл сообщения, даже применяя как субкод эталонный язык. Прежде чем перейти непосредственно к семиотическому анализу концепта желания, следует заметить, что между словами и знаками нельзя провести разграничительную черту. Между значением слова и знаком существуют взаимосвязи, которые выражены и в структуре языка,и в контексте сообщения. «Невидимые нити могут протягиваться между словами там, где при грубом учете их значений не может быть никакой связи; от слова тянутся нежные, но цепкие щупальца, схватывающиеся с таковыми же других слов, и тогда реальности, недоступные школьной речи, оказыва61 ются захваченными этой крепкой сетью из почти незримых нитей» [4: 86]. Круг смысловых значений не остается неизменным, он варьируется и зависит от субъекта, выбранных им способов выражения и контекста. В испанском языке даже казалось бы одинаковые по смыслу слова могут иметь различную валентность (например дезидеративные глаголы ahnelar и desear). Как и семантическое поле, смысл слов может сократиться до едва уловимых значений, или произвольно расшириться, и это ставит под сомнение возможность универсальной единицы смысла [1]. В большинстве случаев смысл и является знаком и значением, в то время как форма слова лишь способ его реализации в дискурсе. В парадигматических отношениях знак или символ, связанный с субъектом действия, дематериализуется, становится не субстанцией, а отношением [3]. Таким образом, происходит символизация слова или фразы, превращение в субъективное отношение к реально существующим или абстрактным предметам бытия. Чарльз Пирс считает, что символизация – результат саморазвития мышления и способов его знакового выражения, связанный с предельным иносказанием, с предельной конвенциальностью. Для В.С. Соловьева символ – выражение нового понимания. Следовательно, знак обладает тремя отличительными чертами: иносказательностью, новизной и парадигматической связью. В анализе концепта желания выражены все три разобранные нами знаковые стороны. Библиографический список 1. 2. 3. 4. Заренков Н.А. Слово, число, и семиотическая теория жизни. М., 1999. Код // Постмодернизм. Энциклопедия (под ред. Грицанова А.А., Можейко М.А. Минск: Интерпрессервис: Книжный дом, 2001. С. 364-365.] Флоренский П.А. Строение слова // Контекст. 1972. М., 1973. Хабаров И.А. Философские проблемы семиотики. М.: Высшая школа, 1978. 62