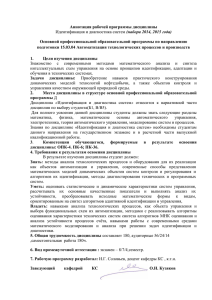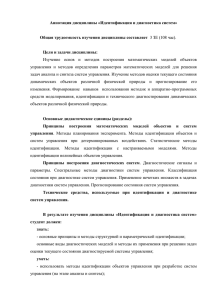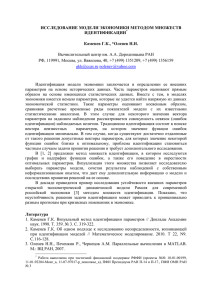УДК 820-3.091 И.В. Дорогань ЛИЧНОСТЬ ХУДОЖНИКА КАК
advertisement

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 17 УДК 820-3.091 И.В. Дорогань Днепропетровский национальный университет пр. Гагарина, 72, г. Днепропетровск, Украина, 49010 ЛИЧНОСТЬ ХУДОЖНИКА КАК ПРЕДМЕТ КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ: ФЕНОМЕН М. БАШКИРЦЕВОЙ Раскрываются свойства культурно-антропологической идентификации, предпринятой зарубежной критикой (французской, американской, русской) по отношению к выдающейся творческой личности XIX века, художнице и писательнице Марии Башкирцевой. Ключевые слова: идентификация, феномен, индивидуальность, традиция, подростковость, маска. Интерес к жизни и судьбе Марии Башкирцевой, к ее творческому наследию стремительно возрастает, раздвигая географические и проблемные границы. Если французская критика сосредоточилась на текстологии, определении полноты и достоверности текста дневника [1, 2], то, например, американская, как и русское литературоведение, ориентирована на осмысление творческого феномена Марии Башкирцевой [3, 4]. Тем не менее, при всей разнонаправленности научных исследований есть в них то общее, что объединяет усилия и что имеет точное определение – культурная идентификация, в большинстве своем явная, целенаправленная, но с преобладанием «бессознательной» поскольку «поиск идентификации» предстает «вечно присутствующим и вечно актуальным фоном общественного и исторического бытия» [5, 6]. Как объект и предмет культурно-антропологической идентификации личность М. Башкирцевой уникальна – украинка с татарскими корнями, урожденная дворянка, в силу семейных обстоятельств (развод родителей) вынужденная изменить социальный статус, оказавшись в среднем сословии, получив великолепное домашнее образование в дворянской семье, она стала профессиональной художницей. Воспитанная на высоких традициях русского дворянства, впитала в себя все лучшее из европейской, прежде всего, из французской культуры. При этом масштаб и характер обживания Башкирцевой французской культуры выходят за пределы традиционного взаимодействия. Ее справедливо и без преувеличения признавали гением, усматривая в ней «освободителя умов». М. Башкирцева превратила собственную жизнь в особенный, «олитературенный мир» – своеобразную модель повседневного и творческого поведения, воплотив ее в своем дневнике, что вызвало всеобщее восхищение и желание подражать. Мария предупреждала о необходимости такого восприятия себя: «если вы не вобьете себе в голову, что я – дитя вашего сердца, существо, с которым вы станете себя отождествлять, с чьей вздорностью и печалями вы породнитесь, бесполезно приступать к чтению, нам не найти общего языка» [6, с. 11]. Но главным было то, что на фоне крушения романтических мироощущений европейский мир обрел новый идеал, в котором так изыскано сочетались уходящий романтизм и прорисовывающиеся, несколько пугающие, декадентские веяния. «Встреча» уходящего и приходящего» была зримой, поскольку воплотилась в судьбе Марии Башкирцевой – «Музы декаданса», как ее называли во Франции. Мария Башкирцева осознавала собственную уникальность. Именно поэтому дневник писала не столько для себя, сколько для будущих читателей, уверенная в необходимости передать свой жизненный и творческий опыт: «...я вся в этих страницах. Быть может, я не представляю достаточного интереса для вас, но не думайте, что это я, думайте, что это просто человек, рассказывающий вам все свои впечатления с самого детства. Это очень интересный человеческий документ» [6, с. 7]. Тем не менее, осознание собственной уникальности не заслонило в ней потребности ощутить себя частью не только французской, но и европейской культуры, прочувствовать «принадлежность как ценность». В общественных науках это именуется идентификацией. Как отмечает Г. Кнабе, «она задана человеку антропогенетически: он всегда – неповторимый индивид, личность, но реализовать свою индивидуальность он может только через принадлежность к целому, к обществу, коллективу» [5, с. 5]. Мария Башкирцева неоднократно пыталась идентифицировать себя с миром, в котором жила, что было обусловлено объективными условиями: переездом на жительство во Францию, путешествием по городам Европы, переменой мест жительства в связи с обострившейся болезнью легких, изменением социального статуса (от дворянского уклада жизни семья вынуждена была отказаться), стремлением приобрести творческую профессию (певицы или художницы) и покорить Париж, «жизнь – это Париж, Париж – это жизнь!..» [6, с. 27]. Идентификация была неотъемлемой частью ее духовно-душевной жизни, ее переживанием: «Сердце – это кусок мяса, соединенный тоненькой ниточкой с мозгом, который, в свою очередь, получает новости от глаз и ушей. Можно сказать, что сердце говорит вам, потому что ниточка двигается Вісник СевНТУ. Вип. 102: Філологія: зб. наук. пр. — Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. 18 ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО и заставляет его биться сильнее обыкновенного и оно гонит кровь к лицу» [6, с. 27] и уточняет: «прежде я думала, что сердце не что иное, как кусок мяса, теперь же вижу, что оно связано с душой» [6, с. 26]. Башкирцева, наверное, и сама до конца не осознавала, кем должна была стать для французского общественного сознания. Публикация дневника уже после смерти превратила ее не только в фигуру для поклонения и подражания, но и в законодательницу новаций в нормах бытия, что вносило кардинальные, качественные изменения в само время. Яркая, уникальная личность Марии Башкирцевой с течением времени мифологизировалась, но неизмененным оставалось желание понять не только причины такой органичной соотнесенности Башкирцевой с французской культурой, но почему столь привередливый парижский высший свет признал ее кумиром. В этом статусе она была и остается. И этот факт, вызывая даже некоторое недоумение, обусловил одно из направлений идентификации французских критиков, которое можно было бы обозначить как этническое, но с определенной оговоркой. Смысл в том, что исходной основой такого типа идентификации является язык – наиболее устойчивое слагаемое выражения сущности. Но, как известно, дворянство России было в значительной степени франкоязычным. Любовь к Франции, ее культуре, литературе и искусству, увлечение модой на одежду, парфюмерию, манерами светского общения было неотъемлемой частью русского дворянского быта. Так была воспитана и Мария Башкирцева, что способствовало тому, что обживаемое пространство изначально не делилось на «свое» и «чужое». И дневник писался на французском языке с пониманием того, что опубликован он будет во Франции и обращен, прежде всего, к французскому читателю. Тогда в чем смысл этнической идентификации Марии Башкирцевой? Русские исследователи, например, И. Владимиров, усматривают во франкоязычности М. Башкирцевой определенную традицию, когда «целый ряд замечательных литераторов, которые, будучи по рождению русскоязычными, в дальнейшем стали выдающимися французскими писателями и даже классиками, получившими титул «бессмертных» в качестве членов французской Академии. Достаточно назвать имена москвичей Анри Труайя и Эльзы Триоле, киевлянина Жозефа Кесселя, уроженца Оренбуржья Мориса Дрюона... Несомненно, что использование французского языка в качестве средства самовыражения, литературного инструментария человеком с русской ментальностью и богатым духовным потенциалом дает прекрасные результаты [7, с. 68]. Но у Башкирцевой была несколько иная ситуация. Представляется, что в тексте дневника четко обозначены столь весомые для ее развития и духовного становления события, явления, лица, знание своей родословной. Характерно то, что бытие своего рода Башкирцева обозначила не хронологически, а с помощью культурной идентификации, подчеркивая, что ее близкие были современниками Пушкина и Лермонтова, поклонниками Байрона [6, с. 8], в семье ощущался романтический дух, а одна из гувернанток – «славянская натура, приправленная французской цивилизацией и чтением романов» [6, с. 9]. Общение и воспитание в семье, нормы поведения осознанно, а иногда на бессознательном уровне воспринимаясь, вошли в плоть и кровь, чтобы со временем приумножиться опытом европейским. Единство столь мощных культур и способствовало формированию уникальной европейской личности. Встречу с европейским миром она приняла как дар Судьбы. Тем не менее, французская исследовательница К. Коснье в своем стремлении «разнести в пух и прах предание и оживить настоящую Марию – женщину, одураченную рассеянной судьбой, наградившей ее жизнью на столетие раньше срока, узницу не своей эпохи, героиню нашего времени» [1, с. 14], воспринимала ее как «эксцентричную чужестранку», разъезжающую по Европе «в поисках развлечений» [1, с. 12]. В таких несколько резковатых характеристиках ощущается определенная растерянность перед феноменом подростковости Башкирцевой. Не находя ей аналогов во французской культуре, следовательно, не имея возможности для идентификации, К. Коснье в прямом смысле истолковала фразу из дневника Башкирцевой: «У меня не было детства», подразумевая под этим лишь семейные неурядицы. При этом не придавалось никакого значения русской культурной традиции истолкования и понимания подростковости, не имеющей четко обозначенных хронологических рамок. В. Даль определяет подростка как «дитя на подросте». Герою романа Ф. Достоевского «Подросток» двадцать лет, а пророческая фраза из романа о том, что из подростков вырастают поколения, получила свое развитие в литературе XX века, в образах стремительно повзрослевших детей-подростков военной поры («Иван» В. Богомолова, герои «Уроков французского» В. Распутина, прозы Ф. Абрамова, В. Астафьева, Гр. Тютюнника). Несколько иной подход к проблеме наметился в американской критике, в частности, в работе Лули Конз «Жизнь Марии Башкирцевой в автопортретах (1858–1884). Женщина как художник в ХІХ веке Франции» (L. Konz «Marie Baslkirtseff’s life in Self-Portats (1858–1884). Woman as Artist in 19th Century France». 2005, где во вступлении раскрывается предыстория появления термина «подросток», отмечается, что американцы начали использовать слово с 1944 года для описания категории молодых людей от 14 до 18 лет как определенной возрастной группы со своими собственными ритуалами, правами и требованиями. Вісник СевНТУ. Вип. 102: Філологія: зб. наук. пр. — Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 19 Акцентируется тот факт, что с последней четверти XIX века было много противоречивых попыток рассмотреть и определить статус молодежи. Актуальной тема остается и сегодня. L. Konz для анализа проблемы подростковости остановилась на автобиографических произведениях» М. Башкирцевой и Д. Померой, рассматривая их как историю борьбы молодежи за то, «чтобы быть услышанной», как попытку «понять смысл себя и своего мира» [3]. Феномен подростковости был лишь одним из исходных позиций в исследовании, посвященном М. Башкирцевой. Идентификация, будучи «вечно актуальным фоном общественного и исторического бытия» [5, с. 5], предполагает наличие различных форм, которыми и воспользовалась Л. Конз. Исследовательница уточнила цель своей работы – осмыслить становление женщины как профессионального художника и создателя культурных ценностей, как женщины XX века, т.е. опередившей свое время. Л. Конз также подчеркнула то, о чем умалчивалось, а именно: «она была художником не только в традиционном смысле слова, но также и в своем образе жизни и поведении. В ее образе все было в стиле «арт»: ее одежда, ее стиль письма, ее подпись. Обычно историки ищут только осязаемые продукты искусства, созданные творческими людьми. При таком подходе значительной части творений Башкирцевой – просто нет» [3, с. 6]. Т.е. Л. Конз сосредоточилась на особенностях «выбора идентичности жизни» (по Ж. Старобинскому). Для Марии Башкирцевой это был не диктат, а «зов идентичности» [8, с. 27], предполагающий возможность и внутреннюю необходимость «испытать себя, изобразить себя» [8, с. 27]. Башкирцева идентифицировала себя с европейской культурой, что называется «не прямым путем», а через «положения на бумагу» [8, с. 40–41]. Она пережила состояние внутренней идентичности, определив для себя образную модель бытия, что открывало возможность одновременного пребывания в нескольких культурных эпохах, что и отметила Л. Конз. Но при этом Л. Конз полагает, что «она играет эту роль», к тому же «уникальным образом, рушит стереотипы» [3, с. 7]. Именно в этом ею усматривается огромное значение ее жизни и работы для искусства, истории, культуры. Л. Конз рассматривает жизнь, творческую судьбу и работу М. Башкирцевой как «иллюстрирующие» создание концепции профессиональной женщины-художницы, т.е. своеобразное изображение, сопровождающее, дополняющее текст, состоящий из дневниковых записей и художественных полотен, автопортретов, фотоснимков. В анализе концепции Л. Конз вычленяет «игру между фантазией и реальностью в работах Башкирцевой» [3, с. 12], определяя, таким образом, особенности творческого подхода, который «позволял ей ладить с парижским обществом». По сути, речь идет о специфике культурной идентификации Башкирцевой в весьма своеобразной форме – «вызова традиционному противостоянию XIX века между профессионалами и любителями, художниками и моделями» [3, с. 18] направленного на то, чтобы «изменять и разоблачать». В непосредственном анализе того, «как Башкирцева изображала себя как метафорически, так и символически» [3, с. 7], Л. Конз сосредоточилась не только на дневниковых описаниях творчества повседневной жизни, но и изобретенных Башкирцевой сценариях «с собой в главной роли», вписанных в страницы дневника, что открывало возможность осмыслить ее жизнь как «произведение искусства». Созданный Башкирцевой образ в работе американской исследовательницы рассматривается не только и не столько через драматические и романтические события жизни художницы, но и как повседневность в значительной мере театрализованная. По мнению Л. Конз, для достижения своей цели «изменять и разоблачать» М. Башкирцева прибегала к маскировке. В этой связи ею выделяются четыре различные маски, наиболее характерные для модели жизненного и творческого поведения, а именно: леди в белом, романтическая героиня, великий художник и умирающая Офелия. Все эти маски – производные европейской культуры, с которой М. Башкирцева с особенной тщательностью себя идентифицировала. Одна из масок, рассматриваемая Л.Конз как метафора для образа «леди в белом», связана с особенностями одежды. Белые костюмы Башкирцевой, которым она длительное время отдавала предпочтение, Л. Конз трактует как «маску чистоты и женственности, чтобы затенить свою нетрадиционную индивидуальность и свои профессиональные стремления. Белая маска как обличала, так и разоблачала ее тело и ее индивидуальность» [3, с. 113]. Л. Конз в своем исследовании акцентирует как весьма существенный тот факт, что «Башкирцева позже примерила новый образ в Париже, вдохновленная картинами восемнадцатого века. Она одевалась в имперском стиле и появлялась как маленькая девочка ЖаннаБантиета Греза [3, с. 118]. Т.е. белый цвет способствовал расширению границ и возможностей культурной идентификации, прорыву в иную культурную эпоху, возвращению к образу, уже воспринимаемому в качестве исторического прошлого, хотя и недалекого. Вместе с тем Л. Конз отмечает, что символическое использование белого в одежде и художественных работах указывает на сложные отношения с женскими стереотипами девятнадцатого века» [3, с. 118], а именно: стиль одежды Башкирцевой был близок стилю одежды парижских кокоток – девушек, «отличающихся свободой нравов и экстравагантной внешностью» [3, с. 110]. Как отмечала мать Башкирцевой, в Париже белая одежда могла показаться кричащей, что разрушало высокую модель идентификации. Таким образом, Л. Конз Вісник СевНТУ. Вип. 102: Філологія: зб. наук. пр. — Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 20 указывает на одну из причин выбора Башкирцевой своих следующих масок – в зеркалах, среди них и образ Психеи. Как известно, в XVII-XIX веках богиня Психея, или Душа, вновь обрела популярность и изображалась девушкой. Башкирцева ассоциировала себя с ней, для чего использовала зеркало Психеи, укладывала волосы, как на статуях Психеи. Ассоциации с Психеей у Башкирцевой возникли на почве трактовки образа художниками-классицистами, которые объединили Психею (Душу) и Купидона (Любовь), представив их в образе подростков. Л. Конз подчеркнула, что «в Психее Башкирцева увидела себя, так как обе они были юными и невинными, открывшими для себя страстную любовь, от которой и пострадали. Как Психея вознеслась на Олимп, так и Башкирцева должна была изменить свое поведение, чтобы влиться в общество» [3, с. 130]. Таким образом, успешной идентификации М. Башкирцевой с французским обществом способствовала классическая живопись. Л. Конз подчеркнула, что этот путь для юной художницы оказался весьма продуктивным, поскольку речь идет о множестве масок: «Мария изображала различные аспекты стереотипа художника, но всегда с нетрадиционным описанием себя – женщины – как главного предмета картины» [3, с. 131]. В этой связи Л. Конз уточняет трактовку значения слова «художник» в конце XIX века. Ссылаясь на словарь Ларусса, Л. Конз указывает на момент сомнения относительно того, что женщины «вряд ли… могут считаться знаменитыми живописцами». Своей творческой судьбой М. Башкирцева опровергает это мнение. Именно в жанре автопортрета она заявила о себе как о талантливом художнике, представляя себя миру в легко узнаваемых французами образах, среди которых и образ Робеспьера. Поражает мастерство Башкирцевой, то, что она «игриво преображает свой костюм для работы в мастерской в костюм революционера» [3, с. 135]. По мнению Л. Конз, «несмотря на завуалированные в портрете сомнения, художница твердо заявляет о себе, изображая Французскую революцию через призму своего феминистского видения» [3, с. 191]. И эта форма, так называемой «живописной идентификации», была принята французским обществом. Не менее значимым, как подчеркивает Л. Конз, для М. Башкирцевой было возвращение к образу своей юности. Речь идет о «Даме в белом». На сей раз, это был образ Офелии, влияние которого на сознание Башкирцевой было столь мощным, что она просила, чтобы ее похоронили одетой как ее любимая героиня – в белое, окруженной цветами. Л. Конз попыталась осмыслить М. Башкирцеву как «русскую Офелию», сравнивая ее похороны с похоронами Офелии в шекспировском «Гамлете», а также соотнося элегии Шекспира с элегиями, написанными для Башкирцевой. В результате американская исследовательница пришла к следующему выводу: «возможно для нее, сочетание белого, как чистоты и красоты, с безумием и ненавистью было образцом свободы» [3, с. 191]. Таким образом, даже в смерти своей Башкирцева видела завершающий этап своего образного бытия и идентификации с европейским миром. На основе изложенного можно сделать следующий вывод: Л. Конз в своей работе одна из первых сделала весьма успешную попытку осмыслить творческое состояние талантливой художницы и писательницы М. Башкирцевой, разработанные ею маски, как формы культурной идентификации, а сам процесс идентификации, как условие и необходимость духовного бытия. Библиографический список 1. Коснье Колет Мария Башкирцева: портрет без ретуши/ Колет Коснье. — М.: ТЕРРА, 2008. — 288 с. 2. Шартье М.Э. «Дневник» Марии Башкирцевой как объект цензуры / М.Э. Шартье // Автобиографическая практика в России и во Франции. — М.: ИМЛИ РАН, 2006. — С. 182–199. 3. Konz Louly Peacock Marie Bashkirtseff’s Life in Self-Portraits (1858–1884). Woman as Artist in 19th Century France / Louly Peacock Konz. — The Edwin Mellen Press. Lewiston, Queenston, Lampeter, 2005. — 238 p. 4. Аннинский Лев Горючие ступени. Феномен Марии Башкирцевой / Лев Аннинский // Избранница судьбы Мария Башкирцева. — М.: Вече, 2008. — С. 84–96. 5. Кнабе Г.С. Жажда тождества. Культурно-антропологическая идентификация. Вчера. Сегодня. Завтра / Г.С. Кнабе. — М.: РГГУ, 2003. — 60 с. 6. Башкирцева Мария. Дневник / Мария Башкирцева. — М.: «Захаров», 2000. — 446 с. 7. Владимиров Игорь. Героиня нашего времени / Игорь Владимиров // Избранница судьбы Мария Башкирцева. — М.: Вече, 2008. — С. 66–73. 8. Старобинский Жан. Монтень в движении / Жан Старобинский // Поэзия и знание: история литературы и культуры. Т. 2. — М.: Языки славянской культуры, 2002. — 356 с. Поступила в редакцию 17.09.2009 г. Вісник СевНТУ. Вип. 102: Філологія: зб. наук. пр. — Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010.