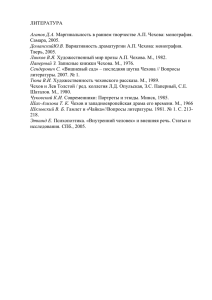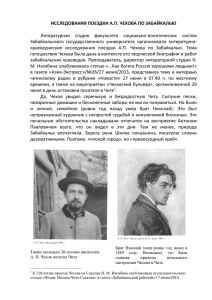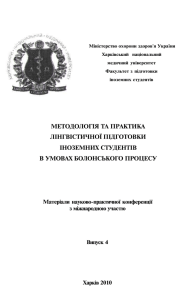ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» Оверина Ксения Сергеевна
реклама

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» Оверина Ксения Сергеевна РАННЯЯ ПРОЗА А. П. ЧЕХОВА (1880–1884 гг.): ПРОБЛЕМА ПОВЕСТВОВАНИЯ 10.01.01 – Русская литература Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук Научный руководитель: д. ф. н., доц. А.Д. Степанов СПбГУ 2014 2 Оглавление Введение…..……………………………………………………………………............4 Глава 1. А.П. Чехов и «малая пресса»: повествование, коммуникация, читатель…..…………………………………………………………………………...15 Глава 2. Рассказы А.П. Чехова 1880 – 1884 годов: повествование, жанр, рецептивная структура.…………………………………………………………….48 2.1. Реализация литературной темы: чеховский «маленький человек»…...............48 Герой и слово. Рассказ «Корреспондент» (1882)..…………………………...54 Герой говорит. («Письмо к ученому соседу», «В вагоне»)………………….63 2.2. Жанровые трансформации в ранних рассказах Чехова………………………..69 2.2.1 Повествование в пародийных текстах Чехова 1880 – 1884 годов…………...70 2.2.2. Уголовные рассказы в раннем творчестве Чехова.…………………………..83 2.2.3. Мелодрама и мелодраматизм в ранней прозе Чехова………………………101 Мелодраматизм как теоретическая проблема…..…………………………..101 Функционирование мелодраматических элементов в рассказах Чехова 1880–1884 годов...…………………………………………………………………....106 2.2.4 Ранние чеховские рассказы в контексте календарной прозы…………….…117 Святочный рассказ в раннем творчестве Чехова..………………………….117 Охотничий рассказ в раннем творчестве Чехова..………………………….131 Глава 3. «Большие формы» в раннем творчестве А.П. Чехова………………151 3.1. Проблема жанра и повествовательной структуры в повести «Цветы запоздалые» (1882)……………………………………………………………….….152 3.2. Повествование, композиция и жанровые трансформации в повести «Драма на охоте» (1884)…………………………………………………………....162 «Драма на охоте» как уголовный роман: повесть Чехова в контексте русской массовой литературы XIX века.....…………………………...…………...162 3 Рамочная композиция..……………………………………………..…...........168 Анализ вставной повести……….………………………………...……......…170 Анализ обрамляющей истории.………………………………………....…...184 Характер событийности в «Драме на охоте»..…....................………………192 Рецептивный аспект повести: «Драма на охоте» как иллюзия изображенной рецепции..………………………………………..…...……………..196 Конвенциональная документальность и ее преодоление в художественном мире «Драмы на охоте»...……..………………..……………...204 Воздействие на читателя: вопрос о формировании читательского восприятия в повести «Драма на охоте»…...………………………………………207 3.3. «Зеленая коса» и «Драма на охоте» А.П. Чехова: особенности композиции и повествовательной структуры.….….….….….….…………….…...216 Заключение…...……………………………………………………………………..228 Список использованной литературы…...……………………………………….232 4 Введение Повествовательная структура прозаических текстов А.П. Чехова была и остается сложной и интересной литературоведческой проблемой. Об этом свидетельствует уже тот факт, что одно из самых значительных отечественных исследований, затрагивающих вопросы нарратологии, – книга А.П. Чудакова «Поэтика Чехова» – было написано именно на материале чеховского творчества 1. К вопросам поэтики писателя обращается в своей монографии и немецкий нарратолог В. Шмид2, особенностям чеховского повествования посвящена книга Н.А. Кожевниковой3. А.П. Чудаков разделил творчество писателя на три периода: ранний, или период субъективного повествования (1880–1887 годы); период объективной манеры (1888–1894 годы) и поздний период, в котором, чтобы «выявить… самую общую позицию героя… повествователь… отдает предпочтение формам своей собственной речи»4 (1895–1904 годы). Граница между первым и вторым периодами особенно важна: как и многие другие исследователи, А.П. Чудаков определяет 1888 год как «переломный» и объясняет резкое изменение чеховской поэтики «стремлением отыскать новые формы, выйдя за пределы новеллистического опыта»5. По сути, это граница, отделяющая раннее творчество писателя от зрелого. И.Н. Сухих, пытаясь осмыслить природу этой границы, подчеркивает, что «<н>екоторые принципы автора первой пьесы и “Смерти чиновника” были усвоены автором “Чайки” и “Человека в футляре”», однако «Чехонте как самостоятельный художник прошел и ушел, был навсегда утрачен Чеховым <…> Даже предварительная смена оптики показывает, что Чехонте не полностью помещается в Чехове. Это близкие родственники, но все же разные писатели» 6. С этим утверждением трудно не согласиться: глубинная связь между ранними и 1 См.: Чудаков А.П. Поэтика Чехова. М., 1971. 291 с. См.: Шмид В. Нарратология. М., 2003. 312 с. 3 См.: Кожевникова Н.А. Стиль Чехова. М., 2011. 486 с. 4 Чудаков А.П. Поэтика Чехова. С. 88. 5 Там же. С. 61. 6 Сухих И.Н. Проблемы поэтики Чехова. СПб., 2007. С. 102. 2 5 поздними текстами писателя, которую отмечает и анализирует в первой главе своей монографии исследователь, представляет несомненный историко- литературный и теоретический интерес. В этом смысле весьма значимыми для нашего анализа оказываются самые первые литературные опыты Чехова, наиболее удаленные по времени от его зрелых произведений. В рамках данного диссертационного сочинения мы сосредоточим внимание не на всех текстах, относящихся к «субъективной» (по Чудакову) манере повествования, а только на произведениях, написанных в первые четыре года чеховского творчества: с 1880 по 1884. Такой выбор нельзя назвать совершенно произвольным, так как рубеж 1884–1885 годов является важной вехой развития повествования у Чехова. По словам А.П. Чудакова, с 1885 года «картина резко меняется»7: сильно уменьшается число рассказов, выдержанных в стиле определенной «маски». Литературовед приходит к выводу о том, что, начиная с этого времени, «<в> основу построения повествования… кладутся иные начала»8. О значимости этого рубежа говорит и П.И. Овчарова: В произведениях 1884–1885 гг. Антоша Чехонте начинает различать «лица в толпе» – лица, порожденные массой, но уже в той или иной мере «отдельные». Показательно, что именно к этому времени относится зарождение особой группы чеховских новелл, названных В.Б. Катаевым «рассказами открытия», где обыкновенные люди начинают осмыслять и оценивать свою жизнь 9. Кроме того, в 1884 году было создано одно из самых странных и трудных для анализа произведений Чехова – повесть «Драма на охоте». Среди других ранних произведений писателя ее выделяет не только колоссальный по чеховским меркам объем, но и сложность структуры. Автор здесь, кажется, собирает все общие места и жанровые клише «малой прессы» и соединяет их со множеством 7 Чудаков А.П. Поэтика Чехова. С. 31. Там же. С. 33. 9 Овчарова П.И. Читатель и читательское восприятие в творческом сознании А.П. Чехова. Автореф. дисс. … канд. филол. наук. М., 1982. С. 9. 8 6 приемов, опробованных им на материале коротких рассказов. Об успешности этого чеховского эксперимента судить трудно. По всей видимости, автор считал его неудачным и поэтому не возвращался к нему и не включил «Драму на охоте» в собрание сочинений. Но, так или иначе, этот текст представляется нам своеобразным итогом первого периода чеховской эволюции. Несмотря на краткость большинства написанных в это время рассказов и юморесок, их повествовательная структура является не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Объясняется это тем, что в годы работы в «малой прессе» Чехов пользовался всем разнообразием представленных в ней приемов, в том числе и повествовательных. А русская массовая литература конца XIX века строила свои анекдоты, новеллы и юморески, основываясь не только на оригинальном (необычном, забавном) образе повествователя – задействованными оказывались все уровни художественного мира и все нарративные элементы. Особенно важными для этого типа литературы оказывались категории фабулы, сюжета и события, и это связано не только с тяготением юмористической литературы к одному из самых событийных жанров – новелле. Многие тексты «малой прессы» балансируют на грани фабульности / бесфабульности10 и представляют собой своеобразные «списки» различных предметов, явлений и действий. Самым известным чеховским примером такого списка является «Жалобная книга» (1884). Записи в этой юмореске не образуют цельной истории, однако, как отмечает И.Н. Сухих, их тематическая связь позволяет увидеть в чеховском тексте некое фабульное движение11. Сходным образом Т.В. Шуматова вычленяет в «Жалобной книге» своеобразный метаописательный «сюжет» и видит в ней эксперимент с речевым жанром жалобы: …А.П. Чехов впервые произвел попытку лингвистического описания данного жанра, указав особенности тех реплик, которые входят в структуру речевого жанра «Книги отзывов и предложений» и на сегодняшний момент активно 10 В данном случае также применимы также оппозиции сюжетности / бессюжетности, событийности / бессобытийности. 11 Сухих И.Н. Указ. соч. С. 71. 7 изучаются в современной лингвистике с позиций естественной письменной русской речи и жанроведения12. Таким образом, в подобного рода художественных текстах проблематизированным оказывается событие как сюжетообразующая категория 13. Учитывая постоянное взаимопроникновение жанров «малой прессы», можно предположить, что проблематизация сюжетного и событийного уровней оказывается релевантной и для жанров новеллы и анекдота. Метаописательность, отмеченная Т.С. Шуматовой, в самом деле, является достаточно важным фактором для русской массовой литературы 1880-х годов, особенно если рассматривать ее в более широком смысле – как тенденцию к «проницаемости» границы художественного текста. «Смыслом» юмористического или развлекательного текста может стать прием, игра с читателем может замещать новеллистический пуант, как это происходит, например, в известном чеховском рассказе «Марья Ивановна» (1884). В такой ситуации обнажается литературность, «сделанность» текста. Как следствие, событие выносится за рамки произведения или, вернее, «надстраивается» над уровнем изображаемого мира 14. Граница между художественным миром и реальностью оказывается маркированной, она выступает в Ю. М. Лотман роли границы считал семантического главным условием поля, пересечение возникновения которой события в художественном тексте15. Таким образом, событийным является уровень отношений между текстом и реципиентом. Это можно объяснить тем, что любое литературное произведение обладает коммуникативной природой. В. Шмид в «Нарратологии» предлагает модель художественного текста, которая явным образом отсылает к модели 12 Шуматова Т.В. «Жалобная книга» А.П. Чехова в свете коммуникативного жанроведения // Текст как единица филологической интерпретации. Новосибирск, 2011. С. 279. 13 Говоря словами В. Шмида, событие – «стержень повествовательного текста» (Шмид В. Нарратология. С. 13). 14 Здесь мы пользуемся терминологией В. Шмида (см.: Шмид В. Нарратология. С. 39–40). 15 Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Лотман Ю.М. Об искусстве. М., 1998. С. 282. 8 коммуникативного акта, описанной Р.О. Якобсоном в статье «Лингвистика и поэтика»16. Нарратолог отмечает: Повествовательное произведение – это произведение, в котором не только повествуется (нарратором) повествовательный акт. история, Таким но образом, также изображается получается (автором) характерная для повествовательного искусства двойная структура коммуникативной системы, состоящей из авторской и нарраторской коммуникаций, причем нарраторская коммуникация входит в авторскую как составная часть изображаемого мира 17. Самым важным для решения наших задач элементом схемы В. Шмида оказывается абстрактный читатель 18, который объединяет в себе и предполагаемого адресата текста, и его идеального реципиента. Как нам представляется, в случае с массовой литературой (и особенно «малой прессой») можно говорить о том, что абстрактный читатель становится объектом непосредственного воздействия адресантов любого уровня, в том числе повествователя, который, по Шмиду, выстраивает связь исключительно с фиктивным читателем (наррататором)19. Здесь для нас важно различие в принципах функционирования «высокой» литературы и беллетристики. Если первая стремится сконструировать сложный художественный мир, то вторая может полностью отказаться от этой задачи или существенно ее ограничить. Так появляются «списки», подписи к рисункам и тому подобные «мелочишки», которые вместо попыток создания вымышленных (возможных) миров просто апеллируют к образу мира, существующему в сознании реципиента. Редукции подвергается и фигура повествователя. Все повествовательные инстанции и коммуникативные уровни, выделенные В. Шмидом, присутствуют и здесь, но 16 См.: Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 193–230. Шмид В. Нарратология. С. 34. 18 «Абстрактный читатель – это ипостась представления конкретного автора о своем читателе» (Шмид В. Нарратология. С. 57). «Под абстрактным читателем подразумевается здесь содержание того образа получателя, которого (конкретный) автор имел в виду, вернее, содержание того авторского представления о получателе, которое теми или иными индициальными знаками зафиксировано в тексте» (Там же. С. 61). 19 См.: Там же. С. 98–100. 17 9 сильно «сближаются» друг с другом. При всей своей консервативности популярная литература злободневность и высоко потому ценит стремится сиюминутность, создать иллюзию актуальность, максимального «жизнеподобия» представленного ею коммуникативного акта. Это стремление было обусловлено, среди прочего, особыми отношениями между писателем и публикой в популярной литературе 1880-х годов: ориентацией «малой прессы» на конкретную аудиторию и подвижностью социальных ролей авторов и читателей. Это обстоятельство позволяет поставить под сомнение мысль В. Шмида о том, что <г>раницу между фиктивным миром, к которому принадлежит всякий нарратор, как бы нейтрален или объективен он ни был, и реальностью, к которой принадлежит при всей его виртуальности абстрактный читатель, перешагнуть нельзя – или же можно только в случае нарративного парадокса 20. По отношению к серьезной литературе – например, зрелому творчеству Чехова – эта мысль нарратолога представляется справедливой, однако для ранних произведений пересечение данной границы возможно, что обусловлено законами построения массовых текстов. Повествовательные трансформации в популярной литературе объясняются стремлением завоевать внимание читателя. Важным оказывается то обстоятельство, что все авторские интенции: выбор занимательного сюжета, предпочтение необычной (или, наоборот, всеми любимой) формы, эксперименты с жанром, введение в текст особого типа рассказчиков и персонажей – направлены на фигуру реципиента. Поэтому главным предметом нашего исследования станет коммуникация между адресатом (читателем) и текстом. Все сказанное выше указывает, что вынесенное «за рамки» произведения событие – это событие чтения 21, событие для реципиента. Массовый читатель 20 Шмид В. Нарратология. С. 61. На другом полюсе этого повествовательного уровня ему соответствует «событие самого рассказывания», говоря словами М.М. Бахтина (См.: Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Очерки по исторической поэтике. М., 1975. С. 403) 21 10 обладает достаточно четкими представлениями о литературе, которую он выбирает. Поэтому задачей автора становится некое нарушение читательских ожиданий – контакт реципиента с текстом должен приводить если не к приращению смысла, то к определенной новизне ощущений. Возможно, такое внимание к фигуре адресата, усвоенное Чеховым в период сотрудничества в «малой прессе», обусловило и его особые отношения с читателем в зрелом творчестве. Рассуждая о коммуникативных стратегиях 22 чеховских текстов, В.И. Тюпа отмечает: …своеобразие чеховской стратегии не столько во взаимной свободе коммуникантов (приводящей многих его персонажей к нереализованности коммуникативных событий), сколько во взаимной ответственности этой свободы. Вопреки давнишней идее А.П. Чудакова в произведениях Чехова нет ничего случайного. Он искусно формирует все необходимые предпосылки для классической эстетической завершенности целого. Но заключительный акт смыслового завершения (ответ на «правильно поставленный вопрос») автор оставляет читателю, апеллируя к его коммуникативной, эстетической и моральной ответственности23. Все отмеченные нами особенности популярной литературы: трансформации повествовательной структуры текста, проблематизация события, жанровые смешения, внимание к фигуре читателя – характерны и для позднейших этапов чеховской эволюции. Проблемы коммуникации находились под пристальным вниманием писателя на протяжении всего творческого пути. Подробный анализ коммуникативных ситуаций, представленных у Чехова на уровне изображенного мира, сделан в книге А.Д. Степанова «Проблемы коммуникации у Чехова» 24, в которой исследователь не только рассматривает работу писателя с речевыми 22 О функционировании коммуникативных стратегий в чеховской прозе второй половины 1880-х годов см. также: Васильева И.Э. «Поиски слова» в «переходную эпоху»: стратегия повествования В.М. Гаршина и А.П. Чехова. Дисс. … канд. филол. наук. СПб., 2007. 248 с. 23 Тюпа В.И. Коммуникативная стратегия чеховской поэтики // Чеховские чтения в Оттаве. Тверь; Оттава, 2006. С. 32. 24 См.: Степанов А.Д. Проблемы коммуникации у Чехова. М., 2005. 400 с. 11 жанрами, но и указывает на несомненные связи ранних юморесок с поздним чеховским творчеством25. Другой важной для нас в методологическом отношении работой является диссертация И.Э. Васильевой, где проанализированы коммуникативные стратегии, задействованные в повести «Степь» и текстах Чехова, вошедших в сборник «В сумерках»26. Итак, объектом диссертационного исследования служат прозаические тексты, написанные Чеховым в период с 1880 по 1884 год. Целью работы является рассмотрение особого рода взаимодействия между текстом и его адресатом, выражающегося на уровне повествовательной и композиционной структуры произведения. Отсюда вытекают задачи исследования: – проанализировать наиболее характерные и / или значимые для эволюции писателя жанры и тексты изучаемого периода, описать их коммуникативные интенции, концепции адресанта и адресата, жанровые трансформации; – определить те приемы, с помощью которых молодой Чехов стремился «вовлечь» массового читателя в свой текст или обманывал его ожидания; – проследить эволюцию и варьирование этих приемов в текстах разного объема (от «мелочишек» до больших повестей) и разных эстетических качеств (от комических до мелодраматических); – исследовать особенности событийности ранних чеховских произведений и установить их зависимость от читательской рецепции; – определить специфику повествовательных и коммуникативных стратегий Чехова, важную для дальнейшей эволюции писателя. 25 Ср. напр.: «Чехов-юморист подчеркивает то, что его герои способны изъясняться только готовыми формами речи и, не замечая противоречий, моментально переходят к совершенно иным, но тоже готовым, формам. Похожей склонностью к готовым (главным образом риторическим) формам отличаются и речи героев в его позднем творчестве, хотя жанровые трансформации здесь оказываются непрерывными и постепенными. И в том, и другом случае в разной степени акцентируется пустота субъекта и проявляется расчет на то, что читатель заметит противоречия в словах героев» (Степанов А.Д. Проблемы коммуникации у Чехова. С. 360). 26 См.: Васильева И.Э. «Поиски слова» в «переходную эпоху»: стратегия повествования В.М. Гаршина и А.П. Чехова. Дисс. … канд. филол. наук. СПб., 2007; Васильева И.Э. Стратегия вымысла и проблемы коммуникации (повесть А.П. Чехова «Степь») // Проблемы нарратологии и опыт формализма / структурализма. СПб., 2008. С. 326–354. 12 Методологические принципы, на которые мы опираемся, были выработаны в исследованиях, посвященных чеховскому повествованию и общим проблемам нарратологии (А.П. Чудаков, Н.А. Кожевникова, И.Э. Васильева, В.И. Тюпа, В. Шмид, М. Баль27). Важными для нас являются также основные постулаты рецептивной эстетики, сформулированные в трудах как западных (Х.-Р. Яусс, В. Изер, Р. Ингарден, С. Фиш и др.28), так и отечественных ученых29. Говоря о теоретических проблемах функционирования массовой литературы, мы основываемся на идеях, изложенных У. Эко30 и Дж.Г. Кавелти31, а при анализе повествовательной и рецептивной структуры чеховских текстов в контексте «малой прессы» руководствуемся выводами, сделанными А.И. Рейтблатом32, В.Б. Катаевым33, И. Н. Сухих34, Э.Д. Орловым35. Теоретические аспекты исследования и анализ общих проблем, связанных с тематикой диссертационного исследования, представлен в первой главе. Вторая глава посвящена подробному анализу «малых форм»; материал в ней делится по жанровому принципу, так как именно в рамках жанра зачастую устанавливаются 27 См.: Чудаков А.П. Поэтика Чехова. М., 1971. 291 с.; Чудаков А.П. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. М., 1986. 379 с.; Кожевникова Н.А. Стиль Чехова. М., 2011. 486 с.; Васильева И.Э. «Поиски слова» в «переходную эпоху»: стратегия повествования В.М. Гаршина и А.П. Чехова. Дисс. … канд. филол. наук. СПб. 248 с.; 2007; Васильева И.Э. Стратегия вымысла и проблемы коммуникации (повесть А.П. Чехова «Степь») // Проблемы нарратологии и опыт формализма / структурализма. СПб., 2008. С. 326–354; Васильева И.Э. Специфика чеховской событийности: «Дом с мезонином» // Событие и событийность. Петербургский сборник. Вып. 5. М., 2010. С. 123– 140; Тюпа В.И. Статус событийности и дискурсные формации // Событие и событийность. М., 2010. С. 24–36; Тюпа В.И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса («Архиерей» А.П. Чехова). Тверь, 2001. 58 с.; Шмид В. Нарратология. М., 2003. 312 с.; Шмид В. Событийность, субъект и контекст // Событие и событийность. М., 2010. С. 13–23; Bal M. Narratology. Introduction to the Theory of Narration. London, 1997. 255 pp. 28 См.: Яусс Х.-Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 34–84; Iser W. The Implied Reader. Patterns of Communication in Prose Fiction from Byron to Beckett. Baltimore and London, 1978. 303 pp.; Изер В. Процесс чтения: феноменологический подход // Современная литературная теория. Антология. М., 2004. С. 201–224; Изер В. Акты вымысла, или что фиктивно в фикциональном тексте // Немецкое философское литературоведение наших дней. СПб., 2001. С. 186–216; Ингарден Р. Литературное произведение и его конкретизация // Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962. С. 72–91; Fish S. Is There Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities. Cambridge, MA, 1980. 394 pp.; Общество. Литература. Чтение. Восприятие литературы в теоретическом аспекте. М., 1978. 293 с. 29 Особое значение для нас здесь имеют исследования «тверской школы» рецептивистики. См. напр.: Художественное восприятие: Проблемы теории и истории. Калинин, 1988. 153 с.; Художественное творчество и проблемы восприятия. Калинин, 1990. 142 с. 30 См.: Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб., 2001. 510 с. 31 См.: Кавелти Дж.Г. Изучение литературных формул // Новое литературное обозрение. 1996. № 22. С. 33–64. 32 См.: Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. М., 2009. 448 с. 33 См.: Катаев В.Б. Литературные связи Чехова. М., 1989. 261 с. 34 См.: Сухих И.Н. Мир Чехова: истоки и становление // Сухих И. Н. Указ. соч. С. 28–102. 35 См.: Орлов Э.Д. Литературный быт 1880-х годов. Творчество А.П. Чехова и авторов «малой прессы». Дисс. … канд. филол. наук. М., 2008. 260 с. 13 основные принципы коммуникации текста и читателя. В третьей главе рассматриваются «большие формы», совмещающие в себе все повествовательные принципы, разработанные автором в небольших рассказах. Основным объектом исследования здесь оказывается повесть «Драма на охоте», которую мы расцениваем как обобщающее, итоговое для раннего периода чеховского творчества произведение. Научная новизна предлагаемой работы заключается в том, что в ней чеховское повествование, проблемы событийности и коммуникативной структуры произведений Чехова рассматриваются на материале самых ранних текстов писателя. Кроме того, в ней предпринимается попытка проанализировать роль таких массовых жанров, как «список», «подпись к рисунку» и «мелочишка» в развитии чеховского нарратива. Актуальность диссертационного исследования обусловлена отсутствием на данный момент общепризнанной научной концепции чеховского повествования, которая объясняла бы общие для ранних и зрелых произведений писателя литературные механизмы воздействия текста на читателя. В данной работе рассматривается повествовательная и коммуникативная структура ранних текстов Чехова с целью показать, что уже в первых его произведениях большое внимание уделялось проблемам коммуникации и событийности. Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что принципы анализа ранних чеховских текстов, примененные в нем, могут быть использованы при изучении массовой и классической литературы иных периодов, а также при определении общих закономерностей литературного процесса и выявлении особенностей взаимодействия классики и беллетристики. Практическая значимость диссертации состоит в том, что ее результаты могут быть использованы в курсах истории русской литературы XIX века, а также специальных курсах, посвященных проблемам развития русской массовой литературы в конце XIX столетия, проблемам эволюции прозы Чехова, вопросам взаимодействия классической и массовой литературы. 14 Апробация диссертации. Основные положения диссертации излагались на следующих научных конференциях: «XLI Международная филологическая конференция» (Санкт-Петербург, 2012); «Международная конференция молодых филологов» (Тарту, 2012); «Молодые исследователи Чехова» (Мелихово, 2012); «Семиозис и культура: текст в лабиринтах современности» (Сыктывкар, 2012); «XLII Международная филологическая конференция» (Санкт-Петербург, 2013); «XLIII Международная филологическая конференция» (Санкт-Петербург, 2014); «IV Международная междисциплинарная научная конференция “Метаморфозы культуры на рубеже тысячелетий: пространство диалога”» (Новосибирск, 2014); «Международная научная конференция “Чеховская карта мира”» (Мелихово, 2014); «Филологические исследования – 2014. Источники, их анализ и интерпретация в филологических науках» (Сыктывкар, 2014). Отдельные положения работы использовались при чтении курсов по истории русской литературы и проведении практических занятий по истории русской литературы второй половины XIX века, а также практических занятий по теории литературы. По теме работы опубликовано 9 статей, в том числе 3 в изданиях, включенных в Перечень ведущих рекомендованный ВАК. рецензируемых научных журналов и изданий, 15 Глава 1 А.П. Чехов и «малая пресса»: повествование, коммуникация, читатель Вопрос об особенностях повествования в ранних текстах А.П. Чехова охватывает достаточно широкий спектр теоретических и историко-литературных проблем. Сложность ситуации заключается в необычном положении писателя, чьи произведения сыграли серьезную роль в развитии как классической, так и массовой русской литературы. Успех в разных областях художественной словесности привел к тому, что образ писателя словно бы раздвоился: Антоша Чехонте и Антон Чехов представляются как бы разными авторами, обладающими различными писательскими техниками, литературными ориентирами и целями. Таким образом, творческая история Чехова осмысляется как эволюция не только в смысле развития художественной системы писателя, но и как сознательный отказ от «несерьезного» занятия в пользу «настоящей» литературы. Рубеж, разграничивающий два периода творчества писателя, привлекает большое внимание исследователей. Так, А.П. Чудаков описывает его через перелом повествовательной системы молодого автора36. Немецкий ученый М. Фрайзе предлагает еще одну классификацию текстов Чехова, которая затрагивает проблему смыслообразования: Самые ранние тексты Чехова не претендуют на глубокий смысл и не подвергаются писателем анализу и дальнейшей переработке <…> далеко не все ранние рассказы годились для такой переработки. Среди истинных произведений искусства в раннем творчестве Чехова есть «произведения» наподобие счетов или списка покупок, подписанных «рукой мастера». Только после письма Д.В. Григоровича Чехов осознал разницу между подлинно художественными текстами и «литературными поделками», и потому их сосуществованию в его творчестве был положен конец. В диахронии творчества Чехова такие «литературные поделки», написанные им до письма Григоровича, не играют роли. 36 См.: Чудаков А.П. Поэтика Чехова. С. 10–60 («Субъективное повествование (ранний Чехов)»). 16 Уже до письма Григоровича «литературные поделки» среди публикаций Чехова играют все меньшую роль, а потом и вовсе сходят на нет. Отбор текстов, сделанный Чеховым для собственного собрания сочинений, вышедшего в издательстве А.Ф. Маркса, показывает, что главным критерием для писателя была внутренняя смысловая структура его произведений 37. Так или иначе, но наличие генетической связи между двумя периодами творчества писателя приходится обосновывать 38 либо избирать особый (не хронологический) принцип анализа чеховских текстов, позволяющий представить поэтику автора во всем разнообразии ее характеристик39. И если вторая часть литературного наследия автора («зрелый Чехов») смогла обрести устойчивый репертуар интерпретаций, то единого мнения о том, что же представляет собой поэтика Антоши Чехонте, у исследователей не сложилось. Ранние тексты рассматриваются, например, как путь писателя к большой литературе, включающий в себя поиск собственной манеры, художественной формы 40, или как произведения с особой новаторской структурой, которая четко отделяет рассказы Чехова от того, что создавалось другими авторами «малой прессы»41. Сложность заключается в том, что статус и облик массовой литературы рубежа веков представляются не слишком ясными. Только в последние десятилетия XIX века в России формируется то, что можно назвать популярной литературой, – и связано это, безусловно, с ростом числа читателей, то есть с распространением грамотности42. Развитие изданий, ориентированных на новую аудиторию, происходит очень быстро, а формирование репертуара «малой прессы», выработка новых популярных «канонов» или литературных формул 37 38 Фрайзе М. Проза Антона Чехова. М., 2012. С. 10. См.: Сухих И.Н. Указ. соч. СПб., 2007. С. 5–102; Тюпа В.И. Художественность чеховского рассказа. М., 1989. 132 с. 39 См.: Катаев В.Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации. М., 1979. 326 с.; Степанов А.Д. Проблемы коммуникации у Чехова. М., 2005. 400 с. 40 См.: Ильюхина Т.Ю. Вопрос о романе в раннем творчестве А.П. Чехова. Дисс. … канд. филол. наук. СПб., 1994. 192 с.; Чудаков А.П. Мир Чехова: возникновение и утверждение. М., 1986. 379 с. 41 См., напр.: Фортунатов Н.М. Тайны Чехонте: о раннем творчестве А.П. Чехова. Материалы спецкурса. Нижний Новгород, 1996. 113 с. 42 См.: Рейтблат А.И. Указ. соч.; Brooks J. When Russia learned to read. Literacy and Popular Literature, 1861–1917. New Jersey, 1985. 450 pp.; О массовой литературе рубежа веков см. также: Абашина М.Г. Массовая литература 1880-х – начала 1890-х годов (И.И. Ясинский, В.И. Бибиков). Автореф. дисс. … канд. филол. наук. СПб., 1992. 16 с. 17 требует определенного времени, в результате чего последние оказываются достаточно расплывчатыми43. Примером может послужить популярный в России жанр уголовного романа: в отличие от западного детектива, распространившегося в мировой литературе, он так и не обрел устойчивой жанровой схемы. Произведения этого типа объединяло одно – в них так или иначе фигурировало преступление, все остальное зависело от фантазии авторов, которые выбирали самые причудливые сюжетные схемы, вводили или не вводили в повествование фигуру сыщика, смешивали жанр уголовного романа с мелодрамой и т.д. Повествовательная воздействием особого А.И. Роскин указывает структура таких рода отношений на «презрение текстов между Антоши формировалась авторами и Чехонте под читателями. к читателю юмористических журналов… презрение, которое не искажало, а охраняло чеховский талант. А это презрение Чехов почувствовал, едва начавши печататься»44. Однако дело, скорее всего, было вовсе не в стремлении автора раскрыть «читателю картины его собственной жизни, освещенной не высказанным напрямую, но как бы растворенным в самой атмосфере повествования требованием изменить ее»45. Взаимодействие Чехова с его аудиторией было куда более сложным и обусловливалось, как представляется, законами функционирования популярной литературы. В отличие от высокой литературы, где образ писателя-творца всегда резко противопоставлен аудитории (крайний случай – романтический топос «поэт и толпа») или, как минимум, отделен от нее, в русской массовой литературе конца XIX века граница между ними оказывается проницаемой. Вчерашний читатель мог стать сотрудником газеты, для этого нужно было всего лишь отправить свой текст в редакцию, и если он нравился издателям, то появлялся в печати 46. Как 43 Существует предположение, что массовую литературу этого периода следует называть «протомассовой литературой» (см.: Материалы Открытого научного семинара «Проблемы теории и истории литературы». Второе заседание: Массовая литература. СПб., 1998. 28 с.) 44 Роскин А.И. Об Антоше Чехонте и Антоне Чехове (К восьмидесятилетию со дня рождения А.П. Чехова) // Роскин А.И. А.П. Чехов. Статьи и очерки. М., 1959. С. 83. 45 Глушков С.В. Чехов и провинциальный читатель // Читатель в творческом сознании русских писателей. Калинин, 1986. С. 159. 46 См.: Орлов Э.Д. Указ. соч. 18 следствие, «<у> раннего Чехова “литератор” и “читатель” нередко меняются местами: писатель легко становится обывателем, а читатель настойчиво тяготеет к писательству (“Ревнитель”, “Водевиль”, “О женщины, женщины!” и др.)»47. Реальному читателю, который решил стать «автором», не обязательно было даже создавать художественное произведение: документальное повествование тоже пользовалась большим успехом у публики. Последнее обстоятельство имеет особое значение: в русской массовой литературе этого периода зачастую не было четкого различия между фикциональным текстом и документалистикой. Писатели и читатели, безусловно, понимали разницу между вымыслом и реальностью, однако данная оппозиция снималась единой авторской интенцией, направленной на увлечение и развлечение читателя. Так, реальные факты, взятые из газетной хроники, становились деталями художественных текстов и, вполне вероятно, могли быть опознаны в их структуре читателем 48. Многие «мелочишки» имитировали всевозможные газетные обзоры – достаточное количество таких примеров можно найти у Чехова49. Фикциональные и документальные тексты отражали одни и те же проблемы современности, не забывая при этом адресоваться к литературной традиции, в результате чего появлялись интересные варианты давно известных сюжетов. Например, во втором номере «Будильника» за 1880 год автор, скрывшийся под псевдонимом Воля, предваряет свой обзор казанских новостей пространным рассуждением о нелегкой судьбе провинциального корреспондента: Тяжело положение провинциального корреспондента!. .. Провинция не любит корреспондентов.… Мало: она ненавидит их!.... Кого, как не корреспондента, считают в провинции «злым человеком», приравнивают к бунтовщику и революционеру, – кого не пускают обыватели на квартиры, обливают помоями, кому, как не корреспонденту, «мнут бока», «считают ребра» и устраивают тысячу 47 Овчарова П.И. Читатель в творческой программе А.П. Чехова // Художественное восприятие: проблемы теории и истории. Калинин, 1988. С. 124. 48 См.: Ильюхина Т.Ю. Указ. соч. С. 60. 49 Подробнее см., напр.: Овчарская О.В. Ранняя проза А.П. Чехова в контексте «малой прессы» 1880-х годов // Молодые исследователи Чехова. Вып. 7. М., 2013. С. 115–127. 19 мелких неприятностей?.... Всякий старается сорвать с него маску псевдонима и уличить в том, что он кор-ре-спон-дент!.... Кулачная расправа с «писакой» практикуется еще в глухих уездных городишках, и если такие прелести не доходят до печати, то понятно: сокрушенная рука уже не поднимется описывать свой позор и свои страдания!....50 Эта же тема находит отражение в раннем рассказе Чехова «Корреспондент», где писатель соединяет ее с темой «маленького человека» (сюжет о нем к концу века стал очень популярен в массовой литературе) и доводит начатую Гоголем и Достоевским линию до логического завершения: чеховский корреспондент получает то, что было так сложно для Башмачкина и Девушкина: обретает собственный голос, хотя и не желает (или не умеет) им воспользоваться. Таким образом, в повествовательной структуре произведений русской массовой литературы конца XIX века сильно акцентированным оказывается полюс читателя. Реципиент является крайне важной фигурой для конструирования текста. В. Шмид в «Нарратологии» уделяет большое внимание этой проблеме. Исследователь формируется отмечает, что представление именно об в сознании абстрактном конкретного авторе, задачей читателя которого предполагается вымысливание художественного мира и создание в тексте образа адресата51. При этом, однако, не следует забывать о том, что конкретный автор остается ответственным за создание собственно произведения, хотя ни наивный читатель, ни литературовед не могут описать его сознание как повествовательную инстанцию52. Ситуация, сложившаяся вокруг массовой литературы рубежа веков, обусловила максимальное сближение конкретного автора и конкретного читателя, что повлияло и на характер соотношения других повествовательных инстанций. 50 Воля. Из Казани (Корреспонденция «Будильника») // Будильник. 1880. № 2. С. 52. См.: Шмид В. Нарратология. С. 39–108. 52 О читательской интерпретации в теоретическом аспекте см. также: Прозоров В.В. Проблема читателя и литературный процесс в России XIX века. Автореф. дисс. … докт. филол. наук. Л., 1979. 29 с.; Чернец Л.В. Функционирование литературных произведений как теоретическая проблема. Автореф. дисс. … докт. филол. наук. М., 1992. 33 с. 51 20 Реципиент оказался не просто «получателем информации», в воображении которого складывается образ автора и его художественного метода на основе прочитанной литературы. То, что читатель желал получить от текста, являлось не столько «горизонтом ожидания»53, сколько своеобразным «заказом». Граница между творцом и аудиторией была проницаемой. В отличие от ситуации, когда публика взаимодействует с высокой литературой, массовый читатель мог формировать для себя личный «канон», выбирая подходящее издание, любимые жанры, сюжетные линии54 и авторов. Как отмечает И.Н. Сухих, у раннего Чехова …кругозор читателя учитывается постоянно: повествователь, герой и читатель находятся в одном мире, служат в соседних департаментах, сидят рядом в театре, поблизости нанимают дачи и т. д. В таком случае любой намек, любое воссоздание ситуации опирается на подкрепляющий контекст: собственный опыт воспринимающего55. Возможно, именно поэтому одним из самых популярных жанров массовой литературы была и остается новелла, форма которой обусловливает возникновение особого рода контакта между текстом и реципиентом: Установка на немедленное восприятие, учет возможного «ответа» слушателя (читателя), генетически связанные с изустной природой жанра, определяют «беседный» характер новеллистической структуры. В новелле повествователем может стать каждый, кому есть что сказать; от воспринимающих (слушателей или читателей) требуются внимание, дружелюбие и доверие к искренности рассказчика, но отнюдь не обязательное согласие с ним 56. 53 О «горизонте ожидания» см.: Яусс Х.-Р. Указ. соч. С. 62–70. Имеются в виду романы-фельетоны, которые печатались в «подвалах» газет. Так, в газете «Новости дня», где была напечатана чеховская «Драма на охоте», ежедневно публиковались разнообразные романы с продолжением, причем отрывки разных текстов чередовались, и читатель не знал, отрывок какого произведения ему предложат завтра. 55 Сухих И.Н. Указ. соч. С. 68. 56 Овчарова П.И. Читатель и читательское восприятие в творческом сознании А.П. Чехова. С. 5. 54 21 Если говорить о повествовательной структуре, то абстрактный читатель (по Шмиду) здесь неизбежно оказывается идеальным реципиентом, то есть, подобно изеровскому имплицитному читателю 57, максимально приближается к нарратору. Однако в отличие от того, что описывает Изер, этот субъект не обязан обладать глубокими познаниями в области культуры и литературы, напротив, повествователь стремится сконструировать текст так, чтобы он был понятен и интересен реципиенту. Между тем описанные обстоятельства едва ли могут привести к тому, чтобы читатель испытал удовольствие от чтения. Дж.Г. Кавелти называет два условия, необходимых для того, чтобы текст популярного жанра понравился аудитории – наличие знакомой формулы и небольшие изменения, отступления от сюжетной схемы, которая, однако, не должна полностью разрушать жанровый канон 58. Такие отступления от формулы мотивированы тем, что процесс чтения неизбежно опирается на механизмы конкретизации прописанного смысла реципиентом, описанные Р. Ингарденом59. Еще одной причиной их появления является стремление повествовательной системы вернуться в равновесное состояние, разделить изначально противопоставленные полюса адресата и адресанта. Литератор, пишущий формульный текст и нацеленный на успех, должен создать произведение, одновременно знакомое и новое для читателя. Иными словами, он должен сместить читателя с его позиции осознанной вненаходимости, заставить его поверить в реальность фиктивного мира, вчувствоваться в происходящее. Таким образом, пристальное внимание автора и, как следствие, повествователя будет направлено сразу на два уровня: уровень происшествий художественного мира и уровень коммуникации читателя и текста60. Говоря словами М.М. Бахтина, 57 См.: Iser W. Op. cit. См.: Кавелти Дж.Г. Указ. соч. 59 См.: Ингарден Р. Указ. соч. 72–91. 60 Под текстом здесь мы понимаем взаимодействие сразу двух повествовательных инстанций, выделенных В. Шмидом, – абстрактного автора и повествователя, так как воздействие на читателя оказывает и характер вымышленного мира, и то, каким образом этот мир воплощен в конкретном тексте. 58 22 …перед нами два события – событие, о котором рассказано в произведении, и событие самого рассказывания (в этом последнем мы и сами участвуем как слушатели-читатели); события эти происходят в разные времена (различные и по длительности) и на разных местах, и в то же время они неразрывно объединены в едином, но сложном событии, которое мы можем обозначить как произведение в его событийной полноте, включая сюда и его внешнюю материальную данность, и его текст, и изображенный в нем мир, и автора-творца, и слушателя-читателя. При этом мы воспринимаем эту полноту в ее целостности и нераздельности, но одновременно понимаем и всю разность составляющих ее моментов 61. В ранний период творчества Чехов работал в описанных нами условиях, что не могло не отразиться на его произведениях. Особая связь, существовавшая между авторами и читателями, сразу нашла отражение в поэтике писателя: Особенностью литературной позиции начинающего Чехова было удивительно легкое приятие условий обращения к аудитории, свойственных развлекательной беллетристике. Сотрудник юмористических журналов исходно занимал позицию «человека в толпе», человека «как все», но жизнерадостного и по возможности оптимистичного62. Ощущение общеизвестного возникало у Чехова и в рамках художественного мира, и на уровне повествования. Сюжет строился на основе знакомых читателю исторического и культурного контекстов, а повествователь, чье присутствие в тексте ощущалось читателем в качестве «авторского», воспринимался как фигура близкая (иными словами, реципиент не должен был ощущать дистанцию, лежащую между ним и произведением, что бывает в случае с классической литературой, тексты которой производят впечатление «высоких», серьезных). Такая структура допускала свободное перемещение между двумя этими уровнями, 61 62 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. С. 403. Овчарова П.И. Читатель и читательское восприятие в творческом сознании А.П. Чехова. С. 7. 23 что, безусловно, сказывалось и на стиле, рождая всевозможные типы пересечения слова героя и слова повествователя63. Возможно, именно эти особенности взаимодействия массовой литературы со своими читателями обусловили то внимание, с которым Чехов относился к реципиенту на протяжении всего творчества. Чеховский читатель – это всегда активно участвующий в жизни произведения субъект 64. Сама необходимость этой активности обусловливает впечатление, оказываемое на него текстом 65. По словам А.П. Кузичевой, <н>еобходимость додумывать судьбы героев и свою собственную судьбу, готовность отвечать на вопросы, возникающие перед героем, – эти и другие «субъективные элементы», которые, как когда-то надеялся Чехов, читатель подбавит сам, доказывали, что его «расчет» оказался верным и открыл перед русской прозой, перед искусством наступившего века новые горизонты 66. Работа читательского сознания настолько важна для чеховских текстов, что исследователи даже возлагают на него ответственность за функционирование структурных, повествовательных компонентов произведения. В частности, В.И. Тюпа настаивает на том, что действия реципиента оказываются решающими в определении событийного статуса чеховского текста: 63 Как отмечает Н.А. Кожевникова, «язык для Чехова не только средство изображения, но и предмет изображения. Уже в самых ранних произведениях слово выдвинуто в центр внимания…» (Кожевникова Н.А. Указ. соч. С. 5). 64 «Известно, что чеховская объективность изображения действительности предполагает активное сотворчество читателя» (Цилевич Л.М. Сюжет чеховского рассказа. Рига, 1976. С. 5). Известны случаи, когда читатели Чехова пытались продолжить диалог с произведением за пределами художественного текста. Так, Е.М. Сахарова приводит письмо читательницы, просившей автора рассказать продолжение истории «Дамы с собачкой» (См.: Сахарова Е.М. Глазами читателей // Чехов и его время. М., 1977. С. 343). 65 Л.М. Цилевич связывает воздействие чеховского текста с «импульсами эстетической активности», которые активизируются в сознании реципиента с помощью подтекстных деталей: «Чеховский рассказ позволяет читателю проникнуть в глубину его смысла и тем самым возвыситься до интенсивного эстетического переживания, в котором слиты эмоция, мысль и воля, побуждение к действию. Для этого нужно заметить “незаметное”» (Цилевич Л.М. Импульсы эстетической активности в чеховском рассказе // Чеховиана: Чехов в культуре ХХ века: Статьи, публикации, эссе. М., 1993. С. 54). 66 Кузичева А.П. Об эффекте «развертывания слова» Чехова в сознании читателя // Стиль прозы Чехова. Даугавпилс, 1993. С. 19. 24 Открытость, неопределенность референтного события в прозе Чехова создает нелинейную, вероятностную событийность самого коммуникативного «события рассказывания». Право и даже рецептивная необходимость удостоверить или не удостоверять событийный статус рассказанного входит здесь в компетенцию адресата. Ответственность читателя за вероятностную событийность текста составляет риторический этос нарратива с открытым финалом… 67 Работа Чехова осмысляется литературоведами как поиск новых приемов, позволяющих обмануть читательские ожидания. Например, В.В. Прозоров считает, что <с>реди «Пестрых рассказов» встречаются и такие, в которых читательское внимание организуется уже не традиционным занимательно-сюжетным способом, а как бы в противоречии хитросплетениями опровергающими сюжета, его с ним: читатель, сталкивается ожидания и с приученный художественными наталкивающими на следить за решениями, значительные в нравственном отношении открытия и откровения…68 Взаимодействие чеховских произведений с воспринимающим сознанием, таким образом, основывается не только на использовании автором знакомого читателю контекста, но и на том, как произведение организовано с точки зрения повествовательной структуры и композиции69. Анализируя этот аспект текстов Чехова, Н.М. Фортунатов приходит к выводу о «музыкальности» его новелл, за счет которой они оказываются способными воздействовать на реципиента особым образом: 67 Тюпа В.И. Статус событийности и дискурсные формации. С. 34. Прозоров В.В. Проблема читателя и литературный процесс в России XIX века. Автореф. дисс. … докт. филол. наук. Л., 1979. С. 25. 69 «Сила воздействия создаваемой Чеховым формы заключается, таким образом, в новых принципах ее организации; эмоционально-образная ткань дается в сквозном развитии, сотканная из немногих и очень определенных, отчетливо воспринимаемых (и переживаемых) читателем повторяющихся образов-тем, носителей сложного сплава эмоций, состояний, мыслей, заключенных в них. Повышенная экспрессия, эмоциональность авторской мысли кроется в самих конструктивных особенностях композиционных построений» (Фортунатов Н.М. Архитектоника чеховской новеллы (Спецкурс). Горький, 1975. С. 57). 68 25 Сжатость изложения возникает у него за счет повторений! Вот этот великий чеховский парадокс, до сих пор не оцененный по достоинству, его гениальное открытие. Музыканты бы назвали такую технику репризностью, т. е. повторением (тождественным или варьированным) четко организованного художественного материала. Чехонте совершил почти невозможное: эпическое повествование превратил в близкую аналогию так называемым чистым искусствам (например, архитектуре и музыке), выражающим самими своими построениями определенное эмоционально-образное содержание. Вот почему уже у Чехонте возникает струящаяся тончайшими оттенками смысловых и эмоциональных красок художественная ткань, загадочная по своей выразительности 70. Таким образом, даже выйдя за рамки популярной литературы, Чехов сохранил некоторые творческие принципы, которые могли сложиться у него именно под влиянием особых требований к структуре повествования, сформированных запросом массового читателя. Кроме всего прочего, раннее и зрелое творчество Чехова роднит внимание к проблемам коммуникации. В частности, П.И. Овчарова считает, что свойственное «малой прессе» в целом и проявившееся уже в первых чеховских произведениях «<р>одство» рассказчика и аудитории очень существенно для формирования эстетики Чехова: оно воплощает надежду на взаимопонимание. Однако в действительности контакт чаще всего невозможен, ибо люди не готовы ни к дружескому общению, ни к духовным наслаждениям71. Исследование А.Д. Степанова показало, что практически в любом тексте Чехова, независимо от времени его написания, автор трансформирует тот или 70 Фортунатов Н.М. Тайны Чехонте: о раннем творчестве А.П. Чехова. Материалы спецкурса. Нижний Новгород, 1996. С. 32. 71 Овчарова П.И. Читатель в творческой программе А.П. Чехова. С. 124–125. 26 иной речевой жанр72. Несмотря на то, что ситуация непонимания весьма распространена в развлекательной литературе, выбор именно этого сюжета в качестве основы творчества, на наш взгляд, является показательным. Утаивание истины, недомолвки, непонимание помогают скрепить уровень повествуемых событий с более высоким «надсюжетным» уровнем через фигуру читателя. В зависимости от жанра произведения (уголовный роман, анекдот, авантюрный / приключенческий роман и так далее) повествователь может до поры скрывать от читателя ту часть правды, которая неизвестна одному из персонажей, или, напротив, открывать ему информацию, недоступную для героев. Так или иначе, впечатление от чтения складывается не только (и не столько) от описываемых происшествий, сколько под влиянием коммуникативной стратегии повествователя. Как отмечает И.Н. Сухих, в ранних текстах Чехова важную роль играет «доверие к читателю, расчет на его активность и нравственную чуткость, на его своеобразное “сотворчество”, о чем впоследствии неоднократно будет говорить» писатель73. В.И. Тюпа понимает ориентированность чеховских текстов на сознание читателя как принципиально новаторскую черту его поэтики: …между метасубъектными, виртуальными инстанциями Автора и Читателя чеховских произведений устанавливаются принципиально новые для литературы XIX века отношения. Если полифонический роман Достоевского, как было показано Бахтиным, привнес в литературу диалогизацию отношения авторского сознания к сознанию героя, то инновационная коммуникативная стратегия чеховского творчества привнесла диалогизированную открытость в соотношение авторского и читательского сознаний74. Анализируя сборник «В сумерках», И.Э. Васильева отмечает, что многие чеховские рассказы строятся на проблематизации «читательского восприятия 72 См.: Степанов А.Д. Проблемы коммуникации у Чехова. М., 2005. 400 с. Сухих И.Н. Указ. соч. С. 68. 74 Тюпа В.И. Коммуникативная стратегия чеховской поэтики. С. 32. 73 27 события, в основе которой, как представляется, лежит разрушение стереотипа»75. Таким образом, …отсутствие целостной завершающей внешней точки зрения в мире Чехова характеризует не только и не столько героя, сколько сам стереотип, на который ориентирована работа воспринимающего сознания. Не соответствующий устойчивому представлению герой открывает возможность для усложнения первоначального представления-понятия в сознании читателя. Это новое, усложненное, представление-понятие… задается как принципиально открытое множество, которое может пополняться любыми, в том числе и противоречащими изначальным, элементами. В результате проблематизируется собственно понятийный уровень языка. Значение слова определяется в первую очередь контекстной семантикой. Расхождение между словарным значением и контекстным значением слова участвует в образовании вторичного сюжета на уровне автор — читатель76. Перенос сюжета в область коммуникации между автором и читателем (или текстом и читателем), наблюдаемый в творчестве Чехова во второй половине восьмидесятых годов, характерен и для первых опытов писателя. То, что в поздних повестях и рассказах становится оригинальным творческим принципом, в ранних произведениях было обусловлено требованиями литературной среды77. Как следствие, и для раннего творчества Чехова является актуальной проблема события, отмеченная И.Э. Васильевой. Так как внимание с происшествий переносится на проблему понимания / непонимания, встает вопрос о том, можно ли вообще говорить о событийности некоторых юмористических текстов. Примером может послужить рассказ «Папаша» (1880). Начало этого семейного анекдота демонстрирует читателю точку зрения жены («мамаши»): 75 Васильева И.Э. «Поиски слова» в «переходную эпоху»: стратегия повествования В.М. Гаршина и А.П. Чехова. Дисс. … канд. филол. наук. С. 126. 76 Васильева И.Э. «Поиски слова» в «переходную эпоху»: стратегия повествования В.М. Гаршина и А П. Чехова. Дисс. … канд. филол. наук. С. 121–122. 77 Это, безусловно, не отменяет положения об оригинальности чеховской поэтики. Проблема актуализации текста в сознании читателя стояла перед большим количеством литераторов, но каждый решал ее индивидуально, вырабатывая собственный метод. 28 При входе ее с колен папаши спорхнула горничная и шмыгнула в портьеру; мамаша не обратила на это ни малейшего внимания, потому что успела уже привыкнуть к маленьким слабостям папаши и смотрела на них с точки зрения умной жены, понимающей своего цивилизованного мужа78; Папаша повернулся к столу, нагнулся к какой-то бумажке и искоса, как собака на тарелку, посмотрел на портьеру. – Папочка, я не уйду… я не уйду! Я вижу, что я тебе в тягость, но потерпи… (1; 28); Мамаша взвизгнула и жестом взбешенного трагика указала на портьеру… Папаша сконфузился, растерялся, ни к селу ни к городу запел какую-то песню и сбросил с себя сюртук… Он всегда терялся и становился совершенным идиотом, когда мамаша указывала ему на его портьеру (1; 29). Иногда, впрочем, точка зрения героини совмещается с перспективой субъективного всеведущего повествователя: «Мамаша мизинчиком провела по жирным губам папаши, и ей показалось, что она кокетливо нахмурила бровки» (1; 28); «Мамаша спорхнула с колен папаши, и ей показалось, что она лебединым шагом направилась к креслу» (1; 28). Переход ко второй части текста рассказа маркируется сменой носителя точки зрения. Теперь читателю доступны мысли папаши, причем начинается действие опять с «любовной» темы: войдя к учителю без доклада, папаша «слышал, как учитель сказал своей жене: “Дорого ты стоишь мне, Ариадна!.. Прихоти твои не имеют пределов!” И видел, как учительша бросилась на шею к учителю и сказала: “Прости меня! Ты мне дешево стоишь, но я тебя дорого ценю!”» (1; 29). И без того комичный в этом жанре пафос данной сцены снижается мыслями папаши: «…папаша нашел, что учительша очень хороша 78 Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Т. 1. М., 1974. С. 27. В дальнейшем ссылки на произведения Чехова даются в тексте работы с указанием тома и страницы. Серия писем обозначется П. Курсив, кроме специально оговоренных случаев, наш. 29 собой и что будь она совершенно одета, она не была бы так прелестна» (1; 29). Между тем диалог учителя с женой в общих чертах похож на диалог папаши и мамаши: исполнить мамашину «прихоть» – уговорить учителей исправить оценки их лентяя-сына и перевести его в четвертый класс – папаше стоит некоторых трудов. Интересно, что через некоторое время снова сменяется герой, мысли которого повествователь передает читателю, – теперь это учитель. Переход совершается постепенно, он словно бы замаскирован. Сначала повествователь изображает учителя только с внешней точки зрения: «учитель улыбнулся» (1; 30), «учитель сделал большие глаза» (1; 30). После этого нарратор внезапно начинает снабжать описание действий учителя своими комментариями: «учитель сделал большие глаза и… только; а почему он не обиделся – это останется для меня навсегда тайною учительского сердца» (1; 31); «учитель покраснел, съежился и… только. Почему он не указал папаше на дверь – для меня останется навсегда тайной учительского сердца» (1; 31). Эти «зарифмованные» фразы, с одной стороны, привлекают внимание читателя тем, что они смешны, и, с другой стороны, отвлекают реципиента от перехода к новой точке зрения. Вскоре в тексте появляется внутренняя точка зрения учителя (она передается повествователем, что заметно на уровне фразеологии): Папаша немного помолчал, подумал и опять наступил на г. учителя. Наступление продолжалось еще очень долго. Учителю пришлось раз двадцать повторить свое неизменное «не могу-с». Наконец папаша надоел учителю и стал больше невыносим. Он начал лезть целоваться, просил проэкзаменовать его по арифметике, рассказал несколько сальных анекдотов и зафамильярничал. Учителя затошнило. <…> Учитель выбился из сил и начал ныть. Наконец ему показалось, что он придумал гениальнейшую вещь. (1; 32. Курсив Чехова. Подчеркнуто нами. – К. О.) . 30 И далее мысли героя передаются с помощью прямой речи: «Славный малый, – подумал г. учитель, глядя вслед уходившему папаше. – Славный малый! Что у него на душе, то и на языке. Прост и добр, как видно… Люблю таких людей» (1; 33). Игра с переменой точки зрения сопровождается колебаниями статуса персонажей. Разговор папаши и учителя – это разговор людей разного социального положения, что в тексте намеренно подчеркивается. В очередной раз отказывая папаше в выполнении его просьбы и пытаясь сменить тему разговора, учитель предлагает собеседнику папиросу, на что папаша отвечает: – Гран мерси… Перевести бы не мешало… А в каком вы чине состоите? – Титулярный… Впрочем, по должности VIII-го класса. Кгм!.. – Так-ссс… Ну, да мы с вами поладим… Единым почерком пера, а? идет? Хе-хе!.. (1; 32). При том, что папаша явно состоит в более высоком чине, он выступает в роли просителя. Несмотря на то, что он добивается своего, формально просьба остается просьбой (в частности, папаша не прибегает к шантажу или угрозам). Что касается моральных качеств, то капитуляция учителя в споре сводит на нет его стойкое следование принципам. Оба героя лишь формально, на словах, следуют своей «роли»: папаша на деле не просит, а вынуждает, а учитель не отстаивает свои убеждения, а уступает папаше потому что больше не может выносить разговора79. Интересно, что папаша в начале рассказа оказывается в том же положении, в которое позже попадет учитель. И дело не только в разговоре с капризной женой. Папашина позиция изначально совпадает с мнением учителя. Когда мамаша 79 О трансформации и смещении речевых жанров, в том числе жанра просьбы, подробно говорится в книге А.Д. Степанова «Проблемы коммуникации у Чехова». Исследователь подчеркивает, что «Чехов часто демонстрирует легкость, с которой просьба переходит в пограничные с ней жанры, в особенности в требование и приказ» (Степанов А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова. С. 194). При этом важно, что «просьба у Чехова, как правило, не осуществляется: она либо не высказывается вовсе, либо не приносит просителю желаемого» (Там же. С. 195). Таким образом, «…единственным повторяющимся — необходимым, хотя и не достаточным – условием выполнения просьбы становится… то, что ее выполнение неприятно, противно тому, кого просят» (Там же. С. 204) – подобная ситуация описана в рассказе «Папаша». 31 жалуется, что их сына из-за плохих оценок не переводят в следующий класс, папаша категорично заявляет: «Выпороть нужно, вот на что похоже!» (1; 28); «Шарлатан он, вот что-с! Ежели б поменьше баловался да побольше учился…» (1; 28); «…негодяй скверно учится» (1; 28). То же самое говорит учитель: «… ваш сын не занимается, говорит дерзости…» (1; 30). Жена, однако же, переходит в наступление и вынуждает мужа уступить ей. При этом формально опять же сохраняется ситуация просьбы: жена не угрожает мужу скандалом, хотя и намекает на это. В качестве доказательства своей правоты героиня приводит жалобу сына, заявившего «что он арифметику знает лучше самого учителя и что он не виноват в том, что на этом свете пятерки получаются только одними гимназистками, богачами да подлипалами» (1; 29). Функционально слова сына, принятые как «истинное свидетельство» и основание для поездки папаши к учителю, равняются тому компромиссу, к которому затем приходят учитель и папаша: – Вот что, – сказал он папаше. – Я только тогда исправлю Вашему сыну годовую отметку, когда и другие товарищи поставят ему по тройке по своим предметам. – Честное слово? – Да, я исправлю, если они исправят. – Дело! Руку вашу! Вы не человек, а – шик! Я им скажу, что вы уже исправили. Идет девка за парубка! Бутылка шампанского за мной (1; 32). Сходство ситуаций подтверждается наличием в них третьей фигуры – горничной (она «спорхнула» с колен папаши и спряталась за шторой) и учительши, которая, будучи не совсем одетой, при виде папаши «вспорхнула и с быстротою молнии шмыгнула в соседнюю комнату» (1; 29). Героини прерванных свиданий не только являются свидетелями происходящих разговоров, но и становятся своеобразными маркерами раздражения и нетерпения героев, вынуждаемых пойти на уступки. Так, папаша все время смотрит на портьеру, а 32 учительша кричит мужу из соседней комнаты: «Ваня, тебе пора ехать!» (1; 32). Таким образом, две ситуации оказываются построенными почти одинаково. Завершающий абзац должен служить пуантом истории или кратко резюмировать суть рассказанного: В тот же день вечером у папаши на коленях опять сидела мамаша (а уж после нее сидела горничная). Папаша уверял ее, что «сын наш» перейдет и что ученых людей не так уломаешь деньгами, как приятным обхождением и вежливеньким наступлением на горло (1; 33). На первый взгляд, последнее предложение является искомым резюме, но, если задуматься, можно обнаружить у этой фразы еще один смысл. Она не только является сатирическим выпадом в сторону героев, но в соединении с первым предложением этого абзаца показывает, что в рассказе на самом деле не происходит никаких изменений. Читателю, увлеченному забавными спорами персонажей, предлагается абсолютно бессобытийный текст. Формально событие совершается – сына переводят в четвертый класс. Однако сын как персонаж выполняет скорее второстепенную роль в анекдоте: как и горничная, он служит только поводом для совершения каких-либо действий. Читателю предлагаются легкая юмореска, затрагивающая популярные любовный и социальный конфликты, но при этом маскируется тот факт, что две ситуации, которые должны представлять развитие действия, являются вариантами одного и того же – действие не развивается, рассказ стоит на месте. С помощью незаметной, завуалированной смены точек зрения и ироничного тона повествователь развлекает реципиента демонстрацией глупости, слабости и картонности героев, но одновременно скрывает от него, что функционально герои совершенно одинаковы. 33 Предложенный нами анализ подтверждает точку зрения В. Шмида, который описывает систему эквивалентностей в чеховских текстах 80. Исследователь утверждает: Эквивалентность, проявляясь в различных субстанциях и формах, обостряет способность читателя к ее восприятию. Сопряжения на одном из уровней способствуют выявлению соответствующих, но также и противоположных отношений другого уровня <…> эквивалентности выделяют, поддерживают, определяют друг друга. И все-таки их идентификацию должен провести читатель <…> Каждое восприятие необходимо редуцирует сложность произведения, поскольку отбираются только те отношения, которые, в зависимости от смыслового ожидания, идентифицируются как значимые 81. Однако механизм, выявленный нами, действует по несколько иному принципу. Дело здесь в направленности текста на определенного (массового) читателя и в установлении коммуникации с особым типом читательского сознания. Ориентированный скорее на развлечение, чем на восприятие эстетического объекта, такой реципиент будет отмечать для себя повторы, очевидно подчеркнутые в тексте (например, повторы в рассказе «Смерть чиновника»). В рассмотренном нами случае эквивалентность также устанавливается, но можно заметить, как текст намеренно ее маскирует, имитируя развитие сюжета, давая слово то одному, то другому герою, всячески отвлекая читателя от нее. Задача массовой литературы – удивлять, предлагая знакомое. Это возможно только если сместить реципиента с его «надтекстовой», всезнающей 80 «Эквивалентность – означает “равноценность”, “равнозначность”, т. е. равенство по какой-либо ценности, по какому-либо значению. В повествовательной прозе такая ценность, такое значение представляют либо тематический признак рассказываемой истории, связывающий две или больше тематические единицы помимо временных или причинно-следственных связей, либо формальные признаки, выступающие на различных уровнях нарративной структуры» (см.: Шмид В. Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард. СПб., 1998. С. 215). В своем определении В. Шмид, безусловно, опирается на исследования Р.О. Якобсона (см.: Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 193–230), однако в данном случае нам было важно соотнесение принципа эквивалентностей с повествовательной структурой текста, продемонстрированное нарратологом. 81 Шмид В. Проза как поэзия. С. 241–242. 34 позиции, заставить его на время оказаться обманутым литературой, чтобы он получил удовольствие от чтения. Раннее чеховское творчество очень разнообразно и включает в себя большое количество текстов, жанр которых трудно определить. Однако в каждом из них между читателем и текстом выстраивается особый тип коммуникации, характерный для массовой литературы. Рассматривая в своей книге «Поэтика Чехова» раннюю прозу писателя, А.П. Чудаков делает существенную оговорку: он исследует не все рассказы этого периода. Некоторые жанры он сознательно исключает по причине того, что они в позднем творчестве совершенно угасают, и процесс этого угасания должен описываться отдельно. В число таких «лишних», непродуктивных жанров входят подписи к рисункам, комические объявления, шуточные рекламы, календари, анекдоты (не развернутые в рассказ), «мелочишки» и т. д82. При выборе жанров для анализа А.П. Чудаков руководствуется мыслью об их ценности для становления творческой системы писателя: …рассмотрению подверглись все остальные художественные прозаические произведения 1880–1887 гг. <…> которые, развиваясь, привели к образованию рассказа Чехова и чеховского повествовательного стиля как особенного явления русского искусства конца XIX – начала ХХ в.83 Можно предположить, что «мелочишки» находятся за границами повествовательных жанров. Эти произведения не рассказывают историю, по отношению к ним сложно говорить о наличии сюжета или события как нарратологических категорий. Однако, по мысли И.Н. Сухих, чеховские миниатюры такого рода по своему составу неоднородны. Среди них можно выделить, например, тексты, 82 Подробный анализ этих жанров А.П. Чудаков дает в своей книге «Мир Чехова: возникновение и утверждение» (1986). 83 Чудаков А.П. Поэтика Чехова. С. 12. 35 составленные, как из кирпичиков, из простейших элементов: календари, объявления, мысли, задачи <…> Но знаменитая «Жалобная книга» (1884) и менее известная «Жизнь в вопросах и восклицаниях» (1882) построены уже по-другому. Отдельные остроты и фразы здесь не просто соположены друг другу тематически, но вступают во внутреннюю взаимосвязь, образуя фабульное движение (правда, довольно свободное). За коротенькими записями возникают лица персонажей, «мелочишка» перерастает в сценку84. Отсутствие единого мнения о том, что же такое «мелочишки», говорит о наличии в них нетривиальной структуры: эти тексты демонстрируют особого рода коммуникативную ситуацию, игровые отношения, устанавливающиеся между читателем и произведением. Иллюстрацией нашего тезиса может послужить «мелочишка» «Перепутанные объявления» (1884). Миниатюра написана по распространенному шаблону, суть которого раскрывается в экспозиции: С предлагаемыми объявлениями случился на праздниках маленький скандал, не имеющий, впрочем, особенной важности и не предусмотренный законодателем: набрав их и собирая в гранки, наборщик уронил весь шрифт на пол. Гранки смешались и вышла путаница, не имеющая, впрочем, уголовного характера. Вот что получилось по тиснении (2; 183). Далее читателю предлагается список из абсурдных объявлений, получившихся по недосмотру наборщика. На первый взгляд пример совсем прост. Однако наше внимание привлек тот факт, что на самом деле текст вовсе не представляет собой разделенных и соединенных заново вырезок из объявлений: попробуйте разделить их на части и собрать исходные предложения – вы не найдете ни одного совпадения. 84 Сухих И.Н. Указ. соч. С. 71. 36 Не затрагивая в данном случае вопрос о соблюдении формулы как таковой, остановимся на том, что само по себе построение такого рода текста гиперконвенционально: он представляет собой в чистом виде игру, сконцентрированную на адресате, однако вряд ли предполагается, что читатель должен отдавать себе отчет в таком построении текста – повествователь стремится сделать его объектом воздействия. Интересно, что в трех из десяти «объявлений» возникает окололитературная тема: «Цветы и змеи» Л.И. Пальмина с прискорбием извещают родных и знакомых о кончине супруга и отца своего камер-юнкера А.К. Пустоквасова. Редакция журнала «Нива» имеет для рожениц отдельные комнаты. Секрет и удобства. Дети и нижние чины платят половину. Просят не трогать руками. С 1-го февраля будет выходить без предварительной цензуры акушерка Дылдина. Всякая подделка строго преследуется законом (2; 183). Это словно бы намекает на литературность (искусственность) произведения и в то же время выявляет инстанцию, порождающую текст (в противовес фигуре читателя, которая является здесь центральной, ибо только для его развлечения он был составлен). За неимением реальной сюжетно-фабульной составляющей (или по причине ее ослабления) произведения массовой литературы представляют собой диалог-игру между повествователем и реципиентом. Причем стоит обратить внимание на то, что повествователь в этом случае стремится слиться с «реальным» автором – это маска человека, связанного с журнальной деятельностью. Такой повествователь неоднократно появляется и в других несюжетных текстах раннего Чехова. В качестве примера можно привести список, озаглавленный «3 000 иностранных слов, вошедших в употребление русского языка» (2; 182). Последним пунктом в нем значится: «Человек без 37 селезенки. Псевдоним, под которым, быть может, скрывается король Сандвичевых островов или испанский гранд. Но кто бы он ни был, он почтительнейше ставит точку» (2; 182; Курсив Чехова. – К.О.). Текст снова представляет собой явный случай «конвенции» с читателем: вместо трех тысяч слов мы получаем всего четырнадцать, причем четырнадцатый пример – автограф автора, раскланивающегося перед публикой после удачной шутки. Другие примеры: «Контракт 1884 года с человечеством», написанный в форме документа, причем нотариусом опять же оказывается Человек без селезенки. «Список экспонентов, удостоенных чугунных медалей по русскому отделу на выставке в Амстердаме» – произведение, юмор которого в значительной степени опирается на контекст, но последним пунктом (призером) значится: «Я – за то, что я Человек без селезенки» (2; 254; Курсив Чехова. – К.О.). Здесь еще откровеннее, чем в предыдущих примерах в пределах художественного текста начинают (хоть и минимально) объединяться изображаемый мир и реальность читателя. Структурным сюжетом для таких элементарных образований массовой литературы является неизменное постулирование двух субъектов – повествователя и читателя – и установление между ними игровых отношений. Игра эта заключается в постоянном расшатывании границ фиктивного и реального: то ли реальный автор принадлежит художественному миру, то ли совершенно абсурдный текст изображает эмпирический мир. В мелких юморесках этот прием подконтролен как повествователю, так и читателю, который при желании может оценить его вместе с другими остротами, содержащимися в конкретной «мелочишке». Даже когда сюжет оказывается полностью стилизован под персонажное повествование, подтверждающая фигура наблюдающего игровой характер нарратора, текста, не своим существованием исчезает. Это можно проиллюстрировать такой чеховской миниатюрой, как «Каникулярные работы 38 институтки Наденьки N» (1880). Текст данной «мелочишки» представляет собой отрывок из тетради Наденьки – упражнения по русскому языку и арифметике, сочинение «Как я провела каникулы?», изрядно сдобренные ошибками. Читатель вроде бы имеет дело только с персонажем: формулировка мыслей принадлежит Наденьке, общего сюжета в произведении нет (даже сочинение героини вряд ли потянет на полноценную историю, хотя подтекст позволяет домысливать ситуации). Однако подпись автора / повествователя снова включается в текст: «Подлинность удостоверяет – Чехонте». Эта подпись словно бы образует вместе с заглавием минимальную рамку и снова демонстрирует игровые отношения нарратора и адресата. Интересно отметить, что и здесь не обошлось без литературных аллюзий: в сочинение Наденьки включен список книг, прочитанных за лето, а также встречается предложение, которое было «похищено из “Затишья” Тургенева» (1; 25), что, естественно, не может прочитываться как намеренное выстраивание автором литературоцентричного сюжета, но изящно оттеняет литературную шутку, которой по сути является чеховская миниатюра. Еще одной любопытной чеховской «мелочишкой» является список «Темпераменты», опубликованный в 1881 году в журнале «Зритель» и затем отобранный автором для сборника «Шалость». Этот текст представляет собой небольшой словарик, объясняющий характер человека в зависимости от типа его темперамента. В определениях можно вычленить заметную (хотя не во всем соблюдающуюся) схему. Несколькими штрихами набрасывается шаржевый портрет человека, например, сангвиник «… не стрижется, не бреется, носит очки и пачкает стены» (1; 80); холерик «желчен и лицом желто-сер. Нос несколько крив, и глаза ворочаются в орбитах, как голодные волки в тесной клетке <…> Когда говорит, брызжет и показывает свои коричневые или очень белые зубы» (1; 81). Внешность флегматика «самая обыкновенная, топорная» (1; 81), а у меланхолика «глаза серо-голубые, готовые прослезиться. На лбу и около носа морщинки. Рот несколько крив. Зубы черные» (1; 82). 39 Другими устойчивыми характеристиками являются: причастность к газетножурнальному делу или мнение о прессе вообще; отношение к образованию; обстоятельства женитьбы; возможность / невозможность спать с людьми данного темперамента в одной комнате; причина смерти. Отдельным абзацем после каждого определения дается краткое (в несколько строк) описание женщины соответствующего темперамента (например: «Женщина-холерик – черт в юбке, крокодил» – 1; 81). Каждое определение можно было бы развернуть в небольшой анекдот, снабдить новеллистическим пуантом и опубликовать отдельно. Подобные описания, построенные как перечисление деталей, предваряют развитие действия в фабульном рассказе «Перед свадьбой» (1880): Девица Подзатылкина замечательна только тем, что ничем не замечательна. Ума ее никто не видал и не знает, а потому о нем – ни слова. Наружность у нее самая обыкновенная: нос папашин, подбородок мамашин, глаза кошачьи, бюстик посредственный. Играть на фортепьяне умеет, но без нот; мамаше на кухне помогает, без корсета не ходит, в уразумении буквы «ѣ» видит начало и конец всех премудростей и больше всего на свете любит статных мужчин и имя «Роланд» (1; 46). Господин Назарьев – мужчина роста среднего, лицо имеет белое, ничего не выражающее, волосы курчавые, затылок плоский. Где-то служит, жалование получает тщедушное, едва на табак хватающее; вечно пахнет мылом и карболкой, считает себя страшным волокитой, говорит громко, день и ночь удивляется; когда говорит – брызжет. Франт, на родителей смотрит свысока <…> Любит больше всего на свете свой почерк, журнал «Развлечение» и сапоги со скрипом, а наиболее всего самого себя, и в особенности в ту минуту, когда сидит в обществе девиц, пьет чай внакладку и с остервенением отрицает чертей (1; 46–47). 40 Перекликаются и наставления родителей, которые по очереди выслушивает девица Подзатылкина. И мамаша, и папаша высказывают свое мнение относительно жениха (мамаша: «Мужчины все дураки <…> И твой тоже дурак» (1; 47), «…мне…твой не нравится» (1; 47); папаша: «Я очень рад, что ты намерена сочетаться с таким умным господином, как господин Назарьев. Очень рад и вполне одобряю твой брак» – 1; 48). Призывают слушать их, но не второго родителя («Сама без матери ничего не делай, боже тебя сохрани!» (1; 47), «Главное во всем и везде отец» – 1; 49), которого пускать жить к себе в дом тоже не следует. Наставления отца и речь приехавшего Назарьева также имеют общий пункт. Оба, выражая свои чувства, обращаются к литературе, однако более неподходящую к этому случаю литературу подобрать трудно: сочинения Т. Р. Мальтуса о том, что рост народонаселения может привести к голоду на земле, и натуралистические романы Э. Золя. Безусловно, эти детали выполняют чисто юмористическую функцию, подчеркивая неприятные черты характера героев. Однако сама структура рассказа перекликается со списком «Темпераменты», так как в основе этого фабульного текста, как и в основе «мелочишки», лежат описания (невесты и жениха, отца глазами матери и матери глазами отца и т. д.), объединенные набором общих элементов. Интересно заметить, что связующим звеном между эпизодами в рассказе является девица Подзатылкина, которая переходит из комнаты в комнату и выслушивает все, что ей говорят, при этом никак не реагируя на сказанное. Похожим образом связаны эпизоды рассказа «Жены артистов» (1880), который построен как путешествие Альфонсо Зинзага по номерам гостиницы «Ядовитый лебедь». Данный текст имеет более сложную структуру, чем два предыдущих, но по сути это снова «портретная галерея», последовательные описания «характеров», связанные сетью эквивалентностей, только вместо сангвиника, холерика, флегматика и меланхолика можно подставить писателя, художника, музыканта (и ученого, если вспомнить вставную новеллу). 41 Аналогичный принцип сопоставления, поданный под иным углом зрения, можно встретить в юмореске «Исповедь, или Оля, Женя, Зоя» (1882). Изложенные в форме дружеского письма три истории о потерянной любви демонстрируют три ипостаси рассказчика: ученый, писатель, ценитель музыки. На самом деле композиционно рассказ снова представляет собой три объединенных тематикой и общим героем и сходных по структуре случая, каждый из которых может быть развернут в самостоятельную новеллу. Таким образом, «мелочишка» и повествовательный текст в системе массовой юмористической литературы могут иметь больше общего, чем это может показаться на первый взгляд. Несмотря на то, что «мелочишка» лишена фабулы в классическом ее понимании, в ней ярко себя проявляет характерный для ранней прозы Чехова субъективный повествователь. А в повествовательных текстах может быть ослаблена фабульная составляющая и эпизоды могут соединяться почти без перехода, простым соположением, либо переход от одного эпизода к другому может быть мотивирован лишь формально (например, перемещениями девицы Подзатылкиной из комнаты в комнату). Как отмечает И.Н. Сухих, ближе всего к «мелочишкам» в этом отношении стоят сценки. А.П. Чудаков указывает на то, что чеховская сценка отличалась от современных ей произведений того же жанра на повествовательном уровне: «Определяющая ее черта – полная устраненность из нее повествователя со своей оценкой изображаемого. У Чехова авторская позиция выявляется благодаря сложной системе лексико-семантической организации текста, многомерности слова»85. При этом, однако, и чеховская, и предшествующая ей лейкинская, и сценки всех остальных авторов «малой прессы» ведут свою родословную от физиологического очерка86. Именно это родство обусловило ослабление фабульной составляющей популярных текстов «малой прессы». Однако, возможно, самым существенным для массовой литературы свойством 85 86 очерка явилось даже не стремление Чудаков А.П. Мир Чехова: возникновение и утверждение. М., 1986. С. 38. См.: Там же. С. 14–140. к типизации, но его 42 «фотографизм», попытка перенести сцену из жизни на бумагу при минимальном изменении всех деталей. В популярной литературе эта черта трансформировалась в пристрастие к визуализации слова. Парадоксальным образом эта визуализация не равняется визуализации реальной, что можно доказать, обратившись к проблеме мелодраматического: реализованные на сцене «страшные» эффекты только мешают погружению читателя в художественный мир популярного текста, и без того полного очевидных условностей, тогда как включение элементов мелодрамы в прозаический текст, напротив, помогает реципиенту вчувствоваться в него. Массовая литература строит свою иллюзию, опираясь на знакомый читателю контекст. И в этом ей помогают приемы, разработанные авторами натуралистических сцен: В… сценке изобразительного описания обстановки, в сущности, уже нет – оно заменено указаниями на наличие некоторых предметов <…> Самый распространенный способ – указание на обычность, привычность обстановки всем известной <…> Таким же образом в повествовании изображается внешность героя – открыто обозначаются его «обычность», «типичность», не требующие по этой причине каких-либо дополнительных описаний <…> Такое отношение к предмету как всем известному, привычному, постоянно встречающемуся ведет к одной из определяющих особенностей беллетристики малой прессы – полной инклюзии ее повествователя в изображаемый мир, в который и он, и его читатель погружены в равной мере87. Таким образом, создавая ощущение абсолютной тривиальности происходящего, популярные тексты (и в частности, сценки) максимально задействуют смысловые лакуны, заполнение которых обусловливает возникновение у читателя иллюзии присутствия. Безусловно, эти лакуны, как и хорошо знакомые, словно изъятые из реальной жизни, предметы, постоянно 87 Чудаков А.П. Мир Чехова. С. 33–34. 43 встречаются и в «большой» литературе 88. Однако если классика использует эти элементы скорее как вспомогательное, техническое средство, то в массовой литературе они становятся одним из основных рычагов воздействия на читателя. Базируясь на знакомом материале, популярный текст способен вызвать наиболее сильную реакцию реципиента. В качестве примера можно привести «мелочишку» Чехова «Свадебный сезон» (1881), сопровождающуюся рисунками его брата, художника Н.П. Чехова. Известно, что при ее создании братья взяли за основу реальную таганрогскую свадьбу, чем вызвали неудовольствие и обиду всех присутствовавших на торжестве. При этом, однако, текст рассчитан был, вероятно, не только и не столько на таганрожцев, он должен был быть понятен любому читателю. Он строится, как многие другие списки, на основе перечисления персонажей и их кратких характеристик 89. При всей карикатурности их портретов и описаний они предстают как условные лица, своего рода маски, знакомые каждому, кто имеет представление о свадьбе. Есть здесь и список иного рода – опись приданого, которую можно сопоставить с известной «мелочишкой» «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?» (1880): оба перечисляют «штампы», «клише», относящиеся к определенной теме. Особенностью этих «штампов» является и то, что часть из них действительно появляется в реальности. Комический эффект рождается за счет отбора, соположения и концентрации деталей. Однако и в том, и в другом тексте при отсутствии фабулы можно заметить потенциально-повествовательные элементы. Каждая деталь, будучи вписана в общий для всех контекст, запускает в сознании читателя цепочку ассоциаций, воспоминаний о прочитанном (в случае с «Что чаще всего…»), пережитом (опись приданого) или подразумеваемом. В этот момент в равной степени значимыми оказываются как названные предметы, так и пропущенные детали. Например, в описи приданого из «Свадебного сезона» 88 Можно вспомнить хотя бы известную статью Р. Барта «Эффект реальности», где он анализирует значение «лишних» (не заслуживающих упоминания, случайных) деталей как создающих «референциальную иллюзию» (Барт Р. Эффект реальности // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 392–400). 89 Аналогичным образом строится, например, список «Краткая анатомия человека» (1883), перечисляющий части тела и дающий им краткие смешные определения; или «словарик» «3 000 иностранных слов, вошедших в употребление русского языка» (1883). 44 встречается пункт «Еще что-то», который одновременно требует конкретизации (окружающие его пункты позволяют читателю по аналогии домыслить, что здесь подразумевается) и не требует ее, так как, по сути, «еще что-то» равняется перечисленным рядом с ним «мышеловке», «щеколде от неизвестной двери», «столу с пауками» и так далее, – все это бесполезные предметы. Это смешно само по себе, однако становится еще забавнее, когда читатель вспоминает, что жених «женится из-за приданого» (3; 449). «Мелочишка» завершается еще одним списком: это три свадебных тоста, которые произносят настройщик Курт, Николай Стаматич и жених. Несмотря на то, что внешне финал юморески выглядит как драматическая зарисовка, по существу перед читателем снова список, так как тосты не предполагают диалога или причинно-следственной связи, а просто следуют один за другим. Общей нитью, на которую нанизываются тосты, является не столько ситуация (свадьба), сколько излюбленный Чеховым литературный прием: алогичность, комичность, несущественность высказывания. Речь настройщика Курта отражает немецкий акцент90, Николай Стаматич выражается «модными», красивыми и порой ему самому непонятными словами, а жених так «восхитительно грациозен, грациозно восхитителен и… глуп как пробка», что не может внятно высказать свою мысль. Однако смысл их тостов в ситуации свадьбы оказывается несущественен, и поэтому рассказ венчает всеобщее «Урра!!». Таким образом, данная «мелочишка» представляет собой «список списков», в котором собраны меньшие по объему списки, объединенные тематикой, структурными сходствами и сквозными персонажами 91. Основным свойством этого текста является статичность, «фотографичность». Даже рисунки, сопровождающие текст, за исключением первого и последнего, являются статичными портретами. Говоря об особенностях построения лубочных картинок, 90 Подражание речи русских немцев – популярный юмористический прием «малой прессы». На нем, например, строится рассказ Ал.П. Чехова «Карл и Эмилия» (см.: А. Ч-х-въ. Карл и Эмилия // Будильник. 1880. № 2. С. 447– 451). 91 М.Ч. Ларионова считает, что кумуляция является одним из важнейших приемов поэтики раннего Чехова (см.: Ларионова М.Ч. Традиции сказочного повествования в ранних рассказах А. П. Чехова // Творчество А. П. Чехова. Таганрог, 2004. С. 139–150). 45 Ю.М. Лотман замечет: «Словесный текст и изображение соотнесены в лубке не как книжная иллюстрация и подпись, а как тема и ее развертывание: подпись как бы разыгрывает рисунок, заставляя воспринимать его не статически, а как действо»92. В рассмотренной нами карикатуре работают несколько иные принципы: и рисунок, и текст нацелены на статику. Наибольший фабульный, динамический потенциал заключен в первой фразе: «Господа шафера! Черти! Подождите, Марья Власьевна потерялась» (3; 449). Эта реплика способна развернуться в самостоятельный анекдот, но ее потенциал оказывается нереализованным, и она становится еще одним клише в списке. Однако нельзя говорить о том, что этот текст абсолютно лишен динамики: она рождается в сознании реципиента благодаря общему контексту, на который ориентируется массовый текст, и большому числу лакун. Заполняя лакуны собственным содержанием, читатель приближает текст к себе, устанавливает с ним личные отношения, наделяет его собственной событийностью. Так, начальная фраза о потерявшейся невесте в сознании каждого читателя реализуется по-своему. Статичность, фрагментарность, «фотографичность» текстов парадоксальным образом ведет читателя популярного текста от типизации к индивидуализации. По словам Дж. Бергера, …после того, как мы начинаем видеть, мы понимаем, что и нас можно увидеть. Этот чужой взгляд соединяется с нашим собственным взглядом, чтобы наша принадлежность к видимому миру стала вполне бесспорной. Если мы осознаем, что можем видеть тот холм вдалеке, то неизбежно предполагаем, что и нас можно увидеть с того холма. Взаимность зрения более глубинна, чем взаимность словесного диалога. И нередко диалог – это попытка вербализовать наше видение, попытка объяснить, как (метафорически и буквально) «ты видишь вещи», попытка выяснить, как «он видит вещи» 93. 92 Лотман Ю.М. Художественная природа русских народных картинок // Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб., 2002. С. 325. 93 Бергер Дж. Искусство видеть. СПб., 2012. С. 11. 46 Прибегая к визуальным образам, текст вовлекает читателя в диалог. В своем стремлении к этому повествовательные тексты пользуются теми же техниками, что и визуальные. Например, излюбленным приемом юмористов «малой прессы» являлась реализация метафоры, чем часто пользовались художники- карикатуристы94. При создании прозаической темы «Der Russische Natur» (1883) и рисунка к ней Чехов и его брат Николай также воспользовались этим приемом. Очевидно, что визуализация метафоры может возникать и без помощи иллюстрации. Е. О. Крылова подробно рассматривает функционирование чеховских метафор и анализирует их значение 95. Однако можно заметить, что если в зрелом творчестве Чехова (и в высокой литературе вообще) техника воздействия на читателя с помощью реализованной метафоры маскируется автором, то для популярного текста оказывается важным момент воплощения зрительного образа. Визуальный или стремящийся к визуализации текст, как и любой другой, требует расшифровки, ведь, как сказано в статье Р. Барта «Риторика образа», изображение (в его коннотативном измерении) есть некоторая конструкция, образованная знаками, извлекаемыми из разных пластов наших словарей (идиолектов), причем любой подобный словарь, какова бы ни была его «глубина», представляет собой код, поскольку сама наша психея (как ныне полагают) структурирована наподобие языка…96 Если Р. Барт, описывая рекламный текст, уводит свои размышления в сторону риторики, то С. Силларс, анализируя викторианские иллюстрации, задается вопросом: возможно ли рассматривать визуальный образ не только как риторическую структуру, но и как своего рода нарратив97? Когда речь идет о 94 Об этом и других популярных в «малой прессе» приемах подробнее см.: Овчарская О.В. Указ. соч. См.: Крылова Е.О. Метафора как смыслопорождающий механизм в художественном мире А.П. Чехова. Дисс… канд. филол. наук. СПб., 2009. Н. А. Кожевникова, анализируя стиль Чехова, также рассуждает о роли метафоры в его текстах: «Для Чехова характерно использование традиционных образных параллелей мир – тюрьма, мир – театр. Своеобразие их в том, что они опираются и на реалии и картины изображаемого мира, и на стертые общеязыковые метафоры» (Кожевникова Н.А. Стиль Чехова. М., 2011. С. 317). 96 Барт Р. Риторика образа // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994 С. 297–318. 97 См.: Sillars S. Visualisation in Popular Fiction 1860–1960. Graphic Narratives, Fictional Images. London and New York, 1995. P. 2–21. 95 47 текстах массовой литературы, вопрос о нарративности, повествовательности этих произведений становится одним из самых главных. Нарративность так или иначе оказывается связана с категорией события, и очевидно, что событийность текста зависит не только от насыщенности его происшествиями, но и от того, как их интерпретирует повествователь, герои и читатель. В. Шмид говорит о том, что при описании события как нарратологической категории следует учитывать роль контекста, причем …«контекст» в… узком понимании – это индивидуальные социальные нормы, идеология и т. д., приписываемые повествующим, изображаемым или подразумеваемым нарративным инстанциям, мотивирующие их поведение. Столкновение различных оценочных контекстов в нарративе – вызов конкретному, реальному читателю, который не может просто погрузиться в изображаемый мир и занять позицию того или иного персонажа, а скорее вынужден проверять релевантность и непредсказуемость того или иного события на фоне разных контекстов. Конкретный читатель должен задаваться вопросом: какое изменение является более или менее событийным с точки зрения того или иного персонажа, ввиду его личного оценочного контекста? Это читатель делает более или менее интуитивно98. Итак, ранняя проза Чехова при всем своем разнообразии обладает очевидным единством, во многом обусловленным тем, что она развивалась в контексте массовой литературы. Независимо от того, какие жанр и форма были выбраны автором, его внимание всегда сосредоточено на фигуре адресата. В связи с этим даже у произведений, в которых не рассказывается никакой истории, появляется сюжет. Можно сформулировать его как сюжет прочтения, понимания, развернутого диалога текста и читателя. Организует такой сюжет событие, перенесенное из изображаемого мира на границу фикционального и реального. 98 Шмид В. Событийность, субъект и контекст. С. 17. 48 Подобная коммуникативность оказывается актуальной именно для популярной литературы, благодаря сочетанию в ней таких особенностей, как злободневность и консервативность. Свежесть задействованного в тексте материала, как ни странно, не приводит к бесконечному разрастанию интерпретаций – они регулируются устойчивыми формальными элементами и особым тяготением массовых текстов к «фотографичности», «статике». Данный механизм, однако, не всегда обусловливает появление текстовклише. Важно понять, как выявленные нами закономерности проявляются в отдельных чеховских текстах, какие приемы использует автор и какие устойчивые характеристики популярных произведений он подвергает трансформации с целью оказать на читателя определенный эффект. Как нам представляется, наиболее показательным в этом отношении будет анализ литературных «тем» и жанров (календарных и просто популярных в «малой прессе»), а также их преломления в ранней прозе Чехова. 49 Глава 2 Рассказы А.П. Чехова 1880 – 1884 годов: повествование, жанр, рецептивная структура 2.1. Реализация литературной темы: чеховский «маленький человек» Одной из тем, подхваченных «малой прессой» у классиков первой половины XIX века, становится тема маленького человека, или бедного чиновника. По закону литературной эволюции к 1880-м годам этот сюжет уходит из литературного центра на периферию и активно тиражируется беллетристами. Об этом свидетельствуют слова самого Чехова, который в 1886 году писал брату: «Брось ты, сделай милость, своих угнетенных коллежских регистраторов! Неужели ты нюхом не чуешь, что эта тема уже отжила и нагоняет зевоту? <…> Реальнее теперь изображать коллежских регистраторов, не дающих жить их превосходительствам» (П.; 1; 176–177). Можно сказать, что тема, разработанная Пушкиным, Гоголем и Достоевским, в чеховское время превращается в формулу, устойчивую схему, которую авторы подают читателю в разных вариациях. Так, А. П. Кузичева отмечает, что во второй половине XIX века «в положении “униженного и оскорбленного” оказываются чиновники, учителя, музыканты, учащиеся и преподаватели духовных учреждений и т.д.»99. Среди рассказов, написанных Чеховым в период с 1880 по 1884 год, можно выделить ряд текстов, так или иначе затрагивающих тему маленького человека: «Пережитое», «Двое в одном», «На гвозде», «Корреспондент», «Торжество победителя», «Рассказ, которому трудно подобрать название», «Лист», «Кот», «Депутат, или Повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало», «Смерть чиновника», «Сущая правда», «Альбом», «Либерал (новогодний рассказ)», «Винт». Во время сотрудничества в «малой прессе» тема маленького человека у Чехова подавалась в юмористическом ключе. Писатель высмеивал страх 99 Кузичева А.П. Кто он, «маленький человек»? (Опыт чтения русской классики) // Художественные проблемы русской культуры второй половины XIX века . М., 1994. С. 61–114. 50 чиновников перед начальством, их подобострастие и двуличие 100. При этом он все время подавал ее по-разному, предлагая читателю все новые и новые углы зрения. Между перечисленными рассказами устанавливаются разнообразные связи. Так, среди них можно выделить группу текстов со сходным сюжетом: чиновники наносят начальству визиты в праздничные дни, чтобы выразить свое уважение, записавшись в оставленный в прихожей лист. Сюда относятся рассказы «Пережитое» (1883), «Лист» (1883), «Либерал» (1884). В первом и втором заметны прямые переклички и отсылки к одним и тем же «общим местам». Например, персонаж «Пережитого» угрожает рассказчику «погибелью»: – Хочешь, я тебя погублю? – Каким образом? — спросил я. – А таким... Как меня пять лет тому назад фон Кляузен погубил... Хе-хе-хе. Очень просто... Возьму около твоей фамилии и поставлю закорючку. Росчерк сделаю. Хе-хе-хе. Твою подпись неуважительной сделаю. Хочешь? (1; 468). В «Листе», написанном несколькими месяцами позже, повествователь словно бы напоминает читателям о ситуации из предыдущего рассказа: Субъект вползает, подходит на цыпочках к столу, робко берет в дрожащую руку перо и выводит на сером листе свою негромкую фамилию. Выводит он долго, с чувством, с толком, точно чистописанию учится... Набирает чернил на перо чуть-чуть, немножечко, раз пять: капнуть боится. Сделай он кляксу и... всё погибло! (Был однажды такой случай... Впрочем, некогда...) (2; 111). Однако теперь излишние старания служат чиновникам дурную службу. Начальник считает, что его обманули: 100 Яркими примерами рассказов, в которых Чехов высмеивает чиновников, пытающихся изо всех сил угодить начальству или «значительному лицу», являются тексты 1883 года «На гвозде», «Кот», «Смерть чиновника». 51 Но, однако, что это значит? Пс! Тут, эээ... я не вижу ни одного знакомого почерка! Тут один чей-то почерк! Какой-то каллиграф писал! Наняли каллиграфа, тот и подписался за них! Хороши, нечего сказать! Трудно им было самим прийти и поздравить! А-ах! Что я им худого сделал? За что они меня так не уважают? (2; 111) Практически исчезает или утрачивает свою функцию главный «антагонист» героев – «значительное лицо». В одной из частей рассматриваемого текста изображен постаревший начальник, так и не дождавшийся визитеров в праздничный день, и он вместе со швейцаром ставит в листе подписи воображаемых посетителей, чтобы его «старуха не смеялась» (2; 112) над ним. Этот грустный эпизод перекликается с рассказом «Раз в год» (1883), повествующем о старой княжне, которую никто не приезжает поздравить с именинами. Старый слуга уговаривает ее племянника приехать и поздравить тетку, пообещав ему за это последние пятьдесят рублей. Таким образом, завершающая и в чем-то забавная часть пасхального «Листа» соотносится с большой и очень важной для Чехова темой разобщенности людей, пренебрежения друг другом. Эта же проблема затронута в рассказе «Идиллия – увы и ах!» (1882), где родственные чувства и любовь оказываются ненастоящими и герои отказываются друг от друга, как только понимают, что их взаимоотношения не могут принести никакой выгоды. В этом смысле финал рассказа «Лист» оказывается двойственным: он соответствует заявленным теме и жанру, органично встраивается в ряд анекдотов, составляющих текст, однако не является в полной мере композиционным «пуантом» юморески. «Значительное лицо» здесь со временем превращается в «маленького человека», никем не замечаемого и никому не нужного. Другая версия такого «превращения» представлена в рассказе «Пережитое», где роль власть имущего исполняет чиновник, грозящийся погубить сослуживца. А.Д. Степанов объясняет этот чеховский парадокс следующим образом: 52 Писатель часто показывает раздвоенное сознание: человека одновременно униженного и стремящегося унизить. «Коллежский регистратор» задавлен не только своим начальником, но и сознанием собственной бездарности, и единственное утешение, которое ему доступно, – знать, что есть хоть кто-то хуже его101. Начало рассказа «Либерал» вроде бы предвещает противостояние «маленького человека» и «значительного лица», однако начальник оказывается человеком приветливым и доброжелательным, в то время как губернский секретарь Понимаев, иронически названный в заглавии либералом, показан не в самом выгодном свете. Один из эпизодов этого текста позволяет сопоставить его с рассказом «Торжество победителя» (1883). В «Либерале» Велелептов, начальник главного героя, просит его развлечь дам: Это вот Везувиев, это Черносвинский... а это мой Понимаев. Вхожу однажды в дежурную, а он, этот Понимаев, там машину представляет. Каков? Пш! пш! пш! Свистит этак, ногами топочет... Натурально так выходило... М-да... А нука, изобрази! Представь-ка нам (2; 297). В «Торжестве победителя» роль «значительного лица» исполняет бывший «маленький человек»102, который издевается над своими подчиненными, приказывая: «Трагедию представь!» (2; 70). Или: «Бегай вокруг стола и пой петушком!» (2; 71). «Бедный чиновник» и «значительное лицо», таким образом, постоянно меняются местами. Чехов демонстрирует, что литературные «типы» начала XIX века в массовой литературе превратились в роли, или маски, за которыми трудно разглядеть живого человека. Надеть маску может кто угодно, что происходит, например, в рассказе «Баран и барышня» (1883): скучающий герой 101 Степанов А.Д. Чеховские рассказы о чиновниках // Чехов А.П. Смерть чиновника: Рассказы. СПб., 2012. С. 13. Здесь перед нами снова «перевернутая» ситуация: Курицын, в прошлом начальник «значительного лица», теперь угнетен своим бывшим подчиненным. 102 53 притворяется богатым железнодорожником, чтобы послушать историю молодой просительницы. Замена одного героя другим, возможно, изменила судьбу героини (она так и не получила заветный билет), однако принципиально не изменила популярного сюжета: «значительное лицо» оставляет без помощи бедного просителя. Мысль об опредмечивании социальной роли (и литературного амплуа) интересно обыграна в рассказах «Альбом» (1884) и «Винт» (1884). В первом говорится о судьбе дорогого альбома, который подчиненные подарили действительному статскому советнику Жмыхову и который затем попал к его дочери Оле. Девочка выбросила портреты чиновников, а ее брат Коля раскрасил их, «вырезал из карточек человечков, проколол им булавкой глаза и стал играть в солдатики» (2; 382). Отец, узнав о проделке сына, только посмеялся над нею и отправил его похвастаться результатами трудов перед матерью. В рассказе «Винт» читателю предлагается обратная ситуация – чиновники развлекаются игрой в карты, используя вместо них портреты: Каждый портрет… как и каждая карта, свою суть имеет... значение. Как и в колоде, так и здесь 52 карты и четыре масти... Чиновники казенной палаты – черви, губернское правление – трефы, служащие по министерству народного просвещения – бубны, а пиками будет отделение государственного банка… Действительные статские советники… тузы, статские советники – короли, супруги особ IV и V класса – дамы, коллежские советники – валеты, надворные советники – десятки, и так далее (3; 71). Интересно, что начальник Пересолин (в колоде – трефовый туз), случайно заставший игроков за их занятием, не сердится, а с радостью присоединяется к забаве. Резкие трансформации героев, внезапное превращение «маленького человека» в «значительное лицо», испуганного чиновника в бесстрашного «либерала» и наоборот Чехов, безусловно, использует для достижения 54 комического эффекта. На этом приеме строятся рассказы «Нарвался» (1882) и «Двое в одном» (1883). Их сюжеты похожи: чиновник громко отстаивает свои и чужие права, пока вдруг не замечает рядом своего начальника, после чего стушевывается и испуганно замолкает. Чехов подает одну и ту же ситуацию с разных позиций: с точки зрения чиновника («Нарвался») и с точки зрения «значительного лица» («Двое в одном»). Во втором случае читателю показан портрет типичного «маленького человека», каким его видит начальство: Иван Капитоныч – маленькое, пришибленное, приплюснутое создание, живущее для того только, чтобы поднимать уроненные платки и поздравлять с праздником. Он молод, но спина его согнута в дугу, колени вечно подогнуты, руки запачканы и по швам... Лицо его точно дверью прищемлено или мокрой тряпкой побито. Оно кисло и жалко; глядя на него, хочется петь «Лучинушку» и ныть. При виде меня он дрожит, бледнеет и краснеет, точно я съесть его хочу или зарезать, а когда я его распекаю, он зябнет и трясется всеми членами. Приниженнее, молчаливее и ничтожнее его я не знаю никого другого. Даже и животных таких не знаю, которые были бы тише его... (2; 9). Чиновник отождествлен не только со своей социальной ролью, но и с литературным типом. Таким образом, как это ни удивительно, точка зрения «значительного лица» оказывается, по сути, точкой зрения массового читателя, недаром и тот, и другой смеются над резкой переменой, произошедшей в «жалком» чиновнике. В случае, когда ситуация показана глазами чиновника, герои изображаются именно как живые люди, а не общественные функции: он очень устал, хочет спать и раздражен тем, что ему не дают отдохнуть. Директор банка вместо того чтобы распекать неугодного подчиненного, потихоньку увольняет его, испытывая при этом смущение и стыд: 55 Целый месяц директор не глядел на меня и не сказал мне ни единого слова... Мы избегали друг друга. Через месяц он боком подошел к моему столу и, нагнув голову, глядя на пол, проговорил: – Я полагал... надеялся, что вы сами догадаетесь... Но вижу, что вы не намерены... Гм... Вы не волнуйтесь. Даже можете сесть... Я полагал, что... Нам двоим служить невозможно... Ваше поведение в номерах Бултыхина... Вы так испугали мою племянницу... Вы понимаете... Сдадите дела Ивану Никитичу... И, подняв голову, он отошел от меня... (1; 436). Герои и ситуация, на первый взгляд соответствующие заявленной теме, на самом деле не совсем вписываются в сюжет о «маленьком человеке». Важная для рассмотренных чеховских рассказов проблема голоса человека, слова, которым он утверждает собственное существование, была характерна и для гоголевского Башмачкина, и для Макара Девушкина из романа Достоевского. Герои Чехова обретают голос и теряют его, вживаются в роль «бедного чиновника» и выходят из нее. Наличие / отсутствие голоса для них равняется наличию / отсутствию власти над собой и над другим, что можно проиллюстрировать такими рассказами, как «Депутат, или Повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало» (1883), «Сущая правда» (1883), «Рассказ, которому трудно подобрать название» (1883), «Хамелеон» (1884). Герой и слово. Рассказ «Корреспондент» (1882) Тема «слова героя» помогает Чехову выстроить связь своих текстов не только с популярной литературой, но и с традицией русской классики. Хорошим примером является рассказ «Корреспондент» (1882), в котором, по замечанию Э.Д. Орлова, «очевидна связь с “Петербургскими повестями” Н. В. Гоголя и принципами изображения “маленького человека”»103. Очевиден не только выбор сюжета: текст Чехова определенно ориентирован на произведения Гоголя и Достоевского. «Маленькая поношенная шинелька» 103 Орлов Э.Д. Указ. соч. С. 199. 56 (1; 190) Ивана Никитича перекликается со старым «капотом» Башмачкина. Герой Чехова «сюртучишко семь лет таскал» (1; 186), что также напоминает нам о гоголевском «бедном чиновнике». Даже его самохарактеристика отсылает к образу Акакия Акакиевича: Наш брат человек маленький, это действительно, но душа у него не вредная. Не пренебрегайте, не брезгуйте, он чувствовать будет! Между людьми мы маленькие, бедненькие, а между тем соль мира есмы, и Богом для полезности отечественной созданы, и всю вселенную поучаем, добро превозносим, зло человеческое поносим… (1; 183)104. В этом монологе корреспондента слышится отражение истории чиновника, который был слишком незаметен и исчез, как будто его в Петербурге …никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимания и естествонаблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп; существо, переносившее покорно канцелярские насмешки…105 Нельзя не отметить, что Чехов включает в рассказ эпизод, явно соотносящийся с известным «гуманным местом» гоголевской повести. У Гоголя: Молодые чиновники посмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия… сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто никого не было перед ним <…> Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в этих словах и в 104 Ср. также: «Он ни в каком случае не ожидал такой чести для себя, “нолика”, как он выражался, “между человеками еле видимого и едва заметного”…» (1; 182). 105 Гоголь Н.В. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 3. Повести. М., 1984. С. 138. 57 голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек… который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный <…> И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник… с своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» – и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой»106. У Чехова: Иван Никитич замигал глазками и скушал сардинку. Толстяк, с серебряною медалью на шее, подошел к нему сзади и высыпал на его голову горсть соли. – Солоней будет, червячки не заведутся! – сказал он. Публика захохотала. Иван Никитич замотал головой и густо покраснел. – Да ты не обижайся! – сказал толстяк. – Зачем обижаться? Это шутка с моей стороны. Чудак ты этакой! Смотри, я и себе насыплю! – Толстяк взял со стола солонку и сыпнул себе соли на голову. – И ему, ежели хочешь, посыплю. Чего обижаться? – сказал он и посолил хозяйскую голову. Публика захохотала. Иван Никитич тоже улыбнулся и скушал другую сардинку (1; 181). Чехов травестирует гоголевскую ситуацию, которая многократно обсуждалась в критике и литературоведении. Б.М. Эйхенбаум в статье «Как сделана “Шинель Гоголя”»107 делает акцент на том, что толкование данного гоголевского эпизода в «гуманном» смысле отвлекает читателей и критиков от особенностей повествования и стиля, то есть от специфической сказовой формы «Шинели». Чехов же, подавая этот эпизод в ироническом свете, заранее исключает для читателя возможность только «гуманистического» прочтения рассказа, а именно: переносит внимание реципиента с того, что говорится о герое, на слово – 106 Гоголь Н.В. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 3. Повести. С. 115–116. Эйхенбаум Б.М. Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум Б.М. Сквозь литературу: Сб. статей. Л., 1924. С. 171–195. 107 58 ведь процитированный эпизод у Чехова предшествует пробуждению красноречия у практически «немого» персонажа. И здесь Чехов, безусловно, учитывает преломление гоголевской традиции в творчестве Достоевского, в первую очередь в «Бедных людях» 108. «Преодоление» Достоевским Гоголя заключалось, помимо всего прочего, в предоставлении слова не повествователю, а герою 109. Несомненно, это слово в большей степени героя, чем рассказчика, хотя формально Макар Девушкин выполняет функции и того, и другого. Важно в этом смысле замечание М.М. Бахтина о том, что в «Бедных людях» «Достоевский вырабатывает столь характерный для всего его творчества речевой стиль, определяемый напряженным предвосхищением чужого слова»110, это слово с «робкой стыдливой оглядкой» 111, проявляющейся в «характерном… торможении речи и в перебивании его оговорками»112. Герой Достоевского выступает против гоголевского повествователя, который помещает «бедного чиновника» в положение объекта рассмотрения, после чего ему (Девушкину) …и жить себе смирно нельзя, в уголочке своем, – каков уж там ни есть, – жить воды не замутя, по пословице, никого не трогая, зная страх божий да себя самого, чтобы и тебя не затронули, чтобы и в твою конуру не пробрались да не подсмотрели – что, дескать, как ты себе там по-домашнему, что вот есть ли, например, у тебя жилетка хороша, водится ли у тебя что следует из нижнего платья; есть ли сапоги, да и чем подбиты они; что ешь, что пьешь, что переписываешь?113 108 Об ориентации на Достоевского также говорит эпизод с Иваном Никитичем и его дочерью Манечкой, которую он называет «ангел мой», «кормилица, музыкантша моя», «дочь моя» (1; 190). Речь героя напоминает обращения Макара Девушкина к Вареньке Доброселовой. 109 См.: Тынянов Ю.Н. Достоевский и Гоголь (к теории пародии) // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 198–226. 110 Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. Киев, 1994. С. 106. 111 Там же. 112 Там же. 113 Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 1. Л., 1972. С. 62. В дальнейшем ссылки на Достоевского даются в тексте работы с указанием автора, тома и страницы. 59 По словам С.Г. Бочарова, «в “Шинели” Девушкин чувствует прежде всего “его”. Образ сочинителя повести возникает как “он” – отчужденное и абстрактное, но в то же время как будто знакомое третье лицо»114. У Чехова такая ситуация невозможна, так как в своем рассказе он принципиально не подчиняет героя слову повествователя. Иван Никитич сам характеризует себя как «маленького человека». О его светлых пуговках, вместо уместных на сюртуке черных, говорит не повествователь, а один из героев. Слово субъективного чеховского повествователя одинаково иронично по отношению к корреспонденту и к другим героям. Более того, чеховский корреспондент сам рассказывает историю своих унижений: Заорал на меня и затопал ногами Сысой Петрович <…> Кричал, кричал, да и засадил меня, трепещущего, в холодную. Три дня и три ночи в холодной просидел <…> Ни один клоп, никакая, с позволения, вошка – никакое насекомое, еле видимое, не было никогда так унижено, как унизил меня Сысой Петрович, царство ему небесное! (1; 188). Вообще у Чехова происходит обретение слова, которое было невозможным в полной степени ни для Башмачкина, ни для Макара Девушкина. Если Акакий Акакиевич «изъяснялся большею частью предлогами, наречиями и, наконец, таким частицами, которые решительно не имеют никакого значения» 115, то герою Достоевского уже доступно слово, но слово это дефектно, потому что произносится с оглядкой на чужое и чуждое сознание. Об этом же говорят и занятия героев: «“переписываю” – значит “просто не существую”; альтернативой является сочинительство как синоним значащего существования. От Акакия Акакиевича до Достоевского – можно было бы определить стилистическую амплитуду “Бедных людей”; между этими пределами и “формируется” слог 114 115 Бочаров С.Г. Переход от Гоголя к Достоевскому// Бочаров С.Г. О художественных мирах. М., 1985. С. 182. Гоголь Н.В. Указ. соч. С. 121. 60 Макара Девушкина»116. Чеховский корреспондент продолжает линию: если Девушкин еще не сочинитель в полном смысле слова, то Иван Никитич вполне овладел этим мастерством. В рассказе Чехова происходит мгновенная эволюция героя от Башмачкина к корреспонденту. Если сначала Иван Никитич застенчив и косноязычен («Дай бог вам <…> чтоб все… этак хорошо… обстоятельно» – 1; 180), то затем он разражается длинной речью о судьбах русской словесности. Правда, эта эволюция несколько компрометируется тем, что происходит после нескольких выпитых героем рюмок, а когда он принимается говорить речь, то наливает себе уже не рюмку, а стакан. Заключительная сцена «Корреспондента» повторяет финал не только истории Башмачкина (героя, снова превратившегося в скромного «маленького человека», «распекают» и прогоняют), но и тех историй из жизни героя, которые он сам рассказывал на свадебном торжестве. Сама ситуация, хоть и печальна, не лишена комизма, причем комизма опять же в гоголевском духе: на следующий день после торжества Иван Никитич приносит обещанную хвалебную статью хозяину дома, Ивану Степановичу: «Считаю нужным назвать здесь имена главных жертвователей. Вот их имена: Гурий Петрович Грыжев (2000), Петр Семенович Алебастров (1500), Авив Иннокентиевич Потрошилов (1000) и Иван Степанович Трамбонов (2000). Последний обещал…» Кто это последний? – Последний-с? Это вы-с! – Так я по-твоему, значит, последний? – Последний-с… То есть… эк… эк… гем… в смысле… – Так я последний? Иван Степанович поднялся и побагровел. – Кто последний? Я? – Вы-с, только в каком смысле?! – В таком смысле, что ты дурак! Понимаешь? Дурак! На тебе твою корреспонденцию! 116 Бочаров С.Г. Переход от Гоголя к Достоевскому. С. 201. 61 – Ваше высокостепен… Батюшка Иван… Иван… – Так я последний! Ах ты, прыщ ты этакой! Гусь!... (1; 194) В традициях гоголевского нарратива здесь слово становится двигателем сюжета. Ситуация в процитированном фрагменте явно отсылает читателя к «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», что подтверждается выбором имен и словом «гусь», напоминающем о гоголевском «гусаке». Таким образом, смысл чеховского рассказа не сводится только к рассуждению на тему о «маленьком человеке». Не исчерпывается он и мыслями о судьбе современной писателю публицистики. В «Корреспонденте» Чехов трансформирует разработанный Гоголем и Достоевским сюжет о существовании слова, продолжает его. Чеховский повествователь словно бы отстраняется от персонажа: он не подчиняет героя себе и не присутствует в его сознании, как «другой». Но, хотя Иван Никитич в отличие от предшествующих героев обретает слово, оно уже не имеет смысла. Слово в художественном мире чеховских героев непонятно не только для Ивана Степановича, но и для самого «маленького человека»: …Что это написано? – Это-с? Horrible dictu… – А что это значит? – Бог его знает, что это значит, Иван Степанович! Если пишется что-нибудь нехорошее или ужасное, то возле него и пишется в скобочках это выражение (1; 193). Слово не понимают и не слышат, оно потеряло и чисто практическую функцию, герои не в состоянии постичь даже информативной его составляющей. Таким образом, сюжет чеховского рассказа из вариации на тему о «маленьком человеке» превращается в историю этого сюжета, в историю его понимания. 62 Подобно тому как тексты Гоголя и Достоевского превращаются к концу XIX века в «тему», утрачивают тот смысл, который сосредоточен на слове, на эстетической амбиции героя, равной для него утверждению его существования и значения, в художественном мире «Корреспондента» слово становится недосягаемым для героев и ненужным им. «Подчиняя» себе слово, герой не способен его понимать и обращаться с ним, и эстетическая амбиция, желание творить мир словом угасает, так как герой не понимает его значения. И поэтому, обретя дар слова, «маленький человек» остается «маленьким человеком», и история «распекания» повторяется. Утратив самый важный элемент «сюжета», герой вынужден ходить по кругу. Если для Макара Девушкина унижения являлись стимулом высказать себя, хоть и с оглядкой на другого, то в чеховском мире даже при сохранении этого стимула высказывание не становится результативным ни для одного из героев. Присущее Девушкину стремление утвердить себя как личность, определившее его отношение к литературной традиции и культурным стереотипам, заменяется у корреспондента желанием «стать “как все”, используя малейшую возможность утвердить свою неповторимость, – эта постоянная задача чеховских героев определяет и специфику их обращения к искусству, в частности, тип чтения»117. Проблема персонажей. собственного Стремящимися слова к вообще обретению характерна голоса для «маленькими чеховских людьми» становятся многие из героев писателя, однако почти все они не могут справиться со словом. Такова история актера из рассказа «Барон» (1882). Как и бессловесный гоголевский персонаж, он до невозможности жалок: Над пестренькими, полосатыми брючками барона можете смеяться сколько вам угодно. Их не носило ранее ни одно авторитетное лицо, хотя актеры и шутят, 117 Овчарова П.И. Изображение читателя в новеллистике Чехова // Проблемы комплексного изучения восприятия художественной литературы. Калинин, 1984. С. 81. 63 что эти брючки сшиты из паруса парохода, на котором Сара Бернар ездила в Америку. Они куплены у капельдинера № 16 (1; 453). Заставить его переписать роль и не заплатить ему – тоже можно. Все можно! Он улыбается, извиняется и конфузится, когда наступают ему на ногу. Побейте его публично по морщинистым щекам, и, ручаюсь вам честным словом, он не пойдет с жалобой к мировому. Оторвите от его замечательного, горячо любимого сюртука кусок подкладки, как это сделал недавно jeune premier, он только замигает глазками и покраснеет. Такова сила его забитости и смирения! Его никто не уважает. Пока он жив, его выносят, когда же умрет, его забудут немедленно. Жалкое он создание! (1; 454) Подобно Башмачкину, Барон, который служит суфлером, отвечает за аккуратное отношение к слову – но не к написанному, а к звучащему, что на шаг приближает его к обретению собственного голоса. Однако для достижения этой цели герою не хватает смелости, а фанатичное желание того, чтобы актеры на сцене как можно точнее – вербально и визуально – воспроизводили текст пьесы, превращает его в скандалиста и в конечном итоге лишает работы. Внезапно открывшийся талант к убеждению губит сватовство рассказчика в «Пропащем деле» (1882), причем герой не может сопротивляться собственному желанию говорить: « “Да и чепуху же я мелю!” – подумал я и продолжал» (1; 204). Понимание катастрофы приходит к незадачливому литератору слишком поздно: «Когда я пришел в себя и вспомнил, где я и какую грандиозную пакость соорудил мне мой язык, я взвыл» (1; 206). 64 Герой говорит. («Письмо к ученому соседу», «В вагоне») Учитывая сказанное выше, можно сделать вывод о том, что взаимоотношения героя и его слова в рассказах Чехова о чиновниках связаны с популярным сюжетом о судьбе «маленького человека». Очевидно, однако, что способность героя говорить и слышать оказывается проблематизирована во многих текстах писателя независимо от их тематики. Раннее творчество не является исключением. Особенно интересными в этом отношении являются тексты с перволичным повествованием, в которых читателю предлагается посмотреть на художественный мир глазами одного из героев. К произведениям такого типа относятся юмореска «Письмо к ученому соседу» (1880) и рассказ «В вагоне» (1881). Эти тексты построены совершенно по-разному, но их объединяет то, что в каждом читатель получает возможность «услышать» голос героя. «Письмо к ученому соседу» являет собой пример популярного в «малой прессе» шуточного письма, и с него в творчестве писателя начинается «магистральная для Чехова тематическая линия “псевдопросвещения”, представляя десятки изображений графомании и неграмотности, претендующих на выражение “идеи”»118. Эта юмореска показывает в ироническом свете не только глупость говорящего, но и его способность выражать свои мысли и встает в один ряд с такими текстами, как «О вреде табака», «Мой юбилей», «Женский тост» и т. д. Фикциональность и письменная форма уравнивают в правах текст публичной речи и текст-послание. Как отмечает А.Д. Степанов, обличая ненужный риторический пафос, Чехов противопоставлял ему информативность как положительное свойство речи 119, этим объясняется то, что в рассказах писателя публичные речи в большинстве случаев изображаются карикатурно, хотя зачастую построены по всем правилам риторики. 118 119 Степанов А.Д. Проблемы коммуникации у Чехова. С. 331–332. Там же. С. 157–167. 65 В письме, которое Василий Семи-Булатов из села Блины-Съедены отправляет своему композиция речи, ученому соседу, украшающие текст действительно, налицо многочисленные и трехчастная разнообразные метафоры120, риторические фигуры121. Однако самым главным для классической риторики (в частности, для Аристотеля) являются ясность изложения и соответствие стиля излагаемому предмету. Следуя заветам теории красноречия, свои утверждения герой сопровождает примерами, которые призваны убедить его собеседника в правоте пишущего, но они лишены логики и, кроме того, смешивают фактический пример с вымышленным (повествователь говорит о своем прапрадеде, стилистически уподобляя рассказ фикциональному тексту: «… во время оно, в царстве Польском» – 1; 12). Еще одним интересным моментом является ставшая впоследствии крылатой фраза «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда» (1; 14). Повествователь отрицает истинность открытий соседа, апеллируя к своему житейскому опыту. Однако тот же Аристотель посвящает осмыслению возможных и невозможных вещей отдельную главу своей «Риторики». В частности, он пишет: Если одна из противоположностей может существовать, то может показаться возможной и другая противоположность, например, если возможно для человека выздороветь, то возможно и заболеть, ибо одна и та же возможность (способность) относится к противоположностям, в чем они и противоположны 122. Доказательство, опирающееся на подобный принцип, будет явно сложнее, чем изложенное в «Письме к ученому соседу». Обращаясь к Аристотелю, мы не хотели связать текст Чехова с произведением античного философа, а скорее пытались подчеркнуть, что 120 «Рубль сей парус девятнадцатого столетия» (1; 14); «…знаменитое имя которых, увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами гремит как гром и молния по всем частям вселенного мира сего видимого и невидимого т. е. подлунного» (1; 11) и т.д. 121 Например, анафора: «Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы каждый вторник видим у Предводителя Дворянства?» (1; 12) 122 Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб., 2007. С. 226. 66 чеховский текст не только стремится к гротескному изображению риторических приемов и доведению до абсурда принципов риторики, но и отражает неспособность героя следовать им123: формально он может соблюдать их, но при этом неизбежно совершает грубейшие ошибки в построении речи. В результате речь замыкается на себе, потому что беспочвенные доказательства и нагромождение витиеватых тропов (порой неграмотно построенных или употребленных) производят впечатление набора предложений, которые в совокупности создают довольно комичный текст. Мы наблюдаем, как говорение превращается в нечто «вроде физиологической потребности» 124, что непременно влечет за собой провал коммуникации. В «Письме к ученому соседу» не только адресат письма, но и читатель не вынесут из его текста какой-то конкретной информации – основная функция этого текста юмористическая, развлекательная. Однако, как нам представляется, такими замкнутыми на себе текстами могут быть и произведения, которые не сковывают повествователя рамками риторики. Хорошим примером может послужить рассказ «В вагоне» (1881). Читателю предлагается проехать вместе с рассказчиком в вагоне поезда и посмотреть его глазами на происходящее вокруг. О повествователе неизвестно практически ничего, кроме того, что у него пусто в карманах и тяжело на душе: «Я высовываю голову в окно и бесцельно смотрю в бесконечную даль. Все огни зеленые: скандал, надо полагать, еще не скоро. Диска и станционных огней не видно… Тьма, тоска, мысль о смерти, воспоминания детства… Боже мой!» (1; 84). Повествование представляет собой «документирование» повествователем того, что он видит в вагоне и на станции. Он почти ничего не комментирует, а если дает оценки, то противоречивые: «Поцелуй… Другой… Черт знает что! Хорошенькая просыпается, обводит глазами публику и… бессознательно кладет головку на плечо соседа, жреца Фемиды… а он, дурак, спит!» (1; 88). 123 124 См. также: Катаев В.Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации. С. 45–56 («О природе комического у Чехова»). Степанов А.Д. Проблемы коммуникации у Чехова. С. 160. 67 Большую часть текста составляют диалоги пассажиров и комментарии повествователя. То, что он описывает, не производит радостного впечатления: в вагоне царит духота и давка, на станциях суматошно, кого-то не пускают в вагон, у кого-то украли вещи. Однако в словах рассказчика практически нет оценочной лексики, что придает тексту оттенок бессобытийности – поездка представляется бесконечным движением вперед, и ничто не может нарушить монотонности этого движения. И действительно, все то, что, на первый взгляд кажется неожиданным или даже фатальным происшествием, впоследствии таким не оказывается. Старушонка, не успевшая зайти в вагон до отправления поезда и забывшая свои вещи у попутчицы, вдруг объявляется. Ее сумка, которую подруга выкинула в окно, чтобы хозяйка подобрала ее на станции, через некоторое время находится. Старика не пускают в вагон, потому что у него нет билета, но оказывается, что «зайцев» в вагоне «душ сорок будет» (1; 86), да и вообще «зайцам полагается по нигде еще не напечатанному тарифу, 75 % уступки, им не нужно толпиться около кассы, вынимать ежеминутно из кармана билет, с ним кондуктора вежливее и… все что хотите, одним словом!» (1; 86). Правда, не все, кто заблаговременно оплатил проезд, оказываются обладателями билета: – Кого даешь? Это паспорт! Ты давай билет! – Другого у меня билета нету! – говорит косарь, видимо встревоженный. – Как же ты едешь, когда у тебя нет билета? – Да я же заплатил. – Кому ты заплатил? Что ты врешь? – Кондухтырю. – Какому? – А шут его знает какому! Кондухтырю, вот и все… Не бери, говорил, билета, мы тебя и так провезем… Ну я и не взял… (1; 87). А иногда тот, у кого есть настоящий билет, едет в другую сторону: 68 – Ваш билет! Ты! Ваш билет! – Толкает обер-кондуктор спящего парня. Парень просыпается и вынимает из шапки желтый билетик. – Куда же ты едешь? – говорит контролер, вертя между пальцами билет. – Ты не туда едешь! – Ты, дуб, не туда едешь! – говорит обер-кондуктор. – Ты не на тот поезд сел, голова! Тебе нужно на Живодерово, а мы едем на Халдеево! Вааазьми! Вот не нужно быть дураком! (1; 86–87). Такое безразличие к происходящему – это точка зрения не кондукторов, как, например, в рассказе 1883 г. «Рыцари без страха и упрека», а самих пассажиров. Привыкшие к беспорядку, творящемуся на железных дорогах, люди в вагоне на каждое подобное происшествие реагируют не возмущением, а улыбкой или добродушным советом пострадавшему: «Ты не плачь! – советует публика. – Ты лучше попроси! Такой здоровый болван, а ревешь! Женат небось, детей имеешь» (1; 87); «Нужно будет со следующей станции телеграфировать!» (1; 88). Что касается работников железной дороги, то они проявляют еще большее равнодушие. Пока машинист и его помощники пытаются отремонтировать сломавшийся паровоз, «начальник станции в красной фуражке стоит возле и рассказывает своему помощнику анекдоты из превеселого еврейского быта…» (1; 89). Повествователь, благодаря которому читатель получает представление об этом мире равнодушных утомленных героев, сам безразличен ко всему происходящему. Его мир бессобытиен – вечные вопросы, проблемы, которые не дают ему покоя, не имеют причины и по сути не имеют решения, что погружает героя в мир без времени (именно таким представляется движение поезда – без начала и без конца). Возможно, поэтому, редактируя рассказ для сборника, Чехов исключает из текста подробности биографии героя, которые придавали произведению комический оттенок: «как грешен! Жену в прошлом году у друга отнял… В газетки по глупости пишу… Тещу ненавижу… Прости меня, о моя 69 теща! Не раз уж я желал тебе погибели, и не раз сыпал в твой кофе жженой пробки!» (1; 512). Рассказ заканчивается неоднозначно: «Идет дождь… Направляюсь в вагон… Мимо мчится незнакомец в соломенной шляпе и темно-серой блузе… В его руках чемодан. Чемодан этот мой… Боже мой!» (1; 89). С одной стороны, житейская проблема явно контрастирует с вселенской тоской, которую повествователь испытывает в течение всего рассказа. Но, с другой стороны, повторяющиеся в начале и в конце текста слова «Боже мой!» уничтожают смысл произошедшего с героем. В этом мире кража чемодана не может стать событием – да и в реальности вряд ли смогла бы при таких обстоятельствах: вор обнаружен, по всей вероятности, чемодан был возвращен владельцу. Диалоги пассажиров, их трудности и сетования выполняют, таким образом, орнаментальную функцию, оформляя рассказ повествователя. Повторенное в последней строчке произведения восклицание «Боже мой!» словно бы замыкает эту историю. Функция чеховской зарисовки меняется: если сначала она могла бы восприниматься как изложение забавных, хоть и несколько печальных ситуаций, то теперь рассказ словно бы сжимается до этого «Боже мой!», перестает нести читателю какую-либо информацию. Подобно междометию, он содержит только эмоцию, переживание, захватившее повествователя. Как мы видим, ранние чеховские рассказы с перволичным повествованием могут переносить проблему коммуникации между героями в плоскость диалога текста и читателя. Иногда рассказ, наполненный всевозможными подробностями, не несет реципиенту конкретной информации, не складывается в событийный сюжет. Однако, в отличие от мира чеховских героев, где такой диалог ведет к потере контакта, на уровне коммуникации с читателем он, напротив, является результативным. Такой текст может выполнять развлекательную функцию, как это происходит в «Письме к ученому соседу», но может оказаться сложнее – и тогда мы имеем дело с текстами, подобными рассказу «В вагоне», который поначалу может показаться собранием смешных ситуаций, а в итоге оказывается не просто 70 развлекательным повествователя. – он почти напрямую передает читателю эмоцию 71 2.2. Жанровые трансформации в ранних рассказах Чехова Тематические и сюжетные клише в «малой прессе» были по преимуществу связаны с определенной художественной формой. Однако массовая литература отличается тем, что в ней форма и содержание чрезвычайно быстро устаревают, становятся неинтересными для читателя и требуют обновления. Безусловно, изменения эти не должны быть кардинальными, чтобы не отпугнуть массового читателя, который по сути своей всегда консервативен. Однако, будучи «низким» искусством, популярная литература порой является пространством даже более открытым для авторского эксперимента, чем классика. Сохраняя давно изжитые «высокой» литературой приемы, сюжеты и жанры, беллетристика сочетает их с новизной материала, заимствует удачные приемы из современных произведений, пользующихся любовью читателей, а иногда даже изобретает новые формы. В результате жанрово-тематические границы в текстах массовой литературы оказываются подвижными и проницаемыми: жанр может стать темой (мелодрама), тема обусловливает формальные признаки текста (охотничий рассказ, уголовная проза), жанры так или иначе оказываются смешанными (уголовный и пасхальный рассказы). Однако при этом в произведениях сохраняются устойчивые жанровые элементы, «помнящие» о своем происхождении. Многие ранние рассказы Чехова так или иначе соотносятся с популярными жанрами, которые, однако, претерпевают определенные трансформации. В этом разделе мы подробно остановимся на функционировании пародии, уголовного рассказа, мелодрамы и святочного и охотничьего рассказов в творчестве Чехова 1880–1884 годов. 72 2.2.1 Повествование в пародийных текстах Чехова 1880 – 1884 годов Сложность при анализе пародий заключается не только в многогранности самого этого явления, но и в том, что оно гармонично вписывается в контекст массовой литературы вообще и «малой прессы» в частности. Пародируя популярных авторов «большой литературы», Чехов достигает сразу двух целей: он развлекает читателя, в преувеличенном виде передавая особенности стиля известных писателей, а также иронизирует над вкусами публики, во все времена отличавшейся любовью к остросюжетным произведениям. Пародия должна не просто вызывать воспоминание о пародируемом тексте или стиле, но и преобразовывать текст, на который она ориентируется. Ю.Н. Тынянов отмечает, что «методы пародирования… состоят в изменении литературного произведения, или момента, объединяющего ряд произведений (автор, журнал, альманах), или ряда литературных произведений (жанр) — как системы, в переводе их в другую систему»125. Важным для нас является еще одно утверждение исследователя: Средство пародии будет поэтому не перемена тем грандиозных на малые или замещение соответствующих стилистических элементов. Так как каждое произведение представляет собою системное взаимодействие, корреляцию элементов, то нет неокрашенных элементов; если какой-нибудь элемент заменяется другим, — это значит, что в систему включен знак другой системы; в итоге этого включения системность разрушается (вернее, выясняется ее условность)126. Рассматривая массовую литературу второй половины XIX века, мы имеем дело с литературной системой, в которой пародия является неотъемлемым 125 126 Тынянов Ю.Н. О пародии // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 294. Там же. С. 301. 73 элементом. В пародиях этой эпохи могут затушевываться столь значимые полюса, как пародируемый текст и личность (образ) пародиста. Особая сложность исследования состоит в том, что пародироваться может не столько прецедентный текст, сколько стиль и сюжеты популярных романов, наводнивших газеты и журналы в конце XIX в127. Эти романы, в свою очередь, заимствовали сюжетные ходы, яркие особенности стиля и приемы из высокой литературы, зарубежных и русских произведений, рассчитанных на невзыскательного читателя. Как отмечает Э. Д. Орлов, <н>ередко в качестве исходного материала для собственных текстов авторами «малой прессы» использовались тексты зарубежных авторов. Они подвергались весьма вольной переработке, что, с одной стороны, свидетельствовало о некотором цинизме по отношению к авторству и тексту, а с другой – приспосабливало этот чужой материал к русским культурно-историческим реалиям128. Заимствование, таким образом, было встроено в саму литературную систему. Перепечатка была неотъемлемой частью литературного быта, явлением весьма широко распространенным. Плагиат и незаконная перепечатка произведений известных авторов особенно в провинциальных и непопулярных изданиях допускались неписаной этикой литературного быта «малой прессы», хотя сами авторы… принимать ее отказывались. Иногда откровенный плагиат и последующая газетная шумиха могли использоваться сотрудниками в целях рекламы издания 129. В такой ситуации установить пародируемый текст без прямого указания на него может быть затруднительно. Однако в данном случае, вероятно, изменяется 127 Об этом см., напр.: Ильюхина Т.Ю. Указ. соч. С. 20. Орлов Э.Д. Указ. соч. С. 77. 129 Там же. С. 81–82. 128 74 сам принцип пародирования. Опираясь на стиль известного писателя, утрируя типичные для него конструкции и таким образом включая в фокус пародии и формульные тексты, спекулирующие заимствованными у этого писателя элементами, автор не столько пародирует художественный текст, сколько иронизирует над читательскими ожиданиями. В таких произведениях перед реципиентом предстает его собственный, хотя и искаженный образ – ведь именно «заказ», читательская любовь к остросюжетным романам вызывает к жизни тысячи популярных произведений. В раннем чеховском творчестве есть примеры подобных пародий – это «Тысяча и одна страсть, или Страшная ночь» (1880) с посвящением В. Гюго, и «Летающие острова» (1882) – пародия на романы Ж. Верна. В «Тысяча и одной страсти» очевидно пародируются не только, как считал комментатор ранних чеховских рассказов М.П. Громов, «характерные черты романтически приподнятого стиля» (1; 562) французского романиста, но и разнообразные популярные романы, пышный стиль которых порой создает комическое впечатление. Так, само название отсылающей к В. Гюго пародии напоминает о тексте «Тайны ста сорока четырех катастроф, или Русский Рокамболь» (1882), в котором автор иронизирует над стилем П. дю Террайля. Между двумя пародиями можно заметить очевидные переклички. «Тысяча и одна страсть»: На башне св. Ста сорока шести мучеников пробила полночь <…> Небо было темно, как типографская тушь. Было темно, как в шляпе, надетой на голову. Темная ночь – это день в ореховой скорлупе. Мы закутались в плащи и отправились. Сильный ветер продувал нас насквозь. Дождь и снег – эти мокрые братья – страшно били в наши физиономии. Молния, несмотря на зимнее время, бороздила небо по всем направлениям (1; 35). 75 «Тайны ста сорока четырех катастроф»: Была полночь. Природа капризничала, как старая дева. Месяц зарылся в черные тучи и не глядел на землю. Осенний дождь с остервенением стучал в окна... Гнулись дубы и ломались сосны. Ветер стонал, как озлобленный, и рвал всё и вся... (1; 487) Кроме того, «неистовый» стиль популярных романов практически приравнивается Чеховым к слову расхарбрившегося пьянчужки из рассказа «Свидание хотя и состоялось, но…» (1882). «Тысяча и одна страсть»: Она полюбила во мне демона. Я хотел, чтобы она полюбила во мне ангела. «Полтора миллиона франков отдаю бедным!» – сказал я. Она полюбила во мне ангела и заплакала (1; 37). «Свидание хотя и состоялось, но…»: – Я знаю, чтоо она во мне полюбила! – забормотал он. – Знаю-с! Она полюбила во мне недюжинного человека! Так-то! Знает, кого полюбить и за что полюбить... Недюжинного человека! Я не какой-нибудь там... этакий... Я Гвозд... Я... Принимаясь за четвертую бутылку, он воскликнул: – Да-с! Не какой-нибудь! Полюбила она во мне... гения! Ге-ни-я! Мирового гения! (1; 175) Анализ текста, отсылающего к В. Гюго, представляется нам особенно интересным, так как позволяет рассмотреть рефлексию автора по поводу классической литературы и сознания массового читателя в одно и то же время. Небольшой объем произведения, который может объясняться требованиями издателя, выступает в данном случае в качестве снижающего иронического 76 приема, показывая, что огромные романы В. Гюго, наполненные отступлениями и многочисленными сюжетными линиями, можно с легкостью очистить от «лишних» элементов и пересказать на нескольких страницах. Особый интерес в этом чеховском тексте представляют заключительные строки: Через три года после нашей свадьбы старый Сам носился уже с курчавым мальчишкой. Мальчишка этот был более похож на мать, чем на меня. Это меня злило. Вчера у меня родился второй сын… и я сам от радости повесился… Второй мой мальчишка протягивает ручки к читателям и просит их не верить его папаше, потому что у его папаши не было не только детей, но даже и жены. Папаша его боится женитьбы, как огня. Мальчишка мой не лжет. Он младенец. Ему верьте. Детский возраст – святой возраст. Ничего этого никогда не было… Спокойной ночи! (1; 37–38) Эта часть текста должна прочитываться как внезапный поворот, неожиданный смешной финал. Однако читатель пародии вряд ли хотя бы на мгновение может предположить, что перед ним текст, основанный на реальных событиях. По этой причине заявление повествователя о вымышленности его истории едва ли может оказаться неожиданным для реципиента. Улыбку, скорее всего, вызовет оксюморонная фраза: «…и сам я от радости повесился» (1; 37). Таким образом, включение Чеховым в текст подобной «инструкции» для читателя кажется несколько излишним. Если вспомнить о пародируемом авторе, завершающий абзац выглядит органичнее. Французский классик в своих произведениях часто обращается к читателям: «…как помнит читатель, кирасиры обрушились в овраг оэнской дороги с противоположной стороны – со стороны Женапского шоссе»130; «…когда мать перестала присылать деньги, а из предыдущих глав читатель знает, почему, Тенардье все же оставили девочку у себя» (Гюго 6; 430). 130 Гюго В. Отверженные // Гюго В. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 6. М., 1954. С. 409. В дальнейшем ссылки на В. Гюго даются в тексте работы с указанием автора, а также тома и страницы этого издания. 77 В романе «Собор Парижской Богоматери», как и в чеховской пародии, можно обнаружить подсказки для читателя: «Излишне предупреждать читателя, чтобы он не понимал буквально тех сравнений, к которым мы вынуждены прибегать здесь, описывая это своеобразное, совершенное, непосредственное, почти органическое слияние человека с жилищем» (Гюго 2; 152). Реципиент фигурирует в названиях некоторых глав «Отверженных»: «Глава седьмая, из которой читатель уяснит, как возникла поговорка: “Не знаешь, где найдешь, где потеряешь”» (Гюго 6; 625); а порою в романе встречаются целые фрагменты текста, обращенные к реципиенту. Наследуя эстетическим традициям, введенным еще Л. Стерном, писатель втягивает реципиента в текст романа. Однако в отличие от Л. Стерна, обращения к читателю у которого обнажают условность литературы, В. Гюго часто пользуется этим приемом для создания иллюзии достоверности: Несомненно, если бы Равальяк не убил Генриха IV, не было бы и документов о деле Равальяка, хранившихся в канцелярии Дворца правосудия; не было бы и сообщников Равальяка, заинтересованных в исчезновении этих документов; значит, не было бы и поджигателей, которым, за неимением лучшего средства, пришлось сжечь канцелярию, чтобы сжечь документы, и сжечь Дворец правосудия, чтобы сжечь канцелярию; следовательно, не было бы и пожара 1618 года. Все еще высился бы старинный Дворец с его старинной залой, и я мог бы сказать читателю: «Пойдите, полюбуйтесь на нее»; таким образом, мы были бы избавлены: я – от описания этой залы, а читатель от чтения сего посредственного описания. Это подтверждает новую истину, что последствия великих событий неисчислимы (Гюго 2; 10–11). Повествователь заранее оговаривает все возможные неточности в описаниях, которые читатель мог бы обнаружить, решив проверить роман на достоверность: 78 Уже много лет, как автор этой книги, вынужденный, к сожалению, упомянуть о себе самом, не живет в Париже. С той поры, как он его покинул, Париж изменил свой облик. <…> Быть может, там, куда автор поведет читателя со словами: «Вот на такой-то улице стоял такой-то дом», нет теперь ни улицы, ни дома. Читатели проверят, если захотят взять на себя труд это сделать. Самому же ему современный Париж неведом, и он пишет, видя перед собой Париж былых времен, отдаваясь дорогой его сердцу иллюзии. Ему отрадно представлять себе, будто сохранились еще следы того, что он когда-то видел на родине, будто еще не все исчезло безвозвратно <…> Итак, да будет нам дозволено говорить о минувшем так, как о настоящем. Предупредив об этом читателя, мы продолжаем (Гюго 6; 605–606). Более того, иногда в романах французского писателя напрямую утверждается истинность излагаемых в них фактов: «Среди этих подробностей читатель встретит два или три обстоятельства, которые покажутся ему неправдоподобными, но мы сохраним их из уважения к истине» (Гюго 6; 249). Безусловно, за подобными высказываниями повествователя скрывается литературная конвенция, однако интересной и важной здесь оказывается сама функция обращений к читателю. Усилия Гюго направлены на создание иллюзии действительности, создание реалистичного художественного мира. В пародийных текстах любая иллюзия достоверности исключена, так как произведение, которое заявляет о себе как о пародии, тем самым признается в собственной вторичности – в том смысле, что оно представляет некий художественный мир, который отражает другой художественный мир и в этой связи имеет еще меньшее отношение к действительности. Используя обращения к читателю с целью, противоположной той, к которой стремился В. Гюго, Чехов постулирует не «реальную», а вымышленную природу своего текста и тем самым не только дает отсылку к текстам-оригиналам и иронизирует над их основными повествовательными принципами, но и находит удачную литературную форму, которая привлекает внимание читателя. 79 Особенность этой формы заключается в необычности рассказчика. В «Тысяче и одной страсти» повествователь Антонио – главный герой и двигатель сюжета. Все, что происходит в тексте, является следствием его поступков. Правда, он не всезнающий, некоторые вещи лежат за границами его понимания: «Какие-то неведомые силы, казалось, трудились над ужасающей гармониею стихии. Кто эти силы? Узнает ли их когда-нибудь человек?» (1; 35). Закрыто от Антонио и сознание его антагониста Теодора, который изображается только внешне: «уши Теодора засветились электричеством»131 (1; 25). Однако ближе к финалу рассказа повествователю становится доступен внутренний мир другого – а именно мысли и чувства его возлюбленной: «…она видела перед собою демона в земной оболочке. Я видел, что она залюбовалась мной» (1; 37). В конце, когда выявляется вымышленность всего рассказанного и, как следствие, «авторство» повествователя, его компетенция и власть над текстом становятся неоспоримы. При создании подобной структуры Чехов мог ориентироваться на некоторые принципы гоголевского повествования, в частности, на прием, задействованный в «Носе» и «Невском проспекте»132, когда одно и то же повествующее сознание порождает противоположные утверждения, и в таком случае ответственность за выбор одного из возможных прочтений текста оказывается возложенной только на читателя, а …загадкой текста предстает совмещение двух тенденций: центробежной, размывающей всякую смысловую определенность, постмодернистской по своей сути, с одной стороны, и центростремительной, вносящей определенную смысловую доминанту в читательское восприятие, удерживающей текст в парадигме классической литературы – с другой 133. 131 На самом деле это едва ли ни единственное место в тексте, где «описывается» Теодор. Об этом см.: Овечкин С.В. Повести Гоголя. Принципы нарратива // Проза Н.В. Гоголя. Поэтика нарратива: сб. статей. СПб., 2011. С. 114–126; Григорьева Е.Н. Как рассказана повесть «Невский проспект» // Проза Н. В. Гоголя. Поэтика нарратива: сб. статей. СПб., 2011. С. 183–194. 133 Григорьева Е.Н. Как рассказана повесть «Невский проспект». С. 193. 132 80 Безусловно, маленькая пародия Чехова построена гораздо проще, чем тексты Гоголя, что, однако, не опровергает нашего предположения об ориентации чеховского произведения на художественные принципы гоголевской прозы. Как нам представляется, в России XIX века создавать комический и в некоторой степени абсурдный текст без оглядки на Гоголя (вольной или невольной, прямой или опосредованной) было невозможно. Предположение о вероятной ориентации Чехова на гоголевское повествование косвенно подтверждается тем, что в некоторых ранних юморесках Чехонте можно встретить переклички с текстами классика первой половины XIX века. Например, в мелочишке 1881 года «И то и се <письма и телеграммы>» фигурируют майор Ковалев и Собакевич. Сюжет рассказа «Хитрец» (1883) отчасти напоминает сюжет «Невского проспекта»: двое друзей гуляют по вечернему Невскому проспекту и разговаривают о женщинах, причем один из них подбивает другого познакомиться с девушкой не слишком строгих правил. Как уже было сказано, многочисленные чеховские рассказы о чиновниках нельзя рассматривать без учета темы «маленького человека», распространившейся в литературе во многом благодаря Гоголю. И, безусловно, стоит учесть непростое отношение Гоголя к своему читателю 134 – реальному и идеальному, что отразилось в композиции и повествовательных принципах, которые отчасти были переняты массовой литературой конца XIX века вообще и молодым Чеховым в частности. Пародия не предполагает серьезного прочтения, что не дает Чехову возможности применить гоголевские приемы в их полноте. Тем не менее игра с повествованием помогает ему перевести сюжет с уровня истории на уровень коммуникации текста и реципиента. Финальное признание рассказчика работает на ослабление событийности, ведь ничего из рассказанного никогда не происходило в «реальности» произведения. Воспринимающее сознание, которому знакомы обращения к читателю в текстах В. Гюго и сложные нарративные структуры Гоголя, вынуждено искать событие на другом уровне. И это событие 134 Оно было подробно описано Д. Фагнером. См.: Fagner D. Gogol and His Reader // Literature and Society in Imperial Russia, 1800–1914. Stanford, CA, 1978. P. 61–95. 81 становится возможным за счет расшатывания художественных границ. Нагромождение фиктивных миров (романы В. Гюго, пародии на В. Гюго и, возможно, гоголевские тексты), с одной стороны, отдаляет мир «Тысяча и одной страсти» от реальности читателя, но, с другой стороны, незаметно истончает границы между этими мирами. Постепенно растущая компетенция повествователя подготавливает переход рассказчика из героев в «авторы», однако массовый реципиент, не нацеленный на пристальное чтение текста, вряд ли отметит эту подготовку. И тогда вполне закономерное воцарение героя как «автора» является для него неожиданностью, так как иллюзия власти над текстом, знание принципов, по которым подобные произведения строятся, позволяют читателю воспринимать художественный мир чеховской пародии как герметичную конструкцию. А появление такого «автора», то есть максимально приближенного к реальности читателя субъекта, производит впечатление явления «черта из табакерки». Таким образом, та самая инструкция, которая казалась бесполезной, на самом деле является указателем на другое, неочевидное прочтение этого текста. Еще один ранний текст, ориентированный на чужой стиль, – это рассказ «Летающие острова» (1883), где Чехов пародирует наиболее заметные особенности стиля Ж. Верна, например, любовь французского писателя к цифрам. Причем, если сравнивать тексты, порой трудно сказать, в каком из них пристрастие авторов к точности измерений сильнее. Ж. Верн: Во-первых, снаряд будет полым шаровидным ядром в 108 дюймов диаметром, с толщиной стенок в 12 дюймов и весом в 19 250 фунтов. Во-вторых, орудием будет пушка типа колумбиады, в 900 футов длиной, отлитая из чугуна и врытая отвесно прямо в землю. В-третьих, на пороховой заряд потребуется 400 тысяч фунтов пироксилина, который, выделив при взрыве шесть миллиардов литров газов, с достаточной силой вытолкнет снаряд по направлению к ночному светилу. 82 После того как эти вопросы были разрешены, председатель Барбикен с помощью инженера Мерчисона выбрал подходящее место на возвышенности во Флориде, на 27°7' северной широты и 5°7' западной долготы. На этой площадке после грандиозных работ была с успехом отлита колумбиада135. Или: «Отважные исследователи, Мишель Ардан, председатель Барбикен и капитан Николь, должны были завершить свой перелет за 97 часов 13 минут 20 секунд»136. Чехов: «Считаю священнейшим долгом благодарить вас за то адское терпение, с которым вы прослушали мою речь, продолжавшуюся 40 часов, 32 минуты и 14 секунд!» (1; 208); «Перед ним стоял джентльмен 48 ½ вершков роста» (1; 209). Жанр научной фантастики, одним из основоположников которого был Ж. Верн, отличается стремлением к точности и повышенным вниманием к деталям, несмотря на то, что речь идет о еще не совершённых, вымышленных открытиях. Чехов использует принцип точности там, где его можно ожидать меньше всего, и даже там, где он не нужен, за счет чего текст приобретает ироническую окраску (хотя у Ж. Верна на странице может встретиться гораздо больше цифр, чем в чеховской пародии). Первая глава «Летающих островов», посвященная речи Джона Лунда, явно перекликается с эпизодом из романа «С Земли на Луну прямым путем…». Чехов: – …Я кончил, джентльмены! – сказал мистер Джон Лунд, молодой член королевского географического общества, и, утомленный, опустился в кресло. Зала заседания огласилась яростнейшими аплодисментами, криками «браво» и дрогнула. Джентльмены начали один за другим подходить к Джону Лунду и 135 Верн Ж. Вокруг Луны // Верн Ж. Собрание сочинений: В 12 т. Т. 1. М., 1954. С. 498. Курсив в цитатах, за исключением отдельно оговоренных случаев, наш. 136 Там же. С. 499. 83 пожимать ему руку. Семнадцать джентльменов в знак своего изумления сломали семнадцать стульев и свихнули восемь длинных шей, принадлежавших восьми джентльменам, из которых один был капитаном «Катавасии», яхты в 100 000 тонн… (1; 208). Ж. Верн: Невозможно описать бурный эффект, вызванный речью достойного председателя. Крики! Восклицания! Оглушительный рев! Со всех сторон раздавалось: «Гип! Гип! Ура!» – и прочие междометия, столь распространенные в американском диалекте. Вопили во всю глотку, бешено хлопали, стучали ногами, потрясая стены зала. Залп из всех орудий этого музея не сотряс бы воздуха с такой бешеной силой137. Сжимая огромные романы до нескольких страниц текста, Чехов повышает и концентрацию приемов. Так, в приведенном отрывке пародируется не только сцена бурного восторга слушателей, но и уже упомянутая любовь Ж. Верна к точным расчетам. Легко узнаваемый стиль французского писателя нетрудно спародировать, но, пожалуй, в связи с особенностями этой стилистики и тем, насколько экзотичными сюжетами удивлял читателей Ж. Верн, сложно сделать пародию на его произведения более яркой, чем они сами. Возможно, именно в связи с этим Чехов усложняет повествовательную структуру своего текста, представляя его как «перевод»138. Комментарии могут служить пояснениями «трудных» слов и понятий, например, «кислород» объясняется так: «Химиками выдуманный дух. Говорят, что 137 Верн Ж. С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут // Верн Ж. Собрание сочинений: В 12 т. Т. 1. С. 335. 138 Прием, использованный здесь Чеховым, был применен также в юмореске «Отвергнутая любовь» (1883), где в примечании к тексту переводчик трактует реплику героя «Plenus venter non student libenter! <…> Imperfectum conjunctivi passivi» таким образом: «О, лучше убей меня, но выйди! Коли не выйдешь, кровь моя брызнет в твое окно! умираю!» (2; 15). В некоторых случаях вместо переводчика в повествование вмешивается редактор. Например, в рассказе «Исповедь» (1883) читаем: «Редактор, найдя, что рассказ несколько длинен, вычеркнул, в ущерб авторскому дивиденду, на этом самом месте восемьдесят три строки» (2; 28). Пожалуй, интереснее всего этот прием разработан в повести «Драма на охоте» (1884). 84 без него жить невозможно. Пустяки. Без денег только жить невозможно» (1; 211). Зато «термометр» снабжается пояснением: «Такой инструмент есть» (1; 212). Один раз, видимо, чтобы лучше донести смысл текста до читателя, «переводчик» дает в скобках слово на языке «оригинала»: «Черная масса… важно (pesamment) шлепнулась в залив» (1; 214). В комментариях переводчик высказывает свое отношение к написанному: «…следует длиннейшее и скучнейшее описание обсерватории, которое переводчик в видах экономии места и времени нашел нужным не переводить» (1; 211); «…следует описание картины, понятной одним только англичанам» (1; 213); «…цифры и цифры… Бог с ними!» (1; 212). Таким образом, разбросанные по тексту комментарии «переводчика» представляют собой аналог финальной «инструкции» из «Тысячи и одной страсти»: они указывают читателям на те стилистические элементы текста-оригинала, которые были здесь спародированы. Интересен тот факт, что слова повествователя и переводчика иногда становятся удивительно похожи. Так, повествователь отмечает: «В продолжение первых 20 часов полета не было сказано ни одного слова и особенно ничего не произошло» (1; 212). Или, чтобы не давать подробного описания героя, отсылает читателя к собственным «научным» работам: Кто из читателей воспылает желанием ближе познакомиться с мистером Вильямом Болваниусом, тот пусть прочтет его замечательное сочинение «Существовала ли луна до потопа? Если существовала, то почему же и она не утонула?». При этом сочинении приложена и запрещенная брошюра, написанная им за год перед смертью: «Способ стереть вселенную в порошок и не погибнуть в то же время». В этих сочинениях как нельзя лучше характеризуется личность этого замечательнейшего из людей. (1; 210; Курсив Чехова. – К. О.) Примечательно, что название первого трактата по абсурдности перекликается с примечанием «переводчика» о кислороде, к тому же и то, и другое выделено в тексте курсивом. 85 «Высокий» и «низкий» слог сталкиваются не только на пересечении слова повествователя и слова «переводчика», но и в речи самого повествователя: «Черная масса, столько дней закрывавшая собою солнце, при торжественных кликах народа и при громе музыки важно… шлепнулась в залив и обрызгала всю набережную» (1; 214) – и даже в речи персонажей: «Оооо! Размозжите, громы небесные, мои великие мозги!» (1; 213–214). Однозначного ответа на то, как следует прочитывать текст с подобной структурой, дать, вероятно, нельзя. Он предполагает возможность прочтения, при которой стилистические совпадения речи героев, повествователя и «переводчика» объясняются стилем «переводчика», ведь только «через него» к читателю попадает этот текст. Либо, что нам кажется более интересным, эта «инструкция» могла подсказывать читателю определенный угол зрения, когда столь экзотические тексты, как фантастические романы Ж. Верна, просто не могут быть спародированы. «Летающие острова» – рассказ смешной, в нем читатель найдет и забавные имена, и нелепые ситуации, и сатирические выпады в адрес современников Чехова. Однако усложнение повествовательной структуры за счет введения в текст посредника между читателем и повествователем – «переводчика» – может быть попыткой обратить внимание реципиента на привычный ему объект чтения, сместить его интерес с сюжета на стилистику. 2.2.2. Уголовные рассказы в раннем творчестве Чехова Отдельным жанром, подвергавшимся в ранней прозе Чехова скорее развитию, чем трансформации, можно считать уголовную прозу. По замечанию В.П. Руднева, «массовая культура связана с национальным типом философской рефлексии»139, и, как следствие, каждая национальная литература разрабатывала собственную детективную формулу. Русская литература о преступниках, безусловно, обладает рядом отличительных черт. Однако, конечно, этот популярный жанр во многом опирался на западные образцы – произведения Э. 139 Руднев В.П. Детектив // Руднев В.П. Энциклопедический словарь культуры ХХ века: Ключевые понятия и тексты. М., 1999. С. 80. 86 Габорио, «страшные» готические романы и т. д. Об этом свидетельствует, например, рефлексия молодого Чехова над детективной формулой, отразившаяся в пародии «Шведская спичка», где объектом иронии писателя становится не только детективный сюжет, но и страстные любители подобных романов. Так, помощник следователя Дюковский, старающийся походить на гениального сыщика, признается, что он – «человек, изгнанный из семинарии и начитавшийся Габорио» (2; 216). Массовый читатель в России конца XIX века, действительно, более чем благосклонно относился к произведениям, затрагивавшим тему преступления. Отличительной чертой таких текстов было их активное взаимодействие с газетной хроникой. Как отмечает А.И. Рейтблат, …«задавая» целостный образ мира, газета как бы «уравнивала» различные жанры, и в этом плане можно сказать, что грань между литературными и нелитературными жанрами была стерта. С одной стороны, из современных событий выбирались и в сюжетно-очерковой форме описывались факты и случаи, связанные со скандалом, уголовной хроникой, зрелищами (прежде всего – театром), комическими происшествиями, что «беллетризировало» изложение. С другой стороны, беллетристика в газете была предельно документализирована, поскольку преобладали такие жанры, как романы «из быта» и сенсационные романы, написанные на основе реальных событий… 140 Повествуя о вымышленных нарушениях закона, авторы маскировали свой текст под документальный и порой даже заимствовали некоторые детали из газетных репортажей. Возможно, за счет этого писатели старались повысить статус своих произведений, словно бы приравнивая эти тексты к отчетам о действительных происшествиях (хотя нередко рассказы о преступлениях и впрямь имели под собой реальную основу)141. Следует отметить, что как таковой формулы детектива в России XIX века в отличие от западных стран не сложилось. Как 140 141 Рейтблат А.И. Указ. соч. С. 118. См.: Рейтблат А.И. Указ. соч. С. 298. 87 отмечает А.И. Рейтблат, «термин “уголовный роман” охватывал все произведения (в том числе и исторические), где речь шла о преступлениях, независимо от характера конфликтов и типов персонажей»142. При этом условная «правдивость» текстов соединялась с максимальной эффектностью и мелодраматичностью сюжета. Как и в случае с другими популярными жанрами, писатели главным образом стремились оказать как можно большее воздействие на читателя, и сюжет о разгадывании тайны нередко уходил на второй план. Большое внимание авторы уделяли фигуре преступника, его раскаянию или отказу от такового, исповеди. Джефри Брукс считает, что преступники в русской литературе воплощали свободную жизнь, восстание против общественных запретов, однако, чтобы выжить, им было необходимо вернуться в общество, признав и искупив свою вину перед ним: Массовая литература являет собой переживание читателем «грез наяву» (daydreams), но в русской литературе этот процесс происходит по правилам, отличным от существующих в популярной литературе Франции, Англии или Америки. Криминальная литература позднего имперского периода выражала строгие запреты на проявление личной инициативы и бунтарских настроений. По представлениям авторов лубочной литературы и газетных фельетонов, свобода личности была ограничена уверенностью в том, что политическая власть и существующий общественный строй являются для нее непобедимыми силами. Свобода нарушает установленный общественным строем порядок, но эта свобода обречена. Сильных личностей такая свобода привлекала, но, чтобы выжить, им приходилось возвращаться к обществу143. В России герой-преступник не был благородным разбойником, похожим на Робин Гуда, он боролся с установленными порядками не для облегчения жизни других, но для достижения личной выгоды. Часто такие герои совершали преступления не только по отношению к власти, но и по отношению к невинным 142 143 Там же. С. 296. Brooks J. When Russia Learned to Read. Literacy and Popular Literature, 1861–1917. P. 207. 88 людям. Вероятно, симпатию публики к таким персонажам можно объяснить тем, что в социальной иерархии они стояли на той же ступени, что и их читатели (или даже ниже), и воспринимающий мог легко отождествиться с таким персонажем, тем более что, какие бы преступления этот герой ни совершал, он позиционировался именно как сильная личность, смело и обреченно выступающая против существующего порядка144. Как пишет Дж.Г. Кавелти, …формульная литература создает другую модель идентификации. В ее цели входит не заставить меня осознать собственные мотивации и опыт, которые мне хотелось бы игнорировать, а позволить уйти от себя, создав собственный идеализированный образ. Поэтому главные герои формульной литературы бывают, как правило, лучше и удачливее, чем мы сами145. Русские сюжеты о преступниках обычно заканчивались торжеством закона, но покаяние преступника, безусловно, рассматривалось как позитивный момент, как возвращение от хаоса к порядку. Это особенно интересно, если учитывать, что хаос и порядок в этом случае не выстраиваются в оппозицию, потому что и то, и другое имеет как позитивный, так и негативный оттенок. Симпатия по отношению к раскаивающемуся или наказываемому герою-нарушителю в этом случае является симпатией не к нарушению или к порядку как таковым, но к возможности преодолеть дурную бесконечность того или другого абсолюта, что, кроме всего прочего, сочетается с выработанным житийной традицией сочувствием к кающемуся грешнику. Внимание к психологии, вопросам справедливости и закона часто выводили авторов за рамки уголовной тематики, и тогда создавались произведения, проблематику которых можно определить как общечеловеческую. 144 Преступник олицетворял собой бунт против власти, но этот бунт был обречен на поражение. Победа преступника была невозможна. Герой был вынужден сделать выбор: понести наказание или раскаяться в содеянном, что обеспечивало ему сочувствие аудитории. Такой персонаж был идеальной находкой для писателей, стремившихся показать человека, оказавшегося жертвой среды и в то же время восставшего против нее. (Brooks J. Op. cit. P. 174). 145 Кавелти Дж.Г. Указ. соч. С. 47. 89 Так произошло с чеховским рассказом «Суд», который был опубликован в журнале «Зритель» в 1881 году. Автор сам определил жанр этого текста в подзаголовке – «Сельские картинки» – и, по-видимому, собирался создать целую серию подобных рассказов из народной жизни. Вероятно, писатель осознавал, что ранний рассказ получился достаточно серьезным, и даже переработал его для собрания сочинений, однако впоследствии решил «Суд» туда не включать. Сюжет связан с преступлением и наказанием, читателю показан даже процесс «следствия» (или «допроса»), а также жестокое наказание невиновного. В журнальной редакции текст был насыщен комическими деталями. Например, главный герой был описан как «весь состоящий из очень длинной спины, синего носика, розового галстучка, колючих воротничков и лоснящихся сапог» (1; 513). Речь повествователя отличалась повышенной эмоциональностью, на его слова, очевидно, влияла внутренняя точка зрения персонажей: Проклятые комары и мухи толпятся около глаз и надоедают до чертиков… В раскаленном и пропитанном всевозможными запахами воздухе висят облака табачного дыму… В воздухе, на лицах, в пении комаров такая тоска, что хоть в петлю полезай… А тут еще карболкой разит… (1; 512–513) Работая над второй редакцией рассказа, Чехов убрал большинство юмористических элементов, а также практически исключил намеченную в первом варианте сниженную любовную линию: «Я Алену давно уже бросил. Алену я Феофану Аввакумычу предоставил в полное его удовольствие <…> Ежели я за женским персоналом ухаживаю, то потому, что без этого нельзя, невозможно! Природа… Все одно как хлеб» (1; 514). При этом в переработанном рассказе сохраняются характерные для поэтики раннего Чехова черты сценки, родственной драматическим жанрам. Текст открывается напоминающей краткую авторскую ремарку экспозицией, в которой описывается обстановка и перечисляются действующие лица. Слов повествователя практически нет, большую часть произведения составляют 90 реплики героев. Это работает не столько на мнимую документальность, сколько на усиление миметичности произведения. Его литературность, текстовая природа маскируется, уходит на второй план, словно бы напрямую транслируя читателю содержание («картинку»), обеспечивая ему эффект присутствия. «Драматургичность» формы в этом случае оказывает на читателя тот же эффект, который оказывает на массового зрителя мелодрама, – максимально погружает его в художественный мир. Как отмечает А.Д. Степанов, рассуждая о бытовой мелодраме XIX века, …страдание не терпит описаний. Описать эмоцию страдания – значит прямо указать на причины и следствия, исключая многословные излияния – жалобы и проклятия, – составляющие самую ее суть. «Описанная» эмоция сводится к цепочке логически связанных мотивов, что обесценивает саму эмоцию… 146 Мелодраматичность можно считать свойством, присущим большинству популярных жанров, однако в данном случае перед нами ситуация, когда одно из ключевых мелодраматических свойств практически выводит текст за пределы противопоставления высокой и низкой литературы. Это происходит еще и потому, что при сохранении набора действующих лиц, характерного для детектива, в чеховском рассказе уголовная формула оказывается «вывернутой наизнанку». Суд происходит раньше «следствия», вердикт выносится без доказательства вины, невиновный почти не оказывает сопротивления «палачам» и «судьям». Кроме всего прочего, в «Суде» происходит изменение событийной структуры, характерной для произведений «малой прессы». И юмористические рассказы, и уголовная проза – это тексты, содержащие яркие события, привлекающие внимание реципиента. В чеховском рассказе событие словно бы ускользает из художественного мира произведения. Например, оказывается, что преступления, вокруг которого складывается сюжет «Суда», на самом деле не было – было только наказание несправедливо 146 Степанов А.Д. Психология мелодрамы // Драма и театр. Вып II. Тверь, 2001. С. 47–48. 91 обвиненного героя. Можно предположить, что в момент, когда читатель и персонажи узнают об этой несправедливости, и происходит сюжетный перелом, однако и это сомнительно. Избитый Серапион так реагирует на известие о «восстановленной справедливости»: «Ничего-с, нам не впервой-с… Не беспокойтесь. Я на всякие мучения всегда готов» (1; 99). Эти слова указывают на некую норму изображаемого мира. Событием могло стать раскаяние жестокого отца, но его извинение звучит скорее как сожаление о том, что сын все-таки оказался невиновным: «Ты извини <…> Ты не того… Черт же его знал, что они найдутся» (1; 98). В мире произведения существует странная, страшная норма, нарушение которой невозможно. Она эксплицитно выражена в словах героев в первом варианте рассказа: – Сквэрный, сквэрный малчик. Надо в морда бить! Я свой Назар всегды в морда бью. <…> – Поучить надо… Не мешает, – замечает жандарм. – Начальство страсть не любит, ежели ворует кто или образ мыслей… Посечь не мешает… (1; 515). Серапиона прекратили бить еще до того, как мать принесла известие о нашедшихся деньгах – молодой человек вынужден был полностью вытерпеть незаслуженное наказание. Восстановление справедливости мало кого занимает. Зеваки расходятся, когда порка заканчивается, а «жандарм Фортунатов еще долго ходит по двору, красный, выпуча глаза, и говорит: – Еще! Еще! Так его!» (1; 99). Рассказ производит странное, гнетущее впечатление. Событие перенесено с уровня художественного мира на уровень коммуникации текста с читателем. Это в его сознании должен произойти перелом, когда он узнает о том, что наказывают невиновного. И впечатление только усиливается реакцией героев: жестокой апатией большинства и истеричным смирением Серапиона. Что касается последнего, то в первой редакции рассказа его образ был раскрыт подробней. 92 Возможно, Чехов здесь дает отсылку к героям Достоевского, как это делали многие авторы «уголовной» прозы. Так, этот персонаж кричит: «Терзайте! Вот вам моя грудь! Бейте! Ешьте! А я знаю, что мне делать! Знаю! А что мне делать, про то знаю я да левольвер-шестистволка! Не на моей душе грех будет» (1; 515). Однако, попадая в мир чеховской прозы, надрывный дискурс в стиле Достоевского выглядит странно – вероятно, поэтому писатель впоследствии вычеркивает это место из рассказа. Такого рода отсылки к Достоевскому, перенесенные в чужеродную им стилистическую среду, встречаются у Чехова и в других текстах. Например, в рассказе «Загадочная натура» (1883) довольно комичным выглядит диалог двух лицемеров: женщины – «страдалицы во вкусе Достоевского» – и ее кавалера – чиновника, претендующего на звание писателя. – Чудная! – лепечет писатель, целуя руку около браслета. – Не вас целую, дивная, а страдание человеческое! Помните Раскольникова? Он так целовал (2; 91). Эта сцена очевидным образом отсылает к известному эпизоду из романа «Преступление и наказание»: Он взял ее обеими руками за плечи и прямо посмотрел в ее плачущее лицо. Взгляд его был сухой, воспаленный, острый, губы его сильно вздрагивали... Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу. Соня в ужасе от него отшатнулась, как от сумасшедшего. И действительно, он смотрел как совсем сумасшедший. – Что вы, что вы это? Передо мной! – пробормотала она, побледнев, и больно-больно сжало вдруг ей сердце. Он тотчас же встал. – Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился, – как-то дико произнес он и отошел к окну (Достоевский 6; 246). 93 Контрастными оказываются детали, стилистика и сюжеты двух произведений. Кроме того, странным в устах героя выглядит сопоставление героини с Соней Мармеладовой: он стремится сделать даме комплимент, сам же сравнивает ее с «продажной» женщиной. Справедливости ради стоит отметить, что это сравнение не так уж необоснованно – желающая роскошной жизни героиня действительно «продается» богатым старикам. Примерно так же Чехов работает и в другом тексте – «Братец» (1883), в котором явно имитирует эпизод разговора Раскольникова с сестрой о ее желании выйти замуж за Лужина: – Да... был так добр... Дуня, я давеча Лужину сказал, что его с лестницы спущу, и прогнал его к черту... – Родя, что ты! Ты, верно... ты не хочешь сказать, – начала было в испуге Пульхерия Александровна, но остановилась, смотря на Дуню. Авдотья Романовна пристально вглядывалась в брата и ждала дальше <…> – Дуня, – с усилием продолжал Раскольников, – я этого брака не желаю, а потому ты и должна, завтра же, при первом слове, Лужину отказать, чтоб и духу его не пахло. – Боже мой! – вскричала Пульхерия Александровна. – Брат, подумай, что ты говоришь! -- вспыльчиво начала было Авдотья Романовна, но тотчас же удержалась. – Ты, может быть, теперь не в состоянии, ты устал, – кротко сказала она (Достоевский 6; 152). У Чехова читаем: – Опомнись, сестра! Еще не поздно! Сделай такую милость! Откажи ты этому пузатому лабазнику, кацапу этому! Плюнь ты на эту анафему толстомордую, чтоб ему ни дна, ни покрышки! Ну, сделай ты такую милость! – Не могу, братец! Я ему слово дала. – Умоляю! Пожалей ты нашу фамилию! (2; 82). 94 Правда, в отличие от Раскольникова, чеховский вспыльчивый братец сразу же соглашается на брак сестры, как только будущий зять присылает ему щедрый подарок. Превращение одного жанра (и даже литературного рода) в другой можно наблюдать в случае с еще одним чеховским рассказом, затрагивающим уголовную тему, – «Ночь перед судом». Написанный в 1884 году, он был опубликован только двумя годами позже, а в 1890-м году писатель попытался переделать его в пьесу. В отличие от «Суда», где обращение к драматическим приемам призвано сделать рассказ более серьезным, пьеса «Ночь перед судом» усиливает комическую составляющую раннего текста. Переход от перволичного прозаического повествования к безличной драматической форме ведет к расподоблению главного героя и реципиента, не позволяя последнему сопереживать персонажу. С одной стороны, количество преступлений, совершенных Зайцевым, в пьесе увеличивается, но, с другой стороны, почти все его «злодейства» были намерениями, а не поступками. Если в рассказе «Ночь перед судом» героя должны судить за двоеженство, то в пьесе он признается: «Меня будут судить за покушение на двоеженство, за подделку бабушкиного завещания на сумму не свыше трехсот рублей и за покушение на убийство биллиардного маркера» (12; 223). Таким образом, из симпатичного читателю героя-проходимца Зайцев превращается в плута, герой становится маской, служащей для развлечения реципиента. Если при работе над «Судом» Чехов намеренно убирает пафосные тирады Серапиона (Митрофана), то в пьесу «Ночь перед судом» он, напротив, включает их. Рисующийся Зайцев ведет диалог со своим пистолетом: Присяжные закатают – в этом нет никакого сомнения. Сегодня я здесь, завтра вечером в тюрьме, а через каких-нибудь полгода – в холодных дебрях Сибири... Бррр! <…> Впрочем, у меня есть выход из ужасного положения. Есть! В случае если присяжные закатают меня, то я обращусь к своему старому другу... Верный, надежный друг! (Достает из чемодана большой пистолет.) Вот он! Каков 95 мальчик? Выменял его у Чепракова на две собаки. Какая прелесть! Даже и застрелиться из него удовольствие некоторым образом... (Нежно.) Мальчик, ты заряжен? (Тонким голосом, как бы отвечая за пистолет.) Заряжен... (Своим голосом.) Небось громко выпалишь? Во всю ивановскую? (Тонко.) Во всю ивановскую... (Своим голосом.) Ах ты дурашка, мамочка моя... Ну, ложись, спи... (Целует пистолет и прячет в чемодан.) Как только услышу «да, виновен», тотчас же – трах себе в лоб и шабаш... (12; 223–224). Рассказ 1884 года невозможно назвать уголовной прозой, но он имеет некоторые ее формальные признаки. Это и характерный подзаголовок «Рассказ подсудимого», и сюжетная ситуация дорожной встречи с преступником накануне суда. Однако эти приемы не работают в чеховском тексте – автор выбрал форму анекдотической новеллы с неожиданным поворотом в финале. Трансформировав рассказ в пьесу, он усилил комические элементы, устранил возможность отождествления героя и реципиента и окончательно отодвинул на дальний план уголовную тематику произведения. Похожим образом Чехов совмещает жанры и в рассказе «Случай из судебной практики» (1883): уголовный сюжет является только мотивировкой анекдота с пуантом в конце. Правда, среди прочего писатель здесь иронизирует над склонностью массовых литераторов к изображению преступника как раскаявшегося грешника. Серьезное преображение уголовная тема претерпевает в ранних текстах, посвященных церковным праздникам, – рассказах «Верба» (приуроченный к Вербному воскресенью) и «Вор» (пасхальном). Рассказ «Верба» (1883) имеет необычную повествовательную структуру. Начало его подобно знаменитому началу «Палаты № повествователь здесь напрямую обращается к своему читателю: Кто ездил по почтовому тракту между Б. и Т.? 6»: всеведущий 96 Кто ездил, тот, конечно, помнит и Андреевскую мельницу, одиноко стоящую на берегу речки Козявки. Мельница маленькая, в два постава <…> старушонка давно бы свалилась, если бы она не облокачивалась о старую, широкую вербу <… > Всуньте руку в дупло, и ваша рука увязнет в черном меду. Дикие пчелы зажужжат около вашей головы и зажалят. Сколько ей лет? Архип, ее приятель, говорит, что она была старой еще и тогда, когда он служил у барина во «французах», а потом у барыни в «неграх»; а это было слишком давно. Верба подпирает и другую развалину – старика Архипа, который, сидя у ее корня, от зари до зари удит рыбку. Он стар, горбат, как верба, и беззубый рот его похож на дупло. Днем он удит, а ночью сидит у корня и думает. Оба, старуха-верба и Архип, день и ночь шепчут... Оба на своем веку видывали виды. Послушайте их... (2; 102). За счет этого обращения и почти эпического дистанцирования событий рассказ приобретает особую интонацию, сопоставимую с интонацией притчи. Такую ориентированность на читателя-«слушателя» В.И. Тюпа называет характерной чертой чеховской прозы147. В «Вербе» очевидным образом наблюдается совмещение анекдотических и притчевых элементов, рассматриваемых исследователем. Писатель словно совместил два разных рассказа, два разных художественных мира, две разные повествовательные традиции. Один мир – древность, лежащая вне времени и вне пространства. Он лишь волею случая пересекается с нашей реальностью, но при этом не имеет конкретных координат148 – он находится где-то на почтовом тракте между городами Б. и Т. В нем существуют Архип и его верба. В этом мире время циклично, один день похож на другой: «Когда тень вербы начинала отходить от того берега, наступал полдень. Время Архип узнавал еще и по почтовым звонкам. Ровно в полдень через плотину проезжала Т–я почта» (2; 102–103). И только 147 См.: Тюпа В.И. Художественность чеховского рассказа. С. 17. Л.Г. Петракова по этому поводу замечает: «Упоминание двух топонимов – Андреевской мельницы и речки Козявки – встречается в самом начале рассказа и придает хронотопу конкретность, которая по мере развития сюжетного действия преодолевается» (См.: Петракова Л.Г. Поэтика рассказа А.П. Чехова «Верба» // Малые жанры: теория и история. Иваново, 2006. С. 103). Однако, как нам представляется, за счет пересечения двух хронотопов и чередования двух разных повествовательных принципов эта конкретность размывается уже в самом начале текста. 148 97 случай – «нечто необыкновенное» (2; 103) – может нарушить покой этого мира. Этим случаем становится вторжение в «древность» реальности современной, насыщенной событиями, происшествиями, текучим временем. Интересно, что в отличие, например, от «сумеречного» рассказа «Мечты», подробно проанализированного И.Э. Васильевой149, в «Вербе» наблюдается пересечение не двух коммуникативных уровней: слова героя, опровергаемого реальностью текста, и слова повествователя, в котором реализуется фантазия персонажа, – а двух разновидностей слова нарратора. Структура повествования здесь в чем-то напоминает сложную коммуникативную структуру, реализованную автором в повести «Степь»150, однако между ними имеются и принципиальные различия. Как и в «Степи», в «Вербе» амбивалентными понятиями являются вымысел и действительность – одно то и дело приобретает свойства другого. Художественный мир текста, разрываемый полюсами событийности и статики, принципиально нестабилен, и в первую очередь это воздействует на состояние героев. Для них как нельзя более актуальной оказывается оппозиция «казалось – оказалось», причем один и тот же человек может испытать этот ментальный переворот не раз. Первое потрясение старого Архипа связано с нарушением циклического – неподвижного – времени, то есть с убийством почтальона. Сцена дается остраненно, глазами персонажа. Происходящее описано без указания на звук, читателю дается только «картинка». Это имеет рациональное объяснение (Архип сидит в отдалении, звук до него не доносится) и в то же самое время производит впечатление, что действия ямщика непонятны герою, они не соответствуют миропорядку, в котором он существует: «…ямщик оглянулся, беспокойно задвигался, сдернул с лица почтальона платок и взмахнул кистенем. Почтальон не пошевельнулся. На его белокурой голове зазияло багровое пятно. Ямщик соскочил с телеги и, размахнувшись, нанес другой удар» (2; 103). Именно появление чужеродного звука знаменует резкую перемену в тексте: сначала Архип 149 См.: Васильева И.Э. «Поиски слова» в «переходную эпоху»: стратегия повествования В.М. Гаршина и А.П. Чехова. Дисс. … канд. филол. наук. С. 104–158. 150 См.: Васильева И.Э. Стратегия вымысла и проблемы коммуникации (повесть А.П. Чехова «Степь») // Проблемы нарратологии и опыт формализма / структурализма. СПб., 2008. С. 326–354. 98 слышит шаги убийцы, прячущего добычу в дупле, а затем слово «Караул!», многократно повторенное эхом. Изменение миропорядка приводит к изменению места – старик идет в город. Смена локуса на уровне художественного мира знаменует смену мироустройства (в отличие от статичного «мифологического» пространства, где старик удит рыбу, город – пространство динамики и сиюминутности), а на уровне повествуемой истории – смену жанра (притча сменяется новеллой). Старик, безусловно, надеется на результативность своих действий, которые должны вернуть ему потерянный покой. Однако оказывается, что по законам социального анекдота, хорошо известным массовому читателю, эта результативность не может быть достигнута. Ситуация повторяется в конце рассказа, когда, подобно житийному кающемуся грешнику, к Архипу приходит ямщик, однако и его поход в город, чтобы признаться в совершенном, не может увенчаться успехом. Таким образом, описать событийную структуру рассказа оказывается довольно трудно. Повторы ситуаций, пересечение пространственных, жанровых и дискурсивных границ в обе стороны, безрезультатность действий – все это не дает возможности для полноценной реализации события в рамках художественного мира, и поэтому оно осуществляется на уровне коммуникации «произведение – читатель». Притчевый регистр, которым замыкается текст, имеет две важные и в чем-то противоречащие друг другу установки: хотя в притче нет явной формулы, существуют определенные правила, по которым она строится. При этом для адекватного восприятия притчи читателю необходимо погрузиться в нее, иначе говоря – поверить. Эти черты на самом деле характерны и для новеллы, и для массовой литературы в целом, поэтому совмещение таких казалось бы противоречивых жанров, как анекдот и притча, оказывается возможным. Их главное различие, на котором и строится рассказ, также осознается реципиентом: при том, что своей задачей притча видит урок настоящему, она обращена в прошлое, застывшее в некоем внеисторическом моменте; анекдот же предельно 99 сиюминутен151. В «Вербе» пересечение этих жанровых дискурсов приводит к тому, что вечность оказывается пронзенной сиюминутностью. При этом притчевый жанр все же «помнит» об анекдоте, ведь, по сути, в основе «застывшей» притчевой истории тоже лежит некий случай. И то, что реальность анекдота оказывается бессобытийностью, придает вечности притчи трагический оттенок. Жанр, который должен способствовать исправлению мира, сталкивается с тем, что в жизни царит статичность, причем негативная – дурная бесконечность, переливание из пустого в порожнее. И ничто – ни смерть, ни благородный жест – не могут этого изменить. Строение рассказа убедительно показывает, что в нем нет нарочитой назидательности – в этом его отличие от притчи. Текст воздействует на читателя с помощью особого использования слова, сочетания жанровых клише и их трансформации. Еще один календарный рассказ, затрагивающий тему преступления и наказания, – «Вор» (1883). Главный герой – ссыльный Федор Степанович, интеллигентный человек, попавший в Сибирь за воровство. Ему отчаянно не хватает общения, человеческого участия, он скучает по прежней жизни – и его грусть только усиливается в день Пасхи. Этот рассказ можно считать своеобразным «дублем» к чеховским «Мечтам» – герои обоих текстов страстно желают перенестись в далекое и прекрасное пространство. Бродяга хочет попасть в Сибирь и начать новую жизнь, Федор Степанович – сбежать из Сибири и вернуть жизнь прежнюю. О каждом из них почти ничего не известно, кроме того, что они отчасти «без вины виноватые» и несут наказание за преступные помыслы других. Собственно, само преступление уходит на второй план – для писателя важнее показать переворот, происходящий внутри этих людей. Обращение к внутреннему миру преступника – не новый прием в русской литературе, более того, он был весьма распространен в уголовной прозе. Обычно погружение в душу персонажа выражалось в форме исповеди или покаяния и 151 Так, притча обладает «вечным» смыслом, а анекдот может устареть, выйти из моды, быть непонятным реципиенту иной эпохи. 100 занимало большую часть «детективной» истории. Однако, даже если рассказчиком выступал обличитель (сыщик) или в произведении было представлено третьеличное повествование, авторы не обходили стороной психологию героя, пытались показать его чувства и переживания, объяснить эмоции, которыми он руководствовался, когда преступал закон. В этом смысле очевидна связь популярных уголовных романов с «Преступлением и наказанием» Ф.М. Достоевского. Кроме того, хотя в «Воре» отсутствует собственно криминальный сюжет, можно выявить еще одну деталь, связывающую его с уголовной прозой, а точнее с «Драмой на охоте» – чеховским «уголовным романом». Вставная история в «Драме на охоте» начинается с крика попугая: «Муж убил свою жену!» (3; 246). Эта же фраза становится последней в жизни «крикуна». Напомнив судебному следователю о совершенном убийстве, попугай выводит его из себя, и тот в порыве гнева убивает птицу: Эта была последняя его фраза... Закрыв в малодушном страхе глаза, я нащупал в темноте клетку и швырнул ее в угол... – Черти бы тебя взяли! – крикнул я, услышав звон клетки и писк попугая... Бедная, благородная птица! Полет в угол не обошелся ему даром... На другой день его клетка содержала в себе холодный труп. За что я убил его? Если его любимая фраза о муже, убившем свою жену, напомн ....... Мать моего предшественника… уступая мне квартиру, взяла с меня деньги за всю обстановку <…> Накануне своего отъезда в Финляндию она всю ночь прощалась со своей благородной птицей <…> Я убил птицу. Воображаю, что сказала бы старуха, если бы узнала о судьбе своего крикуна! (3; 364–365). Этот эпизод очень напоминает фрагмент из рассказа «Вор», написанного годом ранее: 101 Над его кроватью висела клетка с птицей. Та и другая принадлежали хозяину. Птица какая-то странная, с длинным носом, тощая, ему неизвестная <…> «Спать не дает! – подумал Федор Степаныч. – Чёррт...» <…> – Ты не перестанешь? Не замолчишь? Тебя еще недоставало! Федор Степаныч вскочил, рванул с остервенением клетку и швырнул ее в угол. Птица замолчала. <…> – Ты за што это тварь убил, душегубец? – услышал он под утро. Федор Степаныч раскрыл глаза и увидел пред собой хозяина-раскольника, юродивого старца. (2; 109). Эпизод с птицей, герои, совершившие преступление из-за любви, образ ветреной и жадной девушки Ольги – все эти детали говорят о связи двух произведений. Таким образом, уголовная проза сближается с пасхальным рассказом. В подобном сближении, однако, нет ничего парадоксального, потому что у этих жанров есть общий сюжетный элемент, по всей видимости, восходящий к кризисному житию: очень часто их героями оказываются раскаявшиеся грешники; поэтому рассказ «Верба» также оказывается органично вписанным в эту систему. Рассказ «Вор», однако, интересен еще одним жанровым сближением. Пасхальный текст здесь переплетается с анекдотической новеллой в духе Чехонте. Пасхальный рассказ – это произведение о духовном пробуждении или воскресении. В чеховском варианте – это понимание героем какой-то жизненной истины по принципу «казалось – оказалось», и в данном случае оно выражено в последних строках рассказа: До самого вечера шатался ссыльный по городу и искал квартиры. Дождь лил весь день, и не показывалось солнце. 102 «Неужели эти звери могут жить без солнца? – думал он, меся ногами жидкий снег. – Веселы, довольны без солнца! Впрочем, у них свой вкус» (2; 110). Однако на самом деле в конце повествования присутствуют два пуанта, каждый из которых относится к «своей» жанровой традиции. Так, приезд Ольги в Сибирь и то, что она предпочитает главному герою богатого Барабаева – сюжетный поворот, характерный для новеллы152. А история о внутреннем преображении персонажа отсылает к жанру пасхального рассказа. И хотя эти линии в тексте взаимосвязаны, они отвечают за создание разного настроения, и пасхальным рассказ становится за счет того, что в нем «действительность изображается через восприятие героя и этот принцип выдержан на протяжении всего рассказа» (2; 500). Благодаря присутствию новеллистической сюжетной линии в рассказе появляется двойная перспектива: читатель видит происходящее одновременно со стороны и с точки зрения главного героя (возможно, поэтому Чехов не использовал здесь повествование от первого лица). Этот прием помогает оттенить внутреннее изменение Федора Степановича: от мыслей частных (воспоминания о прежней жизни) он переходят к более общим размышлениям. Ему становится очевидно, что причина его одиночества не в том, что он находится в чуждом ему месте, а в том, что он оказался никому не нужным. Разницы между поселением в Сибири и большим городом по сути нет: нравы в них царят одинаковые, и люди так же разобщены, они преследуют выгоду, и им нет дела до других. В мире есть только дождь, а тепла («солнца») нет, и его никто не ищет. Таким образом, связанные с Пасхой рассказы «Верба» и «Вор» повествуют не столько о духовном преображении персонажей, их «воскресении», сколько об их одиночестве. Художественный мир этих текстов оказывается, с одной стороны, раздираем противоречиями (это выражается в выборе разнонаправленных повествовательных традиций, ориентировании на разные жанры, отображении 152 Новеллистический «сюжет» этого текста соотносится с рассказом «Исповедь» (1883), который выглядит почти как предыстория «Вора» и тоже отсылает к исповедям из уголовных романов. Парным текстом к «Исповеди» можно считать юмореску «Единственное средство» (1883), где история о кассире-воре рассказывается с точки зрения его начальства. 103 разных точек зрения, противопоставлении хронотопов в рамках одного текста), а с другой стороны – удивительно статичен и единообразен и недружелюбен по отношению к человеку. Для уголовной прозы, на которую в определенной степени ориентируется здесь Чехов, характерно обращение к исповеди персонажа, его анализу собственных поступков, попытке что-то изменить, восстановить справедливость – делом или признанием. Так, старик из «Вербы» относит украденную сумку в полицию, убийца хочет отдать себя в руки правосудия, а затем кончает жизнь самоубийством. Федор Степанович стремится наладить контакт с миром, превратить свою жизнь сибирского поселенца в жизнь обыкновенного человека, но это ему не удается. Момент самоанализа, раскаяния играет роль того духовного преображения, которым должен завершаться пасхальный рассказ. Однако Чехов трансформирует этот жанровый элемент: единение с миром невозможно, более того, на фоне поступков других персонажей главные герои вовсе не выглядят злодеями. В некотором смысле они меняют свое «амплуа» и превращаются в жертв. Отчасти это преображение мотивировано активизацией одного из наиболее характерных для популярной литературе свойств – мелодраматизма. 2.2.3. Мелодрама и мелодраматизм в ранней прозе Чехова Мелодраматизм как теоретическая проблема Мелодрама является, пожалуй, одним из самых интересных жанров массовой литературы. За время своего развития она успела преодолеть границы изначально присущего ей драматического рода и теперь воспринимается как понятие не только межродовое, но и трансжанровое 153. Т.И. Вознесенская говорит о ее родстве с готическим романом и волшебной сказкой 154. Мелодраму связывают 153 154 См.: напр.: Медарич М. Мелодраматизм в русском романе ХХ века // Russian Literature. XXVII. 1990. P. 41–52. Вознесенская Т.И. Литературно-драматический жанр мелодрамы. Конспект лекций. М., 1996. С. 14–16. 104 с творческими принципами писателей-романтиков 155, поэтикой городского фольклора156. Элементы, которые в совокупности дают формулу этого популярного жанра, широко распространены как в классике, так и в беллетристике 157. Пронизывающий, по сути, всю систему литературы мелодраматизм понимается современными исследователями как свойство художественного текста, которое призвано отвечать за контакт читателя и произведения, обеспечить наиболее сильное воздействие на реципиента. Э. Бентли сравнивает впечатление зрителя (читателя) от мелодрамы с переживанием катарсиса, в том смысле, что произведения этого жанра должны заставить реципиента испытывать жалость к герою, которая, благодаря механизму вчувствования, превращается в жалость к себе, и страх перед злодеем 158. По мысли исследователя, мелодрама выполняет важнейшую задачу – она помогает человеку осознать его эмоции, вытесненные под давлением общественных норм: …цивилизация предписывает нам скрывать свои чувства и даже обучает нас искусству прятать их. Проявления тех чувств, которые нам скрыть не удается, мы стараемся свести до минимума, чтобы эти чувства выглядели бледной тенью самих себя <…> мелодраме свойственно не столько преувеличение, сколько изображение свободно выражаемых чувств159. Взятый в таком ракурсе мелодраматизм становится неотъемлемым свойством художественного текста вообще и особенно литературы, понятой сквозь призму психологии и психоанализа. В частности, З. Фрейд, рассуждая о 155 См.: Крутоус В.П. О «мелодраматическом» // Вопросы философии. № 5. 1981. С. 133; Степанов А.Д. Психология мелодрамы. С. 43. 156 Поддубная Е.Я. Жанрово-стилевые особенности русской мелодрамы XIX– начала ХХ веков // Проблемы стиля и жанра в русской литературе XIX-ХХ веков. Свердловск:, 1986. С. 85. 157 Элементы мелодрамы были подробно рассмотрены С.Д. Балухатым (см.: Балухатый С.Д. Поэтика мелодрамы // Балухатый С.Д. Вопросы поэтики. Л., 1990. С. 30–83). См. также: Вознесенская Т.И. Художественные принципы мелодрамы // К 60-летию профессора Анны Ивановны Журавлевой: Сб. статей. М., 1998. С. 71–90; Степанов А.Д. Психология мелодрамы. С. 38–55; Шахматова Т.С. Традиции водевиля и мелодрамы в русской драматургии XX – начала XXI веков. Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Казань, 2009. 25 с. 158 Бентли Э. Жизнь драмы. М., 2004. С. 231. 159 Там же. С. 235–237. 105 воздействии литературы на читателя, писал: «…поэт повергает нас в состояние, в котором мы без всякого стыда и упрека можем наслаждаться собственными фантазиями»160. Интересно, что Т. И. Вознесенская связывает воздействие, оказываемое мелодрамой на реципиента, с обращением этого жанра к особым «архетипам»: …тайна воздействия мелодрамы на зрителя, ее не сравнимая с другими жанрами эффективность, причина которой и в яркой театральности, и в ясной моральной заданности, объясняется также и очень глубокими корнями жанра, уводящими к фольклорно-мифологическим основам сознания161. Вероятно, столь широкая трактовка рассматриваемой категории связана не только с удивительной востребованностью мелодрамы на протяжении долгого времени, но и с тем, что ее жанровые особенности позволяют с большой долей точности выстроить ее «морфологию». Приложенная к разнообразным текстам, эта морфология становится инструментом, позволяющим выявить и объяснить рецептивные характеристики произведения. Например, проанализировав структурные элементы рассматриваемого жанра и мелодраматические приемы, Т.И. Вознесенская делает вывод о том, что …принципы мелодрамы воплощают на разных уровнях драматической структуры ее идейную сущность – демонстрацию простого и ясного, гармонизированного «правильного мира». Такая картина мира сильнее всего способна воздействовать на зрителя, который своими боками чувствует все угловатости и несовершенства бытия, но не может осознать их социально-историческую и онтологическисущностную основу162. 160 Фрейд З. Поэт и фантазия // Вопросы литературы. 1990. № 8. С. 166. Вознесенская Т.И. Литературно-драматический жанр мелодрамы. С. 16. 162 Вознесенская Т.И. Художественные принципы мелодрамы. С. 90. 161 106 И тем не менее практически все исследователи сходятся в том, что по какимто причинам мелодраму невозможно поставить в один ряд с «высокими» жанрами, и, как следствие, мелодраматизм всегда привносит в текст черты популярной литературы163. Так, очевидным кажется, что адекватно воспринимать мелодраму может только определенным образом настроенный реципиент. По мнению А.Д. Степанова, «эффект мелодрамы – эффект узнавания (вспоминания) себя. Поэтому существует лишь одно условие ее безусловного воздействия: зритель должен принимать ее всерьез. В идеале это должен быть зритель, не понимающий разницы театра и жизни, героев и живых людей, зритель, способный выстрелить в актера»164. Наивный читатель (или зритель) «несет с собой сочувствие к простому человеку, к “униженным и оскорбленным” и жажду – пусть наивную – немедленного торжества справедливости»165. В работе С.Д. Балухатого высказана мысль о том, что чистая мелодрама будет воздействовать только на «примитивных» зрителей («круг зрителей с открытыми для эффективных переживаний, готовыми переживать сердцами <…> приходящих в волнение от соприкосновения с простейшими, но усиленными лишь в степени выражения, элементами художественности»166). Для реципиента более искушенного необходима «маскировка» мелодраматических приемов в сложной структуре художественного текста: …маскировка мелодраматических основ в пьесе предназначается для зрителя с «закрытыми» чувствами, для зрителя не примитивного, легко возбудимого простейшими эмоциями, в простейших формах явленными, но для зрителя утонченного, на которого не действуют прямые удары экспрессии и в котором вибрации чувства надо вызывать средствами уже сложными. В этом случае лишь в процессе одновременного восприятия различных закономерно координированных зон и стихий слова, в сложной системе компоновки ряда словесно означаемых 163 «Мелодрама выражает важные свойства человеческой природы, но ей не хватает зрелости. При богатстве воображения ей не хватает интеллекта» (Бентли Э. Жизнь драмы. С. 248.) 164 Степанов А.Д. Психология мелодрамы. С. 55. 165 Крутоус В.П. О «мелодраматическом». С. 132. 166 Балухатый С.Д. Указ. соч. С. 77. 107 элементов… достигается эффект художественного воздействия драматического искусства167. Такой «примитивный», наивный или «мелодраматический» реципиент по сути представляет собой массового читателя (зрителя). Поэтому явление мелодраматизма можно считать общим для всех популярных жанров, а не литературы вообще. Использование приемов мелодрамы в серьезных произведениях является авторской игрой с читателем, одним из способов сложной организации художественного целого, тогда как в популярной литературе их появление неизбежно. Так, по словам Т.С. Шахматовой, <р>ецепция мелодрамы связана, с одной стороны, с ироничным отношением к преувеличенным эффектам «дешевой театральности». С другой – с эмоциональной доверчивостью, основанной на фундаментальных качествах человеческой психики: жалость к «жертве», страх незащищенности перед судьбой168. Данное утверждение по большому счету повторяет то, что Дж.Г. Кавелти определяет как признаки популярной литературы вообще: массовая аудитория знает о «легкости» предлагаемого ей текста, и поэтому автор, отвечая на ее запрос, должен создать знакомую историю, не забывая при этом добавить в нее какие-то новые элементы. Популярное искусство рефлексивно по своей сути, оно всегда озабочено вопросами обновления и устаревания формы, всегда находится в поиске новых приемов, стараясь всеми средствами заинтересовать видавшую виды публику, предложив ей новую версию старой истории. 167 168 Балухатый С.Д. Указ. соч. С. 78–79. Шахматова Т.С. Указ. соч. С. 13. 108 Функционирование мелодраматических элементов в рассказах Чехова 1880–1884 годов Учитывая сказанное выше, нельзя не признать, что мелодраматические элементы очень важны для поэтики Чехова, активно работавшего с литературными приемами массовых жанров. Как отмечает В.Б. Катаев, …удивительно не то, что молодой автор использовал эффектные приемы современного ему театра, а то, какое ограниченное, периферийное место заняли они в его первой пьесе <...> Чехов рано и быстро избавился от подчинения такой влиятельной силе современного театра, как мелодрама. Большинство искусственных театральных приемов и уловок он сразу и навсегда оставил в стороне169. Трансформация популярных приемов в «Безотцовщине» и внимание, которое писатель уделял мелодраматическим клише170 в позднем творчестве, позволяют с уверенностью говорить о том, что мелодрама, так сильно повлиявшая на чеховскую драматургию, не могла не оказать воздействия на его прозу. Это тем более очевидно, если принимать во внимание своеобразную «синкретичность» «малой прессы», для которой характерно соединение элементов разных жанров и даже родов в рамках одного текста. Так, можно вспомнить о востребованном в конце XIX века жанре сценки – прозаического произведения, стремящегося к драматической форме. В этом смысле неудивительно, что рассказ «Ночь перед судом» Чехов впоследствии попытался переделать в водевиль – мелодраматические ситуации, заложенные в нем, с одинаковым успехом могли быть реализованы как анекдоте, так и в смешной пьесе 171. 169 Катаев В.Б. Литературные связи Чехова. М., 1989. С. 120–121. См.: Кузнецов И. Мелодраматические клише в драматургии Чехова и Зудермана // Чехов и Германия. М., 1996. С. 61–70. 171 Ср.: «…мелодрама – это грустный водевиль, а водевиль – веселая мелодрама» (Шахматова Т.С. Традиции водевиля и мелодрамы… С. 8). 170 109 В исследованиях о Чехове часто замечают, что писатель «уже в ранней прозе <…> сопротивляется инерции жанра мелодрамы» 172, однако, если понимать мелодраматизм как неотъемлемый элемент популярной литературы, это «сопротивление» можно, кроме всего прочего, рассматривать как стремление к остранению приема, имеющее целью привлечь внимание читателя к изменению привычной формы. Функционирование мелодраматических элементов в прозе отличается от того, как они проявляют себя в драме. Несмотря на то, что театр позволяет максимально устранить дистанцию между зрителем и сценическим действом, прозаическая реализация мелодрамы может сильнее захватывать реципиента. Дело в мелодраматическом преувеличении – эффектных приемах, которые на сцене выглядят не слишком естественными, а в воображении читателя могут реализоваться вполне гармонично. Как справедливо замечает Э. Бентли, …наиболее яркие образы демонических злодеев были созданы не драматургами, а романистами. Сценические злодеи, несмотря на их репутацию, все-таки не выглядят чудовищными исчадиями ада. Если их страшные угрозы кажутся только смешными, то происходит это потому, что вся их инфернальность лежит на поверхности. Право же, злодей не должен слишком усердствовать в своем злодействе173. Кроме того, проза создает посредника между реципиентом и художественным миром – повествователя, который способен вставать на точку зрения того или иного героя, информировать читателя о происходящих событиях или не сообщать о них, вставать на внешнюю по отношению к героям позицию и иронизировать над ними. Все это особенно характерно для зеркального двойника мелодрамы – водевиля. По словам Ю. В. Калининой, 172 Шахматова Т.С. Мелодраматизм в жизни или мелодраматизм взгляда на жизнь? (О тональности поздних пьес А.П. Чехова) // Проблемы художественного миромоделирования в русской литературе. Вып. 6. Благовещенск, 2006. С. 120. 173 Бентли Э. Указ. соч. С. 232. 110 …основная эстетическая установка жанра – создание стремительно развивающихся ярких комических ситуаций. Эта установка, определяющая в водевиле тему, сюжет и композицию, координирующая характеры и их поведение, часто реализуется в водевиле в форме пародии и «самопародии», проявляется в игровой стихии. Водевиль отличается вниманием к игровому поведению человека, связанному с состязанием, мистификацией, нарочитой или невольной, примериванием «маски»174. В ранней чеховской прозе «самопародия» превращается в иронию субъективного повествователя. Удачным примером может послужить рассказ «Скверная история» (1882). Повествователь в этом тексте иронизирует как над жанром мелодрамы, так и над литературными клише вообще: Но всему на этом свете бывает конец. Будет конец и этой повести. Кончилась и неопределенность отношений художника с Лелей. Развязка романа произошла в середине июня. Был тихий вечер. В воздухе пахло. Соловей пел во всю ивановскую. Деревья шептались. В воздухе, выражаясь длинным языком российских беллетристов, висела нега... Луна, разумеется, тоже была. Для полноты райской поэзии не хватало только г. Фета, который, стоя за кустом, во всеуслышание читал бы свои пленительные стихи (1; 220). Повествователь намеренно открывает читателю мысли героини и скрывает внутренний мир героя. Женская точка зрения позволяет перевести сюжет в «мелодраматический», сконцентрировав внимание реципиента на проблеме «несчастной любви» и неизвестного непреодолимого препятствия, судьбы, не позволяющей героине достичь желаемого. Однако остранение, обусловленное ироническим тоном повествователя, замещает «женскую» точку зрения «мужской» (об этом говорят интонации, выбор слов, сарказм, подпись «Антоша 174 Калинина Ю.В. Русский водевиль и одноактная драматургия А.П. Чехова. Автореф. дисс. …. канд. филол. наук. Ульяновск, 1991. С. 6–7. 111 Чехонте»)175. Комический по своей сути рассказ завершается анекдотическим пуантом qui pro quo или реализованной юмористически ситуацией «казалось – оказалось» (В.Б. Катаев), нарушая ожидания героини и – отчасти – читателя. В раннем творчестве писателя можно обнаружить рассказы со сходным сюжетом, но иной формой повествования. Например, рассказ «Из дневника одной девицы» (1883), в котором речь также идет о разочаровании романтически настроенной героини, которая приняла полицейского шпика, выслеживавшего ее брата, за своего тайного поклонника. Текст написан в форме дневника героини, читателю открыты все ее мысли и чувства, тогда как герой подается только с внешней точки зрения (читатель видит его глазами барышни, наблюдающей за ним из окна). Это подготавливает неожиданный финал, анекдотический пуант, когда героиня и читатель понимают, что таинственный незнакомец на самом деле является вовсе не тем, за кого его принимали. При этом читатель не должен чувствовать себя полностью отождествленным с героиней, как бы к тому ни располагала выбранная автором форма, иначе финал вызовет не смех, а разочарование – ведь именно это чувство испытывает девица. В «Скверной истории» дистанция между героиней и реципиентом устанавливалась благодаря иронии субъективного повествователя, но в данном случае повествователь «устранен» из текста, его действия ограничиваются отбором элементов – он задает рамки текста, отвечает за границы отрывка, «вырезанного» из дневника. Ирония же проявляется как минус-прием – слово повествователя оказывается ненужным, так как речь героини смешна сама по себе. Например: «Сестра Варя говорит, что он в нее влюблен и что ради нее мокнет на дожде. Как она неразвита! Ну, разве может брюнет любить брюнетку?» (2; 267. Курсив Чехова. – К. О.) Или: «Сегодня он остановил городового и долго говорил ему что-то, показывая на наши окна. Интригу затевает! Подкупает, должно быть… Тираны и деспоты вы, мужчины, но как вы хитры и прекрасны!» (2; 267. Курсив Чехова. – К. О.) 175 Интересно отметить, что при смене повествовательной структуры сюжет рассказа, фабула рассказа, взятая в упрощенном виде, напоминает фабулу, реализованную в «Доме с мезонином»: несчастная любовь непонятого художника, праздная жизнь во флигеле, расставание в конце и т.п. 112 Лексика героини комична, речь ее наполнена стилистическими перебоями, пафос здесь смешивается с просторечием. Мелодраматизм в рассказе существует только как фон, контрастный по отношению к реальности текста. Романтически настроенной девице, безусловно, далеко до мелодраматических героинь, да и сюжет о несчастной любви, бегстве, трагическом нарушении спокойного хода жизни не реализуется в рамках текста. Таинственный незнакомец оказывается «не прочь, только после» (2; 267) – барышня не отвергнута. И даже разочарование в «статном брюнете с глубокими черными глазами» (2; 267) не становится для нее трагедией, в конце рассказа девица пишет: «Скотина… Показала ему язык» (2; 267). Чехов не раз использовал подобный сюжет, построенный на обманутых ожиданиях героев, внося в него некоторые изменения. Особенно интересными в данном случае являются изменения на уровне повествования. Так, сюжетная схема, лежащая в основе «Скверной истории», воспроизводится в рассказе «Дочь коммерции советника» (1883), но рассказчик в данном случае – мужчина176. Мужская точка злободневной зрения позволяет проблематикой: разнообразить героиня привлекает водевильную рассказчика фабулу своей «недюжинной натурой», ему кажется, что девушка разделяет его политические убеждения. Однако выясняется, что она читает «Гражданина» и намеревается «спасти» своего поклонника от губительных «заблуждений». Ситуация любовного свидания («Будьте сегодня в десять часов в мраморной беседке… Умоляю вас! Я вам все скажу!» – 2; 257) оборачивается идеологическим диспутом, а героиня («Она прекрасна, глядит, как Диана, и вечно молчит» – 2; 256) теряет свою прелесть в глазах рассказчика («Одна во всем Лохмотьевском уезде недюжинная натура, да и та… и та дура!» – 2; 258). Как и в рассказах «Скверная история» и «Из дневника одной девицы», здесь тоже присутствует ирония повествователя, она выражается в речи рассказчика. Повествователь в данном случае является писателем: он иронически заявляет: «Состояние нажил я литературой» (2; 257). 176 Форма, использованная Чеховым в «Дневнике одной девицы», появляется в другом «дневниковом» рассказе – «Двадцать шесть» (1883), с заменой точки зрения на мужскую. 113 Собственное описание он словно составляет из литературных штампов: «Я – к чему скромничать? – обаятельный мужчина. Рослый, статный, с черной, как смоль, бородой… В голубых глазах и на смуглом лице сквозит разочарованность. И кроме всего этого, я богат» (2; 257). Очевидная ирония над собой как над героем разворачивающейся истории (а также над литературными клише и образом сочинителя) появляется и в следующем его рассуждении: В десятом часу я уже сидел в беседке и умирал от ожидания. В моей голове и в груди шумела буря. В сладкой, мучительной истоме закрывал я глаза и во мраке своих орбит видел Зину... Рядом с ней во мраке торчала почему-то и одна ехидная картинка, виденная мной в каком-то журнале: высокая рожь, дамская шляпка, зонт, палка, цилиндр... Да не осудит читатель меня за эту картинку! Не у одного только меня такая клубничная душа. Я знаю одного поэта-лирика, который облизывается и причмокивает губами всякий раз, когда к нему, вдохновенному, является муза... Ежели поэт позволяет себе такие вольности, то нам, прозаикам, и подавно простительно (2; 257). Образ рассказчика совмещает в себе две точки зрения: героя и создателя произведения. Его рефлексия на предмет фикциональной природы текста подтверждается также отсылками к русской классике. Сюжет рассказа отчасти рифмуется с сюжетом грибоедовского «Горя от ума», особенно в финальной сцене. Грибоедов: Вон из Москвы! сюда я больше не ездок. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, Где оскорбленному есть чувству уголок!.. Карету мне, карету!177 Чехов: 177 Грибоедов А.С. Полное собрание сочинений: В 3 т. Т. 1. Горе от ума. СПб., 1995. С. 122. 114 — Батюшки! — воскликнул я. — Одна во всем Лохмотьевском уезде недюжинная натура, да и та... и та дура! Боже мой! Через десять минут я уже сидел в бричке и катил к себе домой (2; 258). Таким образом, комический эффект в чеховском рассказе оказывается обусловлен нарушением ожидания не столько героя, сколько читателя. Ситуация qui pro quo здесь Мелодраматическая применима ситуация практически любовного ко всем объяснения уровням текста. оборачивается идеологической дискуссией, повествователь оказывается «автором», а сам текст травестирует классический сюжет «Горя от ума». Говоря о литературных реминисценциях в мелодраматической прозе Чехова, нельзя не затронуть тему Достоевского. Отсылки к мелодраматическим эпизодам из его произведений нередко появляются в текстах Антоши Чехонте, и они, безусловно, узнаваемы для читателя. Как мы уже писали, в рассказе «Братец» (1883) в травестированном виде представлен диалог Раскольникова с Дуней о ее замужестве. Другой рассказ – «Слова, слова и слова» (1883) – является очевидной аллюзией на «Записки из подполья» и романы о спасении падших женщин. Эти произведения предстают как фон, героиня сама понимает, что сложившаяся ситуация напоминает сцену из прочитанной когда-то книги: И Катя вдруг остановилась говорить. Сквозь ее мозг молнией пробежал один маленький роман, который она читала когда-то, где-то... Герой этого романа ведет к себе падшую и, наговорив ей с три короба, обращает ее на путь истины, обратив же, делает ее своей подругой... Катя задумалась. Не герой ли подобного романа этот белокурый Груздев? Что-то похоже... Даже очень похоже (2; 115). Резкое отличие литературы от жизни, слова и дела, пожалуй, является основной темой этого далеко не смешного рассказа. Однако именно в сравнении с соответствующим эпизодом «Записок из подполья» эта тема раскрывается наиболее полно. Несмотря на сюжетные несовпадения (истории падения героинь 115 неодинаковы), чеховский текст проникнут атмосферой, характерной для произведений Достоевского. Это заметно даже на уровне хронотопа. У Достоевского: Мокрый снег валил хлопьями; я раскрылся, мне было не до него <…> Пустынные фонари угрюмо мелькали в снежной мгле, как факелы на похоронах. Снег набился мне под шинель, под сюртук, под галстук и там таял; я не закрывался: ведь уж и без того все было потеряно! (Достоевский 5; 151). У Чехова: На дворе был один из самых скверных мартовских вечеров. Тусклые фонарные огни едва освещали грязный, разжиженный снег. Всё было мокро, грязно, серо... Ветер напевал тихо, робко, точно боялся, чтобы ему не запретили петь. Слышалось шлепанье по грязи... Тошнило природу! (2; 113) Описания отличаются друг от друга (так, в одном говорится о метели, в другом – о слабом ветре), но них присутствуют и очевидные сходства. Чехов фокусирует внимание на тех же деталях, что и Достоевский: грязь, снег, ветер, тусклые фонари178. Ощущение тошноты, приписываемое Чеховым природе, в тексте Достоевского принадлежит героям («Это так означало: отвяжись, тошно. Мы замолчали. Бог знает почему я не уходил. Мне самому становилось все тошнее и тоскливее» – Достоевский 5; 153). Обостренные ощущения персонажей Достоевского, их реакции на свет и резкие звуки также в несколько измененной форме находят свое отражение в чеховском рассказе. Достоевский: 178 Можно сравнить роль снежного пейзажа в этих текстах с его функцией в чеховском рассказе «Припадок» (1889). 116 Где-то за перегородкой, как будто от какого-то сильного давления, как будто кто-то душил их, – захрипели часы. После неестественно долгого хрипенья последовал тоненький, гаденький и как-то неожиданно частый звон, – точно ктото вдруг вперед выскочил. Пробило два (Достоевский 5; 152). Чехов: «Катя сделала большие глаза, побледнела и вдруг взвизгнула. В соседнем номере кто-то уронил что-то: испугался, должно быть. Мелкий, истерический плач понесся сквозь все тонкие номерные перегородки» (2; 114). Оба героя пытаются наставить падшую женщину на путь истинный. Герой «Записок из подполья» восклицает: «Очнись, пока время есть. А время-то есть. Ты еще молода, собой хороша; могла бы полюбить, замуж пойти, счастливой быть...» (Достоевский 5; 155). Чеховский Груздев говорит: Послушай, Катя! Не мое это дело, не люблю вмешиваться в чужие дела, но лицо у тебя такое несчастное, что нет сил не вмешаться! Катя, отчего ты не исправишься? Как тебе не стыдно? По всему ведь видно, что ты еще не совсем погибла, что возврат еще возможен... Отчего же ты не постараешься стать на путь истинный? Могла бы, Катя! Лицо у тебя такое хорошее, глаза добрые, грустные... И улыбаешься ты как-то особенно симпатично... (2; 114). Можно сопоставить и действия персонажей. У Достоевского: Она лежала ничком, крепко уткнув лицо в подушку и обхватив ее обеими руками. Ей разрывало грудь. Все молодое тело ее вздрагивало, как в судорогах. Спершиеся в груди рыдания теснили, рвали ее и вдруг воплями, криками вырывались наружу. Тогда еще сильнее приникала она к подушке: ей не хотелось, чтобы кто-нибудь здесь, хоть одна живая душа узнала про ее терзание и слезы. Она кусала подушку, прокусила руку свою в кровь (я видел это потом) или, вцепившись пальцами в свои распутавшиеся косы, так и замирала в усилии, сдерживая дыхание и стискивая зубы <…> Я сел подле нее и взял ее руки; она 117 опомнилась, бросилась ко мне, хотела было обхватить меня, но не посмела и тихо наклонила передо мной голову. – Лиза, друг мой, я напрасно... ты прости меня, – начал было я, – но она сжала в своих пальцах мои руки с такою силою, что я догадался, что не то говорю, и перестал (Достоевский 5; 162). У Чехова: Груздев взял Катю за обе руки и, заглядывая ей сквозь глаза в самую душу, сказал много хороших слов. Говорил он тихо, дрожащим тенором, со слезами на глазах... Его горячее дыхание обдавало всё ее лицо, шею... <…> Через десять минут Катя лежала на диване и рыдала: — Подлая я, гадкая! Хуже всех на свете! Никогда я не исправлюсь, никогда не исправлюсь, никогда не сделаюсь порядочной! Разве я могу? Пошлая! Стыдно тебе, больно? Так тебе и следует, мерзкая! (2; 114) Сходство этих текстов, таким образом, не вызывает сомнения, но между ними есть одно серьезное различие: если Достоевский показывает ситуацию глазами героя, то у Чехова представлена в основном точка зрения героини. Смятение чувств, искренний порыв подпольного человека в чеховском тексте воплощены в образе Кати. В начале рассказа повествователь характеризует героиню иронически, словно бы удивляясь ее близости к книжным падшим женщинам: Катя робко поглядела в глаза Груздеву. Глаза честные, теплые, искренние — так показалось ей. А эти падшие создания так и лезут на честные глаза, лезут и налетают, как мотыльки на огонь. Кашей их не покорми, а только взгляни на них потеплей. Катя, теребя бахрому от скатерти, конфузливо рассказала Груздеву свою жалкую повесть. Повесть надувательство и проч. (2; 113) самая обыкновенная, подлая: он, обещание, 118 Однако дальше практически вся история подается с точки зрения Кати, которая искренне верит в то, что между нею и Груздевым возникло понимание, и начинает надеяться на возможное спасение. Деталью, разрушающей эту иллюзию, оказывается взгляд героя на часы, свидетельствующий о его нетерпении. Фабула рассказа повторяет историю, случившуюся с героем «Записок из подполья» и Лизой (встреча героя с падшей женщиной – откровенный разговор – надежда на спасение – крах надежды). Поданная с точки зрения героини, эта история приобретает очень острое звучание, в ней появляется особого рода катарсичность, присущая мелодраме. Для Лизы развязка оказывается печальной: деньги, врученные ей героем, унижают ее так же, как Катю происходящее в финале чеховского рассказа. Достоевский с присущей ему диалогичностью изображает момент очевидного контакта между персонажами. В случае Чехова этот контакт невозможен, и героиня по принципу «казалось – оказалось» осознает тщетность своих надежд. Воздействие на читателя в данном случае оказывает совмещение Чеховым внутренней точки зрения героини, включение в ее кругозор литературных клише и использование отсылок к тексту Достоевского. Начинаясь с иронии повествователя по отношению к популярному сюжету, рассказ ведет читателя к отождествлению с чувствами героини, все больше наполняясь атмосферой, заимствованной из произведений Достоевского. Финал, ознаменованный событием прозрения, максимально аккумулирует в себе все свойства этой атмосферы. На уровне коммуникации читателя и текста событийной становится невозможность контакта между героями. Катарсическое переживание у Достоевского было основано на том, что в трагической ситуации понимание оказывалось возможным, тогда как у Чехова эта схема работает точно наоборот179. 179 При этом интересно выглядит заглавие чеховского рассказа («Слова, слова, слова»). Слово у Достоевского всегда обладает особым смыслом, тогда как в тексте Чехова этот смысл утрачивается. 119 2.2.4 Ранние чеховские рассказы в контексте календарной прозы Святочный рассказ в раннем творчестве Чехова Со становлением массовой литературы в России конца XIX века очевидным образом связано развитие поэтики календарной словесности. В этот период растет число тонких журналов, которые, «становясь любимым, а зачастую и единственным чтением своей читательской аудитории, не только никогда не игнорируют календарные праздники, но обычно помещают подборку словесного и иллюстративного материала на тему соответствующего праздника» 180. По мнению Е.В. Душечкиной, одной из причин, по которой календарные (в частности, святочные) рассказы органично вошли в состав популярной литературы, оказалось то, что они преподносили читателю интересный, занимательный (в случае со святочными рассказами – «страшный») сюжет и отсылали к фольклорной традиции, то есть сочетали элементы новизны и консервативности181. Одним из самых древних и популярных календарных жанров, функционировавших в среде массовой литературы, по праву считается святочный (рождественский) рассказ182. Кроме балансирования на грани остросюжетности и традиционности, с другими (нефольклорными) популярными жанрами его сближает особая коммуникативная стратегия, сформировавшаяся задолго до появления «малой прессы». Фольклорные тексты, связанные со временем Святок и Рождества, предполагали определенное отношение к ним рассказчика и реципиента. Так, важнейшей …чертой устных святочных историй является их установка на достоверность: истинность происшествия и реальность сверхъестественных 180 Душечкина Е.В. Русский святочный рассказ: становление жанра. СПб., 1995. С. 179. Там же. С. 180. 182 Вслед за Е.В. Душечкиной в рамках диссертационного исследования мы не станем разделять жанры рождественского и святочного рассказа. 181 120 действующих лиц <…> Правда, постепенно время действия таких рассказов стало отодвигаться в прошлое: рассказчики начали говорить об утрате веры «в чертей» и о необходимости этой веры для того, чтобы встреча с ними действительно состоялась <…> Установка былички на достоверность требует от рассказчика простейших приемов верификации: отсылки на собственный опыт, опыт свидетелей и участников события, указания точного места и времени происшествия или же простого утверждения того, что рассказанное – правда… 183 Похожая достоверность является неотъемлемым компонентом популярных текстов. Несмотря на то, что с течением времени святочный рассказ почти полностью утратил связь с устным народным творчеством 184, жанр сохраняет память о тех правилах, по которым изначально строилась его коммуникация с реципиентом, и эти правила оказываются созвучны конвенциям массовой литературы. Подробный анализ русских святочных и рождественских рассказов, проведенный Е.В. Душечкиной, показал, что ранние календарные тексты зимнего цикла, созданные Чеховым, мало чем отличаются от подобных произведений других авторов «малой прессы». В связи с этим необходимо уточнить тезис П.Н. Толстогузова о том, что «Чехов был первым автором в русской (а возможно, и в мировой) литературе, который предпринял попытку художественной дискредитации рождественского рассказа изнутри самого жанра, проверив прочность его опорных мотивов в условиях своего “адогматического” художественного мира»185. Формализация рассматриваемого жанра в конце века привела к тому, что массовая его разновидность оказалась представлена во всех возможных вариациях, художественное новаторство стало возможно только в сфере серьезной литературы или на границе с нею, что отражают чеховские 183 Душечкина Е.В.Указ. соч. С. 35. В этом смысле трудно говорить о «мифореализме» святочных рассказов Чехова (см.: Абрашова Е.А. Мифореализм // Миф – Литература – Мифореставрация. М.; Рязань, 2000. С. 39–43). 185 Толстогузов П.Н. Рождественские рассказы в творчестве Чехова // Изучение поэтики реализма. Вологда, 1990. С. 52. 184 121 рассказы второй половины 1880-х годов («Ванька», «На пути»). Что же касается самых первых чеховских опытов такого типа, то интересной оказывается не только авторская игра с литературными стереотипами, но и то, что Чехов конструирует предельно формализованные тексты из элементов, используемых им в рассказах другой тематики и жанра, либо варьирует одни и те же приемы в святочных и рождественских рассказах, изменяя их функцию. Так, специфический хронотоп «страшного» святочного рассказа пародируется Чеховым в «Кривом зеркале» (1883) и «Страшной ночи» (1884): А ветер выл и стонал. В каминной трубе кто-то плакал, и в этом плаче слышалось отчаяние. Крупные капли дождя стучали в темные, тусклые окна, и их стук наводил тоску <...> Ветер застонал еще жалобней, забегали крысы, в бумагах зашуршали мыши. Волосы мои стали дыбом и зашевелились, когда с окна сорвалась ставня и полетела вниз. В окне показалась луна... («Кривое зеркало»; 1; 478–479) Темная, беспросветная мгла висела над землей, когда я, в ночь под Рождество 1883 года, возвращался к себе домой от ныне умершего друга, у которого все мы тогда засиделись на спиритическом сеансе. Переулки, по которым я проходил, почему-то не были освещены, и мне приходилось пробираться почти ощупью. Жил я в Москве, у Успения-на-Могильцах, в доме чиновника Трупова, стало быть, в одной из самых глухих местностей Арбата. Мысли мои, когда я шел, были тяжелы, гнетущи... («Страшная ночь»; 3; 139). Между тем в первом из процитированных рассказов («Кривое зеркало») воспроизведенным оказывается не столько хронотоп, специфический для святочного рассказа, сколько образ времени и пространства, характерный для готического романа. Как отмечал М.М. Бахтин, готический замок – это 122 …место жизни властелинов феодальной эпохи (следовательно, и исторических фигур прошлого), в нем отложились в зримой форме следы веков и поколений в различных частях его строения, в обстановке, в оружии, в галерее портретов предков, в фамильных архивах, в специфических человеческих отношениях династического преемства, передачи наследственных прав. Наконец, легенды и предания оживляют воспоминаниями прошедших событий все уголки замка и его окрестностей186. Герои «Кривого зеркала» оказываются именно в таком «наполненном историей» месте: Я и жена вошли в гостиную. Там пахло мохом и сыростью. Миллионы крыс и мышей бросились в стороны, когда мы осветили стены, не видавшие света в продолжение целого столетия. Когда мы затворили за собой дверь, пахнул ветер и зашевелил бумагу, стопами лежавшую в углах. Свет упал на эту бумагу, и мы увидели старинные письмена и средневековые изображения. На позеленевших от времени стенах висели портреты предков. Предки глядели надменно, сурово, как будто хотели сказать: — Выпороть бы тебя, братец! (1; 478) По всей видимости, такой «готический» хронотоп используется Чеховым неслучайно. Соединяя этот жанр с традиционным (массовым) святочным рассказом, писатель смещает фокус с сюжета на стиль. Объектом пародии в данном случае выступает, безусловно, не только святочный рассказ, но скорее «страшные» жанры в целом. Появление этого дискурса связано с читательскими ожиданиями – это своего рода собирательный образ остросюжетной литературы, популярных романов, возникающий в сознании массового реципиента, для которого жанр произведения не имеет принципиального значения. Важным для такого читателя оказывается увлекательность текста, насыщенность его неожиданными сюжетными поворотами. Отсюда следует то, что образ читателя 186 Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. С. 394. 123 включается в текст как объект авторской иронии. То же самое можно наблюдать в пародии «Тысяча и одна страсть, или Страшная ночь», в которой Чехов воспроизводит ту же «жуткую» атмосферу, однако вместо привязки к календарному циклу обращает свой рассказ к творчеству Виктора Гюго. Интересно отметить, что в отсылающем к Достоевскому тексте «Слова, слова и слова» Чехов использует хронотоп, напоминающий об описании пространства и времени в «Кривом зеркале» и «Страшной ночи». Несмотря на то, что в рассказе «Слова, слова и слова» изображается мартовский вечер, при описании погоды Чехов обращается к тем же деталям: снег, ветер, грязь, тусклый свет фонарей. Можно говорить о прямой перекличке этого произведения с еще одним святочным рассказом – «Сон» (1885). В «Словах, словах и словах» читаем: «Ветер напевал тихо, робко, точно боялся, чтобы ему не запретили петь. Слышалось шлепанье по грязи... Тошнило природу!» (2; 113). «Сон» начинается так: Бывают погоды, когда зима, словно озлившись на человеческую немощь, призывает к себе на помощь суровую осень и работает с нею сообща. В беспросветном, туманном воздухе кружатся снег и дождь. Ветер, сырой, холодный, пронизывающий, с неистовой злобой стучит в окна и в кровли. Он воет в трубах и плачет в вентиляциях. В темном, как сажа, воздухе висит тоска... Природу мутит... Сыро, холодно и жутко... Точно такая погода была в ночь под Рождество тысяча восемьсот восемьдесят второго года <…> (3; 151). Все упомянутые святочные тексты Чехова имеют сходство с точки зрения повествовательной структуры. В соответствии с заложенной в данном жанре установкой на устный рассказ, они все представляют собой перволичный нарратив, в котором повествователь обращается к аудитории, явленной в произведении эксплицитно. Наиболее очевидна в этом отношении ориентация на 124 жанровый стереотип в «Страшной ночи»187; в «Кривом зеркале» рассказ о «сверхъестественном» мотивируется появлением «магического» предмета – зеркала, историю которого герой решил поведать жене, и «литературными» амбициями повествователя188. Интереснее всего эта ситуация обыграна в рассказе «Сон». Адресат здесь становится очевиден только в последнем абзаце: Через месяц меня судили. За что? Я уверял судей, что то был сон, что несправедливо судить человека за кошмар. Судите сами, мог ли я отдать ни с того ни с сего чужие вещи ворам и негодяям? Да и где это видано, чтоб отдавать вещи, не получив выкупа? Но суд принял сон за действительность и осудил меня. В арестантских ротах, как видите. Не можете ли вы, ваше благородие, замолвить за меня где-нибудь словечко? Ей-богу, не виноват (3; 155). Чехов играет с жанровой схемой: «страшный» святочный рассказ оборачивается монологом-просьбой. Кроме того, во «Сне» Чехов экспериментирует с популярным для святочных рассказов мотивом сна, в связи с чем произведение вызывает у читателей неоднозначную реакцию: Пародийные святочные тексты Чехова и недовольство им собственной святочной продукцией свидетельствуют о неудовлетворенности им общим состоянием, в котором находился этот жанр в 80-х годах, и о поисках новых путей его развития. В процессе этих поисков Чехова иногда постигали и неудачи, которые были отмечены как самим писателем, так и читателями. В рассказе «Сон»… Чехов, используя мотив «святочного сна», хочет показать, что искреннее чувство альтруизма доступно мелкому служащему только во сне, когда он совершает благородный поступок, помогая рождественской ночью «бедным ворам» 187 «Иван Петрович Панихидин побледнел, притушил лампу и начал взволнованным голосом» (3; 139); «Одна из слушательниц припустила огня в лампе, придвинулась ближе к рассказчику, и последний продолжал» (3; 141). 188 « – О, предки, предки! – сказал я, вздыхая значительно. – Если бы я был писателем, то, глядя на портреты, написал бы длинный роман. Ведь каждый из этих старцев был когда-то молод и у каждого, или у каждой, был роман... и какой роман! Взгляни, например, на эту старушку, мою прабабушку. Эта некрасивая, уродливая женщина имеет свою, в высшей степени интересную повесть» (1; 478). 125 обворовать ссудную кассу. На психологическое неправдоподобие этого сюжета сразу же указал Лейкин, посоветовав Чехову ввести в текст какую-нибудь «материальную» мотивировку действий героя, сославшись, например, на его душевное нездоровье…189 Можно сказать, что в данном случае Чехов отчасти воспроизводит популярный в святочной литературе сюжет диккенсовской «Рождественской песни в прозе»: герой преображается после встреч, произошедших с ним в праздничную ночь190. Как и Диккенс, Чехов отказывается от однозначной мотивировки событий. Несмотря на то, что очевидной кажется ошибка героя, перепутавшего сон с явью, сам персонаж уверен в иллюзорности произошедшего с ним. Перволичное повествование позволяет читателю увидеть ситуацию глазами персонажа: Почему-то я чувствовал страх. Вещи, хранящиеся в кладовых ссудных касс, страшны... В ночную пору при тусклом свете лампадки они кажутся живыми... Теперь же, когда за окном роптал дождь, а в печи и над потолком жалобно выл ветер, мне казалось, что они издавали воющие звуки (3; 151). Утомление, впечатление, производимое на героя особым рождественским временем, приводят к изменению его мировосприятия. Сходным образом видит мир измученная Варька из рассказа 1888 года «Спать хочется»: Перед образом горит зеленая лампадка; через всю комнату от угла до угла тянется веревка, на которой висят пеленки и большие черные панталоны. От лампадки ложится на потолок большое зеленое пятно, а пеленки и панталоны бросают длинные тени на печку, колыбель, на Варьку... Когда лампадка начинает мигать, пятно и тени оживают и приходят в движение, как от ветра (7; 7). 189 Душечкина Е.В.Указ. соч. С. 223. Можно предположить, что в образах приснившихся Чехов совместил диккенсовских духов и бедняков, сделав их одновременно реальными и нереальными. 190 126 Однако повествование в рассказе «Спать хочется» ведется от третьего лица, нарратор только открывает читателю внутреннее состояние героини. Во «Сне» же рассказчик сам комментирует свои страхи, демонстрируя рациональность мышления: «Почему-то я чувствовал страх» (3; 151); «Дело в том, что человека, наделенного от природы нервами оценщика, в ночь под Рождество мучила совесть — событие невероятное и даже фантастическое» (3; 152). Реальные вещи приобретают в рассказе мистические качества, за счет этого читателю становится проще примерить на себя переживания персонажа, поверить ему191. В этом тексте появляется даже самый загадочный из всех чеховских звуков – звук лопнувшей струны (правда, принадлежащий вполне реальной гитаре): И когда я, потушив лампадку, пробирался ощупью к своей постели, произошел маленький казус, имевший немалое влияние на мое дальнейшее настроение... Над моей головой вдруг, неожиданно раздался громкий, неистово визжащий треск, продолжавшийся не долее секунды. Что-то треснуло и, словно почувствовав страшную боль, громко взвизгнуло. То лопнула на гитаре квинта, я же, охваченный паническим страхом, заткнул уши и, как сумасшедший, спотыкаясь о сундуки и узлы, побежал к постели... Я уткнул голову под подушку и, еле дыша, замирая от страха, стал прислушиваться <...> Вещи толпились вокруг меня и, мигая, просили отпустить их домой. На гитаре с визгом одна за другой лопались струны, лопались без конца... В окно глядели нищие, старухи, проститутки, ожидая, пока я отопру ссуду и возвращу им их вещи (3; 153–154). 191 Обратный эффект наблюдается в «Страшной ночи», где «страшные», имеющие непосредственное отношение к смерти предметы – неизвестно откуда появившиеся гробы – описаны предельно реалистично, конкретно, что, в сочетании с другими чеховскими приемами производит скорее комическое, чем пугающее впечатление: «Я видел розовый, мерцающий искорками, глазет, видел золотой, галунный крест на крышке <…> Это был гроб для человека среднего роста и, судя по розовому цвету, для молодой девушки. Дорогой глазет, ножки, бронзовые ручки — всё говорило за то, что покойник был богат» (3; 140); «Гроб товарища был почти вдвое больше моего, и коричневая обивка придавала ему какой-то особенно мрачный колорит» (3; 142); «Войдя в номер, зажгли свечу, и в самом деле увидели гроб, обитый белым глазетом, с золотой бахромой и кистями» (3; 144). 127 Мистическая атмосфера, пробуждение у героя совести приводят к тому, что он раздает вещи из ссудной кассы беднякам. Этот момент играет в рассказе роль рождественского чуда, нравственного преображения персонажа. Как отмечает Н.Н. Старыгина, к концу XIX века происходит преобразование функции чуда в святочном тексте: Во второй половине XIX века появилось множество святочных рассказов, в которых «чудо» как таковое отсутствует. Сюжеты заимствуются писателями из повседневной человеческой жизни, но функции «чуда» выполняет случай. То есть «чудо» оборачивается случаем, с которым в повествование входит интрига, благодаря такому способу организации действия повествование развивается, разворачивается динамично, упруго, подчас захватывающе 192. Более того, по словам Е.В. Душечкиной, «появление мотивов с отрицательной эмоциональной окраской характерно именно для русской святочной традиции, где рассказы с несчастливыми концовками встречаются не реже, а может быть, даже чаще, чем со счастливыми <…> Согласно идее Рождества, должно совершиться чудо, но оно не совершается…»193. Чехов в данном случае отвергает как позитивную, так и негативную трактовку центрального эпизода. Очевидно, что пробуждение совести у героя сложно рассматривать в отрицательном ключе, однако сам он открещивается от «нравственного пробуждения»: «Судите сами, мог ли я отдать ни с того ни с сего чужие вещи ворам и негодяям? Да и где это видано, чтоб отдавать вещи, не получив выкупа?» (3; 155). В итоге рассказ приобретает действительно неоднозначное звучание: с одной стороны, Чехов пользуется комическими приемами и вроде бы стремится создать пародию на святочный жанр, однако в то же время за счет использования перволичного повествования текст производит достаточно серьезное впечатление. 192 Старыгина Н.Н. Святочный рассказ как жанр // Проблемы исторической поэтики. Вып. 2. Художественные и научные категории. Петрозаводск, 1992. С. 121. 193 Душечкина Е.В. Указ. соч. С. 206. 128 Вероятно, проблема здесь заключается еще и в сложности событийной структуры произведения. Как справедливо отмечает О.Н. Калениченко, «основной компонент святочных и пасхальных рассказов – чудесное духовное преображение героев – представляет собой не что иное, как новеллистический пуант» 194. Чехов, уделявший особое внимание трансформации жанра новеллы, безусловно, не мог обойти стороной проблему событийности в святочном рассказе, который представлял собой не просто календарный текст, но яркий пример текса популярного, массового. То, что писатель делает в рассказе «Сон», можно назвать как пропуском события, так и его удвоением – одно в данном случае функционально приравнивается к другому. О пропуске говорит явная «монтажная склейка», присутствующая в тексте: «Тут занавес опускается, вновь поднимается, и я вижу новые декорации. Я уже не в кладовой, а где-то в другом месте. Около меня ходит городовой» (3; 155). Пропущенным оказывается момент пробуждения героя. За счет этого иллюзорность происходящего в рождественскую ночь распространяется и на событие суда над оценщиком. Для героя первое событие нереально, тогда как реально второе, но без проведения между ними границы доказать их неодинаковость невозможно. Читатель, безусловно, догадывается о реальности как первого, так и второго события, однако ничто в речи рассказчика не выдает в нем мошенника, пытающегося обмануть адресата и тем самым смягчить свое наказание. Оппозиция «казалось – оказалось» в данном случае теряет свою правую часть, и рассказ заканчивается постулированием вечного «казалось», что немыслимо для новеллы. Эта абсурдность текста не может быть преодолена на уровне сюжета, но разрешить ее можно, поднявшись на уровень отношений, возникающих между текстом и реципиентом. Исчерпанность жанра святочного рассказа в «малой прессе» XIX века ощущалась настолько сильно, что сложно было не только обновить этот календарный жанр, но и принципиально по-новому спародировать его. Чеховский текст можно рассматривать как пародию в тыняновском смысле, 194 Калениченко О.Н. Судьбы малых жанров в русской литературе конца XIX – начала ХХ века (святочный и пасхальный рассказ, модернистская новела). Волгоград, 2000. С. 4. 129 переворачивающую существующую форму с ног на голову. Однако, так как практически все варианты сюжетных ходов и святочных мотивов были так или иначе реализованы в литературе, Чехов создает новый вариант остранения жанра: он не дает читателю выбрать единый способ прочтения, единственно верную трактовку рассказа, при этом соблюдая жанровый канон и даже обращаясь к классическим текстам святочной литературы (Диккенсу). Похожую технику Чехов применил и в рассказе «В рождественскую ночь» (1883). Критика неоднозначно восприняла этот текст: с одной стороны, он нес в себе серьезный смысл, но, с другой, казался читателям неправдоподобным, что связывалось с мелодраматичностью сюжета195: От времени автор старается уже не позабавить, а тронуть или потрясти читателей, но это редко ему удается… потому что склад рассказа все-таки остается, большею частью, анекдотический. Разница заключается в том, что вместо «происшествия» смехотворного берется «происшествие» страшное – например, зимняя буря на море, лодка, погибающая среди льдин, дурачок, ищущий в смерти избавления от мучительной боли <…> Автор, очевидно, усиливался быть патетичным, но результатом его усилий явилось только нечто вроде пародии на крик Тамары в лермонтовском «Демоне». Мелодрама заканчивается, как и быть надлежит, катастрофой и метаморфозой; постылый муж добровольно идет на смерть, а в сердце жены, пораженной его великодушием, ненависть внезапно уступает место любви196. Мелодраматизм, воспринятый критиком как доминанта рассказа, в действительности является приемом, позволяющим автору удерживать читательское внимание. Преувеличенные, граничащие с «литературными» страстями переживания героев вне зависимости от того, кажутся ли они реципиенту правдоподобными, не могут остаться не замеченными им. Третьеличный повествователь способен проникать в сознание персонажей, однако 195 196 О роли мелодраматизма в этом рассказе см. также: Бялый Г.А. Чехов и русский реализм. Л., 1981. С. 22. Арсеньев К. Беллетристы последнего времени // А. П. Чехов: Pro et Contra. СПб., 2002. С. 47–48. 130 читатель узнает от него далеко не всю информацию, в тексте создаются смысловые лакуны. Реципиент строит предположения о том, что происходит в рассказе на самом деле, и в ходе чтения они подтверждаются или опровергаются. Так, в начале рассказа изображается главная героиня Наталья Сергеевна, которая с беспокойством ждет на берегу возвращения мужа. Ее волнение прочитывается однозначно: страх за жизнь мужа, ушедшего в море. Это впечатление создается за счет второго женского образа – старухи, матери рыбака Евсея, плачущей о судьбе своего сына, которого она боится потерять. В том, как описана главная героиня, можно заметить определенные странности: – Кто-то идет по льду! – сказала вдруг молодая женщина неестественно хриплым голосом, словно с испугом, сделав шаг назад (2; 282). Еще более непонятным выглядит поведение героини после того, как людям на берегу стало очевидно, что в море никто не сумел выжить: Барыня отстранила рукой Дениса и, бодро подняв голову, пошла к лестнице. Она уже не была так смертельно бледна; на щеках ее играл здоровый румянец, словно в ее организм налили свежей крови; глаза не глядели уже плачущими, и руки, придерживавшие на груди шаль, не дрожали, как прежде… Она теперь чувствовала, что сама, без посторонней помощи, сумеет пройти высокую лестницу… (2; 290). Эти странности объясняются нервным состоянием героини («Тронулась в уме-то!» – 2; 289). Все становится понятно, когда повествователь противопоставляет внутреннюю точку зрения внезапно вернувшегося мужа («Его ждали на этом холоде, в эту ночную пору! Это ли не любовь?» – 2; 290) и Натальи Сергеевны («…и замужество поневоле, и непреоборимая антипатия к мужу, и тоска одиночества, и наконец рухнувшая надежда на свободное вдовство. Вся ее жизнь с ее горем, слезами и болью вылилась в этом вопле…» – 2; 290). 131 Неоправдавшиеся ожидания героини, героя и читателя сходятся в этом эпизоде текста, впечатление от чего усиливается еще одной оппозицией, члены которой находятся в сложных отношениях между собой. В начале рассказа Денис («высокий плотный старик с большой седой головой» – 2; 287) несколько раз повторяет мысль о Божьем промысле: – Жила ты, старуха… семьдесят годков на эфтом свете, а словно малый ребенок, без понятия. Ведь на все, дурра ты, воля божья! <…> – Божья воля! Ежели ему не суждено, скажем, в море помереть, так пущай море хоть сто раз ломает, а он живой останется. А коли, мать моя, суждено ему в нынешний раз смерть принять, так не нам судить. <…> – Надо уходить наверх!.. Да и утреня сейчас начнется, ребята! Пойдите, матушка-барыня! Богу так угодно! (3; 287–289). Божья воля во второй части рассказа заменяется желанием Натальи Сергеевны: – Прощай, Наташа! – крикнул помещик. – Пусть будет по-твоему! Получай то, что ждала, стоя здесь на холоде! С богом! (2; 291). В начале текста желание героини (и ее обращение к Николаю Чудотворцу, покровителю моряков) прочитывалось как надежда Натальи Сергеевны на то, что мужа удалось спасти, а Божьей волей могла быть оправдана его смерть, однако впоследствии полюса этой оппозиции оказываются перевернутыми: барыня мечтала об избавлении от мужа, но провидение позволило Андрею Петровичу избежать гибели. 132 Если бы рассказ заканчивался этим эпизодом, фабульно он бы следовал схеме традиционного рождественского рассказа, в котором присутствует Божественное чудо. Чудо оказывается скомпрометировано истинными желаниями героини, а затем и вовсе оборачивается трагедией: муж решает покончить с собой. Еще один вариант чуда представлен в финале рассказа, где о героине сказано: «В ночь под Рождество она полюбила своего мужа…» (2; 292). Чудом, таким образом, является здесь исполнение заветного желания, а его отрицательным эквивалентом – невозможность исполнения этого желания, то есть функционально чудом оказывается некое существенное изменение в художественном мире рассказа, проще говоря – событие. В качестве изменения в данном случае выбирается, пожалуй, самое событийное из всех возможных происшествий – смерть, причем она сопровождается характерным для календарного христианского жанра двойником – воскрешением (нравственным и «реальным»). Эти «события» в тексте нанизываются одно на другое, каждое следующее изменение отменяет кульминационный смысл предыдущего, обращая внимание на себя. Одно и то же происшествие «подсвечивается» отношением к нему разных персонажей и не может быть рассмотрено как традиционный для рождественской новеллы пуант, который не должен быть воплощен в чуде и трагедии одновременно. Своеобразным символом этого текста можно считать образ дурачка Петруши, который, мечтая избавиться от постоянной боли, решает покончить с собой: здесь исполнение заветного желания и смерть объединяются в одном герое. Внутреннее преображение героини, которым заканчивается рассказ, также не лишено этой двойственности: чуда для нее не произошло, хотя ее желание было исполнено; за любовь, рожденную в ее душе, пришлось заплатить смертью мужа. Мелодраматизм, использованный Чеховым, с одной стороны, действительно, подчеркивает абстрактность, неестественность ситуации, но, с другой, в максимальной степени задействует катарсический потенциал, роднящий 133 жанр мелодрамы с трагедией. Одновременный интерес читателя к сюжету и его неполная вовлеченность в текст, которые должны стать следствием подобного построения, помогают остранить знакомую реципиенту форму197. 197 О рецептивной и повествовательной структуре этого рассказа см. также: Разумовская К.Н. Особенности композиции рассказа А.П. Чехова «В рождественскую ночь» // Молодые исследователи Чехова. Вып. 6. М., 2009. С. 116–123. 134 Охотничий рассказ в раннем творчестве Чехова Еще одним календарным жанром, бытовавшим в «малой прессе», является охотничий рассказ. Генезис этого жанра представляет особый интерес для исследователя русской массовой литературы: его развитие связано не столько с переходом определенной темы из классики в популярную словесность, сколько с пересечением этих двух традиций. Как отмечает М.М. Одесская, «“охотничий” рассказ – достояние мировой культуры, – прежде всего заявивший о себе как о жанре в XIX веке в Англии (30-е годы), а затем получивший популярность во Франции, в 40-е годы, с появлением рассказов из “Записок охотника” Тургенева, начал оформляться как жанр художественной литературы и в России» 198. Классическая линия, начатая Тургеневым и Аксаковым, в дальнейшем была подхвачена специальной («субкультурной») литературой – авторами, сотрудничавшими в журналах, посвященных охоте. Несмотря на естественное подражание классике, охотничью литературу отличала своеобразная приватность, ориентация на «своего» читателя. Можно сказать, читатель и автор здесь оказываются добрыми знакомыми, которых сближает любовь к охоте. Произведения писателей-«охотников» – плод досуга, как бы возмещение нереализованных художественных потенций чиновников, учителей, помещиков, мелких беллетристов, публиковавшихся в основном в охотничьих изданиях. Охотничья литература, тесно связанная с дворянским усадебным бытом, обусловленная и порожденная определенным образом жизни, имела ограниченный, камерный круг распространения и, если можно так выразиться, «домашнюю» критику199. 198 Одесская М.М. Русский охотничий рассказ второй половины XIX века (типология, традиции, эволюция). Автореф. дисс. … канд. филол. наук. М., 1993. С. 3. 199 Там же. С. 13. 135 К 1880-м годам жанр теряет свою специализированность, встраивается в ряд календарной литературы, но тем не менее продолжает нести на себе следы былой камерности. Возможно, именно это свойство рассматриваемого жанра позволяет совершиться событию понимания в рассказе «Он понял!» (1883). Его фабула напоминает один из первых чеховских текстов – «За яблочки» (1880). Однако между ними существуют различия, обусловленные особенностями повествования и жанра. На уровне сюжета произведения отличаются концовками – если Трифон Семенович и все его семейство оказываются неспособны к какому бы то ни было проявлению сострадания, то Петр Егорыч Волчков внезапно проникается сочувствием к мужику, пойманному в его лесу. Мотивирует возникновение этого контакта вовсе не проснувшееся в отставном подполковнике человеколюбие, но внезапно обнаруженное им сходство между собой и незнакомым мужиком. Чехов иронически обыгрывает здесь характерную для охотничьей прозы тургеневского типа ситуацию сближения дворянства и народа. Это единение возможно именно на охоте, когда, помещенные в пространство природы, люди лишаются социальных различий. И хотя Чехов работает в том же жанре, он совершает подмену мотивировки понимания. Контакт между помещиком и охотником возникает не из-за любви к природе. Ни тот, ни другой не могут преодолеть какую-нибудь зависимость. Павел Хромой так говорит о причинах своего преступления: …убил скворца от тоски... Тоска прижала... <...> Зачала она мучить меня с самой Святой, тоска-то эта... <...> Хочется мне на охоту, да и шабаш! А водки как выпил, разговлямшись, так и совсем шальной стал. Голоса стал слышать. Слышно мне, как какой-то тоненький, словно как будто андельский, голосочек звенит тебе в ухе и рассказывает: поди, Пашка, постреляй! Наваждение! (2; 173–174). 136 О страстях, которые управляют Волчковым, читатель начинает догадываться, когда тот проговаривается: – Нет, не говори... Ты охотник вот, а не понимаешь... Скворец, ежели поджаренный, в каше хорош... И соус можно... Как рябчик — один вкус почти... И, как бы спохватившись за свой равнодушный тон, Волчков хмурится… (2; 173) Героев объединяет не близость к природе, не гуманные чувства, а человеческие слабости. И охотничий запал встает в один ряд с чревоугодием и пьянством: ...А по моему глупому предположению, как я это дело понимаю, это не баловство, а болесть... Всё одно как запой... Один шут... Ты не хочешь, а тебя за душу тянет. Рад бы не пить, перед образом зарок даешь, а тебя подмывает: выпей! выпей! Пил, знаю... Красный нос Волчкова делается багровым. – Запой – другое дело, – говорит он. – Одинаково-с! Разрази бог, одинаково-с! Истинно вам говорю! И молчание... Молчат минут пять и друг на друга смотрят. Багровый нос Волчкова делается темно-синим. – Одно слово-с – запой... Сами изволите понимать по человеколюбию своему, какая это слабость есть. Не по человеколюбию понимает подполковник, а по опыту. <…> – Ступай и больше не попадайся! (2; 175–176). Если вновь обратиться к рассказу «За яблочки», можно обнаружить, что ситуация непонимания в нем также сопровождается обращением повествователя к проблеме человеческой слабости. 137 В тексте говорится о барине-самодуре, ради забавы поиздевавшемся над крестьянами. Рассказ начинается длинным пассажем нарратора, вводящего читателя в курс дела. При этом выполняются условия субъективного повествования по Чудакову: прямые оценки повествователя и обращения к читателю, и, кроме того, в рассказе используется характерный для «малой прессы» прием нарушения границы художественного мира, встречаются апелляции к литературному и окололитературному контексту: Если бы сей свет не был сим светом, а называл бы вещи настоящим их именем, то Трифона Семеновича звали бы не Трифоном Семеновичем, а иначе; звали бы его так, как зовут вообще лошадей да коров. Говоря откровенно, Трифон Семенович — порядочная таки скотина. Приглашаю его самого согласиться с этим. Если до него дойдет это приглашение (он иногда почитывает «Стрекозу»), то он, наверно, не рассердится, ибо он, будучи человеком понимающим, согласится со мною вполне, да, пожалуй, еще пришлет мне осенью от щедрот своих десяток антоновских яблочков за то, что я его длинной фамилии по миру не пустил, а ограничился на этот раз одними только именем и отчеством. Описывать все добродетели Трифона Семеновича я не стану: материя длинная. Чтобы вместить всего Трифона Семеновича с руками и ногами, нужно просидеть над писанием по крайней мере столько, сколько просидел Евгений Сю над своим толстым и длинным «Вечным жидом». (1; 39–40). После длинного вступления повествователя начинается сюжетная часть рассказа, а завершается произведение пассажем, обличающим жестокость помещика и его семейства: Вот как забавляет себя на старости лет Трифон Семенович. И семейка его тоже недалеко ушла от него. Его дочки имеют обыкновение гостям «низкого звания» пришивать к шапкам луковицы, а пьяным гостям того же звания — писать на спинах мелом крупными буквами: «асел» и «дурак». Сыночек же его, отставной подпоручик, Митя, как-то зимою превзошел и самого папашу: он вкупе с Карпушкой вымазал дегтем ворота одного отставного солдатика за то, что этот 138 солдатик не захотел Мите подарить волчонка, и за то, что этот солдатик вооружает якобы своих дочек против пряников и конфект господина отставного подпоручика. . . Называй после этого Трифона Семеновича — Трифоном Семеновичем! (1; 44–45). Однако финал не производит впечатление морализаторского, ведь оценки, которые повествователь дает героям, оказываются принципиально неоднозначными. Изначально текст обещал показать читателю шутку о баринесамодуре и обличение господской жестокости. Однако повествователь беспощадно комментирует не только бесчеловечные действия помещика, но и поведение самих крестьян: Парень плюнул, крякнул, взял в кулак косу своей невесты и начал карать зло. Карая зло, он, незаметно для самого себя, пришел в экстаз, увлекся и забыл, что он бьет не Трифона Семеновича, а свою невесту. Девка заголосила. Долго он ее бил. Не знаю, чем бы кончилась вся эта история, если бы из-за кустов не выскочила хорошенькая дочка Трифона Семеновича, Сашенька (1; 44). Композиция рассказа, таким образом, обусловливает определенное воздействие текста на читателя. Повествователь последовательно рисует образ жестокого барина, все больше сгущая краски, поэтому в ситуации с наказанием молодых крестьян Трифон Семенович действительно выглядит как злодей. Однако позитивного, контрастного полюса не получается: униженные герои оказываются не лучше своего мучителя. Это усложнение формульного текста – массовая литература любит контрасты, а не серый цвет. Вкрапления мелодраматизма (злодей обижает и разлучает влюбленную пару) и невозможность дать однозначную оценку персонажам погружают читателя, привыкшего находиться на принципиально внешней по отношению к тексту позиции, в сюжет и замыкают в нем: проникнувшись сочувствием к крестьянам, реципиент сталкивается с тем, что и они могут быть жестоки. Морализаторский итог возвращает нас к началу и к 139 обличению Трифона Семеновича. Читатель не обладает свободой, позволяющей ему делать выводы о прочитанном, так как повествователь весьма категоричен в своих оценках. Он ловко обводит реципиента вокруг пальца: остроумный газетный рассказ в финале превращается в неоднозначный текст, и читатель уже не может судить о нем так, как это было в начале – наравне с автором/повествователем. Именно это, на наш взгляд, является событием текста – непредсказуемым и релевантным для его адресата. Повествование в рассказе «Он понял!» устроено иначе. Нарратор воздерживается от субъективной оценки героев, но, как и в тексте рассказа «За яблочки!», использует обращения к читателю: «Вероятно, и будет гроза. На западе синеет и хмурится какая-то полоска. Добро пожаловать!» (2; 176). Такое обращение обусловлено жанровой спецификой текста, приватностью, характерной для охотничьего рассказа. «Он понял!» представляет собой зарисовку, сценку (об этом свидетельствует использование глаголов настоящего времени). Кажется, что повествователь только предлагает реципиенту свою оптику, не навязывая собственного отношения к происходящему. Однако на уровне композиции идеология повествователя все же оказывается задействована. Читателю нетрудно заметить, что психологическое состояние Хромого – тоска – в тексте сравнивается с состоянием природы: Душное июньское утро. В воздухе висит зной, от которого клонится лист и покрывается трещиной земля. Чувствуется тоска за грозой. Хочется, чтобы всплакнула природа и прогнала дождевой слезой свою тоску (2; 176). Несколько абзацев спустя герой сравнивает себя с осой, которая не может улететь на свободу: По окну ползет большая оса. Ей хочется вылететь на воздух, но не пускает стекло. Ее движения полны скуки, тоски... <...> 140 Проходит еще два часа. Кругом всё тихо, беззвучно, мертво... Хромому начинает думаться, что про него забыли и что ему не скоро еще вырваться отсюда, как и осе, которая всё еще, то и дело, падает со стекла. Оса уснет к ночи, – ну, а ему-то как быть? – Так вот и люди, – философствует Хромой, глядя на осу. – Так и человек, стало быть... Есть место, где ему на волю выскочить, а он по невежеству и не знает, где оно, место-то это самое... (2; 170). Конец рассказа отмечен не только моментом понимания между мужиком и барином, но и свободой, которую обретают в одно и то же время Хромой и оса, а также преображением природы: С легкой душою выходит он из конторы, косится вверх, а на небе уж черная, тяжелая туча. Ветер шалит по траве и деревьям. Первые брызги уже застучали по горячей кровле. В душном воздухе делается все легче и легче. Волчков пихает изнутри окно. Окно с шумом отворяется, и Хромой видит улетающую осу. Воздух, Хромой и оса празднуют свою свободу (2; 176). Мотив близости крестьян к природе можно назвать общим местом охотничьей литературы200. Однако, как было показано выше, «естественность» охотников дискредитируется Чеховым в этом рассказе. В свете этого обстоятельства подобие природы и мужика можно рассматривать только как кажущееся. Тоска героя никак не связана с состоянием окружающего мира, это только отражение его точки зрения. Его «болезнь» бросает тень на все, что он видит, и это не только природа: Он вздыхает и пугливо осматривается. Шкаф, стол, чайник без носика и образок глядят на него укоризненно, тоскливо... Мухи, которыми так изобилуют 200 Интересно отметить, что, например, в рассказе В.М. Гаршина «Медведи» вместо крестьян «природный» полюс представлен цыганами, однако сама оппозиция законов природы и неестественного человеческого закона сохраняется. 141 господские конторы, жужжат над его головой так жалобно, что ему делается нестерпимо жутко (2; 170) Таким образом, понимание, возникшее между героями рассказа, теряет свою ценность. Несмотря на то, что контакт между персонажами достигнут, потерянной оказывается гораздо более важная связь – связь с природой. Или, возможно, ее никогда не существовало нигде, кроме клишированного жанра охотничьего рассказа, ведь именно на него направлена ирония Чехова. В этом смысле и коммуникация на уровне повествователь – читатель оказывается усложненной. Вопреки ожиданиям, между повествователем и реципиентом возникает дистанция. Нарратор здесь – не друг-охотник, пишущий «для своих», а субъект, рефлексирующий над формой и формулой текста. Как следствие, в поле его рефлексии и остранения попадает и образ читателя, что только усиливает их расподобление. Еще один ранний рассказ Чехова той же тематики – «На охоте» (1884) – также затрагивает проблему понимания. Он повествует об отношениях племянника и дяди, причем понимание персонажами друг друга оказывается принципиально невозможным, как и контакт главного героя с природой. Ключевой эпизод рассказа можно сопоставить с классическим описанием охоты из «Детства» Л.Н. Толстого. У Чехова: После долгого ожидания послышался наконец сдержанный собачий лай... По лесу понеслось ауканье... Я взвел курок и насторожил зрение и слух... У меня забилось сердце, и проснулся во мне инстинкт хищника-охотника. Затрещали недалеко от меня кусты, и я увидел зверя... Зверь, какой-то странный, на длинных ногах и с колючей мордой, несся прямо на меня... Я нажал пальцем, загремел выстрел, и всё было кончено (2; 340). У Толстого: 142 Вдруг Жиран завыл и рванулся с такой силой, что я чуть было не упал. Я оглянулся. На опушке леса, приложив одно ухо и приподняв другое, перепрыгивал заяц. Кровь ударила мне в голову, и я все забыл в эту минуту: закричал что-то неистовым голосом, пустил собаку и бросился бежать. Но не успел я этого сделать, как уже стал раскаиваться: заяц присел, сделал прыжок, и больше я его не видал. Но каков был мой стыд, когда вслед за гончими, которые в голос вывели на опушку, из-за кустов показался Турка! Он видел мою ошибку (которая состояла в том, что я не выдержал) и, презрительно взглянув на меня, сказал только: «Эх, барин!» Мне было бы легче, ежели бы он меня, как зайца, повесил на седло 201. Ситуация провала на охоте совершенно по-разному воспринимается героями Толстого и Чехова. В отличие от Николеньки, чеховский рассказчик не только не чувствует единения с природой, но и не понимает смысла охоты: Я вспоминаю теперь большой ольховый лес, седой от инея. Тишина в нем царит гробовая. От леса до горизонта тянется белое поле... И конца не видно этому полю. В лесу и по полю скачут на конях полушубки... У всех лица озабоченные, напряженные, словно всем этим полушубкам предстоит открыть что-то новое, необыкновенное... Дядя мой, красный как рак, скачет от одного полушубка к другому, отдает приказания, сыплет ругательства... Слышны трубные звуки... <…> Полушубки поскакали в лес. Долго я ждал зверя. Ждал я, а сам в это время думал о Москве, мечтал, дремал... «А что если я убью зверя? — воображал я. – Убью я, а не они! То-то потеха будет!» (2; 339–340). 201 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 100 т. Художественные произведения: В 18 т. Т. 1: 1850– 1856. М., 2000. С. 31. 143 Фабула этого текста вполне могла быть реализована в серьезном охотничьем рассказе202, однако Чехов создает анекдот. При редактуре он исключает фрагмент текста, показывающий переживания расстроенного дядюшки, полностью подчиняя повествование точке зрения рассказчика. Формула охотничьего рассказа окончательно опустошается – главным героем и носителем точки зрения становится человек, предельно далекий от охоты. И действительно, в конце XIX века охота могла выполнять в календарном рассказе функцию фона, хотя формальные признаки жанра сохранялись. Примером может послужить ранний чеховский текст «Петров день» (1881). Начало и общий шутливый тон произведения соответствуют праздничному настроению по поводу описываемого события. Повествователь, хотя он и не является непосредственным участником происходящего, максимально приближен к героям. С первой строчки можно предположить, что он сам является охотником: Наступило утро желанного, давно снившегося дня, наступило – урааа, господа охотники!! – 29 июня… Наступил день, в который забываются долги, жучки, дорогие харчи, теща и даже молодые жены, – день, в который г. уряднику, запрещающему стрелять, можно показать двадцать кукишей… (1; 67)203. Судя по тому, как повествователь описывает происходящее, он не только видит и слышит все, что происходит с героями, но и хорошо знаком с персонажами и обстановкой усадьбы. Так, он замечает: «У кучеров слетели с голов картузы, у лакея, Катькина прихвостня, засиял под носом красный фонарь, кухарок звали “стервозами”, послышалось имя сатаны и аггелов его…» (1; 67) – заметим, что никакой Катьки в рассказе больше не появится, говорится о ней мимоходом, словно она знакома даже читателю. Таким образом, художественный 202 Ср. напр., с рассказом М.М. Пришвина «Анчар», в котором изображается горе охотника, собаку которого также случайно застрелили. 203 Здесь Чехов следует за традицией литературного описания охоты, связанной с именем Л.Н. Толстого: «Автор не показывает только охоту со стороны, он сам охотник в том языке, которым ведется рассказ, так что его собственное отношение к происходящим событиям глубоко серьезно и очень заинтересованно. Автор будто предполагает в читателях понимающих охотников, а для непосвященных он словно из снисхождения в скобках дает перевод специальных терминов» (Бочаров С.Г. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». М., 1968. С. 27–28). 144 мир произведения, с одной стороны, словно бы приближается к читателю, представая перед ним во всех подробностях, и, с другой стороны, шаблонизируется, усредняется, потому что наверняка в каждой усадьбе есть своя «Катька» и каждый год 29-го июня царит радостная суматоха: господа собираются на охоту. Безусловно, развлекательная функция охотничьего рассказа в «малой прессе» заключалась в том, чтобы повеселить читателя «приключениями» незадачливых охотников. Недаром при первой публикации в журнале «Будильник» текст «Петрова дня» (в журнале он носил другое название – «Двадцать девятое июня») сопровождался подзаголовком «Шутка» и посвящением: «С удовольствием посвящается гг. охотникам, плохо стреляющим и не умеющим стрелять»204. Умение стрелять вообще не расценивается повествователем как непременное условие охоты. Охота – это скорее удовольствие от общения (хотя, очевидно, его возможность в мире Чехова проблематизирована). В тексте «Петрова дня» не так много места уделено описанию процесса охоты и почти не описывается дичь. Охотничьи таланты героев также сомнительны. Например, из описания сидящих в первом тарантасе людей мы узнаем только, что с ними едет …архангельский мещанин Кузьма Больва, старичок в сапогах без каблуков, в рыжем цилиндре, с двадцатипятифунтовой двустволкой и с желто-зелеными пятнами на шее. Больва – плебей, но гг. помещики, из уважения к его преклонным летам (он родился в конце прошлого столетия) и умению попадать в подброшенный двугривенный, не брезгуют его плебейством и берут с собой на охоту (1; 68). Столь ценного Больву, правда, потом забывают в лесу. Умения остальных охотников никак не комментируются. Пассажиры второго тарантаса и вовсе не описываются, хотя и замечается, что он вмещал «в себе самых ярых охотников» 204 Рассказ 1882 года «Двадцать девятое июня» сопровождается похожим подзаголовком: «Рассказ охотника, никогда в цель не попадающего». 145 (1; 68). Впрочем, их предводителем становится Кардамонов, главной характеристикой которого является слово «писатель», а не «охотник». Наиболее удачливым охотником в итоге оказывается преподаватель гимназии Манже, но его успехи подаются в контрасте с неуклюжими действиями генеральского племянника Вани. Замечания о том, что «Ваня выстрелил и не попал <…> Манже выстрелил в жаворонка и попал» (1; 71), становятся своего рода рефреном. Ни одной из охотничьих групп не удается попасть в коршуна. К тому же в каждой из них есть человек, который мешает другим, – это обиженный Михей Егорыч и пребывающий в дурном настроении доктор. В какой-то момент герои оставляют охоту и начинают заниматься совершенно бесполезным делом – «анатомировать суслика», при этом они мало смыслят в зоологии и не очень хорошо представляют себе цель своего предприятия, в результате чего не получают никаких впечатлений: – Я в этом суслике ничего не нахожу, – сказал Некричихвостов, когда суслик был изрезан на мелкие кусочки. – Даже сердца нет. Вот кишки так есть. Знаете что, господа? Поедемте-ка на болота! (1; 74). Самой большой удачей охотников становится подстреленная дрофа («дрохва»)205. Случайно выбежавший из леса заяц не только убегает от преследования, но и становится для собак «предлогом, чтобы удрать домой» (1; 79). Не только в этом рассказе чеховские охотники оказываются мало озабочены результатом своего предприятия. Вот что, например, говорят об охоте герои другого текста Чехова – «На волчьей садке»: 205 Интересно, что описание того, как была добыта эта самая ценная дичь, тоже опущено, зато в тексте отмечается: «Первая группа дрохве не поверила, но к тарантасам пошла» (1; 74). Внимание повествователя, безусловно, в большей степени обращено на охотников первой группы, менее удачливых в отличие от «ярых» участников второй. 146 – Самое приятное занятие-с <…> Бывало, выедешь это с компанией… Выедешь чуть свет… И дамы тоже… – С дамами не стоит ездить, – перебивает старичка сосед. – Почему ж? – А потому, что при дамах ругаться нельзя. А нешто можно на охоте не ругаться? (1; 118). Впрочем, если вспомнить, что охота – скорее развлечение, то это вполне объяснимо. Очевидно и то, что сюжет охотничьего рассказа обычно строится на неудачах героев и курьезных случаях. Следовательно, можно предположить, что автор и читатель подразумевают, что «чисто охотничий» сюжет должен заменяться другим, а самые простые для массовой литературы варианты – социальный и любовный сюжеты. Социальный сюжет в данном случае строится на том, что ситуация охоты подразумевает разрушение социальных границ – это равенство всех со всеми: природы и человека206, дворянства и народа207, богатых и бедных, крупных чиновников и «маленького человека» 208. В рассказе «Петров день» гармония и равенство утверждаются в первых строках: «Наступил день, в который забываются долги, жучки, дорогие харчи…» (1; 67). Однако содержание произведения возможность гармонии и равенства отрицает. Герои ни на минуту не забывают ни о собственном социальном положении, ни о социальном положении 206 Повествователь в рассказе «На волчьей садке» осуждает травлю животных, но признает охоту « в степи, в лесу, где людскую кровожадность можно слегка извинить возможностью равной борьбы, где волк может защищаться и бежать…» (1; 119). 207 Можно вновь обратиться к работе С.Г. Бочарова, в которой он анализирует сцену охоты из романа «Война и мир»: «На время охоты устанавливается стихийно иной жизненный строй, отношения исправляются, смещаются роли, сдвинута привычная мера во всем — в эмоциях, поведении, даже разговорном языке. Через этот глубокий сдвиг и достигается “настоящее”, полнота и яркость переживаний, очищенных от затуманивающих и заслоняющих интересов той жизни, какая ждет тех же людей за пределами особого времени охоты <…> В… узаконенных отношениях — господина и крепостного, которые сознают они оба, — уже проглядывает закон других отношений, по которым Данило имеет право презирать своего господина» (Бочаров С.Г. Указ. соч. С. 29–30). 208 М.М. Одесская, рассуждая о жанре охотничьего рассказа, утверждает, что «охота… воспроизводит веками складывающуюся ритуальность, культовые представления и суеверия народа. И очевидно, страсть русских охотников к единоборству с хищниками связана… с национальной традицией кулачных боев, бессознательно хранимой исторической памятью народа» (Одесская М. М. Русский охотничий рассказ XIX века // Русский охотничий рассказ. М., 1991. С. 6–7). Однако в размышлениях исследовательницы можно встретить упоминания и о том, что охотничьи атрибуты маркировали социальный статус их владельца: «В XIX веке охота сделалась забавой для привилегированного сословия, частью дворянского усадебного быта. И по тому, как содержалась псарня, можно было судить о достатке помещика» (Там же). 147 других. Подчеркивается «плебейское» происхождение Больвы, повествователь отдельно упоминает китель и «аннинский крест» на шее отставного генерала, чин скандалиста Макара Егорыча («отставной капитан 2-го ранга»). Слова и действия героев опираются на личные мотивы, никак не связанные с охотой: – Для чего ты пригласил на охоту этого бурбона? – спросил доктор Егора Егорыча. – Нельзя, брат! – ответил Егор Егорыч. – Нельзя было не взять. Ведь я ему того… восемь тысяч… Э-хе-хе, братец! Не будь этих проклятых долгов… (1; 73). Резкие слова доктора («Да вы-то чего кричите? Пфф… не боюсь! Я генералов не боюсь, ваше превосходительство, а в особенности отставных. Потише, пожалуйста! <…> Кричите вот на Манже! Он, кстати, боится генералов <…> Скажите лучше, что стрелять не умеете!» – 1; 73) не встречают ожидаемого возмущения генерала. Это объясняется позже: – Я ужасно горяч на охоте, – обратился генерал к доктору, когда тройки отъехали версты на две от сенокоса. – Ужасно! Отца родного не пощажу. Уж вы того… извините старику! – Гм… – Каким добряком, шельмец, стал! – шепнул Егор Егорыч доктору на ухо. – Что значит мода пошла дочек за докторов отдавать! Хитер его превосходительство! Хе-хе-хе… (1; 74). Тем не менее все эти элементы не складываются в сюжет и остаются разрозненными. Второй «сюжет», который актуализируется в «Петровом дне», – любовный, хотя, казалось бы, «тещи и даже молодые жены», как и все прочее, на время охоты должны уходить на второй план. В рассказе возникает конфликт между Егором Егорычем и доктором: обиженный Михей Егорыч во всеуслышание заявляет, что 148 его брат берет на охоту доктора, не имеющего особого желания ехать, по той причине, что ревнует его к своей жене – ревновал ли на самом деле Егор Егорыч или просто к концу охоты брат раззадорил его, читателю остается только догадываться. Доктор пребывает в дурном настроении и мешает остальным охотиться. После обеда Михей Егорыч снова принимается дразнить брата: – Где же доктор? Исчезоша? Яко воск от лица огня! Ха-ха-ха. – К Егоровой жене отправился! – ляпнул Михей Егорыч. Егор Егорыч побледнел и уронил бутылку. <…> – Чего вы врете? – спросил Манже. – Вы видели? – Видел. Ехал мимо мужик на таратайке… ну, а он сел и уехал <…> Егор Егорыч поднялся и потряс кулаками. – Я спрашиваю: куда вы едете? – продолжал Михей Егорыч. – За клубникой, говорит. Рожки шлифовать. Я, говорит, уж наставил рожки, а теперь шлифовать еду. Прощайте, говорит, милый Михей Егорыч! Кланяйтесь, говорит, свояку Егору Егорычу! И этак еще глазом сделал (1; 78). Любовный сюжет, переплетающийся с охотничьим, затем будет разработан Чеховым в повести «Драма на охоте»: в этом произведении на охоте разыгрываются нешуточные страсти: внезапно прибывает жена графа Карнеева, о существовании которой никто не подозревал. С Калининым, рассчитывавшим выдать за графа свою дочь Надю, делается дурно. Расстроенная Ольга Урбенина – любовница графа и рассказчика – вызывает ревность последнего и гибнет от его руки. Можно предположить, что и читатель «Петрова дня» готов к мелодраматическим страстям. Однако незадолго до сцены скандала с Егором Егорычем повествователь сообщает читателям о том, что на самом деле произошло с доктором: «Доктор выпил девятую, с остервенением крякнул и 149 отправился в лес. Выбрав самую широкую тень, он лег на травку, подложил под голову сюртук и тотчас же захрапел» (1; 76). Читатель уже смеется над глупым Егором Егорычем, который едет домой, тщетно пытаясь уличить жену в связи с доктором. Ожидания реципиента в некотором роде оправдываются – сознание массового читателя не должно сопротивляться развязке, напоминающей о мелодраматических и водевильных сюжетах: «…посмотрев грозно на свою жену, Егор Егорыч принялся за поиски. Были обысканы все кладовые, сундуки, комоды, – доктора не нашел Егор Егорыч. Он нашел другого: под жениной кроватью обрел он псаломщика Фортунатова…» (1; 79). Ситуация представляется забавной и даже событийной (по меньшей мере непредсказуемой), но повествователь, едва упомянув о псаломщике Фортунатове, ставит многоточие и обрывает рассказ о семейных делах Егора Егорыча. Эта сцена могла бы послужить достаточным пуантом в охотничьем анекдоте, но Чехов дописывает еще один, завершающий абзац, рассказывающий о забытом в лесу докторе, который, вернувшись в земскую больницу, «принялся сочинять огромнейшее письмо к Егору Егорычу. В этом письме требовалось “объяснение неблаговидных поступков”, бранились ревнивые мужья и давалась клятва не ходить никогда более на охоту, – никогда! даже и двадцать девятого июня» (1; 79). Этот последний абзац, в сжатом виде излагая всю предшествующую историю, затушевывает событийный статус сцены ревности и наметившегося скандала с генералом, который вроде бы решает опротестовать векселя Егора Егорыча. Все, что до этого происходило в рассказе, будучи пропущено таким образом через сознание одного из героев, приобретает характер менее серьезный и, что примечательно, менее утрированный. Пожалуй, до конца эта мысль была доведена в рассказе «Двадцать девятое июня», в котором повествование о неудавшейся охоте завершается так: Дня через два Отлетаев, Предположенский, Козоедов, мировой, земский врач и я сидели в доме Отлетаева и играли в стуколку. Мы играли в стуколку и по обыкновению грызли друг друга… 150 Дня через три мы поругались насмерть, а через пять пускали вместе фейерверк… Мы ссоримся, сплетничаем, ненавидим, презираем друг друга, но разойтись мы не можем. Не удивляйтесь и не смейтесь, дорогой читатель! Поезжайте в Отлетаевку, поживите в ней зиму и лето, и вы узнаете, в чем дело… Глушь – не столица… В Отлетаевке рак – рыба, Фома – человек и ссора – живое слово… (1; 231). Цитату из этого рассказа, написанного годом позже «Петрова дня», можно считать ключом к анализируемому тексту. Доктор в «Петровом дне» – герой наименее смешной и наиболее «человечный», письмо его в конце рассказа переводит абсурдные ситуации анекдота в житейский ракурс. Смешной текст не теряет своего остроумия, однако календарный рассказ приобретает новое измерение, возможность для читателя видеть в глупых героях не шаблонных действующих лиц, а людей, подобных ему. Невозможно говорить о том, что в тексте происходит резкий перелом, когда читателю внезапно предлагается «зеркало». В «Петровом дне» появляется только возможность подобного прочтения, но она помогает тексту не рассыпаться на отдельные смешные эпизоды и являет нам ту самую ситуацию qui pro quo не только в сюжете, но и в том, что охотничий рассказ превращается просто в рассказ, отчасти теряя свою принадлежность к формульному юмористическому жанру. Возможно, этим объясняется то, что Чехов, перерабатывая произведение для сборника, снимает не только сезонное посвящение, но и авторское определение «Шутка». Суммируя изложенное выше, мы можем заключить, что в ранний период своего творчества Чехов активно работал над трансформацией таких устойчивых для массовой литературы явлений, как жанр, тема, тип. Тенденция к обновлению формы была свойственна «малой прессе» в целом, как и ориентация на особенно удачные образцы беллетристики. Однако нас интересует то, какие приемы задействовал Чехов, давая собственные варианты знакомых сюжетов и жанровых 151 схем. На основании проделанного анализа можно сделать вывод о том, что писатель уделял большое внимание повествовательной структуре своих текстов и особенно проблеме события. Последнее словно бы выносилось за рамки изображаемого мира, так как фокус смещался с повествуемой истории на фигуру адресата. Так, на примере сюжета о «маленьком человеке» мы проследили, как трансформируется устойчивая литературная тема в ранней прозе Чехова. Массовая литература не всегда берет за основу конкретное художественное произведение, чаще она взаимодействует с набором топосов, общих мест, сформировавшихся в сознании аудитории в ходе литературного процесса. Как отмечает Л.Г. Жабицкая, <ч>итая, Чехов не просто вос-создает, но и пере-создает прочитанное; не только со-переживает (как обычный читатель), но и со-делывает текст источника посвоему. Он как бы экспериментирует с чужим текстом, опробуя различные способы отношения к материалу209. Обратившись к теме «маленького человека», серьезно разработанной Гоголем и Достоевским, Чехов доводит ее до предела: «маленький человек» и «значительное лицо» в чеховском мире меняются местами. Более того, сюжет Гоголя и Достоевского является очень важным для Чехова, так как затрагивает коммуникативную проблематику. Акакий Акакиевич и Макар Девушкин являют собой образы героев, для которых слово наделяется несомненной значимостью – этической и эстетической. В чеховском рассказе «Корреспондент» представлен персонаж, непосредственно связанный с этими образами, что подтверждается наличием интертекстуальных отсылок к гоголевской «Шинели», но слово для этого героя входит в сферу не столько эстетики, сколько риторики, понимаемой как свободное владение публицистическими клише. К тому же персонаж Чехова 209 Жабицкая Л.Г. Чтение служит таланту. О специфике восприятия художественной литературы писателем // Проблемы комплексного изучения восприятия художественной литературы. Калинин, 1984. С. 22. 152 порой утрачивает способность понимания не только эстетической, но и информативной функции слова. «Немота» человека, невозможность понимания не только другого, но и себя, таким образом, оказываются воплощены в ранней прозе Чехова в тексте, трансформирующем представления реципиента о популярном сюжете. Автор работает здесь не только с материалом художественной литературы, но и с горизонтом ожидания читателя. Ожидания аудитории могут нарушаться и другим способом, как в случае с рассказом «В вагоне», где незаметно для реципиента динамический сюжет заменяется более железнодорожного статичным: быта история перетекает в о путешествии, повествование о сценка чувствах из героя, изображение эмоции, транслируемой читателю. Литературным явлением, непосредственно направленным на переработку расхожих сюжетов и популярных произведений, является пародия. Однако «малая пресса» зачастую пародировала не тексты конкретных авторов, а читательские вкусы. Чеховские пародии на романы В. Гюго и Ж. Верна построены по тому же принципу, причем намерение автора указать реципиенту на его литературные предпочтения маскируется с помощью повествовательных приемов. Примерами могут послужить наличие повествователя-переводчика в «Летающих островах» и играющее роль своеобразного новеллистического «пуанта» остранение фикциональной природы текста в финале «Тысячи и одной страсти». Проблема фикционального и документального была важна и для уголовного рассказа – жанра «малой прессы», для которого особенно актуальной (и сложной) являлась категория события. В рассказе «Суд» Чехов намеренно исключает эту важную точку уголовного сюжета: событийной оказывается не история, но то впечатление, которое должен получить от прочитанного адресат. Тот же эффект достигается писателем при помощи смешения уголовного жанра, который был довольно размытым явлением, и куда более четких в структурном отношении календарных рассказов («Верба», «Вор»). 153 Нарушение жанровых границ, во многом обусловленное законами «малой прессы», сочеталось в популярных текстах с явлениями межродового характера, важнейшим из которых является мелодраматизм. Эта категория, перешедшая из драматургии в прозу, является мощным способом воздействия на читателя. Особенно интересным оказывается то, что Чехов порой использует ее в сочетании с уже описанным нами интертекстуальным приемом: он стремится вызвать в сознании реципиента воспоминание о расхожем сюжете и одновременно отсылает к конкретному тексту (как в рассказе «Слова, слова и слова»). В этом и других случаях погружение в текст, обусловленное общей мелодраматической направленностью произведения, помогает писателю отвлечь внимание читателя от повествовательных и композиционных приемов, сместить его с позиции вненаходимости, что приводит к нарушению ожиданий аудитории. Отдельную проблему представляет функционирование календарных жанров в ранней прозе Чехова. Работая со столь «исчерпанным» жанром, как святочный рассказ, писатель по-своему остраняет его, создавая такую конструкцию, когда читатель не может выбрать для себя единую стратегию понимания текста. Так, в рассказе «Сон» изымается момент совершения события, в повествовании словно бы исчезает граница между «реальным» и «нереальным», и текст заканчивается обнажением этой неопределенности. В еще более сложном виде такая трансформация жанровой структуры представлена в рассказе «В рождественскую ночь». Проблематизированным событием в нем является характерное для текста этого жанра рождественское чудо. Постоянная смена точки зрения, мелодраматические элементы, придающие эффектность всем происшествиям, случающимся в мире этого чеховского рассказа, не позволяют читателю определить момент настоящего перелома и дать ему однозначную этическую оценку. Другой вариант трансформации календарного жанра у Чехова наблюдается в его охотничьих рассказах. По-своему интерпретируя традиционные для этого жанра темы (единение человека и природы, равенство людей разного социального 154 статуса в ситуации охоты), писатель тем не менее активно задействует такое свойство охотничьих рассказов, как «камерность», «интимность», создание атмосферы «своего круга». Это качество, как и мелодраматические механизмы, описанные выше, помогает ему вовлечь реципиента в художественный мир произведения и вынести событие за границу изображаемого мира, сделав событийным само впечатление читателя от текста. Все чеховские приемы, проанализированные нами на материале «малых жанров», так или иначе нашли свое отражение и в «больших формах», которые, благодаря своему объему, могли сочетать в себе самые разнообразные элементы. 155 Глава 3 «Большие формы» в раннем творчестве А.П. Чехова В предыдущей главе мы подробно рассмотрели повествовательные стратегии, жанровые и композиционные трансформации, которыми Чехов пользовался при создании ранних произведений. Однако в силу своего объема небольшие тексты далеко не всегда могут послужить полем для эксперимента или обеспечить ему успех. Несмотря на отмеченные нами особенности чеховских рассказов, им было достаточно сложно выделиться на фоне огромного количества похожих произведений, появлявшихся на страницах газет и журналов. В этом отношении важно исследовать специфику более крупных текстов, позволявших сочетать большее количество разнообразных литературных приемов в рамках одного произведения. На наш взгляд, наибольший интерес в этом отношении представляет «Драма на охоте» – текст, завершающий рассматриваемый нами период и содержащий в себе все разнообразие экспериментальных приемов, разработанных писателем в ранний период творчества. За счет усложнения повествовательной структуры, композиции, интертекстуального плана эта повесть оказывает особого рода эффект на реципиента, погружает его в состояние неуверенности, невозможное для массового читателя. Нашу идею об особом положении «Драмы на охоте» в системе ранних чеховских произведений подтверждает анализ рассказа «Зеленая коса», который демонстрирует авторскую работу над теми же структурными и сюжетными элементами, которые будут задействованы в «уголовном романе», но оказываются реализованными иначе в более раннем тексте («Зеленая коса» написана за два года до чеховской повести). Однако, безусловно, «Драма на охоте» была не единственным большим произведением, в котором писатель задействовал выработанные им художественные приемы. Жанровые трансформации и игра с читательскими 156 ожиданиями наблюдается в одном из самых мелодраматических чеховских произведений раннего периода – повести «Цветы запоздалые». 3.1. Проблема жанра и повествовательной структуры в повести «Цветы запоздалые» (1882) Повесть А.П. Чехова «Цветы запоздалые» обычно привлекает внимание исследователей как один из текстов, необычных для манеры молодого автора. В отличие от небольших юморесок, характерных для Антоши Чехонте, «Цветы запоздалые» – большая по объему и совсем не легкомысленная вещь. Можно с уверенностью говорить о том, что она органично встраивается в ряд крупных чеховских произведений раннего периода («Драма на охоте», «Зеленая коса», «Ненужная победа»), и в то же время повесть имеет ряд специфических художественных особенностей. Т.Ю. Ильюхина замечает, что среди других произведений Антоши Чехонте «Цветы запоздалые» …выделяются как произведение серьезное, но они ориентированы на того же читателя «Мирского толка», который с удовольствием прочтет и раздел хроники или общественной жизни, и уголовный роман, и сочинение в серьезноэлегическом роде на манер Тургенева 210. По мнению художественного исследовательницы, эксперимента создает в 1882 году несколько Чехов близких в порядке по сюжету произведений, отличие которых заключается только в выборе литературной формы: …на сходный сюжет (разница в аранжировке) Чехов написал три произведения. «Зеленую косу» в апреле, «Скверную историю» в июне и «Цветы запоздалые» в 210 Ильюхина Т.Ю. Указ. соч. С. 95. 157 октябре. Однако троекратное использование сходной темы (интересен, безусловно, сам путь: серьезная идиллия → анекдот → элегия) все же не есть поиск жанровой формы, а скорее только выбор архитектонической формы завершения одной и той же фабулы, варьирующейся в зависимости от «адресата». Мы не видим и здесь серьезных литературных задач. Главным (определяющим творческие интенции писателя) оказывается вновь читатель, для которого и, быть может, из-за которого написаны произведения211. Однако, как нам представляется, структура и сюжетная основа «Цветов запоздалых» имели для Чехова большое значение, ведь к ним он возвращается в одном из самых известных рассказов зрелого периода «Ионыч» (1898) 212. Правда, в позднем произведении фабула оказывается «перевернутой»: если доктор Топорков в конце ранней повести приходит к духовному просветлению, «оживает», то путь Старцева, напротив, ведет к равнодушию и апатии. Раннюю повесть отличают от этого рассказа не только фабульные перестановки, но и то, что в ней, в отличие от «Ионыча», акцентирована популярная в массовой литературе мелодраматическая линия. И разработка мелодраматической формулы у Чехова, на наш взгляд, связана не только с жанровыми экспериментами, но и с проблемой воздействия на читателя. Исследователями не раз отмечалось, что у каждого издания «малой прессы» был свой стиль, своя читательская аудитория 213. Это не снимало проблему конкуренции: ведь даже среди читателей одного журнала автору необходимо завоевать популярность. Решение такой задачи может быть более трудным, чем кажется на первый взгляд. Сложность связана с тем, что массовая аудитория всегда подготовлена к восприятию популярного текста: ей заранее известны формулы и шаблоны, которые используют писатели. Несмотря на то, что массовый читатель и массовая литература конца XIX века – понятия довольно 211 Ильюхина Т.Ю. Указ. соч. С. 105. Сопоставительный анализ этих произведений см., напр.: Куликова Е.И. К вопросу о становлении реализма в творчестве Чехова (Сравнительный анализ «Цветов запоздалых» и «Ионыча») // Вопросы русской и зарубежной литературы. Т. 2. Куйбышев, 1966. С. 165–182. 213 Подробнее см.: Ильюхина Т.Ю. Указ. соч.; Орлов Э.Д. Указ. соч.; Рейтблат А.И. Указ. соч.; Brooks J. Op. cit. 212 158 трудно поддающиеся определению, литератору, сотрудничавшему в популярных журналах, необходимо было создать произведение, которое одновременно отвечало бы ожиданиям реципиента и было способно его удивить. Как было показано в предыдущей главе, одним из чеховских способов вовлечения читателя в художественный мир рассказа является смешение жанров, причем жанровые эксперименты молодого писателя были часто связаны с использованием приемов, характерных для мелодрамы. «Цветы запоздалые» в этом отношении текст неоднозначный. С одной стороны, это большая форма, а именно большие формы чаще всего использовались Чеховым для творческого эксперимента, но, с другой стороны, повесть обладает большой степенью событийности для героев, мелодрама выходит здесь на первый план. По словам Т.Ю. Ильюхиной, …среди больших произведений раннего Чехова «Цветы запоздалые» имеют репутацию одного из самых серьезных. Но эта серьезность нисколько не выделяет произведение среди беллетристики Чехова, ориентированной на определенного читателя определенного журнала. Оно написано тем же Антошей Чехонте, и по общему числу перечисленных юмористически писателем в «Что обыгранных чаще всего литературных встречается штампов, в романах, повестях и т. п.?», не уступает ни одному из них214. Возникновение «серьезной» ситуации можно объяснить умело выстроенной мелодраматической интригой, однако будет логичным предположить, что писатель, так много внимания уделявший переосмыслению устоявшихся жанров, и в этом случае попытался трансформировать мелодраматический канон. Основным приемом, на котором строится повесть, является антитеза. В оппозиции друг к другу находятся мягкосердечная княжна Маруся и ее бессовестный брат князь Егорушка (а также его подруга Калерия Ивановна); противопоставленными 214 Ильюхина Т.Ю. Указ. соч. С. 94. оказываются бедность Приклонских и достаток 159 Топоркова, чувствительность княжны и прагматизм доктора. Антитеза проявляется и на уровне композиции: любовь к княжне Марусе полностью переворачивает жизнь Топоркова, изменяет его до неузнаваемости. Контрастность образов настолько сильна, что некоторые исследователи трактовали ее как промах молодого писателя. Так, Е.И. Куликова пишет: Чтобы подчеркнуть глубину падения героя, писатель должен был противопоставить ему высшее идеальное выражение человеческих возможностей. Так появляется образ княжны Маруси, воплощение чистоты, кротости, нравственной красоты. Психологическое содержание образа прекрасно, но Чехов пока не умеет достаточно художественно его выразить. Он так усиленно подчеркивает душевную чистоту Маруси, особенно проявляющуюся в любви к брату Егорушке и Топоркову, явно ее недостойных, что в изображении героини появляется известная нарочитость и надуманность 215. На деле со- и противопоставленными оказываются не только образы персонажей. Пристальное прочтение повести позволяет исследователю сделать вывод о том, что данный прием проявляется на глубинных уровнях текста: …особенности «внеречевого поведения» князей Приклонских как в завязке, так и в развитии сюжета раскрываются посредством сопоставления их расположения в пространстве. На этом основании, во-первых, сопоставляется внеречевое поведение княгини и Маруси, с одной стороны, и князя Егорушки, с другой. Вовторых, сопоставляются особенности расположения в пространстве, жесты и проч. старой княгини, с одной стороны, и Маруси, с другой. Как текстообразующее характерологическое средство используются глаголы движения и положения в пространстве216. 215 Куликова Е.И. К вопросу о становлении реализма в творчестве Чехова (Сравнительный анализ «Цветов запоздалых» и «Ионыча») // Вопросы русской и зарубежной литературы. Т. 2. Куйбышев, 1966. С. 172–173. 216 Лисоченко Л.В. Скрытое сопоставление как текстообразующий прием в рассказе А. П. Чехова «Цветы запоздалые» // Язык писателя. Текст. Смысл. Таганрог, 1999. С. 35. 160 В результате, у читателей с самого начала формируется неоднозначное отношение к героям произведения, причем происходит это незаметно. Резкая противопоставленность основных образов, включенных в мелодраматический контекст, отвлекает внимание от этой неоднозначности. Так, образ главной героини, олицетворяющей в повести все самое прекрасное, оказывается «скомпрометирован» характером и внешностью, которыми наделяет ее автор. Она изображена как «девушка лет двадцати, хорошенькая, как героиня английского романа, с чудными кудрями льняного цвета, с большими умными глазами цвета южного неба» (1; 392–393). Тема «романной девушки» продолжается и в описании привычек героини: она много читает и склонна видеть мир сквозь призму литературы. Как отмечает Т.Ю. Ильюхина, увлечение героини …тургеневскими романами приводит к тому, что она логику живой жизни подменяет логикой литературной. Ее восприятие жизни становится как бы опосредовано литературой. Логикой поведения знакомых литературных персонажей проверяются и объясняются мотивы поведения окружающих ее людей. Так, пьянство Егорушки объясняется безнадежной любовью, мучающей «отставного гусара», а сам Егорушка видится «непонятым, непризнанным» Рудиным, сломленным судьбой217. Чехов порой даже слишком настойчиво обращается к этой теме. Например, повествователь заявляет: «Ей нужно было прочесть на лице доктора: какое впечатление произвела на него ее игра? Но не удалось ей ничего прочесть. Лицо доктора было по-прежнему безмятежно и сухо. Он быстро допивал чай» (1; 407). Это замечание не просто иронично: в контексте постоянного обращения к теме чтения данный фрагмент в воспринимающем приближается к реализованной метафоре. 217 Ильюхина Т.Ю. Указ. соч. С. 98. сознании максимально 161 Интересно, что повествователь применяет этот прием и по отношению к самой героине: Лучше самая отчаянная скука, чем та непроходимая печаль, которая светилась в это утро на лице Маруси. Шлепая по жидкой грязи, моя героиня плелась к доктору Топоркову. Зачем она шла к нему? «Я иду лечиться!» — думала она. Но не верьте ей, читатель! На ее лице недаром читается борьба (1; 418). Таким образом, на протяжении всего текста повествователь многократно подчеркивает условность образа княжны Маруси, постоянно намекает на то, что перед нами персонаж художественного текста. В одно и то же время повествователь уподобляет героиню реальным читательницам 218 (что должно способствовать их «вчувствованию» в текст, сопереживанию княжне) и выстраивает непреодолимую дистанцию между реципиентом и художественным миром повести. По принципу противоречий выстраивается и образ доктора Топоркова. Несмотря на то, что повествователь отмечает сдержанность, педантичность героя, его неспособность или нежелание проявлять чувства, Топорков показан как один из самых искренних персонажей повести. Он не пытается произвести на других впечатление. Эта его особенность открывается читателю не сразу. Так описывается доктор при его первом посещении Приклонских: «Прошел он через зал, гостиную и столовую, ни на кого не глядя, важно, по-генеральски, на весь дом скрипя своими сияющими сапогами. Его огромная фигура внушала уважение» (1; 397). Если первое предложение является словом повествователя и, как кажется, иллюстрирует заносчивость персонажа, то вторая часть цитаты демонстрирует впечатление, которое доктор производит на своих пациентов. Это подтверждается и далее в тексте: 218 Как отмечает Т.Ю. Ильюхина, «среди читательниц наибольшей популярностью пользовалась именно беллетристика, а также медицинская литература. Собственно читательницы, вне зависимости от их социального положения, всегда активнее других, так сказать, проявляли себя в историко-литературном процессе того времени» (Ильюхина Т.Ю. Указ. соч. С. 95). 162 Волосы мягки, как шёлк, и красивы, но, к сожалению, подстрижены. Занимайся Топорков своею наружностью, он не стриг бы этих волос, а дал бы им виться до самого воротника. Лицо красивое, но слишком сухое и слишком серьезное для того, чтобы казаться приятным. Оно, сухое, серьезное и неподвижное, ничего не выражало, кроме сильного утомления целодневным тяжелым трудом (1; 397). Приведенный пример указывает на то, что описание «чертовски правильного» Топоркова отражает восприятие его другими персонажами, для которых большую важность имеет происхождение доктора, специально подчеркнутое повествователем219. В дальнейшем это становится еще очевиднее: У княгини порвалось на плечах платье и что-то оторвалось в животе, у Маруси позеленело в глазах и страшно заболели руки, — так был тяжел Егорушка! А он, доктор медицины Топорков, важно шагал за кроватью и сердито морщился, что у него отнимают время на такие пустяки. И даже пальца не протянул, чтобы помочь дамам! Этакая скотина!.. (1; 398) Переполненная научными терминами речь доктора тоже вряд ли является попыткой выставить себя в выгодном свете, эта деталь скорее говорит о неумении общаться, нежели о том, что герой хочет впечатлить окружающих своими знаниями220. Неестественность Топоркова на самом деле вполне естественна для него: Княгиня и Маруся, которым ужасно хотелось поговорить с умным человеком, не знали, с чего начать; обе боялись показаться глупыми. Егорушка смотрел на доктора, и по глазам его видно было, что он собирается что-то спросить и никак не соберется. Тишина воцарилась гробовая, изредка нарушаемая глотательными 219 «По происхождению он плебей, но плебейского в нем, кроме сильно развитой мускулатуры, почти ничего нет» (1; 397). 220 Как отмечается в повести, «Топорков никогда не рисовался, да и едва ли он умел когда-нибудь рисоваться, но все позы, которые он когда-либо принимал, выходили у него как-то особенно величественны» (1; 421). 163 звуками. Топорков глотал очень громко. Он, видимо, не стеснялся и пил, как хотел. Глотая, он издавал звуки, очень похожие на звук «глы». Глоток, казалось, изо рта падал в какую-то пропасть и там шлепался обо что-то большое, гладкое (1; 405). Повествователь снова встает на внутреннюю точку зрения хозяев, тогда как мысли и чувства Топоркова оказываются скрытыми от читателя. Разделяя ощущения княгини и Маруси, описанные ироничным повествователем, реципиент воспринимает героя как довольно комичного, несуразного и не очень приятного. Однако в данном эпизоде очевидно переворачивается основная для повести оппозиция, полюсами которой являются «естественность» и «неестественность». Крайне чувствительная княжна Маруся, воплощение наивности и открытости, здесь не может заговорить с Топорковым, потому что боится показаться глупой, в то время как сам доктор явно ведет себя естественно. Безусловно, преобладание внутренней точки зрения княжны Маруси подчеркивает ее противопоставленность Топоркову. Странности в поведении героя и закрытость его сознания от читателя производят впечатление того, что этот герой в принципе не способен на чувства. Данный прием обеспечивает возрастание напряжения, необходимое для мелодраматической развязки, и читатель, следящий за развитием событий, может пропустить обратимость заявленной в тексте оппозиции. Интересно отметить сюжетное сходство проанализированного нами эпизода со сценой, в которой княжна признается доктору в любви. Именно в этой сцене происходит «преображение» Топоркова, повествователь наконец проникает во внутренний мир героя, за счет чего создается впечатление, будто прежде у него не было ни мыслей, ни чувств, а способность к движениям души у него родилась, когда он услышал признание Маруси. Этот момент и чаепитие у Приклонских противопоставляются как моменты максимального понимания и непонимания героев, немоты и способности говорить (княжна), бесчувственности и обретения души (Топорков). 164 И тем не менее на протяжении всего текста читателю не давалось никаких сведений о том, насколько мнения княгини и княжны о герое соответствуют действительности. Нельзя отрицать того, что в финале происходит «прозрение» героя, – это главное событие «Цветов запоздалых», однако при внимательном чтении оказывается, что его неожиданность обусловлена не только реальностью фиктивного мира, но и особенностями повествования. И несмотря на то, что воссоединение влюбленных в финале повести оправдывает читательские ожидания, анализ показывает, насколько иронично построено произведение не только по отношению к персонажам, но и по отношению к реципиенту. Давая читателю минимальное повествователь чувствами представление вынуждает героини, о внутреннем воспринимающего образ которой очевидно субъекта должен мире Топоркова, отождествиться вызвать с улыбку. Следовательно, перед нами не мелодрама в чистом виде и не пародия на этот жанр, но выдержанный в традициях мелодрамы текст, содержащий определенную долю рефлексии по поводу собственной формулы. Он построен на сюжетных и повествовательных контрастах, но противопоставленные герои оказываются по сути сопоставленными. Так, после смерти княжны Маруси жесткий по характеру Топорков оказывается ослепленным эмоциями, как до этого была ими ослеплена героиня: Он, говоря с женщиной, глядит в сторону, в пространство... Почему-то ему страшно делается, когда он глядит на женское лицо... Егорушка жив и здоров. Он бросил Калерию и живет теперь у Топоркова. Доктор взял его к себе в дом и души в нем не чает. Егорушкин подбородок напоминает ему подбородок Маруси, и за это позволяет он Егорушке прокучивать свои пятирублевки (1; 431). Духовная эволюция персонажа оказывается под вопросом, героиня же практически не меняется на протяжении повести. Преградой, мешающей торжеству любви, по сути, является только характер доктора, о котором читатель 165 может судить лишь по тому, как его воспринимают окружающие. Роль злодея отводится брату княжны Маруси, хотя он на самом деле был бы рад выгодному браку сестры с доктором, так как заботится лишь о собственном благополучии. Таким образом, в «Цветах запоздалых» главным двигателем мелодраматической коллизии оказывается повествовательная структура повести, которая играет решающую роль в подготовке читателя к финальному событию. Во многом именно она создает условия для возникновения этого события. Важные для Чехова определенной идеей мелодраматическом или вопросы непонимания, одержимости человека мечтой материале, в этой повести опосредованном были ироническим решены на отношением повествователя. С иронией здесь диссонирует «серьезное» впечатление, которое повесть тем не менее производит. На наш взгляд, возможность реального вчувствования читателя в текст обусловлена повествовательным приемом, от эпизода к эпизоду вынуждающим реципиента встать на позицию героини. Остается неясно, насколько совместимы серьезная и ироничная интенции в этом тексте. Однако с уверенностью можно говорить о том, что в «Цветах запоздалых», как и в других «больших текстах» раннего периода, Чехов большое внимание уделяет проблеме воздействия текста на читателя. И в сюжет о непонимании, позднем прозрении и ошибочной интерпретации он пытается вовлечь еще одного «героя» – реципиента. 166 3.2. Повествование, композиция и жанровые трансформации в повести «Драма на охоте» (1884) «Драма на охоте» как уголовный роман: повесть Чехова в контексте русской массовой литературы XIX века Одним из самых сложных текстов Чехова, написанных в ранний период творчества, по праву считается «Драма на охоте». Эта повесть выдержана в жанре популярного среди читателей «малой прессы» уголовного романа, что не могло не сказаться на особенностях ее поэтики. Так, характерное для русской популярной словесности стремление сблизить документальные и фикциональные тексты активнее всего проявлялось именно в русском варианте детектива – в этом смысле подзаголовки, которые мы встречаем в «Драме на охоте» («Из записок судебного следователя» и «Истинное происшествие»), были достаточно привычны для уголовного романа. Если учитывать разносторонность жанра газетного романа и уголовного романа в частности, вряд ли стоит удивляться тому, что во вставной повести «Драмы на охоте» столь важную роль играет любовная линия, которую можно также обозначить как мелодраматическую. Для сравнения можно привести сочинение В. Александрова «Медуза», роман об убийстве, написанный в начале 1890-х годов.221 Если сделать список его героев, давая им при этом краткую характеристику, получится нечто похожее на список действующих лиц пьесымелодрамы: Вера Аркадьевна Тиминева – влюблена в Алинского. Убита. Антонина Аркадьевна Неверова – ее сестра. Влюблена в Алинского. Петр Сергеевич Тиминев – муж Веры. Убит. Судебный следователь Крылович – влюблен в Тоню. Павел Аркадьевич Неверов – брат Тони и Веры. 221 Александров В.В. Медуза. Роман из уголовной хроники в 2 частях. СПб.: Издание С. Добродеева, 1890. 167 Алинский – студент, влюблен в Тоню. Сестрицы Авдиевы. Лев Семенович Авдиев – влюблен в Веру. Убийца. Как мы видим, наличие нескольких любовных треугольников для русского уголовного романа не было чем-то необычным. Однако следует отметить, что, несмотря на огромное внимание, уделенное именно мелодраматическому сюжету, сюжет собственно детективный для авторов уголовных романов был не менее важен, тогда как в чеховской «Драме на охоте» он сокращен до минимума. Таким образом, усиление любовной темы в произведении Чехова одновременно и сближает его с другими текстами этого жанра, и отдаляет его от них. Еще одна тема, возникающая в русских уголовных романах222, – это тема литературы и чтения. Ее появление в рассматриваемых текстах можно отчасти объяснить повышенным вниманием автора к психологии преступника. Описание преступления в уголовных романах занимало гораздо меньше места, чем «исповедь» подсудимого, причем такая «исповедь» обычно представляла собой историю всей жизни человека начиная с самого раннего детства. Таких авторов, как А.А. Шкляревский, Н.П. Тимофеев, занимал вопрос о том, что именно подтолкнуло человека к совершению преступления. Достаточно часто причиной оказывалось влияние среды на героя: тяжелое детство, жизнь в провинции, знакомства, меняющие мировоззрение человека, книги, которые читает герой. Тема книг и литературы занимает важное место в творчестве самого известного в России того времени автора детективов – А.А. Шкляревского. В его рассказе «Женский труд» книги становятся своего рода «убийцами» главной героини – Веры Исталиной223. О Вере сказано: 222 Эта тема, с одной стороны, могла быть заимствована русским уголовным романом из высокой литературы, с другой стороны, «малая пресса» в принципе отличалась вниманием к литературе и литературному быту, как было показано в Главе 1. 223 Стоит, однако, оговориться, что в данном случае перед нами метонимия: под книгами необходимо понимать идеи, которые в них содержатся. 168 Вера Исталина слыла в нашем губернском городе за девицу примерной нравственности, хотя ее и обзывали нигилисткой <…> Она носила коротко обстриженные волосы, одевалась постоянно в черное платье с длинным шлейфом, на столе лежали сочинения Фохта, Молешота, Дарвина, Милля и т. п. Но, несмотря на чтение таких «безнравственных», по мнению граждан нашего города, книг, она находилась в самых почтительных отношениях к матери и в добрых ко всему семейству224. Вдохновленная новыми идеями, которые она почерпнула из книг и бесед со своим возлюбленным, героиня пытается совершать правильные, на ее взгляд, поступки – начинает работать, читать все больше научных книг. Другой герой – влюбленный в Веру Горохов – показывает, насколько несостоятельны ее идеи и бесполезны (или даже вредны) ее поступки. Он объясняет, что, начав работать, Вера и подобные ей девушки лишают заработка бедняков, которые куда больше, чем эти барышни, нуждаются в деньгах. Горохов убеждает героиню в том, что чтение научных книг, которое она считает полезным, совершенно бессмысленно, так как она читает их без системы и не понимает того, что в них написано. Разочаровавшись в мировоззрении, которое стало смыслом ее существования после смерти жениха, Вера убивает себя. Таким образом, у Шкляревского чтение – главный фактор формирования характера и мировоззрения персонажа, основной элемент психологической характеристики. Стоит, однако, подчеркнуть, что этот прием не нарушает жанровых конвенций русского уголовного романа и не является чем-то особенным для русской литературы в целом. Тема чтения является центральной и в другом произведении Шкляревского – «Отчего он убил их?». Сюжет рассказа таков: Сергей Антонович Наростов убивает свою жену Екатерину и любовницу Частову, после чего пытается покончить жизнь самоубийством. Его спасают, и он рассказывает следователю 224 Шкляревский А.А. Повести и рассказы. М., 1872. С. 2–3. 169 историю своей жизни, объясняя, что побудило его совершить это страшное преступление. Интересно, что, рассказывая о каждом этапе своей жизни, герой сопровождает свою речь комментариями о том, какие книги попадали к нему в руки. Так, говоря о детстве, герой замечает: Единственной моей отрадой и утешением были книги, когда я выучился читать. Забившись куда-нибудь в уголок, я читал все, что попадалось в руки: «Отечественные Записки», «Библиотеку для чтения», романы Жорж Занда, географию Арсеньева, историю Кайданова, а больше всего я перечитывал валявшийся роман Дюма «Графиня Монсоро» да «Вечный жид» 225. После поступления в гимназию любовь Наростова к чтению …развилась еще сильнее, а чтение было еще безалабернее домашнего. Там всетаки я читал лучшие произведения литературы, помещенные в журналах текущих лет; здесь же я доставал, по неимению лучших, лубочные издания вроде романов Зряхова, Потапова и переводные романы Поль-де-Кока, Поля Феваля, Бальзака и подобных им. Такое чтение не могло не оказать вредного влияния на мою нравственность226. Даже изменения в отношениях героя с отцом связаны с книгами. Как говорит он сам, после переезда в уездный город выбор чтения сделался гораздо лучше и по местам доступнее: библиотека уездного училища была к моим услугам, так как отец состоял библиотекарем. На чтение мое прежде он не обращал внимания и только наказывал, если я брался за такую, которой он не считал подходящею для меня, теперь же он начал расспрашивать, стал глумиться, что меня только занимает процесс чтения, как 225 226 Шкляревский А.А. Повести и рассказы. С. 123. Там же. С. 126. 170 гоголевского Петрушку, что я стараюсь проследить сюжет, а не мысль автора и характер действующих лиц; советовал более обратить внимание на научный и критический отдел227. Приведенный фрагмент рассказа замечателен еще и тем, что показывает, насколько этот текст авторефлексивен. В том, что говорит Наростову отец, угадывается уже отмеченная нами установка на психологизм, характерная для детективного жанра в России конца XIX века. Русская литература изменяет соотношение действия и характера в уголовном романе. Процесс расследования, который должен вызывать читательский интерес, часто редуцируется или заменяется рассказом персонажа-преступника. Несмотря на то, что процесс расследования или (что еще более показательно) финальная обличающая речь сыщика и «исповедь» виновного на первый взгляд имеют мало отличий – и то, и другое являют нам историю совершения преступления, – между ними есть разница. В первом случае перед нами действие, процесс: излагая по порядку открывшиеся ему факты, следователь словно бы творит сюжет прямо на глазах у читателя. В случае, когда говорит преступник, акцент переносится на его личность: это психологический портрет персонажа. Было бы неправильным утверждать, что в каждом русском уголовном романе XIX века возникает тема покаяния или исповеди преступника. Иногда следователь узнает историю от героя, которого лишь условно можно назвать виновником трагедии228. В других случаях «исповедь» может присутствовать в тексте, но речь героя не совсем соответствует той роли, которую он пытается на себя примерить. Например, в уже отмеченном нами рассказе Шкляревского «Отчего он убил их?» повествователь говорит: 227 Шкляревский А.А. Повести и рассказы. С. 135. Такая ситуация складывается в уже упомянутом рассказе «Женский труд»: историю Веры рассказывает Горохов, который не является убийцей девушки, но отчасти виновен в том, что она наложила на себя руки. 228 171 Наростов ошибся: частности и мелочи, касавшиеся его детства, отнюдь не казались мне скучными; но мне было неприятно то тщеславие, та рисовка, какими окружал себя и старался выгородить свое я. Впрочем, при его воспитании иначе и быть не могло 229. Несмотря на то, что повествователь объясняет поведение героя его воспитанием, слова Наростова компрометируют не столько его как порядочного человека, сколько сам факт его раскаяния. Еще более интересными нам представляются слова героя о его намерении разорвать отношения с Частовой: Частова хочет бросить меня, рассуждал я. Нет же, нет, я брошу ее, я добьюсь этого во что бы то ни стало. Все тщеславие восстало во мне и заглушило все другие чувства. Пусть она знает, что я бросил ее, и бросил не из ревности, не потому что она изменила мне, а потому, что я так хочу. Я бросаю ее как ненужную вещь. Вот что оскорбит ее, вот что утешит меня230. Как с ненужной вещью, с героем обращается Частова, и именно это ранит его так сильно. Он хочет отплатить любовнице той же монетой, так как его тщеславие не позволяет ему воспринимать себя как объект чьих-либо манипуляций. Это же становится причиной, по которой начинает рушиться его брак. Наростов говорит о своих отношениях с женой: Человек моего закала готов простить обвинение себя в каком угодно проступке, лишь бы оно льстило его самолюбию, готов сам всячески унижать себя, – это своего рода потеха самолюбия; но оценку своего ничтожества другому – он не простит… Я был разгадан, чувствовал это и не стал себя сдерживать 231. 229 Шкляревский А.А. Повести и рассказы. С. 135. Там же. С. 164. 231 Шкляревский А.А. Повести и рассказы. С. 149. 230 172 Таким образом, причина трагедии, произошедшей с героем, отчасти кроется в его страхе потерять самого себя, утратить контроль над происходящим, ощутить себя объектом чьих-то действий. Интересно, что возвышение себя над другими людьми, восприятие себя как единственно возможного носителя правды встречается и в других русских произведениях об убийствах. Так, в «Рассказе судебного следователя» Шкляревского232 героиня (Александра) убивает сестру (Настасью), объясняя свой поступок тем, что Настасья опустилась на дно жизни и убить ее – значит поступить правильно, можно даже сказать, благородно по отношению к самой Настасье. Такие эгоцентрические мотивировки в совокупности с усилением любовной линии и акцентированной темой литературы (и литературности) отчетливо выявляются и в чеховской «Драме на охоте». В этой повести также проблематизируется тема исповеди героя. Однако, даже несмотря на то, что «Драма на охоте» в этом смысле становится в один ряд с современными ей уголовными романами, мы можем говорить о том, что в произведении Чехова эти привычные для структуры русских формульных текстов элементы действуют несколько по-другому. Если в массовой литературе конца XIX века. эти элементы проявлялись в основном на уровне сюжета или попросту проговаривались героями, то у Чехова в действие включаются внутренние механизмы построения текста и моделирования особой читательской реакции. Чеховский текст с первой же страницы отрицает себя как детективный, лишая реципиента начальной тайны. Он ведет с читателем сложную игру, правила которой не так очевидны, как может показаться на первый взгляд. Для того, чтобы понять, что скрывается в этом тексте, необходимо подробнее рассмотреть его повествовательную структуру. Рамочная композиция 232 Шкляревский А.А. Рассказ судебного следователя // Русский уголовный роман. М., 1992. С. 30–77. 173 Главное, что отличает чеховский текст от современных ему уголовных романов, – усложненность композиции. Рамочная композиция достаточно привычна для этого жанра беллетристики, каждый уголовный роман должен включать в себя по меньшей мере один вставной текст: «исповедь» преступника (или обвинительную преступления. В речь «Драме следователя), на охоте» восстанавливающую вставным текстом историю оказывается «самостоятельное» художественное произведение, что усложняет отношения между вставной повестью и обрамляющим текстом. Прием рамочного повествования во все времена пользовался большой популярностью. Голландская исследовательница Мике Баль на примере сказок «Тысячи и одной ночи», одного из самых известных произведений типа «рассказ в рассказе», отмечает интересную особенность такого рода композиции: Каждую ночь она (Шехерезада. – К. О.) рассказывает сказку, в которой, в свою очередь, рассказывается еще одна сказка, так что в итоге получается конструкция: Шехерезада рассказывает А, что B рассказывает С, что… Иногда в этом построении возникает до восьми повествовательных уровней <…> Если вставной текст представляет собой законченную историю со сложной фабулой, мы постепенно забываем о фабуле обрамляющего рассказа. В случае со сказками «Тысячи и одной ночи» такое забывание означает, что Шехерезада достигла своей цели: так как мы забываем, что на кон поставлена ее жизнь, об этом забывает и царь <…> Суммируя все, что происходит в рамке, мы скажем: «Той ночью Шехерезада очаровала царя». Благодаря такому пересказу становится очевидным символическое значение повествовательного акта, подтвержденное причиной, по которой жизнь героини оказывается под угрозой (неверность предыдущей жены царя). И для царя, и для Шехерезады рассказывание обозначает жизнь, хотя каждый вкладывает в это собственный смысл 233. 233 Bal M. Op.cit. P. 53. 174 «Рассказывание, дающее жизнь»234, на наш взгляд, можно расценивать как метафору процесса, характерного для произведений с подобного рода композицией, где «две перспективы, потусторонние друг для друга, друг друга рефлектируют и завершают»235. Как отмечает Н.Т. Рымарь, «рама литературного произведения формируется в диалоге с текстом действительности, рама во внутренней системе произведения формируется в диалоге с фикциональным текстом. Этот второй диалог вполне аналогичен первому, что имеет большое значение для литературной практики…»236. Художественный мир «Драмы на охоте» иллюстрирует отношения, возникающие на границе реальности и эстетики, и для того, чтобы понять природу этих отношений, необходимо подробно проанализировать повествовательную структуру повести. В «Драме на охоте» представлены два текста двух героев: редактора и писателя Камышева. Текст первичного нарратора 237 – редактора – представляет собой не только рамку, но и примечания к произведению Камышева. Повесть вторичного нарратора – Камышева – является вставным рассказом, занимающим значительную часть чеховского произведения. Как известно, чеховский текст публиковался в газете частями, что может вызвать вопрос о необходимости анализа произведения как рамочной структуры: ведь читатель в основном имел дело только со вставным рассказом. Можно даже заметить, что граница между рамкой и вставным текстом достаточно условна: повесть Камышева визуально обособлена с помощью заглавия и слова «Конец», а начатая нумерация глав238 сразу же обрывается, оставляя читателей газеты наедине с текстом персонажа. Однако нельзя не учитывать тот факт, что «Драма на охоте» была полностью написана до начала публикации, и на формирование отношений между элементами этого текста специфика рецепции повлиять не могла. 234 Ibid. Рымарь Н.Т. О завершающей функции рамы в литературном произведении // Рама и граница. Граница и опыт границы в художественном языке. Вып. 3. Самара, 2006. С. 24. 236 Рымарь Н.Т. О завершающей функции рамы в литературном произведении. С. 26. 237 Мы используем терминологию, использованную В. Шмидом в книге «Нарратология», для того чтобы облегчить процесс различения повествователей на разных уровнях. 238 За названием «Драма на охоте (из записок судебного следователя)» следует заголовок «Глава 1». 235 175 Как нам представляется, анализ рамочной структуры лучше начинать именно с большего по объему вставного текста, после чего возможно будет проследить его отношения с рамкой. Анализ вставной повести Во вставном тексте мы имеем дело с персонифицированным рассказчиком – судебным следователем. Камышев представляет этот текст как собственные воспоминания, документальную прозу, однако первое, что бросается в глаза в его книге, – ориентация на разные литературные жанры и традиции, многочисленные отсылки к известным произведениям. Появление такого количества цитат и реминисценций при выбранной форме повествования от первого лица характеризует прежде всего нарратора – Зиновьева. И первое, о чем читатель получает представление, – главный герой. Образ рассказчика, как он сам его выстраивает, ориентирован на образы знаменитых литературных сыщиков. Так, граф Карнеев называет его Лекоком – по имени главного героя романов Габорио. В связи с детективной литературой примечательна фигура Поликарпа, слуги Зиновьева, любимым занятием которого было чтение. С одной стороны, эта особенность сближает его с дворецким Габриэлем Беттереджем (персонаж романа У. Коллинза «Лунный камень»), который не расстается с «Робинзоном Крузо» Д. Дефо. С другой стороны, интересно отметить, какие книги читает Поликарп, ибо, хотя он, подобно гоголевскому Петрушке, читает все, что попадает к нему в руки, «из всей массы печатного и писанного он признает одни только страшные, сильно действующие романы с знатными “господами”, ядами и подземными ходами, остальное же он окрестил “чепухой”» (3; 251). Литературные пристрастия Поликарпа словно бы предсказывают появление в тексте другой (не детективной) литературной линии, которая связана в большей степени с фигурой ненавидимого Поликарпом графа Карнеева и историей, произошедшей после его возвращения в 176 усадьбу. Условно эту линию можно назвать романтической, или, скорее, «готической»239. В первую очередь обращает на себя внимание особый хронотоп графской усадьбы: Меня никто не встретил. Окна и двери в комнатах были открыты настежь, но, несмотря на это, в воздухе стоял тяжелый, странный запах. То была смесь запаха ветхих, заброшенных покоев с приятным, но едким, наркотическим запахом тепличных растений, недавно принесенных из оранжереи в комнаты... В зале, на одном из диванов, обитых светло-голубой шёлковой материей, лежали две помятые подушки, а перед диваном на круглом столе я увидел стакан с несколькими каплями жидкости, распространявшей запах крепкого рижского бальзама. Все это говорило за то, что дом обитаем, но я, обойдя все одиннадцать комнат, не встретил ни одной живой души. В доме царила такая же пустыня, как и вокруг озера... (3; 253–254) Как видно из приведенного отрывка, в описании усадьбы встречаются два дискурса, перебивающие друг друга: уже упомянутый «готический» дискурс и второй, который можно условно обозначить как «реалистический». Переходы от одного дискурса к другому совершаются резко, порой в рамках одного предложения. Это свойство текста сохраняется на протяжении всей повести Камышева: каждая литературная линия в ней перебивается этим «реалистическим» дискурсом (который больше, чем вкрапления из других традиций, напоминает язык чеховских текстов), поэтому пока мы будем говорить только о тех стилистических особенностях, которые не составляют основы текста. В данном случае перед нами черты «готического» хронотопа. Примечательно, что сам хронотоп готического замка во всей своей функциональности в повести не представлен, но отдельные его элементы проявляются довольно четко. Запущенное имение графа Карнеева ассоциируется с заброшенным замком, фраза 239 Подробнее о традиции русского готического романа см.: Вацуро В.Э. Готический роман в России. М., 2002. 544 с. 177 «все это говорило за то, что дом обитаем, но я, обойдя все одиннадцать комнат, не встретил ни одной живой души» (3; 254) будто бы намекает на некую тайну. Графский сад предстает столь же пустынным и заброшенным, как и дом: Тут и полуразрушенные, поросшие мхом гроты, фонтаны, прудики, предназначенные для золотой рыбы и ручных карпов, горы, беседки, дорогие оранжереи... И эта редкая роскошь, собранная руками дедов и отцов, это богатство больших, полных роз, поэтических гротов и бесконечных аллей было варварски заброшено и отдано во власть сорным травам, воровскому топору и галкам, бесцеремонно вившим свои уродливые гнезда на редких деревьях! <…> Он обратил внимание на отсутствие никому не нужного песочка, а не заметил голых, умерших за холодную зиму деревьев… (3; 260). Первой в этом «безлюдном» месте герой «встретил девяностолетнюю старуху Настасью, бывшую когда-то нянькой у графа. Это — маленькое, сморщенное, забытое смертью существо, с лысой головкой и колючими глазами. Когда глядишь на ее лицо, то невольно припоминаешь прозвище, данное ей дворней: “Сычиха240”» (3; 254). Образ другого графского слуги, Франца, напоминает образы живых мертвецов, которыми изобилуют готические романы: Войдя в беседку, мы увидели другое живое существо. На старом, полинявшем биллиарде с порванным сукном лежал старик невысокого роста в синем пиджаке, полосатых панталонах и жокейском картузике. Он сладко и безмятежно спал. Вокруг его беззубого, похожего на дупло рта и на остром носу хозяйничали мухи. Худой, как скелет, с открытым ртом и неподвижный, он походил на труп, только что принесенный из мертвецкого подвала для вскрытия. (3; 261–262) 240 Имя Сычиха отсылает читателя к образу жестокой старухи из популярного романа Э. Сю «Парижские тайны». Ср.: «Я помню себя с семи лет. Тогда я жила у старухи, которую называли Сычихой… потому что у ней был нос крючком, круглый зеленоватый глаз, и она была очень похожа на сову» (Сю Э. Парижские тайны. СПб., 1844. Т. 1. С. 13). 178 Третий слуга графа оказывается одноглазым (причем рассказчик замечает это, только приехав в усадьбу, хотя именно этот человек приносил ему послание от Карнеева); в контексте «странностей» Сычихи и Франца эта его особенность тоже приобретает несколько мистический характер. Интересно, что даже «карнеевский мужик» (3; 290) Иван Осипов, которого Зиновьев, будучи пьяным, ударил веслом по голове, оказывается рыжим – черта, которая часто ассоциируется с нечистой силой. Все вышеперечисленное действительно вызывает ассоциации с готическими романами. В этих романах место, где разворачивается действие, обычно замок или аббатство, – это «старая полуразрушенная постройка мрачного вида с… длинными темными коридорами, анфиладами пустых комнат…» 241. Здесь «герой должен быть готов к самым неожиданным встречам. Здесь обитают привидения…»242 (вспомним Франца, который сравнивается с мертвецом, или Сычиху, которая всем своим видом напоминает ведьму). Кроме того, «замок располагается в горах, либо окружен густым темным лесом, скрывающим его местонахождение»243. Как отмечают Н.Д. Тамарченко и А.А. Полякова, «в романтический период… на смену средневековому замку приходит старинная усадьба…»244. В таком случае заброшенный сад функционально приравнивается к уже упомянутому темному лесу. Однако в повести встречается еще один таинственный дом, стоящий посреди леса (на этот раз настоящего). Это дом лесничего Скворцова, в котором рассказчик и граф, пережидая грозу, впервые разговаривают с Ольгой. Перед тем, как попасть туда, герои проходят мимо Каменной Могилы – горы, с которой связана старая легенда о том, «что под этой каменной грудой покоится тело какого-то татарского хана, боявшегося, чтобы после его смерти враги не надругались над его прахом, а потому и завещавшего взвалить на себя гору камня» 241 Полякова А.А. Готический роман: жанровый канон и типологические разновидности // Судьба жанра в литературном контексте: Сборник научных статей. Вып. 2. Иркутск, 2005. С. 151. 242 Полякова А.А. Готический роман: жанровый канон и типологические разновидности. С. 151 243 Там же. С. 151–152. 244 Тамарченко Н.Д., Полякова А.А. «Черный монах» А. П. Чехова и готическая традиция // Дискурсивность и художественность: К 60-летию Валерия Игоревича Тюпы: Сборник научных трудов. М., 2005. С. 138. 179 (3; 263). Можно сказать, что гора указывает путникам направление: «у подножия Могилы шла дорога, по бокам которой высились старики-тополи. Дорога эта вела к графскому лесу, тянувшемуся до самого горизонта» (3; 263). А там, в лесу, Каменная Могила опять появится – на этот раз в разговоре Зиновьева с Ольгой. Рассказывая о том, что ее мать погибла от удара молнии, Ольга говорит: Мне вот как хотелось бы умереть. Одеться в самое дорогое, модное платье, какое я на днях видела на здешней богачке, помещице Шеффер, надеть на руки браслеты... Потом стать на самый верх Каменной Могилы и дать себя убить молнии так, чтобы все люди видели... Страшный гром, знаете, и конец... 245 (3; 272). Угрюмость леса, таинственная Каменная Могила, гроза словно бы вводят в текст «излюбленную готиками тему зловещей природы как предвестника мрачной тайны и фона трагических событий»246. Центром, к которому сходятся все «готические линии» в «Драме на охоте», оказывается именно сцена в домике лесничего. Внимание всех героев в этот момент приковано к Ольге Скворцовой. Появление мистических мотивов указывает на то, что, вероятно, сюжет этой повести близок к сюжету так называемого сентиментального готического романа, главное место в котором обычно занимает «трогательная история молодой и невинной девушки»247, причем здесь «обязательно и присутствие мрачного злодея, который во что бы то ни стало хочет разлучить героиню с возлюбленным» 248. Мрачным злодеем в повести Камышева, пожалуй, нельзя назвать никого, но тема разлуки с любимым, тема жертвы и обольстителя в произведении, несомненно, 245 Позднее Чехов еще вернется к этому «готическому» сюжету. Ср. эпизод во время грозы с началом рассказа Чехова «Рассказ госпожи NN»: «Лет десять назад, как-то раз перед вечером, во время сенокоса, я и Петр Сергеич, исправляющий должность судебного следователя, поехали верхом на станцию за письмами. Погода была великолепная, но на обратном пути послышались раскаты грома, и мы увидели сердитую черную тучу, которая шла прямо на нас. Туча приближалась к нам, а мы к ней <…> Мой спутник был в ударе. <…> Он говорил, что было бы недурно, если бы на пути нам вдруг встретился какой-нибудь средневековый замок с зубчатыми башнями, с мохом, с совами, чтобы мы спрятались туда от дождя и чтобы нас в конце концов убил гром...» (6; 450). 246 Марченя П.П. Традиции готической литературы в повести Карамзина «Остров Борнгольм» и новелле Э. По «Падение дома Ашеров» // Карамзинский сборник. Ч. I. Биография. Творчество. Традиции. XVIII век. Ульяновск, 1997. С. 113. 247 Будур Н. Готическая английская проза и пути ее развития // Английская готическая проза: В 2 т. Т. 1. М., 1999. С. 7. 248 Там же. 180 присутствуют, и это вводит в текст еще одну литературную линию – мелодраматическую. В основном мелодраматические элементы проявляются на сюжетном уровне: в повести перед нами несколько любовных треугольников, не раз повторяется обычная для мелодрамы ситуация разрушения семьи вследствие обольщения жертвы злодеем. Этой схеме, например, соответствует сцена объяснения Зиновьева и Ольги сразу же после венчания героини с Урбениным: в порыве страсти следователь хочет увезти возлюбленную, буквально украсть ее у мужа249. Однако в этот мелодраматический эпизод вновь вторгается «реалистичный» дискурс: Ольга отказывается разрушать брак. На смену ее патетическим речам о любви приходят другие, словно бы принадлежащие другому человеку: «И бог знает что выдумал! Убежать сейчас же после венца! Что люди скажут!» (3; 327). Ситуация отчасти повторяется, когда на месте Зиновьева оказывается граф, причем в роли покинутого в данном случае выступают два героя: Зиновьев и Урбенин. Формально Ольга уходит к графу от мужа, фактически – она оставляет Зиновьева. В обоих случаях Ольга пытается вырваться из мира, в котором она живет, в какой-то другой, идеальный, мир, где она будет богата и счастлива. Обольстители при этом, по законам мелодраматического жанра, принадлежат тому миру, в котором существует все, к чему страстно стремится герой. Так, например, Ольга говорит Зиновьеву: «Зачем я вышла за него замуж? <…> Я могла бы выйти за человека, которого я люблю, который меня любит! <…> За вас! <…> Вы умны, благородны, молоды... Вы богаты... Вы казались мне недоступны!» (3; 324–325). Но, как это обычно бывает в мелодрамах, «представление об “ином мире” всегда 249 Интересно отметить, что эта ситуация, даже будучи рассмотрена лишь формально, содержит в себе элемент, резко противоречащий традиционному мелодраматическому сюжету: в роли обольстителя выступает рассказчик. Даже если принять во внимание тот факт, что по своей природе мелодрама – это жанр драматический (хотя отдельные его элементы нередко играют важную роль и в прозаических произведениях), сочувствие зрителя/читателя в любом случае должно быть на стороне жертвы, а никак не на стороне злодея. Здесь это осложняется тем, что рассказ ведется от лица героя-обольстителя, а, как известно, при повествовании от первого лица читатель вынужден принимать точку зрения нарратора. Это нарушение рифмуется с не менее заметным нарушением детективного канона: убийцей в «Драме на охоте» также оказывается повествователь. 181 оказывается иллюзорным»250: героиня так и не находит желаемого счастья ни с Зиновьевым, ни с графом. Еще одна ситуация, не лишенная мелодраматизма, – любовный треугольник между Зиновьевым, Надеждой Калининой и доктором Вознесенским, другом Зиновьева. Рассказчик в данном случае также выступает в роли злодея, который отвергает влюбленную в него девушку. Все «готические» и мелодраматические особенности, отмеченные нами в тексте повести, безусловно, не являются доказательством принадлежности этого произведения к тому или иному жанру. Как было отмечено, эти дискурсы никогда не предстают в произведении в чистом виде, все элементы (как сюжетные, так и стилистические) не могут реализоваться полностью, их блокирует другой, основной для этого текста дискурс, который выше мы условно назвали «реалистическим». И в самом деле, описание загадочной графской усадьбы сменяется бытовой сценой у графа. Рассказ Ольги о том, как ей хотелось бы умереть от удара молнии, выглядит смешным, когда она замечает, что такая смерть ей нравится, только если она при этом будет одета «в самое дорогое, модное платье» (3; 272). Герои, попадающие в мелодраматические ситуации, не вписываются в собственные амплуа: читатель начинает сочувствовать «злодеюобольстителю», героиня из наивной девушки начинает превращаться в роковую женщину. Более того, как мы уже сказали, стилистические перебои могут совершаться даже в рамках одного-двух предложений. Например: …когда уже меня начало помучивать раскаяние, что я пошел вправо, а не влево, я вдруг услышал странные звуки. Кто-то смеялся или плакал. Звуки исходили из одной пещеры, которую я хотел осмотреть последней. Быстро войдя в нее, я, охваченный сыростью, запахом плесени, грибов и известки, увидел ту, которую искал. Она стояла, облокотившись о деревянную колонну, покрытую черным 250 Степанов А.Д. Психология мелодрамы. С. 43. 182 мохом, и, подняв на меня глаза, полные ужаса и отчаяния, рвала на себе волосы. Из ее глаз лились слезы, как из губки, когда ее жмут (3; 324). Готический дискурс прерывается очевидно бытовой деталью – сравнением слез героини с водой, которую выжимают из губки. Подобное сочетание разнородных реминисценций, цитат и стилей М. Баль предлагает называть не интертекстуальностью, а интердискурсивностью 251. Как нам представляется, собрание штампов и цитат в случае с Зиновьевым является в некоторой степени осознанным. Автобиографический образ следователя не мог не учитывать писательские амбиции самого Камышева, что отразилось в литературоцентричности героя вставной повести. Так, Зиновьев дотошно анализирует стиль послания графа Карнеева, отмечая, что Краткость письма, претензия его на некоторую игривость и бойкость свидетельствовали, что… (граф. – К.О.) много изорвал почтовой бумаги, прежде чем сумел сочинить это письмо. В письме отсутствовало местоимение «который» и старательно обойдены деепричастия — то и другое редко удается графу в один присест (3; 249). Интересно отметить, что в повести только граф в шутку называет Зиновьева Лекоком, намекая на его профессию. Однако сам герой не стремится отождествлять себя с литературными сыщиками, хотя при знакомстве с рассказчиком читатель вполне может провести такие параллели. С самого начала произведения герой настроен на другой дискурс – романтический. Собственное состояние он описывает так: «мною вдруг овладело тяжелое чувство... Молодой человек, полный жизни, сил и желаний, заброшенный волею судеб в деревенские дебри, был охвачен чувством тоски, одиночества» (3; 250). 251 См.: Bal M. Op. cit. P. 65. 183 Можно сказать, что интеллигент Зиновьев примеряет к миру литературные шаблоны. Описание его собственной комнаты иногда включает в себя детали «страшных» романов, которые так любит читать Поликарп: Мои стены до сих пор еще украшают фотографические карточки его родственников, а над моею кроватью всё еще висит портрет самого хозяина. Покойник, худощавый, жилистый человек с рыжими усами и большой нижней губой, сидит, выпучив глаза, в полинялой ореховой раме и не отрывает от меня глаз всё время, пока я лежу на его кровати... (3; 247) Это описание вызывает в памяти галереи старинных портретов, висящих на стенах в готическом замке, а пугающий крик попугая («Муж убил свою жену») напоминает зловещие предсказания, которыми изобилует этот жанр. Книги притягивают внимание Зиновьева: несмотря на то что его мысли заняты предстоящей поездкой к графу, он успевает поинтересоваться, какую книгу читает его слуга; в домике лесничего он тщательно изучает библиотеку Ольги, не забывая при этом спросить у нее: «Вы, когда входили сюда в комнату… пели “Люблю грозу в начале мая”. Разве эти стихи переложены на песню?» (3; 272). Невероятно «книжными» представляются отношения Зиновьева и Надежды Николаевны Калининой. Однажды в разговоре с героем она произносит фразу: «Если кто подслушает, то подумает, что я навязываюсь, словно... пушкинская Татьяна» (3; 330). И действительно, их история чем-то напоминает фабулу «Евгения Онегина»: герой, который покидает влюбленную в него девушку; героиня, которая сама начинает объяснение с возлюбленным. Но Надежда Николаевна ошибается: Зиновьев, если и был когда-то Онегиным, то давно сменил роль. Теперь он скорее похож на Ленского – поэта, влюбленного в Ольгу, но не Ларину, а Скворцову. Вспомним героинь Пушкина. Татьяна: Итак, она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, 184 Ни свежестью ее румяной Не привлекла б она очей. Дика, печальна, молчалива, Как лань лесная боязлива…252 Ольга: Всегда как утро весела, Как жизнь поэта простодушна, Как поцалуй любви мила, Глаза как небо голубые, Улыбка, локоны льняные, Движенья, голос, легкий стан, Всё в Ольге... но любой роман Возьмите и найдете верно Ее портрет…253 Зиновьев, подобно Ленскому, выбирает второй тип героини для своего романа. Он отвергает Надежду Николаевну, говоря себе, что она «угрюма, мечтательна, умна» (3; 307), тогда как любимая им Ольга «представляла из себя девятнадцатилетнюю девушку с прекрасной белокурой головкой, добрыми голубыми глазами и длинными кудрями» (3; 264). Новую расстановку ролей невольно отмечает отец Надежды Николаевны, Калинин, который сравнивает графа Карнеева с Онегиным. Действительно, теперь именно с графом будет связана история его дочери, тогда как друг Карнеева, Зиновьев, влюблен в Ольгу и в литературу. Есть и другие примеры «книжного» поведения рассказчика. Так, во время гуляния у графа он порывается сжечь деньги – и в истерической ситуации этой бурной ночи его действия напоминают поступок Настасьи Филипповны из «Идиота» Достоевского. 252 253 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 6. Евгений Онегин. М.; Л., 1937. С. 42. Там же. С. 41. 185 В другой раз Зиновьев говорит о том, что ему нравится лицо старика Михея, потому что тот «своею наружностью напоминает библейских рыболовов... Он сед, как лунь, бородат и созерцательно глядит на небо... Когда он стоит неподвижно на берегу и следит взором за бегущими облаками, то можно подумать, что он видит в небе ангелов» (3; 286). При этом герой в основном не выбирает случайных литературных шаблонов, в его «жизнетворчестве» есть логика. Так, когда любовные перипетии затрагивают судьбу следователя, готический шаблон уступает главное место мелодраматическому, а после смерти Ольги появляется детективная линия в наиболее чистом виде. В зависимости от обстоятельств «литературная схема» нарратора может корректироваться. Вот, например, размышления рассказчика после того, как он услышал новость о предстоящем замужестве Ольги: Я глядел на красивую девушку, на ее молодое, почти детское лицо и удивлялся, как это она может так страшно шутить? Сразу я представил себе рядом с нею пожилого, толстого, краснолицего Урбенина с оттопыренными ушами и жесткими руками, прикосновение которых может только царапать молодое, только что еще начавшее жить женское тело... (3; 308). Образ, складывающийся в мыслях Зиновьева, представляет собой вариацию на тему красавицы и чудовища254. Особенно ярко на это указывает слово «царапать», которое напоминает о чем-то зверином. Однако здесь же мы можем вспомнить о характерной детали в описании графа Карнеева: несколько раз в тексте говорится, что он оцарапал щеку Зиновьева своими усами (причем одно из этих упоминаний расположено в тексте очень близко от приведенного выше абзаца об Урбенине). Этот лексический повтор маркирует смену героя: ситуация не изменится, но вместо Урбенина в роли чудовища будет выступать граф. Рассказчик остро реагирует на ситуации, когда события «выходят за рамки жанра». Например, изменения в характере Ольги волнуют его не только по 254 Еще одна «сказочная» схема: после замужества Ольга, еще недавно игравшая с детьми Урбенина в лесу, превращается для них в «злую мачеху». 186 личным причинам. Он гораздо больше огорчен тем, что его «светлые воспоминания быстро стушевывались под напором тяжелых воспоминаний. Какая поэзия прошлого могла устоять перед грязью настоящего? <…> Теперь… (он. – К. О.) глядел на нее, как на оптический обман, ложь, фарисейство... и она утратила… половину прелести» (3; 347). В день убийства Зиновьев говорит о себе: Гнев овладел всем моим существом. И этот гнев был так же силен, как та любовь, которая начинала когда-то зарождаться во мне к девушке в красном... Да и кто бы, какой камень остался бы равнодушен? Я видел перед собою красоту, брошенную немилосердной судьбою в грязь. Не были пощажены ни молодость, ни красота, ни грация... Теперь, когда эта женщина казалась мне прекрасней, чем когда-либо, я чувствовал, какую потерю в лице ее понесла природа, и мучительная злость на несправедливость судьбы, на порядок вещей наполняла мою душу... (3; 359). То, что Ольга играла его чувствами, отходит на второй план, важно, что определенный порядок вещей был нарушен. Однако рассказчик сам завершает историю Ольги, вписывая ее в определенный сюжет – мелодраматический или близкий к нему, романсный. Он убивает героиню в припадке ревности, когда им управляют гнев и страсть255, – именно это его состояние фиксирует приведенная выше цитата. Романсная тема в повести связана, прежде всего, с цыганами, которых приглашает для развлечения граф Карнеев и которые находятся в его доме во время происшествия с Ольгой. Сама ситуация, когда герой убивает героиню из-за ревности, в порыве гнева или страсти, характерна для жанра жестокого романса. Кроме всего прочего, цыгане в повести поют романс на стихи А.Н. Апухтина «Ночи безумные, ночи бессонные», в которых есть такие строки: Пусть даже время рукой беспощадною Мне указало, что было в вас ложного, 255 В настоящий момент мы не говорим о разговоре Камышева с редактором на эту тему, в котором слова следователя звучат достаточно цинично, так как данная сцена не входит в обрамляемую историю. 187 Все же лечу я к вам памятью жадною, В прошлом ответа ищу невозможного...256 Эти слова соотносятся со словами повествователя в «Драме на охоте»: Теперь, когда я пишу эти строки, в мои теплые окна злобно стучит осенний дождь и где-то надо мной воет ветер. Я гляжу на темное окно и на фоне ночного мрака силюсь создать силою воображения мою милую героиню... И я вижу ее с ее невинно-детским, наивным, добрым личиком и любящими глазами. Мне хочется бросить перо и разорвать, сжечь то, что уже написано. К чему трогать память этого молодого, безгрешного существа? <…> Она дала буре поцелуй, и буря сломала цветок у самого корня. Много взято, но зато слишком дорого и заплачено. Читатель простит ей ее грехи... (3; 265–266). Интересно отметить, что в 1890 году появилось стихотворение Апухтина «Сумасшедший», послужившее затем основой для создания городского романса «Васильки». В этой, измененной, версии лирический герой из-за ревности убивает свою возлюбленную ориентированность Олю. вторичного Данный факт нарратора не лишний столько раз доказывает на конкретные произведения, сколько на определенные литературные традиции, дискурсы, стили. Столь подробный интертекстуальный (интердискурсивный) анализ вставной повести был нам необходим прежде всего для характеристики фигуры повествователя, являющегося alter ego героя из обрамляющей истории. Таким образом, главный герой обрамляемой истории воспринимает мир текстуально. Рассказчик словно бы утверждает свою власть над повествуемым миром. Подобной властью обычно обладает другой тип повествователя – всеведущий недиегетический нарратор в третьеличном повествовании. С другой стороны, как отмечает М. Баль, 256 Апухтин А.Н. Полное собрание стихотворений. Л., 1991. С. 201. 188 С точки зрения грамматики, существует только «перволичный нарратив». По сути термин «третьеличный повествователь» является абсурдным: нарратор не может быть обозначен как «он» или «она». В лучшем случае нарратор может повествовать о ком-то – о «нем» или о «ней» – кто, кроме всего прочего, также является нарратором257. Если встать на эту позицию, власть текстопорождающего сознания Зиновьева над всем повествованием кажется вполне законной и доказуемой. При этом, как и всеведущий нарратор, рассказчик Зиновьев иногда способен проникать в сознание других героев: в тексте представлена их внутренняя точка зрения. Например, описывая молящуюся Надежду Николаевну и наблюдающего за ней доктора Вознесенского, повествователь говорит: «Он словно сторожил ее молитву, и в его глазах светилось страстное, тоскующее желание быть предметом ее молитвы. Но, к его несчастью, он знал, за кого она молилась… Не за него…» (3; 298). Другим ярким примером является описание детей Урбенина во время венчания: «…лица их изображают вопросительные знаки. Им непонятно, на что их отцу сдалась тетя Оля и зачем он берет ее к себе в дом» (3; 318). Чеховский повествователь, таким образом, стремится к власти, к контролю над миром, возникающим в его произведении. Эта позиция слишком идеологична, чтобы быть успешной, что впоследствии за границами вставного текста приводит к провалу героя как писателя и как «сверхчеловека». Анализ обрамляющей истории Выше мы анализировали вставную повесть практически как самостоятельное произведение, однако не стоит забывать, что между ней и рамкой существует довольно тесная связь, поэтому любые выводы, сделанные на основе только предшествующего анализа, были бы неполными. Как мы уже отмечали, первичный нарратор не только редактирует текст Камышева, но и дополняет его своими примечаниями, таким образом словно бы «дописывая» его. Кроме того, 257 Bal M. Op. cit. P. 22. 189 история, излагаемая в «записках судебного следователя», в обрамляющем рассказе приобретает альтернативную концовку. Появление этой концовки, казалось бы, помогает вернуть произведение в рамки заявленного в заглавиях жанра, ведь если рассматривать текст в целом (как объединение двух повествований), можно говорить о том, что детективная схема в нем на самом деле сохраняется: рассказчик-редактор выступает в роли сыщика, раскрывающего преступление Камышева. С.Н. Баханек замечает, что «появление над одним следователем другого»258 маркируется уже в повести следователя, когда читателю сообщается о висящем над кроватью героя портрете его «предшественника (Поспелова), умершего незадолго перед назначением Камышева» 259. Но даже то, что роли сыщика и убийцы в этом случае оказываются разведены, не является достаточным доказательством того, что чеховская «Драма на охоте» – детектив. Здесь есть основные элементы жанра: сыщик, финальная сцена разоблачения преступника, раскиданные по тексту улики против Камышева (подчеркнутые редактором места в его повести), но нет главного: в начале сюжета отсутствует тайна. Читатель, с одной стороны, не знает, в чем винить Камышева, а с другой, он с самого начала предупрежден, что этот человек совершил нечто ужасное. Так, описывая своего посетителя, редактор говорит: От всего лица так и веет простотой, широкой, простецкой натурой, правдой... Если не ложь, что лицо есть зеркало души, то в первый день свидания с господином с кокардой я мог бы дать честное слово, что он не умеет лгать. Я мог бы даже держать пари. Проиграл бы я пари или нет — читатель увидит далее (3; 242). Повесть судебного следователя редактор предваряет откровенным намеком на разгадку, загадки для которой читатель не получает: 258 Баханек С.Н. «Драма на охоте» А. П. Чехова: следователь в поисках понимания // Художественная литература, критика и публицистика в системе духовной культуры: Сборник статей. Вып. 6. Тюмень, 2005. С. 53. 259 Там же. 190 Ночью я еще раз прочел эту повесть, а на заре ходил по террасе из угла в угол и тер себе виски, словно хотел вытереть из головы новую, внезапно набежавшую, мучительную мысль... А мысль была действительно мучительная, невыносимо острая... Мне казалось, что я, не судебный следователь и еще того менее не присяжный психолог, открыл страшную тайну одного человека, тайну, до которой мне не было никакого дела... Я ходил по террасе и убеждал себя не верить своему открытию... (3; 245–246). В сочетании с предыдущей цитатой и с тем, что Камышев, которого рассказчик уже при первом разговоре уличает во лжи, по замечанию редактора, «играет в… повести очень видную роль» (3; 241), эти слова недвусмысленно указывают на настоящего преступника, но не компенсируют отсутствия самого преступления в начале повести. Есть и еще одна странность в рассказе редактора. Его произведение называется «Драма на охоте. Истинное происшествие». Как и судебный следователь, этот герой выбирает подзаголовок, подчеркивающий документальность повествуемой истории, то есть выбирает жанр, который сам же считает литературным штампом и которым «бедная публика давно уже набила оскомину» (3; 244). Мы все больше убеждаемся в том, что перед нами литературное произведение редактора: рассказчик называет его «моя повесть», а Камышева представляет ее героем. Описывая внешность судебного следователя, редактор снова сообщает о том, что перед читателем прежде всего художественная книга, а не просто документальный отчет: «Но, что главнее всего и что так немаловажно для всякого мало-мальски порядочного героя романа или повести, — он чрезвычайно красив» (3; 242). Перед нами два текста двух рассказчиков, и между этими текстами существует определенное сходство, которое проявляется даже на сюжетном уровне. Так, очень схожими оказываются начальные сцены обеих повестей, дающие толчок последующему повествованию. В рассказе редактора перед нами три персонажа: редактор (рассказчик), сторож Андрей и Камышев, который 191 пытается встретиться с редактором и вручить ему свою рукопись (детектив), причем изначально редактор не хочет его принимать. В начале вставной повести перед нами также предстают три героя: следователь Зиновьев (рассказчик), его слуга Поликарп и некое «постороннее лицо» (3; 248) – посланец от графа. Последний принес следователю письмо от графа, то есть тоже собирается передать рассказчику некий текст, причем этот текст начинается со слов «Милый мой Лекок!»260 (3; 249), заставляющих читателя вспомнить не только о профессии героя, но и о соответствующей литературной традиции. Пришедший тоже встречает сопротивление, на этот раз со стороны слуги, который не хочет пускать его к Зиновьеву. Образ постоянно читающего Поликарпа ассоциируется с разговором редактора и Камышева о читателях и с редакцией, публикующей романы. Стараясь заинтересовать читателя, оба рассказчика слегка приоткрывают перед ним сюжетную тайну. Например, в одной из сносок редактор отмечает: «Заметно, что Камышев зачеркивал не во время писанья, а после… К концу повести я обращу на эти зачеркивания особое внимание» (3; 365, курсив Чехова). Вторичный нарратор еще чаще прибегает к этому приему. Так, в начале вставной повести читатель обнаруживает длинный пассаж, предсказывающий «девушке в красном» трагическую судьбу: «Бедная белокурая головка! Думал ли я в этот тихий, полный покоя майский вечер, что она будет впоследствии героиней моего беспокойного романа? <…> Она дала буре поцелуй, и буря сломала цветок у самого корня» (3; 266). Еще одним примером может послужить описание садовой калитки: «В редком романе не играет солидной роли садовая калитка <…> Но моя калитка разнится от других тем, что моему перу придется провести сквозь нее много несчастных и почти ни одного счастливого <…> У меня проведет она сквозь себя более преступников, чем влюбленных» (3; 262). 260 Лекок – герой детективных романов Э. Габорио, популярных в России в конце XIX века. Заметим, что, перед тем, как стать сыщиком, Лекок разработал план, позволявший ему незаконно завладеть большой суммой денег. Намерение свое он, однако, не выполнил – предпочел не совершать преступления, а раскрывать их. Примечательно, что Зиновьев, совмещающий в себе роли следователя и убийцы, в самом начале истории сравнивается с литературным героем, который должен был совершить выбор между преступной жизнью и службой в полиции. 192 Есть сходства и в том, как повести завершаются. В конце повести Камышева говорится: «Жизнь, которую я вижу сейчас сквозь номерное окно, напоминает мне серый круг: серый цвет и никаких оттенков, никаких светлых проблесков...» (3; 406). Через несколько строк следует слово «Конец». В последней сцене обрамляющего рассказа редактор говорит: Я подошел к окну и взглянул в него... На извозчике, затылком к нам, сидела маленькая, согбенная фигурка в поношенной шляпе и с полинявшим воротником. Трудно было узнать в ней участника драмы! <…> Камышев кивнул головой и быстро вышел. Я сел за стол и предался горьким думам. Мне было душно (3; 416). Вспомним начало повести, когда редактор только прочитал рукопись Камышева: В тот же день вечером я, несмотря на отсутствие досуга, прочел всю повесть от начала до слова «Конец», написанного размашистым почерком. Ночью я еще раз прочел эту повесть, а на заре ходил по террасе из угла в угол и тер себе виски, словно хотел вытереть из головы новую, внезапно набежавшую, мучительную мысль... (3; 245) Истории переплетаются, герой-редактор переживает состояние причастности к чужой тайне. Текст, который он совсем недавно воспринимал как вымышленный, становится для него действительностью. Взглянув в окно, он видит графа Карнеева, и эта финальная сцена перекликается с началом рассказа следователя, в котором события начинают происходить после приезда графа в имение. Перед нами циклическая структура, которая тематизируется в тексте в образе уже упомянутого «серого круга» (3; 406). Таким же циклическим характером отмечена и ситуация прочтения повести Камышева редактором: 193 «внутренний» читатель отождествляет текст с действительностью, что отсылает «внешнего» читателя к подзаголовку всей повести Чехова: «Истинное происшествие»; круг снова замыкается. Еще одним приемом, сближающим повествования двух нарраторов, является использование так называемого «текста-зеркала» – небольшого вставного текста, имеющего непосредственное отношение к сюжету обрамляющей его истории. М. Баль пишет, что …место вставного текста – текста-зеркала – в обрамляющем тексте определяет его значение для читательского восприятия. Когда текст-зеркало возникает ближе к началу произведения, читатель может, основываясь на этой истории, предсказать фабулу рамки. В целях сохранения саспенса сходство вставного текста с рамкой часто бывает завуалировано. Вставной текст будет интерпретирован как предсказывающий финал текст-зеркало, только если читатель способен уловить в этой абстракции частичное сходство с внешней историей 261. В произведении Камышева роль текста-зеркала играет рассказанная Ольгой история о смерти ее матери, завершающаяся желанием девушки умереть при таких же ярких и необыкновенных обстоятельствах. По отношению к обрамляющей истории роль своеобразного текста-зеркала играет повесть Камышева. Благодаря многочисленным связям, возникающим между рамкой и вставным рассказом, выявляется истинная сущность первичного нарратива: текст редактора построен именно как художественное, а не документальное произведение. Об этом свидетельствуют его «оговорки» и переклички, помещенные между его рассказом «от себя» и повестью Камышева. Рамка и вставная повесть перекликаются, и при этом «рифмуются» фигуры рассказчиков: они оба расследуют преступление, один – «в жизни», другой – в книге. Следователь Камышев оказывается убийцей, но и редактор, не совершивший преступления, тоже не равен самому себе: под маской редактора, 261 Bal M. Op. cit. P. 58. 194 пересказывающего реальную историю, скрывается автор художественного текста. Подлинной тайной повести оказывается тайна автора, маскирующего свой художественный текст под документальный. Выяснив, что чеховская «Драма на охоте» имеет единый сюжет, порожденный одним творческим сознанием (редактор), мы сталкиваемся с вопросом о соотношении представленных в ней повествователей. Стремление Камышева-Зиновьева утвердить себя в качестве субъекта напрямую связано с темой творческой личности. Попытка помыслить мир текстуально, перевоплотить жизнь в литературу и благодаря этому получить над ней контроль – все это говорит о творческом начале, присутствующем в герое. Однако ни в литературном творчестве, ни в жизни Камышев своей цели не достигает: его произведение оказывается набором штампов и цитат, а сам он не в состоянии безоговорочно принять на себя роль «сверхчеловека» («И сам я себе гадок» (3; 415), – говорит он редактору). Установив многочисленные сходства в образах двух повествователей, мы не можем не задаться вопросом, ожидает ли «истинного творца» этой истории – редактора262 – такая же неудача? Как мы помним, главной причиной провала Камышева становится то, что он стремится не столько к свободе, сколько к превосходству (или даже к власти) над другими. Ему близка позиция, о которой говорит И. Э. Васильева, описывая сознание художника в «Доме с мезонином»: «Сознание… художника, в силу своей открытости, как раз не может игнорировать “другого” <…> Используя понятийную систему М.М. Бахтина, можно сказать, что он противится завершенности себя для другого»263. Однако при этом у Камышева нет важного качества творца. Художник должен быть «открыт к диалогу даже с другим, чуждым сознанием»264, тогда как Камышев-Зиновьев стремится скорее к монологу, 262 Безусловно, «редактор» – это скорее поименование персонажа. Порождающее сознание повествователя в «Драме на охоте» сливается с ним, но не идентично ему. 263 Васильева И.Э. Специфика чеховской событийности: «Дом с мезонином». С. 130. 264 Там же. С. 130. 195 ему хочется «излиться чем-нибудь: начхать всем на голову, выпалить во всех своей тайной…» (3; 414). Н.А. Карпов отмечает, что этот «персонаж никаких претензий на гениальность не заявляет, вполне объективно оценивая свой скромный талант и сознательно “ориентируясь на уровень среднего читателя”» 265, однако, как нам представляется, этот герой гораздо тщеславнее, чем может показаться. Во-первых, уже в начале «Драмы на охоте» Камышев говорит редактору: «А уж мою-то вещь примите, пожалуйста… Вы говорите, что несерьезно, но… трудно ведь назвать вещь, не видавши ее… И неужели вы не можете допустить, что и судебные следователи могут писать серьезно?» (3; 244). Во-вторых, фраза о «среднем читателе», относящаяся скорее не к эстетическому вкусу аудитории, а к ее проницательности, находит себе опровержение в устах самого героя. Камышев, намекая на прозрачность своего замысла, действительно говорит: «Я написал эту повесть – акт, по которому только недалекий затруднится узнать во мне человека с тайной… Что ни страница, то ключ к разгадке… Не правда ли? Вы, небось, сразу поняли…» (3; 414). Однако страницей раньше тот же герой обращается к редактору совсем с другими словами: «…вы поймали секрет за хвост, – и ваше счастье. Редкому это удастся: больше половины ваших читателей ругнет старика Урбенина и удивится моему следовательскому уму-разуму» (3; 413). Герой уверен в собственной гениальности, читателя же он не вписывает в диалогическую систему. Ему нравится бравировать своей тайной, собственным превосходством над другими, он радуется своему блистательному обману, своей неуловимости. По словам Камышева, он давал много поводов к тому, чтобы его секрет раскрылся, но ему всегда удавалось выйти сухим из воды («Отчего они не брали меня, когда я был в их руках? На похоронах Ольги я так ревел и такие истерики со мной делались, что даже слепые могли бы узреть истину… Я не виноват, что они… глупы» – 3; 415). Его ошибка заключается в попытке совместить эстетическое и реальное, приравнять жизненный факт к факту литературному: получается, что написание повести от камышевских истерик на похоронах «девушки в красном» 265 Карпов Н.А. Два «криминальных» романа: «Отчаяние» Набокова и «Драма на охоте» Чехова // Homo universitatis: Памяти Аскольда Борисовича Муратова (1937–2009). Сборник статей. СПб., 2009. С. 258. 196 отличает только масштаб его поступка, теперь он рассчитывает на гораздо большее количество свидетелей своего триумфа. История Камышева является историей неудавшегося произведения и неудавшегося социального жеста. Однако чеховское произведение не является ни тем, ни другим, что делает правомерной постановку вопроса о дополнительной (обусловленной не только законами композиции) иерархии повествователей в «Драме на охоте». В отличие от Камышева, редактор всячески подчеркивает свою непричастность к созданию вставной повести. Он вообще ни разу не называет себя писателем. И все же текст «Драмы на охоте» в том виде, в каком он предстает перед читателем, содержит в себе множество намеков на то, что это произведение необходимо рассматривать как повествование редактора. Его власть над текстом выражается, как мы уже говорили, в постоянных вторжениях во вставную повесть, существенно влияющих на восприятие и способствующих превращению вторичного нарратора в персонажа. Такая объективизация вторичного нарратора еще больше усугубляется, когда в послесловии редактор начинает пересказывать вырезанные из повести эпизоды. Мотивировка пересказа тем, что книга Камышева «не могла быть напечатана в газете, о которой шла речь в первой главе этой повести: газета прекратила свое существование, когда рукопись поступила в набор…» (3; 407), и тем, что «редакция, давшая приют роману Камышева, нашла невозможным печатать его без урезок» (3; 407), является не очень логичной, ведь непонятно, как эта глава, явно предназначенная для первой газеты и не учитывающая последующие обстоятельства, могла попасть в окончательный вариант книги. Действия первичного нарратора объективируют вставную историю, но не дают ей превратиться в морализаторский трактат, соединяя ее сюжет с рамкой. Изображая героя, не понимающего принципиальной границы между этикой и эстетикой, первичный нарратор уходит от этой проблемы. Его действия прямо противоположны действиям Камышева. Если последний стремился из 197 эстетического пространства выйти в этическое, то повествователь-редактор, напротив, всячески отговариваясь от статуса литератора, формально уподобляет свой рассказ вставной истории, перемещаясь таким образом из этического пространства в эстетическое, что и наделяет его статусом творца и субъекта говорения в этом тексте. Характер событийности в «Драме на охоте» Вопрос о характере события в повести Чехова напрямую связан с ее сложной повествовательной структурой. Рамочное повествование обнажает необходимость разведения двух типов события: события рассказа и рассказывания, необходимость различать «коммуникативную событийность дискурсивного процесса и референтную событийность процесса исторического (или квазиисторического, “фикционального” в области художественной литературы)»266. В «Драме на охоте» изображенными событиями становятся и событие рассказа, и событие рассказывания, так как и герой-писатель, и геройредактор становятся субъектами повествования. При этом, хотя мы установили, что в иерархии рассказчиков главенствует безымянный редактор, нельзя игнорировать тот факт, что вставная повесть не только занимает большую часть произведения, но и является более остросюжетной, чем рамка. Безусловно, такие особенности композиции исключают как возможность последовательного вычленения событий на каждом уровне текста, так и устранение какого-либо уровня из анализа. Исследовать событийность в данном случае необходимо, учитывая взаимодействие нарративных уровней и опосредованность сюжетных элементов определенной точкой зрения. Главным событием повести можно считать смерть Ольги, потому что вокруг этого происшествия строится сюжет как вставной истории, так и рамки. Рассказчиком (и носителем точки зрения) и в том, и в другом случае является герой-писатель. Не стоит забывать, что рамка тесно связана со вставным 266 Тюпа В.И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса («Архиерей» А. П. Чехова). С. 20. 198 рассказом и события, излагаемые в нем, опосредуются не только точкой зрения повествователя Зиновьева, но и сознанием редактора – автора примечаний. Смерть «девушки в красном» предсказана законами детективного жанра, что, конечно, не отменяет ее значения как события ни для героев, ни для читателя. Однако именно после происшествия в лесу во вставном рассказе начинает активно звучать голос первичного нарратора, намекающий, что главное событие книги еще впереди. К тому же после смерти героини не происходит традиционного развития сюжета: повествователь обрывает свой рассказ, когда «читатель вправе ожидать вступления романа в самый интересный и бойкий фазис» (3; 401–402). Трагедия и все последующее за ней разворачиваются на пересечении первичного и вторичного нарративов, по этой причине смерть Ольги может расцениваться как событие, только если мы рассматриваем ее как смерть героини от руки судебного следователя. В таком случае центральное событие «Драмы на охоте» происходит не внутри вставной истории, а на ее пересечении с рамкой и состоит из двух частей: из фактического происшествия и из его последствий. Для того чтобы лучше понять специфическую природу этого события, возникающего на границе двух историй, необходимо обратить внимание на некоторые жанровые особенности чеховского текста. «Драма на охоте» – произведение достаточно объемное и вдобавок к этому существующее в определенном жанровом контексте, благодаря чему в критике и литературоведении оно часто именуется не повестью, а романом. Дискуссии о чеховских романах многочисленны и разнообразны. Так, А. Генис и П. Вайль выделяют в творчестве писателя особый жанр «микро-романов», который характеризуется, «в первую принципиальной незавершенностью многозначностью и заданной очередь, идеи, разомкнутостью открытостью неопределенностью фигуры повествования, финала, <…> центрального персонажа»267. По мнению А.В. Кубасова, в рассказах Чехова мы находим 267 Вайль П., Генис А. Путь романиста. Чехов // Вайль П., Генис А. Родная речь: Уроки изящной словесности. М., 2008. С. 241. 199 свойственное жанру романа совмещение точек зрения, ибо «глубокое постижение истины становится возможным только в диалоге различных сознаний» 268. Открытый финал, «свободное перемещение» персонажа из вставной истории в обрамляющую создают ощущение того, что чеховская повесть действительно строится по законам романа. Главная особенность «Драмы на охоте» – пересечение сознаний Камышева и редактора – обостряет выделенную А.В. Кубасовым проблему взаимодополнения точек зрения героев. Учитывая то, что сознание первичного повествователя (редактора) является в чеховской повести порождающим, креативным сознанием, отношения редактора и писателя можно рассматривать не только как отношения двух героев, но и как отношения автора и персонажа. В этом случае особую актуальность приобретает замечание М.М. Бахтина о том, что в романе «изображающее авторское слово лежит в одной плоскости с изображенным словом героя и может вступить с ним (точнее: не может не вступить) в диалогические взаимоотношения и гибридные сочетания» 269. Кроме того, изображенный в «Драме на охоте» переход героя из фикционального (произведение Камышева) в «реальный» (реальность редактора) мир по законам романа «получает отношение к нашей неготовости, к нашему настоящему»270. Можно говорить о статичности Камышева как персонажа: его деятельность направлена на изображение, рассказывание, объективацию. Даже несмотря на то, что его действиям в «Драме на охоте» уделено гораздо больше места, чем первичному нарратору, этот герой не выходит за пределы сознания повествователя-редактора, и это лишний раз доказывает, что сознание последнего является порождающим в этой художественной системе. Кроме того, если признать, что чеховская «Драма на охоте» тяготеет к романной структуре, неоправданным кажется выделение лишь одного центрального события (смерти Ольги от руки судебного следователя), так как выделение единого центра характерно скорее для малых жанров, например, для новеллы. И тем не менее, на наш взгляд, наличие рамки способствует 268 Кубасов А.В. Рассказы Чехова: поэтика жанра. Учебное пособие. Свердловск, 1990. С. 28. Бахтин М.М. Эпос и роман // Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 415. 270 Там же. С. 418 269 200 своеобразному «сокращению» произведения. Благодаря рамочной композиции время истории Зиновьева превращается во время чтения этой истории, а наличие первичного нарратора дистанцирует этот сюжет от читателя, придает ему оттенок обстоятельственного значения, выдвигая на первый план рассказ о взаимоотношениях редактора и героя. Как следствие, самый обширный из ранних текстов Чехова парадоксальным образом начинает тяготеть к новеллистической структуре. Центр, к которому стремятся все элементы этой структуры, расположен на пересечении вставной повести и рамки, на пересечении сознаний первичного и вторичного нарраторов. Это пересечение является также и событийным центром, являя описанное Лотманом «перемещение… через границу семантического поля»271. Есть, однако, существенная особенность: субъектом перемещения в этом случае является не столько персонаж – Камышев-Зиновьев этот переход не ощущает, – сколько читатель. Рецептивный аспект повести: «Драма на охоте» как иллюзия изображенной рецепции Попытавшись определить иерархию рассказчиков в чеховской повести, мы установили, что сознание безымянного редактора приближается к статусу креативного, текстопорождающего сознания. Одним из главных аргументов в пользу данного вывода может послужить то, что благодаря этому персонажу читатель получает доступ к вставной истории, и то, что этот повествователь обладает правом корректировать вставной текст и вносить в него свои замечания. О самом редакторе в повести не дается почти никакой информации, однако он вводится в произведение таким образом, что именно к нему читатель должен испытывать наибольшее доверие. Чехов выстраивает рамочную конструкцию в «Драме на охоте» подобно тому, как это делал А. С. Пушкин в «Повестях Белкина»: основной текст сопровождает предисловие, подписанное авторскими 271 Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Лотман Ю.М. Об искусстве. М., 1998. С. 282. 201 инициалами. В случае с Пушкиным это издатель А.П., который берется «хлопотать об издании Повестей И.П. Белкина»272 и желает «к оным присовокупить хотя краткое жизнеописание покойного автора и тем отчасти удовлетворить справедливому любопытству любителей отечественной словесности»273; у Чехова – редактор А.Ч., к которому приходит Камышев с просьбой опубликовать его книгу. Стоит оговориться, что система повествователей у Пушкина сложнее, чем у Чехова. Так, например, издатель А.П. обращается к «одному почтенному мужу, бывшему другом Ивану Петровичу»274, чтобы тот написал биографию Белкина. Примечательно, что этот рассказчик также желает остаться анонимным, замечая при этом: «…хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но в сие звание вступить полагаю излишним и в мои лета неприличным» 275. Образ чеховского редактора объединяет в себе две функции, которые у Пушкина выполнялись разными лицами: он передает текст читателю (как пушкинский издатель) и сообщает нам сведения о Камышеве (как пушкинский биограф). К тому же, как и последний, редактор в «Драме на охоте» пытается отказаться от статуса литератора. Объединение двух персонажных ролей в одном герое, которое совершает Чехов, не проясняет образа редактора, но работает на создание иллюзии того, что за инициалами героя скрывается не кто иной, как сам автор. Такой прием, заключающийся в «нарушении фикционального пакта, в вынесении единиц фикционального за пределы фикции»276, дублирует уже описанное нами пересечение границ этики и эстетики, играющее важную роль в сюжете «Драмы на охоте». В данном случае выход за рамки художественности призван создать у читателя иллюзию доверия к повествователю, чего Чехову, безусловно, удалось достигнуть. Так, например, в примечаниях к Полному собранию сочинений писателя говорится, что А. Измайлов «воспринял буквально сноску Чехова о том, 272 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 8, кн. 1. Романы и повести. Путешествия. М.; Л., 1948. С. 59. 273 Там же. 274 Там же. 275 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 8, кн. 1. Романы и повести. Путешествия. С. 62. 276 Козлов Е.В. Художественный текст и вымысел // Язык и социум: современные проблемы. Сборник тезисов. Волгоград, 2004. С. 68. 202 что многое из записок Камышева выпущено, и предполагал, что в угоду цензуре или редактору писатель кромсал свой роман» (3; 591). Интересным в данном случае является тот факт, что перволичный повествователь, властвующий над текстом и обладающий читательским доверием, выступает в первую очередь в роли персонажа-читателя (причем читателя профессионального). Безусловно, необходимо учитывать, что перед нами сложный конструкт, так как словом «редактор» обозначаются сразу две функции: повествующее «я» и персонаж, о котором повествуется. Читательское внимание не акцентируется на этой конструкции из-за того, что она является достаточно традиционной, а также из-за совмещения временных планов, которое происходит ближе к концу повести. Как мы помним, вставная история вводится в текст достаточно привычным способом: существует логичная мотивировка (редактор публикует повесть писателя, предваряя ее вступительным словом) и своеобразные «забегания вперед», подогревающие интерес читателя к вставной истории. Есть в предисловии редактора и описание предполагаемой читательской реакции, которое вводится посредством описания собственных впечатлений повествователя от прочитанной рукописи. Напомним: Сидя в вагоне, я открыл тетрадь и начал читать из середины. Середина заинтересовала меня. В тот же день вечером я, несмотря на отсутствие досуга, прочел всю повесть от начала до слова «Конец», написанного размашистым почерком. Ночью я еще раз прочел эту повесть, а на заре ходил по террасе из угла в угол и тер себе виски, словно хотел вытереть из головы новую, внезапно набежавшую, мучительную мысль... А мысль была действительно мучительная, невыносимо острая... Мне казалось, что я, не судебный следователь и еще того менее не присяжный психолог, открыл страшную тайну одного человека, тайну, до которой мне не было никакого дела... Я ходил по террасе и убеждал себя не верить своему открытию... (3; 245–246) 203 В таком предвосхищении тоже нет ничего необычного: для массовой литературы, законам построения которой во многом подчиняется «Драма на охоте», не существует новизны в восприятии, читатель заранее подготовлен к тому, что в конце ему предстоит столкнуться со «страшной тайной». Однако для нашего анализа этот отрывок важен, так как он становится первым шагом к отождествлению читателя с персонажем-рассказчиком. Стоит также отметить, что это «забегание вперед», предшествующее камышевской повести, формирует читательскую стратегию, несколько противоречащую действию перволичного нарратива, используемого в истории судебного следователя. Эта стратегия заключается в отстранении читателя от вставного текста, невозможности отождествления с героем, от лица которого ведется повествование во вставной повести. Описанный эффект усиливается за счет первой фразы камышевского рассказа («Муж убил свою жену!» – 3; 246), которая, сочетаясь с недвусмысленными намеками редактора, способна развернуться в сознании читателя в самостоятельный микросюжет. В следующем предложении происходит резкое ослабление напряжения, обусловленное, во-первых, тем, что говорящий об убийстве оказывается попугаем, а во-вторых, ироничным тоном повествователя: – Полно тебе врать, Иван Демьяныч! – сказал я, давая легкий щелчок носу Ивана Демьяныча. – Мужья убивают жен только в романах да под тропиками, где кипят африканские страсти, голубчик. С нас же довольно и таких ужасов, как кражи со взломом или проживательство по чужому виду (3; 247). Ближе к завершению вставной повести первоначальная (отстраняющая) стратегия прочтения актуализуется снова. Это происходит за счет появления примечаний редактора, компрометирующих Зиновьева в глазах читателя. Однако теперь действия первичного нарратора приобретают дополнительную функцию: читатель должен ощутить себя не единственным субъектом восприятия текста: он словно бы читает этот текст вместе с редактором. 204 Несмотря на то, что вставной текст остается перволичным нарративом, его рассказчик начинает утрачивать свои субъектные свойства, теперь он не столько творец этого текста, сколько персонаж и объект восприятия. В такой ситуации связь между повествователем и читателем ослабляется, происходит их отстранение друг от друга, так как читателю ближе позиция читающего (и комментирующего) редактора во временнóм плане (и для читателя, и для редактора актуально время прочтения истории, а не историческое время, в котором происходят ее события) и в пространственном (и читатель, и редактор являются внешними фигурами по отношению к художественному миру вставной повести). Тем не менее полного отождествления читателя с редактором в этот момент не происходит, так как, во-первых, редактор, действительно, не заявлен как рассказчик в художественном мире вставной истории, а, во-вторых, читатель оказывается ведомым, ведь действия редактора направлены не только на разоблачение Зиновьева-Камышева, но и на информирование читателя. Таким образом, в тексте подчеркивается роль воспринимающего, читателя, так как именно на него направлены усилия обоих рассказчиков: КамышевЗиновьев стремится обмануть его (или, судя по словам Камышева в их разговоре с редактором, он пытается доказать ему свое превосходство), а редактор старается убедить читателя в том, что судебному следователю нельзя доверять. Получается, что необычная природа событийности в «Драме на охоте» не является такой уж странной и несочетаемой с сюжетным движением чеховской повести. По ходу чтения воспринимающий субъект постепенно наделяется некими персонажными свойствами. Этот процесс отчасти родствен прямым обращениям к читателю, являющимся популярным литературным приемом, однако между ними существуют важные различия. Прямые обращения к читателю являются конвенциональным ходом, и, как следствие, адресат в них предстает как своеобразный образ читателя, не претендующий на совпадение с реальным реципиентом. В «Драме на охоте» мы имеем дело с формированием текстом 205 читательской стратегии, которое заключается также в формировании образа, но это скорее образ предполагаемых действий реципиента. Интерес представляет то, что эта читательская стратегия существует в тексте параллельно другой стратегии, заданной заглавиями и предполагаемым формульным жанром чеховской повести. Изначально реципиенту предлагают воспринимать текст по законам массовой литературы, что предполагает безотчетное вчувствование, отождествление с персонажами и концентрацию внимания читателя на сюжете, а не на повествовательных особенностях произведения. В это же время начинается процесс постепенного вовлечения читателя внутрь текста, актуализация его роли, своего рода воплощение читателя в рамках художественного произведения. При этом он не является активным участником происходящих событий. Проще говоря, ему предлагается следить не только за сюжетом, но и за формированием собственного отношения к происходящему. Это в некоторой степени нарушает законы как массовой литературы, так и литературы вообще. Пояснить эту мысль можно, обратившись к описанию процесса чтения М. Бланшо, который утверждает, что в ходе актуализации произведения читатель и автор должны быть отстранены от него актом прочтения: «…читать означает не писать книгу заново, а делать так, чтобы книга казалась и была написанной – на сей раз без посредничества писателя или пишущего ее. Читатель не прибавляет себя к книге, но прежде всего стремится избавить ее от всякого автора…» 277 Как отмечает Бланшо, чтению больше всего угрожает «реальность читателя, его личность, его нескромность, ожесточенное желание остаться самим собой при встрече с читаемым; желание быть человеком, умеющим читать вообще» 278. Между читателем и текстом должна существовать «пустота», дистанция, с которой читатель может, не вмешиваясь, актуализируя произведение и очищая его 277 278 Бланшо М. Пространство литературы. М., 2002. С 195. Там же. С. 201. 206 от субъектности автора, наблюдать за его развитием и становлением 279. Таким образом, …чтение произведения притягивает того, кто читает его, напоминая себе о его глубинном генезисе: не то чтобы читатель с необходимостью заново становился свидетелем способа, каким произведение сделано, т. е. реального опыта его творения, – но он становится сопричастным произведению как развертыванию некоей возникающей вещи – в сокровенности той пустоты, что переходит к бытию…280 В «Драме на охоте» происходит обратный процесс. Произведение заявляет о себе как о массовом, что обусловливает не только возможность вчувствования, но и априорное разграничение пространства реальности и пространства текста, так как, имея ключ к формуле, читатель заранее осведомлен об особенностях построения текста и сюжетных поворотах. Когда в чеховской повести реципиент оказывается вовлеченным в художественный мир произведения, когда внимание оказывается сосредоточено на нем и на его реакции, дистанция между текстом и читателем начинает сокращаться. Это похоже на описание, которое дает процессу чтения В. Изер: Если в процессе чтения исчезает деление на субъект и объект, которое лежит в основе всякого восприятия, то читатель будет «занят» мыслями автора, а они, в свою очередь, вызовут изменения очертаний «границ». Текст и читатель больше не противостоят друг другу как объект и субъект, но линия деления проходит теперь внутри самого читателя. Думая чужие мысли, он временно отказывается от собственной индивидуальности, ее замещают чужие мысли, они приковывают его внимание <…> Поэтому в процессе чтения мы действуем на разных уровнях. Пусть мы думаем чужие мысли, то, что мы есть на самом деле, не исчезает 279 Примерно о том же говорит В. Изер: «…литературное произведение не может полностью совпадать ни с текстом автора, ни с читательским прочтением текста, а должно лежать на полпути между ними» (Изер В. Процесс чтения: феноменологический подход. С. 202). 280 Бланшо М. Указ. соч. С. 206. 207 полностью – наше подлинное «я» остается как более или менее громко звучащий, но настоящий голос281. В «Драме на охоте» дело, однако, осложняется тем, что в определенный момент читатель сталкивается со сложностью выбора, чьи мысли ему нужно принимать за свои: мысли Зиновьева или мысли редактора, комментирующего вставную повесть. Мы придерживаемся мнения, что порождающее сознание в этом тексте одно, но, коль скоро оно примеряет на себя разные роли, читателю в зависимости от ситуации приходится делать выбор между этими ролями. Это не вызывает особых затруднений, пока комментарии редактора не начинают подрывать вставное повествование, показывая, что в иерархии рассказчиков он занимает более высокую позицию, чем Камышев-Зиновьев. В этот момент мгновенного расподобления читатель уже не может думать чьи-то «чужие» мысли, он сталкивается с тем, что повествователь (или текст) пытается «помыслить» его, своего читателя. Дело осложняется тем, что первичный нарратор сам является читателем книги судебного следователя и, таким образом, обладает полным правом вести себя, как читатель, и думать, как читатель. В итоге читатель оказывается в необычной ситуации. Текст, который поначалу заявлял о себе как о достаточно просто сконструированной схеме, оказывается не так прост. Во-первых, сюжет вставной повести, помещенной внутрь редакторских заметок, становится картой, по которой читатель должен пройти, и в конце пути он в качестве своеобразного сокровища должен получить раскрытие «страшной тайны», столь взволновавшее редактора. Другими словами, текст «Драмы на охоте» являет нам изображенную рецепцию – восприятие редактором282 камышевского произведения. Во-вторых, изображенная рецепция редактора оказывается иллюзорной, так как настоящим объектом изображения и воздействия текста является рецепция читателя, находящегося за рамками художественного мира. В этот момент читатель включается в мир произведения и 281 282 Изер В. Процесс чтения: феноменологический подход. С. 223. В данном случае мы имеем в виду «маску» персонажа-редактора. 208 становится объектом собственной рецепции. Мы снова сталкиваемся с подвижностью границ эстетики и этики. Однако если на уровне персонажей мы описывали попытки творчества и самоутверждения неудачливого писателя, то в данном случае мы говорим об интенции самого текста, формировании читательского восприятия и особом случае нарушения горизонта ожидания. Одной из стратегий рассматриваемого текста является включение читателя в разряд элементов его структуры, но это не значит, что читатель действительно превращается в персонажа. Текст лишь обнажает суть чтения, названную В. Изером способностью познать «тот элемент структуры своей личности, который мы не осознаем напрямую»283. В «Драме на охоте» обнажение скрытого смысла чтения происходит достаточно резко, так как эта стратегия «самопознания читателя» противопоставлена другой читательской стратегии, согласующейся с законами формульного жанра. И самое интересное заключается в том, что это «захватывание читателя в плен» является не единственным способом, которым данный текст взаимодействует со своим реципиентом. 283 Изер В. Процесс чтения: феноменологический подход. С. 224. 209 Конвенциональная документальность и ее преодоление в художественном мире «Драмы на охоте» Одной из причин неоднозначного отношения читателей и критики к «Драме на охоте», по всей видимости, является несоответствие текста читательским ожиданиям. Для того чтобы понять, какими были эти ожидания и чем они отличались от читательских стратегий, предлагаемых самим текстом, следует еще раз обратиться к жанровым особенностям рассматриваемого произведения. Нельзя выявить строгую формулу русского уголовного романа, на который явным образом ориентирована чеховская повесть, однако можно с уверенностью говорить о некоторых общих законах этого формульного жанра, облегчавших процесс рецепции и позволявших объединить разнородные тексты в одну, хотя достаточно широкую, группу. Формирование читательской стратегии начинается с заглавия текста. Как отмечает А.А. Колганова, «с заглавия начинается процесс авторского восприятия. Оно как бы завершает отчуждение сочинения от создателя, начиная при этом его путь к публике»284. Заглавие чеховской повести – «Драма на охоте (истинное происшествие)» – моделирует однозначную стратегию восприятия, обусловленную законами формульного жанра. Очевидно, что, повторяясь в тексте дважды (как название всего произведения и как название вставной повести), это заглавие является особенно выделенным, поэтому, когда читатель, готовый воспринимать текст в соответствии со стратегией, обусловленной заглавием, сталкивается с несоответствием текста знакомой формуле, может возникнуть момент непонимания, расподобления читателя и текста, своего рода остранение, что, вероятно, и послужило одной из причин разнородных критических отзывов о «Драме на охоте». В этом смысле заглавия «Драма на охоте (истинное происшествие)» и «Драма на охоте (из записок судебного следователя)» не отступают от традиции уголовного романа, однако в самой повести существуют 284 Колганова А.А. Роль заглавия в формировании читательского интереса (в русской литературе XIX в.) // Чтение в дореволюционной России. М., 1991. С. 45. 210 заметные отклонения от привычной детективной схемы. Таким образом текст обнажает литературную оппозицией двух конвенциональность, литературных пластов, и скрывающуюся за противопоставляет мнимой массовую литературу элитарной, не давая первой прятаться за иллюзией документальности. Возможно, это явилось одной из причин, по которым «Драму на охоте» многие считали текстом пародийным. Еще одна особенность русского уголовного романа, отличающая его от западных образцов, – тип главного героя. Если в зарубежном детективе сюжет часто строится вокруг фигуры сыщика, то в русском уголовном романе следователь не является активным действующим лицом, гораздо большее внимание уделяется исповеди преступника. Обычно в рассматриваемом типе литературы преступление совершается под влиянием сложившихся обстоятельств либо в состоянии аффекта. Сложнее дело обстоит с героями, идущими на преступление сознательно. Такая проблематизация темы характерна для высокой литературы, в частности для романов Достоевского. отождествления, то Если рассуждать о проблеме подобные герои должны вызвать читательского антипатию воспринимающего: простой бандит пытается нарушить иерархический порядок мира, тогда как сознательный преступник, напротив, выстраивает новую иерархию, в которой он стоит выше остальных, в том числе выше читателя. Читательского отторжения, однако, не происходит, поскольку, как и в массовой литературе, герой Достоевского так или иначе приходит к раскаянию или наказанию285, хотя высокая литература решает проблему преступления и личности не так однозначно, как массовая286. Высокую и популярную литературу о преступлении сближает традиционный сюжет исповедующегося преступника. 285 Необходимо отметить, что в некоторых произведениях массовой литературы преступник может остаться безнаказанным, как это происходит у Шкляревского в «Рассказе судебного следователя», где преступница шантажирует сыщика, который раскрыл ее тайну, и ее поступок не получает огласки. Однако, в отличие, например, от «Драмы на охоте», героиня пытается хотя бы смоделировать ситуацию исповеди, чтобы избежать наказания. 286 В данном случае мы, естественно, несколько упрощаем и обобщаем сюжеты высокой литературы. Безусловно, наличие «исповеди» преступника является не единственным объяснением симпатии к герою, возникающей у читателя. И тем не менее такая «исповедь» преступника играет очень важную роль как в формульных, так и в классических произведениях. 211 Чеховская «Драма на охоте» не нарушает традицию: в разговоре с редактором герой сознается в своем преступлении и объясняет причины, по которым он его совершил. Но является ли его рассказ исповедью? А.Д. Степанов, говоря о коммуникации у Чехова, показывает, что в текстах этого автора проблематизируется большинство качеств жанра исповеди, таких как «близость к истоку, правдивость, искренность, спонтанность, свобода в разных ее пониманиях (как свобода воли, как свобода самовыражения, как свобода неподчинения, как свобода реакции и т. д.), открытость миру, максимальное приближение к неопосредованности»287. Финальная сцена в «Драме на охоте», которая должна восприниматься как исповедь героя, не может быть расценена в этом качестве, так как герой не испытывает ни малейшего раскаяния 288. Более того, Камышев превращает ситуацию откровенного разговора в фарс, пародию на допрос следователем подозреваемого, словно рефлексируя над книжностью, формульностью всего, что происходит между ним и редактором 289 («Камышев глядел на меня снисходительно, свысока и почти любовался моим неумением выпутаться из массы волновавших меня вопросов» – 3; 411), хотя не стоит отрицать, что герой боится огласки (закрывает дверь в кабинет редактора, беспокоится, как бы кто-нибудь не подслушал их разговор). Если финальный разговор Камышева с редактором невозможно назвать исповедью преступника, то, может быть, эту функцию исполняет текст, который написал герой? Однако вряд ли можно назвать исповедью рассказ, в котором человек обвиняет в совершенном им преступлении другого – невиновного. К тому же не раскаяние, а тщеславие побудило Камышева написать книгу: «Не совесть мучила меня, нет! Совесть – само собой… да и я не обращаю на нее внимания: она прекрасно заглушается рассуждениями на тему о ее растяжимости…» (3; 413). Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что в «Драме на охоте» вообще отсутствует ситуация исповеди, необходимая для российского 287 Степанов А.Д. Проблемы коммуникации у Чехова. С. 271. «Я взглянул на Камышева. На лице его я не прочел ни раскаяния, ни сожаления» (3; 415). 289 Примерно в том же духе (как иронию над «книжностью», стереотипностью ситуации) стоит расценивать фразу Камышева «Убил я под влиянием аффекта. Теперь ведь и курят и чай пьют под влиянием аффекта» (3; 414). 288 212 криминального романа. Примечательно, что, изымая ее из сюжета, Чехов убирает элемент, не отличающий массовую литературу от высокой, но объединяющий эти два литературных пласта. Это, вероятно, должно было либо облегчить читательское восприятие, обеспечивая уверенность в выборе читательской стратегии и позволяя без колебаний отнести текст к тому или иному типу литературы, либо предопределить абсолютное неприятие текста аудиторией. Однако не произошло ни того, ни другого, и «Драма на охоте» по сей день остается произведением, занимающим место на пересечении классики и беллетристики. Воздействие на читателя: вопрос о формировании читательского восприятия в повести «Драма на охоте» Отсутствие исповеди персонажа в «Драме на охоте» не только нарушает привычную схему уголовного романа, но и лишает произведение одной из функций формульной литературы. Как отмечает Дж. Кавелти, «действие формульного произведения направлено на то, чтобы перейти от выражения напряжения к гармонизации конфликтов»290. В русской литературе о преступлениях, как мы уже говорили, гармонизация достигается за счет возвращения героя-нарушителя в пространство порядка, именно поэтому исповедь занимает такое важное место в структуре уголовного романа. Трагедия должна быть пережита в тексте и устранена. Такое действие литературы сходно с тем, что описывает З. Фрейд в статье «Поэт и фантазия»: поэт, облекая свои фантазии в литературную форму, не только доставляет нам эстетическое удовольствие, но и «повергает нас в состояние, в котором мы без всякого стыда и упрека можем наслаждаться собственными фантазиями»291. Внутри чеховского текста происходит обратная ситуация. Вставной рассказ принадлежит к тому же жанру, что и произведение в целом (уголовный роман), соответственно, его финал должен восстанавливать порядок не только в рамках 290 291 Кавелти Дж.Г. Указ. соч. С. 63. Фрейд З. Поэт и фантазия. С. 166. 213 выстраиваемого им художественного мира, но и в сознании читателя. Однако сама художественность, вымышленность вставного текста разрушается, когда издатель раскрывает тайну Камышева. Условная (конвенциональная) документальность текста оборачивается реальной документальностью, и, что страшнее всего для персонажа-читателя, текст выходит за рамки литературы и продолжается в жизни, делая его непосредственным участником событий, что исключает терапевтическую функцию этого текста, заменяя ее травмирующей функцией. Как мы помним, редактор не скрывает своего состояния: «Ночью я еще раз прочел эту повесть, а на заре ходил по террасе из угла в угол и тер себе виски, словно хотел вытереть из головы новую, внезапно набежавшую, мучительную мысль…» (3; 245–246) Ситуация, складывающаяся в тексте, безусловно, влияет на восприятие произведения в целом, особенно если учитывать повествовательную структуру «Драмы на охоте», в которой за счет рамочной композиции объединяются два повествования от первого лица. Таким образом, переживания редактора после прочтения камышевского текста должны отражаться на реальном (или идеальном) читателе, чему способствует усиление конвенциональной документальности за счет традиционного приема (Чехов присваивает повествователю собственные инициалы «А. Ч.»). Это облегчает процесс вчувствования читателя в текст и создает иллюзию вторжения литературы в реальность по аналогии с тем, что происходит внутри художественного мира чеховской «Драмы на охоте». Напомним, что иллюзия вторжения литературы в действительность описанной нами ситуации – не единственный способ воздействия текста на предполагаемого читателя. Как было отмечено выше, в определенный момент текст стремится «поглотить» своего читателя, словно бы давая ему понять, что он является центром всей этой сложной литературной конструкции. Как отмечает В. Изер, «сущность литературы… состоит в том, что она манифестирует свою фикциональность посредством набора сигналов, указывающих на то, что это именно литература и что она – нечто иное, чем действительность» 292, однако такое 292 Изер В. Акты вымысла, или что фиктивно в фикциональном тексте. С. 198–199. 214 обнажение вымышленности предполагает существование литературной конвенции, благодаря которой художественная действительность для читателя «становится “как если бы миром”»293. Важным является то, что изображенный мир, не являясь на самом деле «действительным миром… должен рассматриваться как таковой»294, так как «вымысел “как если бы” использует изображенный мир для того, чтобы вызывать в реципиентах фикционального мира текста аффективные реакции»295. Ситуация, когда читатель делает вид, что не замечает «правил игры», в формульной литературе перерастает в еще более «откровенную игру», и под сомнение ставится сам концепт новизны, рецептивного события текста. Так, по замечанию У. Эко, «непредсказуемость тем важнее, чем более популярным задумывается роман; и искусство романа-фельетона для масс – приключения Рокамболя или Арсена Люпена – заключается ни в чем ином, как в изобретательном придумывании неожиданных событий» 296, но в то же время «чтение детективной истории… предполагает получение удовольствия от следования некоторой схеме: от преступления к его раскрытию через цепь дедуктивных умозаключений. Эта схема столь важна, что наиболее знаменитые авторы детективов построили свой успех именно на ее неизменности»297, так как …читатель постоянно узнает то, что он уже знает и что хочет узнавать вновь и вновь. Именно ради этого он и купил книжку. Читатель получает удовольствие от не-истории (the nonstory, la non-storia), если под историей (a story, una storia) мы понимаем развитие событий, ведущее нас от некой начальной точки к некой точке конечной, о которой в начале мы не имеем никакого представления. Удовольствие такого читателя обусловлено именно отказом от развития событий, уходом от напряженности прошлого-настоящего-будущего в убежище мгновения, которое любимо, потому что постоянно повторяется 298. 293 Там же. С. 202. Там же. С. 208. 295 Там же. 296 Эко У. Указ. соч. С. 181. 297 Там же. С. 194. 298 Эко У. Указ. соч. С. 197. 294 215 В таком случае наличие непредсказуемого рецептивного (не сюжетного) события в формульном тексте само по себе обретает статус событийности. Это событие должно затрагивать отношения реальности и художественности. Говоря словами Фрейда, «…часто и легко чувство жуткого возникает тогда, когда стирается граница между фантазией и действительностью, когда перед нами реально возникает нечто, что мы до сих пор считали фантастическим, когда символ полностью берет на себя функцию и значение символизируемого…» 299. В то же время, как отмечает В. Изер, статус такого события тоже можно поставить под сомнение, так как «событийность воображаемого понуждает реципиентов текста к такому поиску и конструированию смысла, который возвращает событие к хорошо знакомому, что, однако, противоречит событию в той мере, в какой оно становится таковым лишь в процессе нарушения границ сопряженных с текстом систем»300. Собственно, это и должно было произойти в «Драме на охоте»: читатель, отождествившись с персонажем-редактором, оказывается в ситуации, когда литература практически приравнивается к жизни, проникает в его непосредственный опыт и тем самым дает ему искомое ощущение новизны, наличие которого, однако, обусловлено законами жанра. Такая жанровая обусловленность подчеркнута в самом тексте. Чувства редактора, с которым в итоге должен отождествиться читатель, описываются в повести дважды: перед вставной историей (процитированный нами выше фрагмент о столкновении с чужой «страшной тайной») и в последних строках повести («Я сел за стол и предался горьким думам. Мне было душно» – 3; 416). Но процесс «вторжения» литературного мира в мир реальный не однонаправлен. Существует и обратное движение, когда читатель включается в художественный мир. Он знает его законы, но рассмотрение себя как объекта (своего рода персонажа), а не субъекта (непосредственно читателя) нарушает все конвенции. Тем не менее реципиенту удается выйти из этого пространства: как только заканчивается вставная повесть, 299 300 Фрейд З. Жуткое (1919) // Фрейд З. Психоаналитические сочинения. М., 2006. С. 289. Изер В. Акты вымысла, или что фиктивно в фикциональном тексте. С. 211. 216 перед нами нет проблемы выбора между рассказчиками, единственным повествующим «я» оказывается редактор. Казалось бы, чтение продолжается по привычной схеме, а читательское напряжение, возникшее в рамках вставного рассказа, служит только усилению впечатления от развязки. Между тем подобный вывод кажется странным, ведь разоблачение Камышева не может быть шоком для читателя: намеки на такое завершение истории содержатся как в предисловии редактора, так и в его комментариях к камышевскому тексту. Как нам представляется, важную роль в формировании финального читательского впечатления играет напряжение, вызванное моментом включения реципиента в текст. Все наши предыдущие рассуждения можно свести к тому выводу, что в чеховской «Драме на охоте» постоянно возникает дилемма различения фикционального и реального, художественного и жизненного, эстетического и этического. Текст акцентирует внимание на этой проблеме, граница между вымышленным и настоящим в нем становится очень подвижной или даже преодолимой. В первую очередь это подтверждается фактом излишней «сделанности» вставной повести, ее однородности с обрамляющим текстом, что позволяет нам предполагать единство креативного сознания, другими словами, приписывать написание обоих текстов рассказчику, понимая Камышева как его персонажа. Это же нарушение границ этики и эстетики формирует линию отношений между редактором301 и Камышевым, да и образ судебного следователя, как мы пытались показать, напрямую связан с процессом взаимодействия этих двух пространств. Однако к личности реципиента преодоление границы имеет отношение дважды: в первый раз в ходе прочтения вставной повести и второй раз, когда редактор обличает Камышева и обнаруживает его неприятие позиции кающегося преступника. В первый раз мы сталкиваемся с включением читателя в чужеродное (художественное) пространство, во второй – с экспансией этого чужеродного пространства в мир читателя. Первая ситуация является важной точкой, впечатлением, сохранившимся в памяти читателя и влияющим на его отношение к развязке. Как отмечает Фрейд, «…жуткое – это та разновидность 301 Редактора в данном случае можно понимать как редактора-персонажа, альтер-эго редактора-повествователя. 217 пугающего, которое восходит к давно известному, знакомому» 302, ибо «лишь момент непреднамеренного повторения делает жутким то, что обычно бывает безобидным, и навязывает нам мысль о роковом, неизбежном там, где иначе мы говорили бы только о “случае”»303. На наш взгляд, именно актуализация однажды возникшего ощущения, подкрепленная постоянным акцентированием оппозиции вымышленное / реальное, позволяет читателю, вопреки вполне предсказуемому сюжету, разделить «горькие думы» повествователя, которые связаны с образом «серого круга», захватывающего Камышева, а затем и редактора. Это ситуация безвыходности, безнадежности, когда от действий конкретного человека ничто не зависит. Подобная несвобода, «хронотоп тюрьмы»304, поглощает практически всех чеховских персонажей, и в эту же ловушку попадает в «Драме на охоте» читатель. Его финальное впечатление продиктовано не знакомой формулой, а воздействием текста. Основной сюжет текста – это сюжет о его чтении, скрывающийся за детективной историей. Это неочевидно на первый взгляд, так как даже детективный сюжет в данном случае является необычным, нарушающим каноны жанра. И тем не менее, хоть и неординарный, но все же формульный текст, романфельетон, напечатанный в ежедневной газете, заканчивается неожиданно почеховски оборванным, пронзительным финалом. Этот финал не исчерпывается ощущением обманутости читателя, напротив, за счет того, что текст провоцирует постоянное переключение читательского регистра, подчеркивает роль читателя, достигается то, чего невозможно достичь через предсказанное формулой сочувствие героям, то, о чем говорит в «Психологии искусства» Л.С. Выготский: Даже самое искреннее чувство само по себе не в состоянии создать искусство. И для этого ему не хватает не просто техники и мастерства <…> необходим еще и творческий акт преодоления этого чувства, его разрешения, 302 Фрейд З. Жуткое (1919). С. 265. Там же. С. 282. 304 См.: Степанов А.Д. Чеховская «абсолютнейшая свобода» и хронотоп тюрьмы // Canadian American Slavic Studies, 42, Nos. 1–2 (Spring–Summer 2008). P. 89–101. 303 218 победы над ним <…> Вот почему и восприятие искусства требует творчества, потому что и для восприятия искусства недостаточно просто искренне пережить то чувство, которое владело автором, недостаточно разобраться и в структуре самого произведения – необходимо еще и творчески преодолеть свое собственное чувство, найти его катарсис, и только тогда действие искусства скажется сполна 305. Такие резкие, нарушающие читательское ожидание финалы мы находим в ранней юмористике Чехова, например, в его пародии «Тысяча и одна страсть, или Страшная ночь» (1880) или рассказе «Марья Ивановна» (1884). Однако в «Драме на охоте» этот диалог с читателем становится основой серьезного произведения. Возможно, появление такого текста можно рассматривать как попытку повысить статус «низкого жанра» не за счет напускной документальности, но за счет усложнения его внутренней структуры. Такое прочтение чеховской повести может показаться неочевидным и, вероятно, не осознавалось (и не осознается) большинством читателей чеховского «детектива». постепенным Возможно, нарративная формированием стиля неустойчивость писателя и текста связана с повествовательными особенностями, которые немного позднее обозначатся в произведениях Чехова более четко и станут определяющими для творчества писателя. Так, рассуждая о произведениях Чехова середины 1880-х годов, И.Э. Васильева замечает, что в них …повествующее слово часто берет на себя функцию своеобразного двойника вторичного нарратора: стратегия высказывания «через головы» непосредственных слушателей-персонажей инстанцией. И хотя воспринимается герой более последовательно высокой повествовательной дискредитируется в тексте, повествователь как субъект сознания не становится по отношению к нему в оппозицию. Скорее это две существенно дистанцированные фигуры, но фигуры 305 Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1986. С. 312–313. 219 одного ряда. Объединяющим их началом является общая стратегия построения высказывания306. Как бы то ни было, но даже в том неопределенном виде, в котором оно присутствует в «Драме на охоте», единство нарраторов играет важную роль в формировании читательского восприятия этого текста. Оно помогает обнажить стык реальности и художественности, на границе которого происходит главное событие повести – событие рецепции. В тот момент, когда в тексте явно заостряется существующая в нем проблема повествующего сознания, читатель начинает вовлекаться в художественный мир, одновременно приобретая черты персонажа и утрачивая некоторые черты субъекта, находящегося за рамками повествуемого мира. За счет этого приема создается необычайно реалистичное для читателя смешение реальности и вымысла, которое, повторяясь несколько раз и в различных вариациях, образует особую интенцию текста: повествование начинает «вести» читателя к катарсическому финальному чувству, причем этот катарсис не сравним с мелодраматическим переживанием или с чувством удовлетворения, которое каждый реципиент ожидает испытать в конце приключенческого или «страшного» романа. Финал «Драмы на охоте», с одной стороны, совершенно не согласуется с ее формульной сюжетной структурой. Но, с другой стороны, он вполне логично вытекает из внутренней повествовательной структуры этого текста. На наш взгляд, именно эта «двойная природа» чеховского текста стала причиной того, что он навсегда застыл на грани высокой и развлекательной литературы. Чеховскую повесть сложно однозначно вписать только в один из этих контекстов. По ходу чтения повествование меняется, заставляя меняться и своего читателя. Возможно, оно представляет собой вселенную меняющегося смысла, текст, который можно практически бесконечно анализировать, все больше углубляясь в его структуру. 306 Васильева И.Э. «Поиски слова» в «переходную эпоху»: стратегия повествования В.М. Гаршина и А.П. Чехова. Автореферат дисс. … канд. филол. наук. СПб., 2007. С. 15. 220 Вырабатывая свой особый метод анализа и утверждая, что «объективность текста является иллюзией, причем иллюзией опасной» 307, Стэнли Фиш писал о высказывании: Оно (высказывание. – К. О.) больше не является объектом, вещью в себе, но становится событием, чем-то, что происходит с читателем при его непосредственном участии. Именно это событие, а не то, что мы можем сказать о нем или вынести из него, как мне представляется, является истинным значением высказывания308. Как нам представляется, «Драма на охоте» является одним из ярких примеров текстов, состоящих из таких высказываний, практически каждое из которых что-то меняет в читательском восприятии, но все вместе они образуют единый, находящийся в постоянном становлении смысл текста, тесно связанный с сюжетом о его прочтении. На наш взгляд, история этого раннего, практически отвергнутого самим писателем произведения отчасти напоминает историю его первой пьесы «Безотцовщина», «”пьесы-желудя”, из которого во многом вырастает мощная крона чеховского творчества»309. «Драма на охоте», возможно, являлась одним из экспериментов молодого писателя, который искал свой способ построения диалога с читателем. 307 Fish S. Op. cit. P. 43. Ibid. P. 25. 309 Сухих И. Н. Указ. соч. С. 56. 308 221 3.3. «Зеленая коса» и «Драма на охоте» Чехова: особенности композиции и повествовательной структуры Проделанный нами анализ «Драмы на охоте» позволяет судить об этой повести как о «центральном» произведении Чехова в самый ранний период становления его творчества. В уголовном романе соединились многочисленные повествовательные и композиционные приемы, с которыми писатель экспериментировал в первые годы своей литературной работы. Как и в небольших рассказах, в «Драме на охоте» наблюдаются смешение жанровых элементов, перебивы дискурсов. Все это обусловливает формирование особого надтекстового пространства, в котором оказывается возможным диалог между текстом и читателем, благодаря чему текст обретает способность выйти за рамки формулы и стать произведением в полном смысле этого слова. Для того, чтобы еще раз подчеркнуть тесную связь «Драмы на охоте» с другими чеховскими произведениями раннего периода, рассмотрим ее своеобразный «дублет» – рассказ «Зеленая коса», написанный в 1882 году и имеющий подзаголовок «Маленький роман». Эти два текста содержат довольно много сюжетных перекличек, которые объясняются игрой с жанром романа и общим «мелодраматическим» настроением произведений. Так, например, в «Зеленой косе» действие разворачивается вокруг влюбленных, которые не могут быть вместе, но в конце рассказа воссоединяются. А «Драму на охоте» роднят с мелодрамой сюжет о том, как молодую женщину из ревности убивает влюбленный в нее герой, и встречающиеся в тексте отсылки к жанру жестокого романса. Кроме того, «Зеленую косу» и «Драму на охоте» сближают образы главных героинь. И в том, и в другом случае в центре повествования оказывается девушка по имени Ольга, причем нередко это имя воспроизводится в уменьшительно-ласкательной форме (Оля, Оленька), что подчеркивает инфантильность героини. Чаще всего она характеризуется как 222 девушка-ребенок310. Так, в «Зеленой косе»: «Оля боялась матери <…> Княгиня считала Олю дитятей. Она ставила ее в угол, оставляла без завтрака, без обеда» (1; 161). В «Драме на охоте» главная героиня впервые появляется в тот момент, когда играет с детьми. Читателю сообщается, что она «представляла из себя девятнадцатилетнюю девушку с прекрасной белокурой головкой, добрыми голубыми глазами и длинными кудрями. Она была в ярко-красном, полудетском, полудевическом платье. Стройные, как иглы, ножки в красных чулках сидели в крошечных, почти детских башмачках» (3; 264). Кстати, голубоглазая Оля Микшадзе, героиня «Зеленой косы», также описывается как «маленькая, стройная, хорошенькая блондиночка лет 19» (1; 160). Появление Ольги Скворцовой во время прогулки по лесу (и восклицание графа: «Я и не знал, что в моих лесах обитают такие наяды!» – 3; 264) рифмуется со словами повествователя из «Зеленой косы»: «Она – хорошенькая фигурка на прелестном ландшафте, а я не люблю картин без людских фигур» (1; 160). Перекликаются живые характеры, веселость героинь, их очарованность книжной романтикой. «Драма на охоте»: Мне вот как хотелось бы умереть. Одеться в самое дорогое, модное платье, какое я на днях видела на здешней богачке, помещице Шеффер, надеть на руки браслеты... Потом стать на самый верх Каменной Могилы и дать себя убить молнии так, чтобы все люди видели... Страшный гром, знаете, и конец... (3; 272) 310 В чеховских рассказах довольно часто встречается такой тип девушки-ребенка, и героиня эта часто носит имя Ольга. Обычно это белокурая миниатюрная девушка или молодая женщина со светлыми глазами, детскость которой проявляется в излишней инфантильности или озорстве, граничащем с капризами. Ср. в юмореске «Исповедь, или Оля, Женя, Зоя»: «Рука Оли Груздовской (которая теперь за сыном вашего исправника) покоилась на моей руке, и ее крошечный мизинчик дрожал на моем большом пальце... Щечки ее горели, а глаза... О, ma chere, это были чудные глаза! Сколько прелести, правды, невинности, веселости, детской наивности светилось в этих голубых глазах! Я любовался ее белокурыми косами и маленькими следами, которые оставляли на песке ее крошечные ножки...» (1; 133). В рассказе «75 000»: «…за письменным столом сидела его жена Ольга Алексеевна, маленькая блондиночка с папильотками в волосах» (2; 310). Даже в более позднем рассказе «Попрыгунья» читаем: «Артист говорил Ольге Ивановне, что со своими льняными волосами и в венчальном наряде она очень похожа на стройное вишневое деревцо, когда весною оно сплошь бывает покрыто нежными белыми цветами» (8; 8). 223 «Зеленая коса»: «Она гордилась тем, что отец унес с собой в могилу ее обещание. Это обещание было так необыкновенно, романтично!» (1; 164). Сходным оказывается то, что обе девушки находятся в центре мужских компаний («Мы, мужчины, любили эту голубоглазую девочку, не “влюблялись”, а любили <…> Оля любила эту банду без памяти. Она кричала, вертелась и шумела больше всех. Она была душой компании» – 1; 160–161). Есть параллели и между некоторыми сюжетными ситуациями. Так, например, можно провести параллель между атмосферой вечного праздника, молодецкого (почти гусарского) пьянства, царящего в «Зеленой косе», и долгие загулы у графа, во время которых завязывается действие «Драмы на охоте». Конечно, главным объединяющим эти два произведения сюжетным элементом являются эпизоды, связанные со свадьбой и «похищением» невесты. В «Драме на охоте» во время свадьбы Ольги и Урбенина завязывается роман между невестой и рассказчиком Зиновьевым. В «Зеленой косе» герои расстраивают помолвку Оли и князя Чайхидзева, шуточным обманом увлекая невесту с бала и устраивая ей свидание с Егоровым, в которого она влюблена. Примечательно, что обе любовные сцены происходят в саду: в пещере («Драма на охоте») или в беседке («Зеленая Коса»). Кроме сюжетных совпадений, сходства между двумя произведениями заключаются в том, что они отсылают к одним и тем же типам романов, хорошо знакомым аудитории. Так возникает «готический» дискурс. Если описание усадьбы графа в «Драме на охоте» маскируется под описания мрачных готических пейзажей, то в «Зеленой Косе» отсылка к этому жанру вводится с помощью минус-приема: «Она мне нравится за свою смиренную красоту, за то, что она своей красотой не давит окружающей красоты, за то, что от нее не веет ни холодом мрамора, ни важностью колонн» (1; 159)311. Кроме того, в рассказе встречаются намеки на «страшные романы». Достаточно сравнить некоторые его фрагменты с чеховской пародией на тексты В. Гюго. 311 В речи повествователя в «Зеленой косе» иногда встречаются и другие, намекающие на «готику» фразы: «В средневековом замке чуть было не разыгралась одна из глупых средневековых историй» (1; 163); «Оля ходила по саду бледная, худая, полумертвая» (1; 165). 224 «Зеленая коса»: Оля подняла голову и увидала Егорова. . . Она посмотрела на меня, потом на Егорова, потом опять на меня. . . Я засмеялся. . . Лицо ее просияло. Она вскрикнула от радости, сделала шаг вперед. . . Я думал, что она на нас рассердится. . . Но эта девочка не умела сердиться. . . Она сделала шаг вперед, подумала и бросилась к Егорову (1; 168). Но тут суждено было мне увидеть картину... Распахнулась дверь, и бледное лицо Оли осветилось ярким светом. Оля вздрогнула, сделала шаг назад и слегка присела. . . Ее как будто что-то приплюснуло. . . На пороге, подняв голову, стояла княгиня, красная, дрожащая от гнева и стыда. . . Минуты две длилось молчание (1; 171). «Тысяча и одна страсть, или Страшная ночь»: Я промолчал. Он любил ее. Она любила страстно его. . . Я должен был убить его, потому что любил больше жизни ее. Я любил ее и ненавидел его. Он должен был умереть в эту страшную ночь и заплатить смертью за свою любовь. Во мне кипели любовь и ненависть. Они были вторым моим бытием (1; 36). Я взглянул на нее. Взгляд есть меч души. Она пошатнулась. В моем взгляде она увидела всё: и смерть Теодора, и демоническую страсть, и тысячу человеческих желаний... Поза моя — было величие. В глазах моих светилось электричество. Волосы мои шевелились и стояли дыбом. Она видела пред собою демона в земной оболочке. Я видел, что она залюбовалась мной. Часа четыре продолжалось гробовое молчание и созерцание друг друга. Загремел гром, и она пала мне на грудь. Грудь мужчины — крепость женщины. Я сжал ее в своих объятиях. Оба мы крикнули. Кости ее затрещали. Гальванический ток пробежал по нашим телам. Горячий поцелуй... (1; 37). 225 Несмотря на отмеченные сходства, в «Драме на охоте» и «Зеленой косе» Чехов поразному использует рассмотренные отсылки к разным жанрам. Как нам представляется, в «Маленьком романе», как и в некоторых других своих ранних текстах, Чехов вырабатывает особую стратегию сочетания различных жанров, которая развивается с течением времени. «Зеленая коса» представляет собой своего рода жанровый коллаж, где перемешаны элементы разных дискурсов, переходы между которыми сглажены общим ироничным тоном повествователя. В «Драме на охоте», которая была написана двумя годами позже, метод сочленения жанров видоизменяется. Повествовательная манера утрачивает нарочитую ироничность. Переходы от одного дискурса к другому совершаются очень быстро, порой в рамках одного предложения. Это свойство сохраняется на протяжении почти всего текста: каждая литературная линия в ней перебивается нейтральным дискурсом повествователя. За счет этого жанровые переходы получаются более резкими, что позволяет не только создать комический эффект, но и выработать особый принцип повествования, обнажающий «сделанность», литературность текста. Речь повествователя в «Драме на охоте» и в «Зеленой косе» построена по принципиально разным правилам – и это создает разительное отличие между текстами при всех их сюжетных сходствах. Рамочная композиция «Драмы на охоте» призвана обнажить перед читателем «сделанность», литературность текста. Отсылки к литературному быту, игра с цитатами, подшучивание над коллегами-сочинителями – все это общие места «малой прессы», однако в своем «уголовном романе» Чехов идет дальше и конструирует сложные отношения между повествователями. В написанной по принципу «рассказ в рассказе» повести все жанровые колебания в основном сосредоточены во вставной истории, но за счет существования рамки их восприятие читателем осуществляется словно бы в двойной перспективе (читатель может встать на позицию издателя, изучающего повесть Камышева). Как было отмечено выше, некоторые оговорки издателя позволяют допустить 226 возможность прочтения «Драмы на охоте» как текста-игры, ловушки для читателя, когда первичный и вторичный нарратор сливаются в единое сознание (возможно, весь текст написан редактором и никакого Камышева никогда не существовало в художественном мире чеховской повести). За счет всех этих особенностей, а также за счет того, что образ редактора приближен к образу реального автора (например, его инициалы – «А. Ч.»), повествователь в «Драме на охоте» становится максимально литературной фигурой, создается иллюзия, что это сознание присутствует одновременно и внутри, и вне текста, и это обусловливает специфическое влияние текста на читателя312. Повествование в «Зеленой косе» устроено иначе. Правда, связь текста с литературным бытом наблюдается и здесь. Рассказчика вполне можно назвать сочинителем, это становится очевидным, если обратить внимание на его фразеологию: На берегу Черного моря, на местечке, которое в моем дневнике и в дневниках моих героев и героинь значится «Зеленой Косой», стоит прелестная дача. С точки зрения архитектора, любителей всего строгого, законченного, имеющего стиль, может быть, эта дача никуда не годится, но с точки зрения поэта, художника она дивная прелесть. <…> Когда смотрю на нее, я припоминаю сентиментальные немецкие романы с их рыцарями, замками, докторами философии, с таинственными графинями…» (1; 159). В два часа… я стоял у входа на террасу за стеной из олеандровых деревцов и ждал возвращения Оли. Мне хотелось посмотреть на Олино лицо. Я люблю женские счастливые лица. Мне хотелось посмотреть, как любовь к Егорову и в то же время страх перед матерью совместятся на одном и том же лице; и что сильней: любовь или страх? <…> Оля скоро показалась. Я впился глазами в лицо ее (1; 170). 312 Этому же способствует и неустойчивость, проницаемость границы между художественными и документальными текстами, которые соседствовали на страницах газеты и были в равной мере интересны публике. 227 Кроме того, в рассказе встречаются отсылки к личности «реального автора» 313: Наша компания состоит из гостей, летних обитателей Зеленой Косы, и соседей. К первым принадлежат: <…> три студента, художник Чехов, один харьковский барон-юрист и я, бывший репетитор Оли (научивший ее плохо говорить понемецки и ловить щеглят) <…> Соседями, ежедневно приезжавшими к нам, были отставной поручик-артиллерист Егоров, молодой человек, два раза державший экзамен в Академию и два раза провалившийся, очень развитой, начитанный малый; студент-медик Коробов с женой Екатериной Ивановной… и многое множество помещиков, отставных, неотставных, веселых и скучных, шалопаев и брандахлыстов… (1; 160–161). В сочетании с «мемуарной» формой повествования создается текст, который должен вызывать доверие читателя, «притворяться» документальным. Этому же способствует общий иронический тон рассказа, который, по всей видимости, имитирует речь остроумного писателя-юмориста. В то же самое время, однако, текст работает с очевидными художественными конвенциями. На его вымышленность указывает подзаголовок, который сообщает читателю, на какой жанр будет ориентирован рассказ. Немаловажна и сама формулировка «маленький роман», ироничность которой недвусмысленно определяет место этого текста в системе литературы, а именно его принадлежность к «малой прессе». Кроме того, в «Зеленой косе» Чехов использует литературные штампы, которые высмеиваются им в «мелочишке» «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т.п.?». В этом списке, например, фигурируют «графиня со следами когда-то бывшей красоты, сосед-барон, литератор-либерал, обеднявший дворянин» (1; 17), что перекликается с уже процитированным перечнем персонажей «маленького романа» и в особенности с образом княгини Микшадзе, которая описана как «дама лет 50, высокая, полная и во время оно, несомненно, слывшая красавицей» (1; 159). А «высь поднебесная, даль непроглядная, 313 Подробнее об этом см. в примечаниях к рассказу (1; 583). 228 необъятная... непонятная, одним словом: природа!!!» (1; 17) не могут не напоминать о дачно-усадебном хронотопе «Зеленой косы». Можно заметить, что весь сюжет рассказа пародирует емко сформулированный Чеховым мелодраматический штамп: «Семь смертных грехов в начале и свадьба в конце» (1; 18). Рассказ переполнен разнообразными «приключениями» героев, мелодраматическими ситуациями, кульминацией которых становится сцена помолвки. Однако все «страшные» происшествия не имеют для героев никаких серьезных последствий. Несмотря на суровый нрав княгини, для всех ее «суд оканчивался помилованием, целованием руки и, по выходе из комнаты судьи, гомерическим смехом» (1; 162). Вообще, деление персонажей происходит по принципу серьезности / несерьезности. Полюс серьезных персонажей представлен княгиней и Чайхидзевым, однако в своей серьезности они оказываются жалки или смешны: С розовыми пятнышками на щеках, с вспотевшим носом, затянутый в тесный фрак, он (Чайхидзев. – К. О.) плясал с Олей, болезненно улыбался и чувствовал, что он неловок. Он плясал и следил за каждым своим «па». Ему страстно хотелось блеснуть хоть чем-нибудь, но не сумел он блеснуть ничем (1; 166). Любая серьезная ситуация описывается повествователем так, что кажется нелепой и комичной. Например, он сообщает, что, решив поженить своих детей, «пьяные князья приказали детям поцеловаться, пожали друг другу руки и сами поцеловались» (1; 163). Страстно влюбленный в Олю поручик Егоров во время помолвки своей любимой «был пьян как стелька и спал мертвецки» (1; 166). Рассказывая о данном своему отцу обещании, героиня говорила «с гордостью, как будто бы совершала какой-нибудь громаднейший подвиг. Она гордилась тем, что отец унес с собой в могилу ее обещание. Это обещание было так необыкновенно, романтично!» (1; 164) 229 В этом мире не существует трагедий: повествователь и герои в своем восприятии действительности легко переключаются между жанровыми установками, обеспечивающими им гармоничное видение мира. Так, смерть отца и данное ему слово Ольге видятся в романтическом свете, и это смягчает трагичность ситуации. И наоборот, когда мелодраматическое развитие сюжета влечет персонажей к катастрофе, выясняется, что их сознание не так уж и «литературоцентрично» по своей сути, и они могут воспринимать действительность вполне рационально. После скандала на помолвке «Чайхидзев ответил барону, что он “все это хорошо понимает”, что он не придает значения отцовскому завещанию, но любит Олю, а потому и был так настойчив... Он с чувством пожал барону руку и обещал завтра же уехать»314 (1; 171). Единственная сцена, в которой повествователь почти не использует иронию, – ночь после помолвки и возвращение Ольги домой. Описание внешности прекрасной девушки резко контрастирует с гневной речью, которую обрушивает на нее мать. Читатель может посчитать именно этот момент переломом, кульминацией рассказа, которая, несомненно, должна привести к серьезным изменениям в жизни героев. Однако скоро выясняется, что практически ничего не меняется ни в жизни, ни в настроении веселой компании. Изгнанные княгиней друзья «у Егорова… занимались только тем, что кутили, скучали об Оле и утешали Егорова» (1; 172). А затем все и вовсе возвращается на круги своя: поручику удается «гнев княгини переложить на милость», справедливость и любовь торжествуют. Более того, финал рассказа свидетельствует о том, что ничего не изменилось в жизни героев (а не только в любовной истории Оленьки и поручика): рассказчик снова собирается на Зеленую косу и предвкушает веселые забавы. Этот текст, казалось бы, насыщенный происшествиями, не содержит настоящего события. Ничто здесь не имеет решительных последствий, 314 Интересно, что отмеченное нами деление на героев серьезных и несерьезных в «Зеленой косе» не является тождественным мелодраматическому делению на отрицательных и положительных персонажей, как может показаться читателю в начале рассказа. «Серьезный» Чайхидзев в итоге оказывается разумным и благородным человеком и «удаляется со сцены», чтобы не мешать счастью влюбленных. 230 релевантных для героев (или, по крайней мере, для рассказчика), все несчастья могут быть обратимы, равновесие и гармония всегда восстанавливаются 315. Если говорить о событии в лотмановском смысле, как о пересечении границы, лежащей между двумя мирами, то в тексте не обозначена даже традиционная граница между идиллическим миром Зеленой косы и городом, где рассказчик вспоминает о летних приключениях: то есть в рассказе вообще нет границы, которую можно было бы пересечь. Как нам представляется, эта особенность текста связана с тем, как организована речь повествователя. Он не рассказывает нам о том, что случилось с ним и его друзьями. Он пересказывает события, причем делает это сжато и иронично. Ироничность тона позволяет ему расположить все эпизоды словно бы на одной линии, не выделяя ни один как центральное, главное событие. Впечатление пересказа создается еще и благодаря постоянному употреблению глаголов несовершенного вида316. Таким образом, повествователь в «Зеленой косе», как и в «Драме на охоте», имеет определенную власть над текстом. В «Маленьком романе» эту власть ему обеспечивает ироничный тон, выдающий в рассказчике то ли шалопая-остряка, то ли реального автора-юмориста. Он нарочито подчеркивает все мелодраматические клише, которые читателю и без этого несложно было бы опознать. Однако за счет замены «рассказа» «пересказом» происходит весьма удачное смешение юмористического рассказа и романа, переполненного мелодраматическими страстями. В итоге получается текст, балансирующий на грани документальности и фикциональности, пародии и оригинального жанра, писательской шутки и истории из жизни. В «Драме на охоте» повествователь стремится к власти над текстом, чтобы получить статус творца, властителя судеб, чтобы сделать некое громкое заявление. Это честолюбивое стремление оборачивается трагедией во вставной истории и 315 316 О признаках событийности см. подробнее: Шмид В. Нарратология. М., 2003. С. 13–18. Они, безусловно, указывают и на цикличность времени этого счастливого мира. 231 гнетущим ощущением издателя (и, по всей вероятности, читателя) в обрамляющей истории. Оба текста заканчиваются имплицитным указанием на торжество бессобытийности, невозможности каких-либо изменений в мире. В рассказе 1882 года это бессобытийность, близкая к гармонии, героев ждет полное счастья цикличное существование в радостном мире: «Вскоре я должен получить два письма: одно строгое, официальное от княгини, другое длинное, веселое, полное проектов от Оли. В мае я еду опять на Зеленую косу» (1; 173). В «Драме на охоте» читатель сталкивается с бессобытийностью трагической: невозможно наказать виновника, невозможно даже уличить его, потому что он постоянно скрывается под масками – Камышев, Зиновьев, возможно, редактор. Если концовка первого текста позволяет читателю провести некую грань между художественным миром и реальным миром реципиента или хотя бы закрыть книгу, получив свою долю развлечения, то в случае с «Драмой на охоте» читатель оказывается замкнут в рамках фиктивного мира, где царит тяжелое ощущение безысходности. Подводя итог сказанному выше, необходимо отметить, что «крупные формы», представленные в раннем творчестве Чехова, можно рассматривать как широкое поле для авторского эксперимента в области повествования. Остранение популярных жанров и структур было более или менее заметным в зависимости от объема и жанровой принадлежности текста, однако в любом случае внимание автора было направлено в первую очередь на фигуру реципиента. Повесть «Цветы запоздалые» моделирует особую стратегию воздействия на читателя: используя смену точек зрения, постепенно открывая читателю информацию о персонажах, повествователь стремится обмануть ожидания адресата, сформированные общей мелодраматической направленностью данного произведения. В результате неожиданным для реципиента оказывается не сюжетная развязка, но переворачивание образов («положительный» персонаж оказывается скомпрометирован, а в образе «отрицательного» обнаруживаются 232 благородные черты). Более того, этическая оппозиция добра и зла, которая выдвигается на первый план в массовых мелодраматических произведениях, становится практически нерелевантной для чеховского текста. Наиболее сложно организованным оказывается повествование в повести «Драма на охоте», в которой автор играет с жанровым каноном уголовного романа. Вставная история содержит интертекстуальные отсылки к текстам русской и зарубежной литературы, «общим местам» массовой словесности и популярным стилям. Обрамляющая история и вставная повесть по отдельности кажутся достаточно остросюжетными, однако сложные взаимоотношения между ними проблематизируют событийную структуру «Драмы на охоте» в целом. Напряжение не может разрешиться в рамках текста, и эта неразрешимость, неуверенность воздействует на читателя даже больше, чем разоблачение истинного преступника (ведь ключ к детективной загадке был дан уже в начале произведения). Этот эффект оказывается усилен тем, что композиционные и повествовательные особенности чеховского уголовного романа создают иллюзию истончения границ между вымыслом и реальностью не только в рамках изображенного мира, но и в действительности адресата. Такой сложно организованный текст, как «Драма на охоте», безусловно, не мог появиться из ниоткуда – по нашему мнению, эта чеховская повесть является своего рода итоговым текстом, содержащим в себе почти все приемы, характерные для поэтики раннего Чехова. Неким претекстом, варьирующим сюжет, разработанный в «Драме на охоте», на наш взгляд, является большой чеховский рассказ «Зеленая коса», трактующий сходную мелодраматическую сюжетную линию в идиллическом ключе. «Малые жанры» и «крупные формы» в раннем творчестве Чехова роднят, кроме всего прочего, особого рода отношения, возникающие между повествователем (текстом) и адресатом. Для того чтобы произвести впечатление на читателя, произведение должно увлечь его, погрузить в художественный мир, что непросто сделать в случае с настроенной на «развлечение» массовой аудиторией. Задействуя знакомые публике темы и сюжеты, Чехов работает с 233 повествованием, по-особому выстраивает композицию своих произведений, незаметно вовлекая читателя в текст. Таким образом вторым – и, возможно, главным – сюжетом становится не то, о чем рассказывается в тексте, но сюжет чтения и понимания произведения. А главным событием оказывается осознание адресатом собственной вовлеченности в художественный мир, возникновение у него рефлексии по поводу собственных читательских ожиданий. 234 Заключение Анализ ранних чеховских текстов показывает, что работу над своими первыми рассказами писатель вел в разных направлениях. Для достижения необходимого эффекта ему приходилось учитывать всевозможные аспекты ожиданий и компетенции своего читателя, выполняя заказ аудитории и в то же самое время удивляя ее. При определении специфики чеховских преобразований готового материала внимание исследователя в первую очередь привлекают трансформации жанров. Очевидно, что Чехов не мог не ориентироваться на жанровую систему, существовавшую в популярной литературе начала 1880-х годов. Календарный цикл, которому во многом подчинялась «малая пресса», был тесно связан с повседневной жизнью массового читателя. Рассказы, приуроченные к ежегодным событиям, обладали устойчивыми сюжетными и формальными чертами, сохраняя или видоизменяя произведений, где которые особое Чехов создавал значение свои варианты придавалось календарных взаимоотношениям повествователя и реципиента. Большое внимание, которое Чехов уделял событийной структуре своих текстов, приводило к тому, что границы между разными календарными жанрами истончались и становились проницаемыми. В результате пасхальный рассказ мог соединяться с уголовным, к чему располагали структурные переклички между этими жанрами (и для того, и для другого характерно изображение исповеди, покаяния, духовного воскресения). Проблема взаимодействия текста и реципиента является центральной для массовой литературы, ведь в условиях, когда читатель знает «правила игры», увлечь его становится достаточно непросто. Событийность в рамках художественного мира, обусловленная формулой или жанровой принадлежностью текста, в некотором смысле работает на разрушение эстетической иллюзии, мешает читателю полностью погрузиться в художественный мир. Для решения этой проблемы необходимо перенести событийную ситуацию на уровень 235 коммуникации читателя и текста. Роль читателя в этом случае усложняется: он становится одновременно и внешним наблюдателем, и героем, с которым происходит перемена, и субъектом чтения, и объектом авторской воли. И хотя на самом деле реципиент так или иначе всегда примеряет на себя субъектную и объектную роли, в данном случае важен эффект неожиданности, удивления. «Плоский» массовый текст вдруг выходит за границы своего жанра, формулы, которая обусловливает рефлексию реципиента, его осознание собственной роли в процессе чтения. Событийными в этом смысле оказываются чеховские пародии, в фокусе которых оказывается не столько литературный материал, сколько читательские ожидания. Другим важным свойством массовых произведений, позволяющих регулировать отношения текста и его аудитории, является мелодраматизм. Преодолевая границы жанра, мелодрама становится приемом, с помощью которого писатель удерживает внимание читателя. И важная роль здесь принадлежит повествователю, который, с одной стороны, отдаляет читателя от художественного мира, являясь по сути дела опосредующей инстанцией, а с другой – обеспечивает более глубокое погружение реципиента в текст, расставляя акценты, производя отбор сведений, доступных читателю, позволяя ему самостоятельно заполнять смысловые лакуны. Популярная литература ищет постоянного контакта со своим читателем, стараясь как можно глубже погрузить его в текст, сместить с позиции вненаходимости и тем самым вызвать у него определенное впечатление. Для достижения этой цели задействуется событийность и на уровне изображенного мира, и на уровне диалога с читателем. Если авторские «жесты», адресованные реципиенту, замечаются последним и оцениваются как релевантные, то текст может понравиться и запомниться больше, чем другие. Несмотря на то, что многие юмористические тексты построены как новеллы и содержат неожиданный поворот, пуант в конце, в них могут появляться структурные особенности, позволяющие остранить жанр, стиль, сюжетную 236 формулу и в результате сместить фокус с истории на процесс восприятия. И.Н. Сухих, выстраивая иерархию жанров «малой прессы», убедительно показал, что самые мелкие формы могут содержать в себе зерно более крупных, одно может постепенно переходить в другое317. Возможно, причина этого заключается еще и в присутствии во всех этих текстах двунаправленной авторской интенции – стремления развлечь и увлечь читателя и стремления создать событие на двух уровнях текста. Благодаря этому даже такие статичные жанры, как подпись под рисунком или один из описанных в первой главе «списков», обретают некую сюжетную динамику. Для популярной литературы, как и для «высокой», важнейшим принципом оказывается возможность пересечения границы, описанная Ю.М. Лотманом, однако эта граница пролегает не внутри текста, а между сознанием реципиента и художественным миром. Реципиент должен отдалиться от автора и погрузиться в текст, стать «текстом в тексте»318. В случае с «малой прессой», где каждый читатель потенциально мог стать автором, пересечение этой границы было возможно только за счет выключения реципиента из среды «авторов». Иллюзия близости к фигуре автора могла сохраняться у читателя и в процессе восприятия текста, и разрушение этой иллюзии маркировало событие. По словам И.П. Видуэцкой, в зрелом творчестве Чехов кардинально меняет способ воздействия на реципиента: Суть чеховской объективности заключалось в том, чтобы оставить читателя как бы наедине с изображаемой действительностью, создать впечатление, что в произведении говорит не автор, а сама жизнь. В творчестве зрелого Чехова совершился переход от диалога писателя с читателем к более неуловимой форме общения при помощи нарисованных в произведении отдельных картин жизни, выбор которых, на первый взгляд, может показаться случайным, не преследующим каких-либо идеологических целей 319. 317 Сухих И. Н. Указ. соч. С. 57–102. Лотман Ю.М. Текст в тексте // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. Таллинн, 1992. С. 148–160. 319 Видуэцкая И.П. Способы создания иллюзии реальности в прозе зрелого Чехова // В творческой лаборатории Чехова. М., 1974. С. 279–295. 318 237 Как мы пытались доказать, ранний чеховский «диалог с читателем» является сложным литературным явлением, задействующим целый комплекс повествовательных приемов и стратегий. Общим свойством всех – бесконечно разнообразных – ранних чеховских произведений является то, что объектом внимания автора оказывается процесс чтения, а главной задачей – конструирование особого способа общения с читателем. Эту коммуникацию можно назвать игрой или обманом читательских ожиданий. Ослабление событийной структуры на сюжетно-фабульном уровне, замыкание композиции указывают на стремление к эксперименту, рефлексию молодого писателя над своим стилем и повествованием. Очень интересной в этом отношении является идея Е.В. Хворостьяновой о том, что <э>волюция Чехова, определяемая обычно как переход от юмористического изображения к лиризму, а затем более глубокому философскому осмыслению бытия, в значительной степени обусловлена постепенным исчезновением рефлексии в творческой практике писателя, с помощью которой новый художественный мир отстаивал свое право на существование 320. В область этой рефлексии входили как сюжетно-жанровые клише, так и, безусловно, фигура адресата. Чуткий к коммуникативной проблематике Чехов в первую очередь думает о реакции читателя и работает с повествованием и дискурсом. Одну и ту же сюжетную схему он разворачивает в идиллию и «страшный» роман (таковы сюжетно перекликающиеся повести «Зеленая коса» и «Драма на охоте»), создает возможность прочитать одно и то же произведение как анекдот, притчу или нечто третье (рассказ «Верба»), пародию внезапно превращает в стилизацию («Летающие острова») и т. д. В нашем исследовании мы не раз приводили слова В.Б. Катаева о том, что чеховский герой часто обнаруживает себя в ситуации «казалось – оказалось» 321. Можно с уверенностью утверждать, что это характерно и для читателя, который, по большому счету, оказывается одним из главных героев ранних чеховских произведений. 320 321 Хворостьянова Е.В. Поэтика пародийного текста (Ранний Чехов) // От Пушкина до Белого. СПб., 1992. С. 275. Катаев В. Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации. С. 21. 238 Список использованной литературы Источники: 1. Чехов, А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. / А.П. Чехов; [Редкол.: Н.Ф. Бельчиков (гл. ред.) и др.]. – М.: Наука, 1974–1983. – 30 т. 2. Ч-х-въ, А. Карл и Эмилия / Ал.П. Чехов // Будильник. – 1880. – № 2. – С. 447–451. 3. Александров, В.В. Медуза. Роман из уголовной хроники: в 2 ч. / В.В. Александров. – СПб.: Издание С. Добродеева, 1890. 4. Апухтин, А.Н. Полное собрание стихотворений / А.Н. Апухтин; [вступ. статья М.В. Отрадина, сост., подгот. текста и примеч. Р.А. Шацевой]. – Л.: Советский писатель, 1991. – 448 с. 5. Верн, Ж. Собрание сочинений: в 12 т. / Ж. Верн; [Под ред. Б.Н. Агапова и др.; Вступ. статья К.К. Андреева]. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1954–1957. – 12 т. 6. Воля. Из Казани (Корреспонденция «Будильника») / Воля // Будильник. – 1880. – № 2. – С. 52. 7. Гоголь, Н.В. Собрание сочинений: в 7 т. / Н.В. Гоголь; [Под общ. ред. С.И. Машинского, М.Б. Храпченко]. – М.: Художественная литература, 1984–1986. – 7 т. 8. Грибоедов, А.С. Полное собрание сочинений: В 3 т. / А.С. Грибоедов; [редкол.: С.А. Фомичев (гл. ред.), А.В. Архипова, В.Э. Вацуро, А.Л. Гришунин, Н.Н. Скатов]. – СПб.: Нотабене, 1995–2006. – 3 т. 9. Гюго, В. Собрание сочинений: в 15 т. / В. Гюго; [под ред. В.Н. Николаева и др.; вступ. статья В.Н. Николаева] – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1953–1956. – 15 т. 239 10. Достоевский, Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. / Ф.М. Достоевский; [Редкол.: В.Г. Базанов (отв. ред.) и др.]. – Л.: Наука, 1972–1990. – 30 т. 11. Пушкин, А.С. Полное собрание сочинений: В 16 т. / А.С. Пушкин; [Ред. комитет: М. Горький, Д.Д. Благой, Г.О. Винокур, Б.В. Томашевский и др.]. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959. – 16 т. 12. Сю, Э. Парижские тайны. Т. 1–2. / Э. Сю. – СПб.: Тип. К. Жернакова, 1844. – 2 т. 13. Толстой, Л.Н. Полное собрание сочинений: В 100 т. / Л.Н. Толстой; [Редкол.: Л.Д. Громова-Опульская (гл. ред.) и др. Тексты и коммент. подгот. Л.Д. Громова-Опульская]. – М.: Наука, 2000–... 14. Шкляревский, А.А. Повести и рассказы. / А.А. Шкляревский. – М.: Тип. Бахметьева, 1872. – 265 с. 15. Шкляревский, А.А. Рассказ судебного следователя // Русский уголовный роман / А.А. Шкляревский; [Ред. В. Хахмигери. Сост. и автор вст. статьи А. Рейтблат]. – М.: «ИРДАШ» и «Х. Г. С». 1992. – С. 30–77. Научная литература: 16. Абашина, М.Г. Массовая литература 1880-х – начала 1890-х годов (И.И. Ясинский, В.И. Бибиков). Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / М.Г. Абашина. – СПб., 1992. – 16 с. 17. Абрашова, Е.А. Мифореализм / Е.А. Абрашова // Миф – Литература – Мифореставрация: сб. ст. / Под общ. ред. д. филол. н., проф. С.М. Телегина. – М.; Рязань: Б. и. Узорочье, 2000. С. 39–43. 18. Аристотель. Поэтика. Риторика / Аристотель. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 352 с. 19. Арсеньев, К. Беллетристы последнего времени / К. Арсеньев // А.П. Чехов: Pro et Contra : Творчество А.П. Чехова в русской мысли конца XIX – начала 240 XX в. (1887–1914). Антология / Сост., предисл., общ. ред.: И.Н. Сухих Послесл., примеч.: А.Д. Степанов. – СПб.: РХГИ, 2002. – С. 45–54. 20. Балухатый, С.Д. Поэтика мелодрамы / С.Д. Балухатый // Балухатый, С.Д. Вопросы поэтики. – Л.: Ленинградский государственный университет, 1990. – С. 30–80. 21. Барт, Р. Эффект реальности / Р. Барт // Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1994. – С. 392–400. 22. Барт Р. Риторика образа / Р. Барт // Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1994. – С. 297–318. 23. Баханек, С.Н. «Драма на охоте» А.П. Чехова: следователь в поисках понимания / С.Н. Баханек // Художественная литература, критика и публицистика в системе духовной культуры: Сборник статей. – Вып. 6 / Отв. ред. А.М. Корокотина. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2005. – С. 49–53. 24. Бахтин, М.М. Проблемы творчества Достоевского / М.М. Бахтин. – Киев: Next, 1994. – 509 c. 25. Бахтин, М.М. Формы времени и хронотопа в романе / М.М. Бахтин // Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975. – С. 234–407. 26. Бахтин, М.М. Эпос и роман / М.М. Бахтин // Бахтин, М.М. Литературнокритические статьи / Сост. С.Г. Бочаров, В.В. Кожинов. – М.: Художественная литература, 1986. – С. 392–427. 27. Бентли, Э. Жизнь драмы / Э. Бентли. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 416 с. 28. Бергер, Дж. Искусство видеть / Дж. Бергер. – СПб.: Клаудберри, 2012. – 184 с. 29. Бланшо, М. Пространство литературы / М. Бланшо. – М.: Логос, 2002. – 288 с. 241 30. Бочаров, С.Г. Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» / С.Г. Бочаров. – М.: Художественная литература, 1968. – 140 с. 31. Бочаров, С.Г. Переход от Гоголя к Достоевскому / С.Г. Бочаров // Бочаров, С.Г. О художественных мирах. Сервантес, Пушкин, Баратынский, Гоголь, Достоевский, Толстой, Платонов. – М.: Сов. Россия, 1985. – С. 161– 209. 32. Будур, Н. Готическая английская проза и пути ее развития / Н. Будур // Английская готическая проза: В 2 т. / Сост., вступ. статья Н. Будур. – Т. 1. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 1999. – С. 5–16. 33. Бялый, Г.А. Чехов и русский реализм / Г.А. Бялый – Л.: Советский писатель, 1981. – 400 с. 34. Вайль, П. Путь романиста. Чехов / П. Вайль, А. Генис // Вайль, П., Генис, А. Родная речь: Уроки изящной словесности. – М.: КоЛибри, 2008. – С. 233– 244. 35. Васильева, И.Э. «Поиски слова» в «переходную эпоху»: стратегия повествования В.М. Гаршина и А.П. Чехова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / И.Э. Васильева. – СПб.: СПбГУ, 2007. – 248 с. 36. Васильева, И.Э. «Поиски слова» в «переходную эпоху»: стратегия повествования В.М. Гаршина и А.П. Чехова: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / И.Э. Васильева. – СПб.: СПбГУ, 2007. – 24 с. 37. Васильева, И.Э. Специфика чеховской событийности: «Дом с мезонином» / И.Э.Васильева // Событие и событийность. Петербургский сборник / Под ред. В.М. Марковича и В. Шмида. – Вып. 5. – М.: Интрада, 2010. – С. 123–140. 38. Васильева, И.Э. Стратегия вымысла и проблемы коммуникации (повесть А.П. Чехова «Степь») / И.Э. Василева // Проблемы нарратологии и опыт формализма / структурализма: материалы международных научных чтений / Отв. редакторы В.М. Маркович, В. Шмид. – СПб.: Пушкинский проект, 2008. – С. 326–354. 242 39. Вацуро В.Э. Готический роман в России / В.Э. Вацуро – М.: Новое литературное обозрение, 2002. – 544 с. 40. Видуэцкая, И.П. Способы создания иллюзии реальности в прозе зрелого Чехова / И.П. Видуэцкая // В творческой лаборатории Чехова / Ред. колл. Л.Д. Опульская, З.С. Паперный, С.Е. Шаталов. – М.: Наука, 1974. – С. 279– 295. 41. Вознесенская, Т.И. Литературно-драматический жанр мелодрамы. Конспект лекций / Т.И. Вознесенская. – М.: Изд-во МГАП «Мир книги», 1996. – 58 с. 42. Вознесенская, Т.И. Художественные принципы мелодрамы / Т.И. Вознесенская // К 60-летию профессора Анны Ивановны Журавлевой: Сб. статей / Ред. колл.: Г.В. Зыкова, М.С. Макеев, Е.Н. Пенская. – М.: Диалог-МГУ, 1998. – С. 71–90. 43. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – М.: Искусство, 1986. – 573 с. 44. Глушков, С.В. Чехов и провинциальный читатель / С.В. Глушков // Читатель в творческом сознании русских писателей: Межвуз. темат. сб. науч. тр. / Ред. Г.Н. Ищук. – Калинин: КГУ, 1986. – С. 155–168. 45. Григорьева, Е.Н. Как рассказана повесть «Невский проспект» / Е.Н. Григорьева // Проза Н.В. Гоголя. Поэтика нарратива: сб. статей / Отв. ред. В.М. Маркович. – СПб.: СПбГУ, 2011. – С. 183–194. 46. Душечкина, Е.В. Русский святочный рассказ: становление жанра / Е.В. Душечкина. – СПб.: СПбГУ, 1995. – 256 с. 47. Жабицкая, Л.Г. Чтение служит таланту. О специфике восприятия художественной литературы писателем / Л.Г. Жабицкая // Проблемы комплексного изучения восприятия художественной литературы / Отв. ред. Г.Н. Ищук. – Калинин: Калининский государственный университет, 1984. – С. 17–27. 48. Изер, В. Акты вымысла, или что фиктивно в фикциональном тексте / В. Изер // Немецкое философское литературоведение наших дней: 243 Антология / Сост. Д. Уффельман, К. Шрамм. – СПб.: СПбГУ, 2001. – С. 186– 216. 49. Изер, В. Процесс чтения: феноменологический подход / В. Изер // Современная литературная теория. Антология / Сост. И.В. Кабанова. – М.: Флинта: Наука, 2004. – С. 201–224. 50. Ильюхина, Т. Ю. Вопрос о романе в раннем творчестве А. П. Чехова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Т.Ю. Ильюхина. – СПб.: СПбГУ, 1994. – 192 с. 51. Ингарден, Р. Литературное произведение и его конкретизация / Р. Ингарден // Ингарден Р. Исследования по эстетике / Пер. с польского А. Ермилова и Б. Федорова; Ред. А. Якушева; Предисл. В. Разумного. – М.: Издательство иностранной литературы, 1962. – 570 с. 52. Кавелти, Дж.Г. Изучение литературных формул / Дж.Г. Кавелти // Новое литературное обозрение. – 1996. – № 22. – С. 33–64. 53. Калениченко, О.Н. Судьбы малых жанров в русской литературе конца XIX – начала ХХ века (святочный и пасхальный рассказ, модернистская новелла) / О.Н. Калениченко. – Волгоград: Перемена, 2000. – 232 с. 54. Калинина, Ю.В. Русский водевиль и одноактная драматургия А.П. Чехова: автореф. дис. …. канд. филол. наук: 10.01.01 / Ю.В. Калинина. – Ульяновск: Ульяновский гос. ун-т, 1991. – 23 с. 55. Карпов, Н. А. Два «криминальных» романа: «Отчаяние» Набокова и «Драма на охоте» Чехова / Н.А. Карпов // Homo universitatis: Памяти Аскольда Борисовича Муратова (1937–2009). Сб. статей / Под. ред. А.А. Карпова. – СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009. – С. 256–269. 56. Катаев, В.Б. Литературные связи Чехова / В.Б. Катаев. – М.: МГУ, 1989. – 261 с. 57. Катаев, В.Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации / В.Б. Катаев. – М.: МГУ, 1979. – 326 с. 244 58. Кожевникова, Н.А. Стиль Чехова / Н.А. Кожевникова. – М.: Азбуковник, 2011. – 486 с. 59. Козлов, Е. В. Художественный текст и вымысел / Е.В. Козлов // Язык и социум: современные проблемы. Сб. тезисов / Отв. ред. А.В. Соболев. – Волгоград: ВА МВД России, 2004. – С. 65–69. 60. Крутоус, В.П. О «мелодраматическом» / В.П. Крутоус // Вопросы философии. – 1981. – № 5. – С. 125–136. 61. Крылова, Е.О. Метафора как смыслопорождающий механизм в художественном мире А.П. Чехова: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Е.О. Крылова. – СПб.: СПбГУ, 2009. – 186 с. 62. Кубасов, А.В. Рассказы Чехова: поэтика жанра. Учебное пособие / А.В. Кубасов. – Свердловск: СГПИ, 1990. – 72 с. 63. Кузичева, А.П. Кто он, «маленький человек»? (Опыт чтения русской классики) / А.П. Кузичева // Художественные проблемы русской культуры второй половины XIX века. Сб. статей / Отв. ред. Г.Ю. Стернин. – М.: Наука, 1994. – С. 61–114. 64. Кузичева, А.П. Об эффекте «развертывания слова» Чехова в сознании читателя / А.П. Кузичева // Стиль прозы Чехова / Ред. Л.М. Цилевич. – Даугавпилс: Даугавпилсский педагогический университет, 1993. – С. 9–19. 65. Кузнецов, И. Мелодраматические клише в драматургии Чехова и Зудермана / И. Кузнецов // Чехов и Германия / Под ред. проф. В.Б. Катаева, проф. Р.-Д. Клуге. – М.: Филологический факультет МГУ, 1996. – С. 61–70. 66. Куликова, Е.И. К вопросу о становлении реализма в творчестве Чехова (Сравнительный анализ «Цветов запоздалых» и «Ионыча») / Е.И. Куликова // Вопросы русской и зарубежной литературы. – Т. 2. – Куйбышев: Куйбышевский государственный педагогический институт им. В.В. Куйбышева, 1966. – С. 165–182. 67. Ларионова, М.Ч. Традиции сказочного повествования в ранних рассказах А.П. Чехова / М.Ч. Ларионова // Творчество А. П. Чехова. Сб. науч. тр. / Отв. 245 ред. Г.И. Тамарли. – Таганрог: изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2004. – С. 139–150. 68. Лисоченко, Л.В. Скрытое сопоставление как текстообразующий прием в рассказе А.П. Чехова «Цветы запоздалые» / Л.В. Лисоченко // Язык писателя. Текст. Смысл. Сб. науч. тр. / Под общ. ред. Л.В. Лисоченко. – Таганрог: Таганрогский гос. пед. ин-т, 1999. – С. 33–41. 69. Лотман, Ю.М. Структура художественного текста / Ю.М. Лотман // Лотман Ю.М. Об искусстве. М.: Искусство – СПб, 1998. – С. 14–285. 70. Лотман, Ю.М. Текст в тексте / Ю.М. Лотман // Лотман Ю. М. Избранные статьи. – Т. 1. – Таллин: Александра, 1992. – С. 148–160. 71. Лотман, Ю.М. Художественная природа русских народных картинок / Ю.М. Лотман // Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. – СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2002. – С. 322– 339. 72. Марченя, П.П. Традиции готической литературы в повести Карамзина «Остров Борнгольм» и новелле Э. По «Падение дома Ашеров» / П.П. Марченя // Карамзинский сборник. – Ч. I. Биография. Творчество. Традиции. XVIII век / Отв. ред. С.М. Шаврыгин. – Ульяновск: Изд-во СВНЦ, 1997. – С. 109–146. 73. Материалы Открытого научного семинара «Проблемы теории и истории литературы». Руководитель Е.М. Апенко. Второе заседание: Массовая литература. – СПб.: Convention Press, 1998. – 28 с. 74. Медарич, М. Мелодраматизм в русском романе ХХ века / М. Медарич // Russian Literature. – XXVII. – 1990. – P. 41–52. 75. Общество. Литература. Чтение. Восприятие литературы в теоретическом аспекте / Манфред Науман, Дитер Шленштедт, Карлхайнц Барк и др.; Перевод с нем. под ред. О.В. Егорова. – М.: Прогресс, 1978. – 293 с. 246 76. Овечкин, С.В. Повести Гоголя. Принципы нарратива / С.В. Овечкин // Проза Н.В. Гоголя. Поэтика нарратива: сб. статей / Отв. ред. В.М. Маркович. – СПб.: СПбГУ, 2011. – С. 7–157. 77. Овчарова, П.И. Изображение читателя в новеллистике Чехова / П.И. Овчарова // Проблемы комплексного изучения восприятия художественной литературы / Отв. ред. Г.Н. Ищук. – Калинин: Калининский государственный университет, 1984. – С. 79–90. 78. Овчарова, П.И. Читатель в творческой программе А.П. Чехова / П.И. Овчарова // Художественное восприятие: проблемы теории и истории / Отв. ред. В.В. Прозоров. – Калинин: Калининский государственный университет, 1988. – С. 123–134. 79. Овчарова, П.И. Читатель и читательское восприятие в творческом сознании А.П. Чехова: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / П.И. Овчарова. – М.: МГУ, 1982. – 23 с. 80. Овчарская, О.В. Ранняя проза А.П. Чехова в контексте «малой прессы» 1880-х годов / О.В. Овчарская // Молодые исследователи Чехова. – Вып. 7. Материалы международной научно-практической конференции (Мелихово, 26–30 мая 2012 г.) / Ред. Э. Д. Орлов. – М.: Мелихово, 2013. – С. 115–127. 81. Одесская, М.М. Русский охотничий рассказ второй половины XIX века (типология, традиции, эволюция): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / М.М. Одесская. – М.: МГУ, 1993. – 24 с. 82. Одесская, М.М. Русский охотничий рассказ XIX века / М.М. Одесская // Русский охотничий рассказ / Сост., авт. предисл. и примеч. М.М. Одесская. – М.: Сов. Россия, 1991. – С. 5–14. 83. Орлов, Э.Д. Литературный быт 1880-х годов. Творчество А.П. Чехова и авторов «малой прессы»: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. – М., 2008. – 260 с. 247 84. Петракова, Л.Г. Поэтика рассказа А.П. Чехова «Верба» / Л.Г. Петракова // Малые жанры: теория и история. Сб. науч. ст. / Отв. ред. П.М. Тамаев. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2006. – С. 102–107. 85. Поддубная, Е.Я. Жанрово-стилевые особенности русской мелодрамы XIX – начала ХХ веков / Е.Я. Поддубная // Проблемы стиля и жанра в русской литературе XIX–ХХ веков. Сб. научных тр. / Отв. ред. Ю.М. Проскурина. – Свердловск: Свердл. пед. ин-т, 1986. – С. 84–89. 86. Полякова, А.А. Готический роман: жанровый канон и типологические разновидности / А.А. Полякова // Судьба жанра в литературном контексте: Сборник научных статей. – Вып. 2 / Под ред. С.А. Ташлыкова. – Иркутск: Иркутский ГУ, 2005. – С. 145–156. 87. Прозоров, В.В. Проблема читателя и литературный процесс в России XIX века: автореф. дис. … докт. филол. наук: 10.01.01 / В.В. Прозоров. – Л.: Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) АН СССР, 1979. – 29 с. 88. Разумовская, К.Н. Особенности композиции рассказа А.П. Чехова «В рождественскую ночь» / К.Н. Разумовская // Молодые исследователи Чехова. – Вып. 6. Материалы международной научно-практической конференции (Москва, май 2008 г.). – М.: Изд-во МГУ, 2009. – С. 116–123. 89. Рейтблат, А.И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы / А.И. Рейтблат. – М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 448 с. 90. Роскин, А.И. Об Антоше Чехонте и Антоне Чехове (К восьмидесятилетию со дня рождения А.П. Чехова) / А.И. Роскин // Роскин А.И. А.П. Чехов. Статьи и очерки. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1959. – С. 77–87. 91. Руднев, В.П. Детектив / В.П. Руднев // Руднев В.П. Энциклопедический словарь культуры ХХ века: Ключевые понятия и тексты. – М., 1999. – С. 79– 81. 248 92. Рымарь, Н.Т. О завершающей функции рамы в литературном произведении / Н.Т. Рымарь // Рама и граница. Граница и опыт границы в художественном языке. – Вып. 3 / Науч. ред. Н.Т. Рымарь. – Самара: Самар. гуманит. академия, 2006. – С. 19–33. 93. Сахарова, Е.М. Глазами читателей / Е.М. Сахарова // Чехов и его время / Ред. колл. Л.Д. Опульская, З.С. Паперный, С.Е. Шаталов. – М.: Наука, 1977. – С. 332–347. 94. Старыгина, Н.Н. Святочный рассказ как жанр / Н.Н. Старыгина // Проблемы исторической поэтики. – Вып. 2. Художественные и научные категории. – Петрозаводск: ПГУ, 1992. – С. 113–127. 95.Степанов, А.Д. Психология мелодрамы / А.Д. Степанов // Драма и театр. Сб. научных трудов. – Вып. 2 / Ред. Н.И. Ищук-Фадеева. – Тверь: Тверской гос. ун-т, 2001. – С. 38–55. 96. Степанов, А.Д. Чеховские рассказы о чиновниках / А.Д. Степанов // Чехов А.П. Смерть чиновника: Рассказы / Сост., вст. ст. и прим. А.Д. Степанова. СПб.: Азбука-классика, 2012. – С. 5–14. 97. Степанов, А.Д. Проблемы коммуникации у Чехова / А.Д. Степанов. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 400 с. 98. Степанов, А.Д. Чеховская «абсолютнейшая свобода» и хронотоп тюрьмы / А.Д. Степанов // Canadian American Slavic Studies. – 42. – Nos. 1–2 (Spring– Summer 2008). – P. 89–101. 99. Сухих, И.Н. Проблемы поэтики Чехова / И.Н. Сухих. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2007. – 490 с. 100. Тамарченко, традиция / Н.Д. «Черный монах» А.П. Чехова и готическая Н.Д. Тамарченко, А.А. Полякова // Дискурсивность и художественность: К 60-летию Валерия Игоревича Тюпы. Сб. научных трудов / Отв. ред. М.Н. Дарвин. – М.: Изд-во Ипполитова, 2005. – С. 136– 146. 249 101. Толстогузов, П.Н. Рождественские рассказы в творчестве Чехова / П.Н. Толстогузов // Изучение поэтики реализма. Межвуз. сб. науч. тр. / Редкол.: А.С. Смирнов (отв. ред.) и др. – Вологда, Мурманск: Мурм. ГПИ, 1990. – С. 48–59. 102. Тынянов, Ю.Н. Достоевский и Гоголь (к теории пародии) / Ю.Н. Тынянов // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М.: Наука, 1977. – С. 198–226. 103. Тынянов, Ю.Н. О пародии / Ю.Н. Тынянов // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М.: Наука, 1977. – С. 284–309. 104. Тюпа, В.И. Коммуникативная стратегия чеховской поэтики / В.И. Тюпа // Чеховские чтения в Оттаве: сб. научных трудов / Редкол. Ю.В. Доманский, Д. Клэйтон. – Тверь; Оттава: Лилия Принт, 2006. – С. 5– 17. 105. Тюпа, В.И. Нарратология как аналитика повествовательного дискурса («Архиерей» А.П. Чехова) /В.И. Тюпа. – Тверь: Тверской ГУ, 2001. – 58 с. 106. Тюпа, В.И. Художественность чеховского рассказа / В.И. Тюпа. – М.: Высшая школа, 1989. – 132 с. 107. Тюпа, В.И. Статус событийности и дискурсные формации / В.И. Тюпа // Событие и событийность. Петербургский сборник / Под ред. В.М. Марковича и В. Шмида. – Вып. 5. – М.: Интрада, 2010. – С. 24–36. 108. Фортунатов, Н.М. Тайны Чехонте: о раннем творчестве А.П. Чехова. Материалы спецкурса / Н.М. Фортунатов. – Нижний Новгород: Нижегородский университет, 1996. – 113 с. 109. Фортунатов, Н. М. Архитектоника чеховской новеллы (Спецкурс) / Н.М. Фортунатов. – Горький: Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 1975. – 108 с. 110. Фрайзе, М. Проза Антона Чехова / М. Фрайзе. – М.: Флинта, Наука, 2012. – 376 с. 250 111. Фрейд, З. Поэт и фантазия / З. Фрейд // Вопросы литературы. – 1990. – № 8. – С. 160–166. 112. Фрейд, З. Жуткое (1919) / З. Фрейд // Фрейд З. Психоаналитические сочинения. – М.: ООО «Фирма СТД», 2006. – С. 262–297. 113. Хворостьянова, Е.В. Поэтика пародийного текста (Ранний Чехов) / Е.В. Хворостьянова // От Пушкина до Белого: Проблемы поэтики русского реализма XIX – нач. XX в. Межвуз. сб. / Под ред. В.М. Марковича. – СПб.: СПбГУ, 1992. – С. 261–277. 114. Художественное творчество и проблемы восприятия. Сб. научных трудов / Редкол.: В.В. Прозоров (отв. ред.) и др. – Калинин: КГУ, 1990. – 142 с. 115. Цилевич, Л.М. Импульсы эстетической активности в чеховском рассказе / Л.М. Цилевич // Чеховиана: Чехов в культуре ХХ века: Статьи, публикации, эссе / Редкол.: В.А. Лакшин (отв. ред.) и др. – М.: Наука, 1993. – С. 51–58. 116. Цилевич, Л.М. Сюжет чеховского рассказа / Л.М. Цилевич. – Рига: Звайгзне, 1976. – 238 с. 117. Чернец, Л. В. Функционирование литературных произведений как теоретическая проблема: автореф. дис. … докт. филол. наук: 10.01.01 / Л.В. Чернец. – М.: МГУ, 1992. – 33 с. 118. Чудаков, А.П. Мир Чехова: Возникновение и утверждение / А.П. Чудаков. – М.: Сов. писатель, 1986. – 379 с. 119. Чудаков, А.П. Поэтика Чехова / А.П. Чудаков. – М.: Наука, 1971. – 291 с. 120. Шахматова, Т.С. Традиции водевиля и мелодрамы в русской драматургии XX – начала XXI веков: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Т.С. шахматова. университет, 2009. – 25 с. – Казань: Казанский государственный 251 121. Шахматова, Т.С. Мелодраматизм в жизни или мелодраматизм взгляда на жизнь? (О тональности поздних пьес А. П. Чехова) / Т.С. Шахматова // Проблемы художественного миромоделирования в русской литературе. – Вып. 8. – Благовещенск: БГПУ, – 2006. С. 117–126. 122. Шмид, В. Нарратология / В. Шмид. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 312 с. 123. Шмид, В. Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард / В. Шмид. – СПб.: ИНАПРЕСС, 1998. – 352 с. 124. Шмид, В. Событийность, субъект и контекст / В. Шмид // Событие и событийность. Петербургский сборник / Под ред. В.М. Марковича и В. Шмида. – Вып. 5. – М.: Интрада, 2010. – С. 13–23. 125. Шуматова, Т.В. «Жалобная книга» А.П. Чехова в свете коммуникативного жанроведения / Т.В. Шуматова // Текст как единица филологической интерпретации: материалы Всероссийской научно- практической конференции с международным участием (13–14 апреля 2011 г., г. Куйбышев) / Отв. ред. А.А. Куруленок. – Новосибирск: Изд-во ООО «Немо Пресс», 2011. – С. 276–279. 126. Эйхенбаум, Б.М. Как сделана «Шинель» Гоголя / Б.М. Эйхенбаум // Эйхенбаум Б.М. Сквозь литературу. Сб. статей. – Л.: Academia, 1924. – С. 171–195. 127. Эко, У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста / У. Эко. – СПб.: Симпозиум, 2001. – 510 с. 128. Якобсон, Р.О. Лингвистика и поэтика / Р.О. Якобсон // Структурализм: «за» и «против» / Под ред. Е.Я. Басина и М.Я. Полякова. – М.: Прогресс, 1975. – С. 193–230. 129. Ярская-Смирнова, Е.Р. Взгляды и образы: методология, анализ, практика / Е. Ярская-Смирнова, П. Романов // Визуальная антропология: настройка оптики / Под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова. – М., 2009. – С. 7–15. 252 130. Яусс, Х.-Р. История литературы как провокация литературоведения / Х.-Р. Яусс // Новое литературное обозрение. – 1995. – № 12. – С. 34–84. 131. Bal, Mieke. Narratology. Introduction to the Theory of Narration / Mieke Bal. – Toronto: Toronto University Press, 1997. – 255 pp. 132. Brooks, Jeffrey. When Russia Learned to Read. Literacy and Popular Literature, 1861–1917 / Jeffrey Brooks. – New Jersey: Princeton University Press, 1985. – 450 pp. 133. Fagner, Donald. Gogol and His Reader / Donald Fagner // Literature and Society in Imperial Russia, 1800-1914 / Ed. by W.M. Todd III. – Stanford, CA: Stanford University Press, 1978. – P. 61–95. 134. Fish, Stanley. Is There Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities / Stanley Fish. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980. – 394 pp. 135. Iser, Wolfgang. The Implied Reader. Patterns of Communication in Prose Fiction from Byron to Beckett / Wolfgang Iser; trans. by W. Fink. – Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1978. – 303 pp. 136. Sillars, Stuart. Visualisation in Popular Fiction 1860–1960. Graphic Narratives, Fictional Images / Stuart Sillars. – London and New York: Routledge, 1995. – 191 pp.