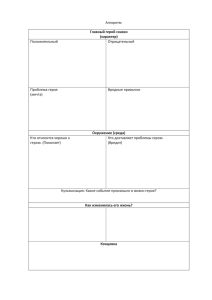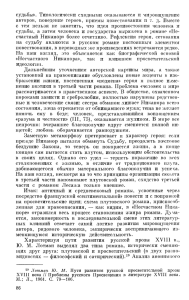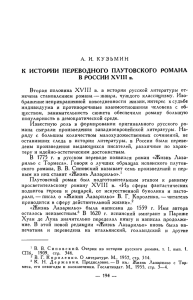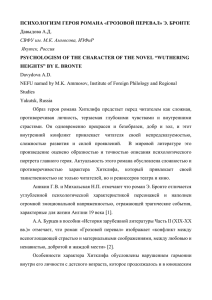А. П. Бондарев АВТОР, ГЕРОЙ И РАССКАЗЧИК В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
advertisement
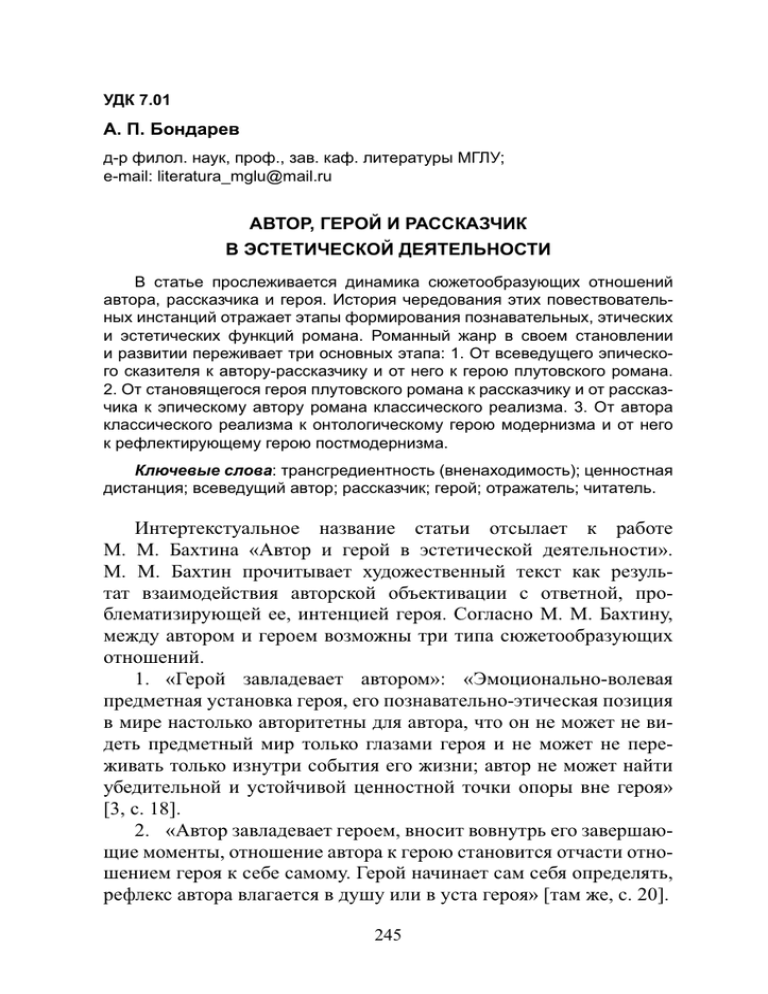
УДК 7.01 А. П. Бондарев д-р филол. наук, проф., зав. каф. литературы МГЛУ; e-mail: literatura_mglu@mail.ru АВТОР, ГЕРОЙ И РАССКАЗЧИК В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В статье прослеживается динамика сюжетообразующих отношений автора, рассказчика и героя. История чередования этих повествовательных инстанций отражает этапы формирования познавательных, этических и эстетических функций романа. Романный жанр в своем становлении и развитии переживает три основных этапа: 1. От всеведущего эпического сказителя к автору-рассказчику и от него к герою плутовского романа. 2. От становящегося героя плутовского романа к рассказчику и от рассказчика к эпическому автору романа классического реализма. 3. От автора классического реализма к онтологическому герою модернизма и от него к рефлектирующему герою постмодернизма. Ключевые слова: трансгредиентность (вненаходимость); ценностная дистанция; всеведущий автор; рассказчик; герой; отражатель; читатель. Интертекстуальное название статьи отсылает к работе М. М. Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности». М. М. Бахтин прочитывает художественный текст как результат взаимодействия авторской объективации с ответной, проблематизирующей ее, интенцией героя. Согласно М. М. Бахтину, между автором и героем возможны три типа сюжетообразующих отношений. 1. «Герой завладевает автором»: «Эмоционально-волевая предметная установка героя, его познавательно-этическая позиция в мире настолько авторитетны для автора, что он не может не видеть предметный мир только глазами героя и не может не переживать только изнутри события его жизни; автор не может найти убедительной и устойчивой ценностной точки опоры вне героя» [3, с. 18]. 2. «Автор завладевает героем, вносит вовнутрь его завершающие моменты, отношение автора к герою становится отчасти отношением героя к себе самому. Герой начинает сам себя определять, рефлекс автора влагается в душу или в уста героя» [там же, с. 20]. 245 Вестник МГЛУ. Выпуск 11 (644) / 2012 3. «Герой является сам своим автором, осмысливает свою собственную жизнь эстетически, как бы играет роль; такой герой в отличие от бесконечного героя романтизма и неискупленного героя Достоевского самодоволен и уверенно завершен» [там же, с. 21]. В первом случае читатель имеет дело с героем, познавательно, этически и эстетически трансгредиентным автору. Герой выступает по отношению к нему в качестве «другого», необходимого автору для самоидентификации. Во втором случае читатель имеет дело с объектным героем. Порождая его из себя, автор дистанцирует и эстетически завершает одну из своих психических функций (К. Г. Юнг), по отношению к которой он выступает как «другой», необходимый герою для самоидентификации. Наконец, в третьем случае читатель имеет дело с героем, возвысившимся в труде самопознания до рассказчика. Герой и рассказчик нужны друг другу для сюжетообразующего диалога. С нашей точки зрения, М. М. Бахтин выявил три типа взаимодействия героя, рассказчика и автора, разделяющих ответственность за порождаемое ими высказывание. В пространстве большого исторического времени каждая сюжетная конфигурация, выстраиваемая этими повествовательными инстанциями, отражает конкретно-исторический момент эволюции прозаических жанров. Релятивизация отношений между ними редуцирует автора как единственного «отправителя», безоговорочно присутствующего во всех сюжетно-композиционных моментах порождаемого им текста. Она лишает и читателя технической функции пассивного «получателя». Диалог автора, героя и рассказчика возвышает читателя до уровня исследователя, призванного разобраться в когнитивной структуре интенциональных взаимосвязей текста. В масштабе литературной системы каждое отдельное художественное высказывание предстает гротескным переходом от авторской преднамеренности к преднамеренности героя, и обратно. Посредником же между ними выступает рассказчик. В данной статье нас интересует, прежде всего, диахрония романных форм – история сюжетообразующих отношений между автором, рассказчиком и героем. Если в лирических и драматических жанрах позиция автора априорно задается ему соответствующей типологической разновидностью, в романе она всякий раз обосновывается 246 А. П. Бондарев его частной позицией человека и повествователя: «Романист нуждается в какой-то существенной формально-жанровой маске, которая определила бы как его позицию для видения жизни, так и позицию для опубликования этой жизни» [4, с. 311]. Сюжетообразующие взаимоотношения автора, рассказчика и героя раскрываются в историческом процессе дифференциации и релятивизации повествовательных функций: 1. От всеведущего эпического сказителя к автору-рассказчику и от него к герою плутовского романа. 2. От становящегося героя плутовского романа к рассказчику и от рассказчика к эпическому автору романа классического реализма. 3. От автора классического реализма к онтологическому герою модернизма и от него к рефлектирующему герою постмодернизма. От всеведущего эпического сказителя к автору-рассказчику и от него к герою плутовского романа Этапы эволюции нарративных форм от гомеровского эпоса к плутовскому роману отмечены неуклонной редукцией всеведущего сказителя к «безосновному» герою-рассказчику. Убывание сказителя отражает кризис «эпического состояния мира» (Гегель). Историческая тенденция выносит эпической поэме вердикт: возникновение романа подытоживает многовековой процесс распада эпоса: «Лучшая книга по истории античного романа, – свидетельствует М. М. Бахтин, – книга Эрвина Роде – не столько рассказывает его историю, сколько изображает процесс разложения всех больших высоких жанров на античной почве» [5, с. 448]. Поздний греческий и древнеримский романы возникли на развалинах эпоса. Ничтожная ценностная дистанция между автором и героем в античном романе предоставляет автору лишь незначительный избыток видения. Автор знает о судьбе героев не больше того, что в развязке узнают они о ней сами. Уровень его эстетического возвышения, способного охватить целостную панораму событий, весьма невысок. Ограничивая себя рамками фабульной хронологии, автор не прибегает к сюжетным диахрониям, эксплицирующим причинно-следственные связи. Так, в романе Харитона 247 Вестник МГЛУ. Выпуск 11 (644) / 2012 «Повесть о любви Херея и Каллирои» автор, сообщая в восьмой главе Книги первой о мнимой смерти Каллирои, возвышает читателя над фабулой, но это возвышение не порождает сюжет, как, например, в повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича». Античные любовные романы ограничивают свой хронотоп биографическим hic et nunc (здесь и сейчас) героев. Та же закономерность проявляется и в средневековом рыцарском романе. В познавательном отношении умаление эпического сказителя до автора-рассказчика – симптом сужения сферы охвата. Автор романа бретонского цикла занимает промежуточное положение между сказителем и героем. С одной стороны, куртуазный роман еще сохраняет генетическую связь с эпосом, оставляя за автором преимущество избытка видения в цикле романов о легендарном короле Артуре и рыцарях круглого стола. С другой стороны, космогоническое и теогоническое всеведение эпического сказителя ограничивается рыцарской мифологией, в рамках которой каждый персонаж играет отведенную ему романным циклом роль. Кроме того, переходящее в произвол своеволие рыцаря снижает предсказуемость его поведенческой реакции, что существенно проблематизирует развязку: охватывающей рыцаря внезапной любовной страсти по силам отвергнуть героическую тему испытания и перенаправить фабулу в куртуазное русло. Е. М. Мелетинский обратил внимание на деструктивные последствия подобного тематического «сбоя»: «Героическая биография дает осечку, большей частью по собственной “трагической” вине героя, возникает противоречие между любовью и рыцарством, “внутренним” человеком и его социальной ролью» [9, с. 112]. Проблематизация героической темы усложняет структуру куртуазного романа, обусловливает его эволюцию от античного цикла к византийскому. От становящегося героя плутовского романа к рассказчику и от рассказчика к эпическому автору романа классического реализма Если процесс распада эпоса сопровождается неуклонным убыванием всеведущего сказителя, процесс становления романа Нового времени характеризуется столь же неуклонным возвышением 248 А. П. Бондарев героя до автора. С момента возникновения западноевропейского романа Нового времени, восходящего к анонимной испанской пикареске «Жизнь Ласарильо с Тормеса» (1554), создаются условия для эволюции сознания плутовского героя к автору романа классического реализма. Диалектика перехода эпического всезнания в свою противоположность, а затем восхождение романа к новому эпическому циклу на социально-мифологической основе, побудила Т. Манна прибегнуть к парадоксу в оценке исторической роли романной эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир»: «Это один из тех случаев, которые вводят нас в искушение опрокинуть соотношение между романом и эпосом, утверждаемое школьной эстетикой, и не роман рассматривать как продукт распада эпоса, а эпос – как примитивный прообраз романа» [8, с. 279]. Роман классического реализма XIX в. знаменует собой ренессанс эпического автора. В режиссерском труде «Работа актера над собой» К. С. Станиславский выделил три «круга внимания» – малый, средний и большой – в надежде помочь актеру нейтрализовать непродуктивное сценическое волнение. Экспансия уверенного самочувствия актера призвана была обеспечить психологическое овладение пространствами сцены и зрительного зала, более качественную реализацию режиссерского замысла. Обретение театральным исполнителем ответственного места в «экономии» спектакля аналогично трем этапам самоактуализации романного героя, эволюционирующего от рассказчика к автору. Плутовскому герою предстояло постичь первоначально скрытые от его наивного взгляда социальные механизмы. Подобная историческая задача оказалась не по силам герою романа Сервантеса «Дон Кихот», традиционалистская непосредственность которого раз навсегда очертила границы познавательных возможностей рыцарского романа. Дон Кихот и плутовской герой ориентировались в противоположных направлениях: неприятие буржуазной действительности воодушевляло Дон Кихота на борьбу за возрождение рыцарской культуры; властная необходимость социальной адаптации побуждала плутовского героя к постижению законов буржуазного общества. В отличие от эпического сказителя, плутовской герой знает и понимает даже меньше того, что знают и понимают попадающиеся ему навстречу эпизодические персонажи – проходимцы, лжецы 249 Вестник МГЛУ. Выпуск 11 (644) / 2012 и шарлатаны авантюрного романа. Однако будучи поначалу весьма ненадежным «отражателем», он, побуждаемый необходимостью, медленно, но верно осознает реальность своего действительного положения. Возрастающая степень понимания служит убедительным обоснованием его нарративной позиции. Хронотопическая экспансия непрерывно расширяет горизонты романного жанра, перемещает его познавательный интерес с индивидуальной судьбы героя на судьбу его поколения. Эволюция повествовательных форм, последовательно генерируемых героем, рассказчиком и автором, направляет эволюцию романа от плутовского к воспитательному, любовно-психологическому, философскому, сентиментальному, историческому, романтическому и социально-психологическому роману классического реализма. Непрерывное усложнение романной структуры противится любым классификациям со стороны не только нормативной, но и исторической поэтики. В работе «Анатомия критики» («Anatomy of Criticism». Princeton, 1967) канадский литературовед Нортроп Герман Фрай (N. Frye) построил систему литературных жанров на базе модальных отношений, складывающихся между героем и читателем. Выделим четвертый пункт развернутой Фраем парадигмы: «4. Если герой не превосходит ни других людей, ни собственное окружение, то он является одним из нас: мы относимся к нему, как к обычному человеку, и требуем от поэта соблюдать те законы правдоподобия, которые отвечают нашему собственному опыту. И это – герой низкого миметического модуса, прежде всего – комедии и реалистической литературы» [13, с. 233]. Непредсказуемое сюжетообразующее взаимодействие интенций героя, рассказчика и автора ставит под сомнение любую классифицирующую упорядоченность. Эволюция авантюрного героя – исторического человека – способна возвысить его до эпического и даже трагического «миметического модуса». С другой стороны, инволюция «высокого» героя способна понизить его жанровый статус до пародийного и даже гротескного уровня. Таковы герои итальянских «ироикомических поэм» Пульчи, Боярдо, Ариосто, «Орлеанской девственницы» Вольтера и т. п. Герой, возвысившийся до романного автора, – выразителя представлений о достижимости нравственных идеалов – прибегает к прямому моральному осуждению деградирующих персонажей 250 А. П. Бондарев «антивоспитательного» романа Просвещения, английского «готического» и демонического (садического) романов сентиментализма и романтизма. Мыслящий всемирно-историческими категориями автор романных эпопей, изображая ничтожных представителей малого исторического времени, прибегает к пародии, сатире и гиперболе в духе У. Теккерея, Г. Флобера, А. Франса, Н. В. Гоголя, М. Е. Щедрина, М. А. Булгакова и др. Эволюционирующий герой вступает с автором в отношения, радикально преобразующие композиционные связи между фабулой и сюжетом. Описывая в романе «Красное и черное» становление героя, Стендаль показывает как расширяющийся «круг внимания» Жюльена постепенно сливается с авторским кругозором. В развязке достигается одновременно и фабульное (событийное), и сюжетное (ценностное) завершение: «выбирая» героическую смерть, Жюльен обрывает свою судьбу на пике самоактуализации. В последних главах автор отказывается от привычных по отношению к герою юмора, иронии, стилизации и других приемов пародийного дистанцирования. Он исчерпал свой «избыток видения», ему нечего добавить к тому, что герой сам узнал о себе и о мире в борьбе за самореализацию. В процессе нравственного становления Жюльен полностью переработал авторское миропонимание, претворил его в содержание своего сознания. Сюжет романа Ч. Диккенса «Большие надежды» наглядно иллюстрирует этапы эволюции героя от Возрождения к XIX в. В роли автора выступает социально и нравственно повзрослевший герой, Филипп Пирип. Нынешний автор – вчерашний подросток, сирота, осмысленно проживший свое биографическое время. Прямое авторское слово разъясняет суть поворотных событий. Автор – рассказчик собственной жизни – вносит такие обобщающие суждения, на которые он, будучи подростком, завороженным эйдетикой социальной мифологии, был совершенно не способен: «Но как мог я, жалкий одураченный деревенский парнишка, избежать той удивительной непоследовательности, от которой несвободны и лучшие и умнейшие из мужчин?» [6, с. 131]. И в этом романе момент совпадения кругозоров героя и автора знаменует собой сюжетное завершение. 251 Вестник МГЛУ. Выпуск 11 (644) / 2012 Зато описанный Бахтиным герой Достоевского не только не нуждается в фабульном завершении, но всей душой противится окончательному авторскому суждению о нем. Проблемность «неискупленного» героя Достоевского остается нерешенной вплоть до развязки, создает условия для возникновения полифонического романа. Захваченный маниакальной потребностью «мысль разрешить», Раскольников сталкивает в полилоге с самим собой все наработанные и актуализированные его временем «гносеологические модели». От автора классического реализма к онтологическому герою модернизма и от него к рефлектирующему герою постмодернизма В книге «Теория романа» (1920) Д. Лукач выявил тенденцию, определившую, с его точки зрения, эволюцию классического романа XIX в. – разочарование в шеллингианском «абсолюте», опровергнутом эпохой «абсолютной греховности» (Фихте): «Литературная эволюция не пошла дальше романа разочарования, и литература последних лет не обнаруживает творческих возможностей, способных создать новые типы романа» [7, с. 77]. «Роман разочарования», на разные лады воссоздававшего инволюционную тенденцию истории, подготовило «абсолютное эпическое прошлое» – эпоха «очарования» «эпическим состоянием мира». Рожденная инфантильной психикой архаического человека, эта растянувшаяся на тысячелетия эпоха рассматривала мир как порядок, утверждавший себя в противодействии хаосу. Корреляция «верха» и «низа» – горнего и дольнего, сакрального и профанного – древнейший способ организации пространства по вертикали. Мифологическое «Древо мира» (Arbor mundi), равно как и axis mundi – мировая ось, аллегорически воссоздавали модель Вселенной. Мировое Древо членило пространство по вертикали: в кроне – птицы, при стволе – травоядные, у корней – пресмыкающиеся. «Древо мира в известном смысле и в определенных контекстах становится моделью культуры в целом, – пишет В. Н. Топоров, – своего рода “древом цивилизации” среди природного хаоса» [12, с. 404]. «Эквивалентом мирового Древа в космической модели, – пишет Е. М. Мелетинский, – является мировой столб или высокая 252 А. П. Бондарев гора. Они не только соединяют небо и землю, но и поддерживают небо, чтобы оно не упало» [10, c. 215]. Пифагорейско-платоновское учение о мировой гармонии – универсальной космической иерархии – лежит в основе всех нормативных поэтик, включавших в свои изобразительные средства как приемы «идеализации и абстрагирования» (Д. С. Лихачев), так и приемы материализации и конкретизации. Многоуровневая модель мира и нормативные жанровые системы начинают распадаться в эпоху Возрождения – время нарушения взаимообусловленности означающего и означаемого. На смену divina studia (божественной науки) приходит humana studia (человеческая наука). Нормативный язык, латынь, преодолевается ненормативной речью – volgare. Растущее сомнение в организующей силе слова становится онтологической причиной кризиса языковой и жанровой систем. Жанр взрывается изнутри внежанровым событием; жанровая апперцепция уступает место перцепции жанра. Инволюция повествовательных форм от автора классического реализма к безосновному герою модернизма отразила всемирноисторическую тенденцию: прометеев дар человеку – наука и техника – выродились в его смертельных врагов, поставив на службу замкнутому процессу «самообеспечения производства». Согласно К. Ясперсу, эволюционная модель истории, обоснованная немецким классическим идеализмом (прежде всего Шеллингом и Гегелем), начинает со второй половины XIX в. давать сбой. Ясперс усматривает «венец эволюции» во всепроникающем господстве техники, которая приходит на смену року древних, европейским и восточным империям, абсолютным монархиям и современным парламентским республикам. Совершенствование производственного процесса сопровождается внедрением все более изощренных форм экономического принуждения. Дегуманизация субъекта новейшей истории предстает горькой иронией над просветительскими представлениями о свободе личности: «После того как произошло расколдование мира, мы усматриваем разбожествление мира <…> в том, что нет больше непререкаемых законов свободы и ее место занимают порядок, соучастие, желание не быть помехой» [14, с. 336]. Постулат Б. Спинозы «Ordo et connexio idearum et ac ordo et connexio rerum» – «Порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей» – устанавливал аналогию между когнитивным процессом 253 Вестник МГЛУ. Выпуск 11 (644) / 2012 и закономерностью протекающего события, отождествлял познающего субъекта с познаваемым объектом. Автономный производственный цикл «вынес за скобки» доверительные сюжетообразующие отношения между человеком и миром, автором и героем. Кризис авторской позиции отразил беспомощность человеческого сознания, неспособного предложить такие решения, которые переломили бы роковую тенденцию. Философский скептицизм – бастард просветительского эмпиризма – развеял фундаментальные защитные мифологемы: веру в Божественный промысел, исторический и социальный прогресс, незыблемость «категорического императива». И в довершение всего – надежду на интуицию, до сих пор выводившую человечество из социально-мифологических тупиков на исторические просторы неуклонного самосовершенствования. В трагедии И. В. Гете «Фауст» Создатель оптимистично опровергал мизантропические прогнозы Мефистофеля: Он отдан под твою опеку! И, если можешь, низведи В такую бездну человека, Чтоб он тащился позади. Ты проиграл наверняка. Чутьем, по собственной охоте Он вырвется из тупика. Пер. Б. Пастернака Процесс убывания автора протекает медленно и трудно, наталкиваясь на серьезное сопротивление реалистической традиции. Пусть в завязке герой, символизирующий бесконечно усложнившуюся жизнь, превосходит автора, обесценивая напряженностью своего мироощущения его филистерскую предвзятость. К развязке восприимчивый автор дорастет до своего героя, такого, например, как Стрикленд из романа Сомерсета Моэма «Луна и грош». Рассказчик, начинающий писатель, на первых порах значительно уступает будущему живописцу в понимании руководящих его поступками мотивов. Общение с упрямым самоучкой расширяет сознание рассказчика: медленно дорастая до героя, рассказчик проникается прежде недоступной ему логикой становления, преодолевающей сопротивление косной традиции, укоренившихся привычек, обывательского страха перед будущим. 254 А. П. Бондарев Однако общелитературная тенденция неуклонно лишает автора, парализованного «непостижимостью целого», реалистического всеведения, умаляет до рассказчика, а затем и «безосновного» героя. Таковы герои-рассказчики романов «Процесс» и «Замок» Ф. Кафки, «Голем» Майринка, «Шум и ярость» Фолкнера и др. Эстезиологическая катастрофа не могла не спровоцировать недоверия к столь ненадежному герою. В эссе «Эра подозрения» (1956) Натали Саррот констатировала его жизненную недостоверность: «Похоже, что не только сам романист перестал верить в своих персонажей, но и читателю также уже не удается в них поверить. В результате персонаж романа, лишенный этой двойной опоры – веры в него романиста и читателя, – благодаря которой он прочно стоял на ногах, неся на своих широких плечах весь груз рассказываемой истории, шатается и рушится на наших глазах» [11, с. 196]. В умалении автора до «безосновного» героя следует искать причины роста числа романов «от первого лица», выводящих героев-рассказчиков, которые пародируют своим неведением некогда авторитетного автора. Потерянный герой заражает его своим страхом перед непостижимой враждебностью жизни. Скрываясь под маской «отражателя», вчерашний реалистический автор низводится дискредитирующей тенденцией до роли обывателя, слабоумного, сумасшедшего, параноика, погрузившегося в старческий маразм или амнезию беспомощного героя. Таковы Леопольд Блум («Улисс» Д. Джойса), Мерсо («Посторонний» А. Камю), Малон («Малон умирает» С. Беккета), Гантенбайн («Назову себя Гантенбайн» М. Фриша), Чарли Гордон («Цветы для Элджернона» Д. Киза), Бруно («Сон Бруно» А. Мердок), Ги Роллан («Улица темных лавок» П. Модиано) и многие другие. Утрата жизненных ориентиров, усугубленная открытиями в области политэкономии и психоанализа, возрождает детективные жанры. Большая литература переносит их наработки на свой социально-онтологический материал. Преступления против бытийного человека отныне совершаются не корыстным убийцей, а тиранствующим производством и агрессивным бессознательным. Литература абсурда пародирует рационалистическую индукцию, с помощью которой гениальный сыщик в итоге блистательного расследования выходил на преступника и передавал его в руки правосудия. Царство тотального абсурда, выхолащивая 255 Вестник МГЛУ. Выпуск 11 (644) / 2012 «внутреннюю диалектику» криминального события, лишает поступки социально-психологических мотиваций. Таков генезис юридического и фабульного феномена «немотивированного преступления». Доведенному до фрустрации герою не по силам разобраться в происходящем, вознестись до автора, обогатить событие какими-либо обобщающими сюжетно-композиционными решениями. Да читатель уже и не ждет их от него. Социально-экономическая и культурная «агрессивность», проявляющаяся в гнете языковой нормативности, побудила Р. Барта окончательно устранить автора как «существо», не обладающее ни онтологическими, ни лингвистическими возможностями порождать ответственные высказывания: «Ценнейшее орудие для анализа и разрушения фигуры Автора дала современная лингвистика, показавшая, что высказывание как таковое – пустой процесс и превосходно совершается само собой, так что нет нужды наполнять его личностным содержанием говорящих» [2, с. 387]. Статья теоретика и практика постмодернизма Алена Робб-Грийе «По поводу некоторых отживших понятий» (1957) вместе с автором отправляет на кладбище все привычные сюжетно-композиционные опоры романного дискурса: «Мы настолько устали от разговоров о “персонаже”, “атмосфере”, ”форме”, и “содержании”, “сообщении”, “таланте повествователя”, ”истинных романистах”, что от нас требуется известное усилие, чтобы вырваться из этой паутины и осознать, что она представляет собой лишь идею романа (давно сложившуюся, всеми принятую за аксиому, а потому омертвевшую), в которую нас так хотят заставить поверить» [1, c. 25]. Порой, отказываясь от «авторства», рассказчик ставит себя в положение неосведомленного читателя, лишая изображаемое событие минимального «избытка видения». Это происходит в романе Джона Фаулза «Червь», подтверждающем прогноз Барта, согласно которому «рождение читателя приходится оплачивать смертью Автора» [2, с. 391]. Но недолог век и Читателя – последнего носителя смысла: революционные эксперименты «нового романа» лишили его оставшихся ориентиров. Замыкание круга Знаменитое «Прорицание Вёльвы», вещуньи из исландской саги «Старшая Эдда», отмечено печатью усилий, направленных 256 А. П. Бондарев на образное воссоздание Ничто – состояния мира, предшествовавшего Творению. Вёльва, не ведая об этом, прибегает к открытому структурализмом XX в. приему «проведения через разное – вычитание», поскольку погруженный в Бытие сказитель не может иначе помыслить себе Небытие: В начале времен, когда жил Имир, не было в мире ни песка, ни моря, земли еще не было и небосвода, бездна зияла, трава не росла. Пер. А. Корсуна Спустя тысячу с лишним лет, в XX в., постмодернизм средствами «антиромана» и «антидрамы» воссоздаст условия перерождения Бытия в Ничто. В аллегорической пьесе Эжена Ионеско «Король умирает» (1962) разыгрывается предсказанное Эдгаром Аланом По низложение Короля разума. Умирающий Король Ионеско, отлученный от престола кризисом гуманизма, – иносказание итога инволюции человека, возомнившего себя способным построить общество на разумных началах. Король, каковым в эпоху рационализма наивно почитал себя всякий смертный, оказывается в развязке sub specie aeternitatis – перед лицом «неантизирующей» вечности. Завершающая пьесу авторская ремарка снабжает режиссера необходимыми техническими рекомендациями: «Наконец, на озаренной тусклым светом сцене не остается никого, кроме восседающего на троне Короля. Затем, вместе с троном, исчезает и сам Король. Сцену заполняет лишь ровный тусклый свет». Предшествовавший сотворению Земли «тусклый свет» космоса увенчивает «конец игры». Вполне гегелевское завершение планетарного цикла: от науки логики к философии духа. Графически история западноевропейского романа напоминает синусоиду: от всеведения эпического сказителя к наивной непреднамеренности плутовского героя, затем – к ренессансу эпического всеведения классического романа XIX в., а от него – к панической потерянности постмодернистского героя («Повесть о господине Зоммере» П. Зюскинда). 257 Вестник МГЛУ. Выпуск 11 (644) / 2012 «Эстетическая деятельность» вменяет читателю в обязанность уяснить, какой именно вариант сюжетообразующего диалога автора, рассказчика и героя реализуется в поэтике воспринимаемого им текста. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Alain Robbe-Grillet. Sur quelques notions périmées // Pour un nouveau roman. – P. : Les Editions de minuit, 1986. – P. 25–44. 2. Барт Р. Смерть автора // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М. : Прогресс, 1989. – С. 384–391. 3. Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Эстетика словесного творчества. – М. : Искусство, 1979. – С. 7–187. 4. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Вопросы литературы и эстетики. – М. : Художественная литература, 1975. – С. 234–407. 5. Бахтин М. М. Эпос и роман (О методологии исследования романа) // Вопросы литературы и эстетики. – М. : Художественная литература, 1975. – С. 447–483. 6. Диккенс Ч. Большие надежды. – М. : Московский рабочий, 1987. – 480 с. 7. Лукач Д. Теория романа. Опыт историко-философского исследования форм большой эпики // Новое литературное обозрение. – М., 1994. – С. 19–78. 8. Манн Т. Искусство романа : Соч. : в 10 т. – М. : Гос. изд-во художественной лит-ры, 1959–1961. – Т. 10. – С. 272–287. 9. Мелетинский Е. М. Средневековый роман. – М. : Наука, 1983. – 304 с. 10. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. – М. : Наука, 2000. – 407 с. 11. Саррот Натали. Эра подозрений // Тропизмы. Эра подозрений. – М.: Полинформ-Талбури, 2000. – С. 195–214. 12. Топоров В. Н. Древо мировое // Мифы народов мира. Энциклопедия : в 2 т. – М., 1987 – Т. 1. – С. 398–406. 13. Фрай Н. Анатомия критики. Очерк первый. Историческая критика: теория модусов. Литературные модусы // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. Трактаты, статьи, эссе. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1987. – С. 232–263. 14. Ясперс К. Духовная ситуация времени // Смысл и назначение истории. – М. : Республика, 1994. – С. 288–418. 258