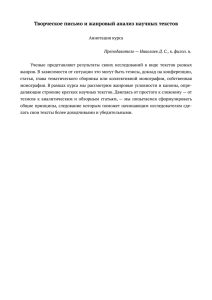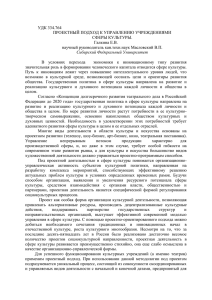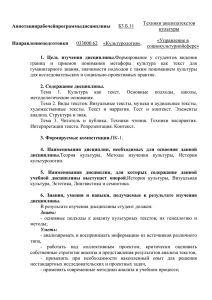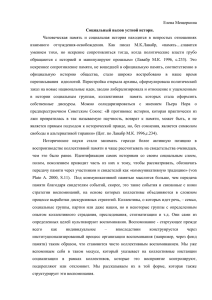Механизмы культурной памяти
реклама

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration Институт общественных наук School of Public Policy Школа актуальных гуманитарных исследований School of Advanced Studies in the Humanities Лаборатория теоретической фольклористики Laboratory for Folklore Studies Международная научная конференция International Conference Механизмы культурной памяти: от фольклора до медиа Москва, РАНХиГС, 27–29 ноября 2014 Mechanisms of Cultural Memory: from Folk-lore to Media-lore Moscow, RANEPA, November 27–29, 2014 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ Москва 2014 УДК 821 ББК 82.3(2Рос=Рус)я43 М55 Составители: О. Б. Христофорова, Д. И. Антонов, М. В. Ахметова, Н. В. Петров Механизмы культурной памяти: от фольклора до медиа. Тезисы докладов Международной научной конференции. Москва, РАНХиГС, 27–29 ноября 2014 г. / Сост. О. Б. Христофорова, Д. И. Антонов, М. В. Ахметова, Н. В. Петров. М., 2014. – 149 с. Культурная память представляет собой передачу во времени значимых для социума сообщений («культурных текстов») и может быть понята как хранилище информации со «встроенными» механизмами трансляции. В устных культурах единственный возможный способ хранения и передачи культурной информации – это фольклорная традиция. Семантические элементы (мотивы, семы) любых текстов сохраняются в течение длительного времени, как бы прорастая сквозь сменяющие друг друга языки и культуры. Возникновение и распространение письменности породило принципиально иные механизмы хранения и передачи культурной информации. Мы живем в эпоху распространения коммуникации третьего типа – «экранной», которая хронологически наследует письменности, но типологически ближе устной традиции с ее контактностью и интерактивностью. Технический посредник, предоставляя всё новые возможности общения «лицом к лицу», «растворяется», становится незаметным. Широкая сеть получателей сообщения сливается в одно лицо обобщенного «другого», с которым и происходит диалог. Но это сходство парадоксальное, поскольку технологии передачи и хранения информации в «экранную эпоху» принципиально иные по сравнению с устностью. Конференция нацелена на исследование механизмов культурной памяти в разные «информационно-коммуникативные эпохи», на анализ их особенностей, сходств и различий. Оргкомитет к.ист.н. Дмитрий Игоревич Антонов к.филол.н. Александра Сергеевна Архипова к.филол.н. Мария Вячеславовна Ахметова Марина Иннокентьевна Байдуж д.филол.н. Сергей Юрьевич Неклюдов к.филол.н. Дмитрий Сергеевич Николаев к.филол.н. Никита Викторович Петров д.филол.н. Ольга Борисовна Христофорова © Коллектив авторов, 2014 © РАНХиГС, 2014 2 Содержание Александрова Е. В. Копии Текстов пирамид: наблюдения над отличиями.....6 Антонов Д. И. Колдун, еретик, антихрист: миф о самозванце в книжности и фольклоре.........................................................................................................9 Архипова А. C., Байдуж М. И., Радченко Д. А., Волкова М. Д. «Если мы – пятая колонна…»: Культурная память в языке плаката .......................................14 Байдуж М. И. «Параллельная Тюмень»: визуальные проявления локального текста................................................................................................................17 Беляев Д. Д. «Квазиистория», или «квазимифология» в текстах о древнейших временах у древних майя................................................................................22 Болашенкова Е. А. Два представления об эпохе Саманидов в постсоветском Таджикистане..................................................................................................25 Брагина Н. Г. Новый вид публичной памяти в современной России: иронические памятники.................................................................................28 Буданова Д. С. «Империя» Р. Капущинского: Формирование коллективной памяти в локальном тексте.............................................................................31 Васильева Е. В., Козлова А. В. «Тургеневские девушки»: социально-педагогические манипуляции locis communibus произведений И. С. Тургенева в советской и постсоветской культуре......................................................................34 Вртанесян Г. С. Календарная лексика как исторический источник.................43 Головашина О. В. Короткая память, или есть ли настоящее у истории?..........46 Доронин Д. Ю. Колыбель на горе, грядущий хан и шаманский бубен: мнемотехники и мнемотексты алтайских тюрков.......................................50 Дудина М. С. Механизмы манипуляции мнемическими процессами в системе массовых коммуникаций..............................................................56 Душакова И. С. Память и забывание в репрезентации территорий в интернет-СМИ..............................................................................................59 Душакова Н. С. «Без Бога ни до порога»: культурная память в жилом пространстве старообрядцев...........................................................62 Жидченко А. В. Трансформации культурно-исторической памяти в пространстве Сибирского города (сер. ХХ в. – современность).............65 Захарченко Е. Г. От «жизни по книге» – к жизни вне книги: литературные тексты и контексты их восприятия.......................................67 3 Казурова Н. В. Феномен войны в современном иранском и израильском кинематографе: национальная травма и коллективная память..................71 Кирзюк А. А. , Кузовкин Г. В. «…Говорят, что скоро все позапрещают…». Слухи послесталинской эпохи (1953–1987): идея справочника и материалы к словнику ...................................................................................74 Ковыршина Ю. И. Поморское чаепитие: конструирование «другого» как элемент культурной памяти....................................................................79 Козлова И. В. Память жанра новин и героический эпос про Путина...............82 Комелина Н. Г. «Как за частушку посадили…»: политический фольклор в северной деревне..........................................................................................86 Королёва С. Ю. Судьбы людские: большая, малая и личная история в «наивном» поэтическом сборнике Е. Е. Зверевой....................................89 Корчинский А. В. Конструирование памяти о героях в русских революционных сообществах второй половины XIX века: фольклорные и литературные элементы................................................................................................................92 Мищенко Д. Ф. Мифические застолья и бабушкины рецепты: пища в культурной памяти.............................................................................94 Нефёдова Д. Н. Мифоэпические элементы в индийском кинематографе как фактор ретрансляции компонентов национальной культурной памяти..............................................................................................................97 Ожиганова А. А. Конструирование традиции в неоязыческой общине «Правоведи»....................................................................................................100 Петров Н.В. Каменная Зоя: слух, легенда, история...........................................103 Попов А. Д. Войны и Мы: горизонты культурной памяти в мемориальных текстах позднего советского периода...........................................................109 Пригарин А. А. «Народные предания» и «историография»: уровни исторического (со)знания липован................................................................114 Радченко Д. А. «Я пережил конец света»: катастрофы в русскоязычном интернет-фольклоре........................................................................................119 Рыговский Д. С. Трансляция культурной памяти о святых местах в традиции белокриницких старообрядцев Западной Сибири.......................................123 Šentevska I. From Folk-lore to Video-lore: Serbia’s return to the “roots”...............125 Соловьева А. А. Золотые монеты, поющие ламы и беспокойные места: историческая память монгольских демонологических сюжетов...............128 4 Суслов А. Ю. Кинематограф оттепели и образы социалистов: идейный заряд или проверка истории?...................................................................................132 Toymentsev S. Mnemonic Hybrids in a Hybrid Regime: Reckoning with the Soviet Past in Putin’s Russia.............................................................................135 Христофорова О. Б. Как Дёма и Максим подругу не поделили: раздел 1866–1888 годов в устной истории старообрядцев Верхокамья....138 Югай Е. Ф. «Я не причитаю, не покажу на голос». Какие строчки причитаний дольше всего сохраняются в памяти?...........................................................142 Юдкина А. Б. Между свидетельством и архивом: механизмы перехода от коммуникативной к культурной памяти..................................................146 5 Е. В. Александрова (Москва) Копии Текстов пирамид: наблюдения над отличиями Х. Хейсом отмечен удивительный феномен текстуальной синхронии египетских ритуальных текстов эпохи Древнего и Нового царства: несмотря на промежуток почти в тысячу лет, некоторые изречения Текстов пирамид воспроизводятся на папирусах XXII дин. практически дословно [Hays 2002: 155]. Эти изречения преодолевают не только временные границы, но и выходят за рамки собственно заупокойной литературы, входя в храмовый ритуал. За пределы сугубо царских Текстов пирамид изречения выходят уже в Среднем царстве, появляясь на саркофагах вельмож. Таким образом, последние исследования показывают, что границы, традиционно проводимые между комплексами древнеегипетской заупокойной литературы, весьма проницаемы [Mathieu 2004: 247–262.]. Как отмечает Я. Ассман, несмотря на активное использование письменности в Древнем Египте, своим уникальным постоянством египетская культура обязана скорее обрядовой, нежели текстовой когерентности [Ассман 2004: 192]: устойчивость ритуально-мифологической структуры обряда определяла устойчивость авантекста, на основе которого создавался тот или иной памятник. Именно существование «грамматики правил», а не трансляция канона, определяло, таким образом, повторяемость и воспроизводимость сакральных текстов. В данном сообщении мы рассмотрим действие этих механизмов на примере изречений PT 25 и PT 34-36 Текстов пирамид и их «копий» более поздних периодов [Allen 1950; Allen 2013; Allen 2006]. Структура этих изречений в Текстах пирамид характеризуется полным единообразием, опирающимся именно на обрядовую когерентность, поскольку они являются частью блока жертвенных текстов. Первая часть изречения PT 25 в Текстах пирамид основана на последовательном появлении шести персонажей, которые могут быть объединены в три пары (ср. «констелляция» в [Ассман 1999: 31–32]) по порядку: Хор/Сетх, Тот/Хор (Дун-ануи), Осирис/Хенти-Ирти ((Бог)-С-глазами-на-челе). В изречении PT 34 упоминается первая из этих пар: подношение семин определяется как «плевок Хора» и «плевок Сетха», а далее – как «полнота сердца Двух владык». В изречениях PT 35–36 участвуют две пары из изречения PT 25 – Хор/Сетх и Тот/Хор (Дун-ануи). 6 Характерной чертой блока жертвенных текстов, к которому относятся эти изречения, является наличие эпитетов к приношениям, характеризующих их как северные/южные или темные/светлые. Эти эпитеты воплощают бинарность рассмотренных пар божеств: Хор и Сетх олицетворяют Северный и Южный Египет, а Тот и Хор (Дун-ануи) представляют собой ночное и дневное светило. Все три пары изречения PT 25 характеризуют ключевые моменты истории обретения Оком свойств воскрешающей жертвы: ослепления Хора Сетхом, излечение Ока Тотом, преподнесение воскрешающей жертвы Осирису [Александрова 2012: 16–17]. В Текстах саркофагов связь изречения PT 25 с жертвенным ритуалом фактически теряется, и четкая структура также размывается. Из 10 версий этого изречения в четырех количество персонажей равно шести, по три версии приходится на четыре и пять персонажей. Отход от структуры из шести персонажей отчасти можно связать с проникновением в изречение PT 25 выражения «Осирис N», где Осирис понимается как эпитет покойного, то есть появляется в изречении во втором, а не в третьем грамматическом лице. Структура без Осириса приобретает и другую интерпретацию. В Среднем царстве получает более подробную разработку образ бога Мехенти-н-ирти ((Бог)-Без-глаз-на-челе) – солнечного божества, теряющего и восстанавливающего свое Око. В версиях PT 25 в Текстахсаркофагов проявляется явное взаимное тяготение Дун-ануи и Мехенти-н-ирти, что происходит либо из-за исключения некоторых персонажей, либо за счет их перестановки. Бинарное отношение между этими божествами можно рассматривать как оппозицию «Хора Восточной пустыни» и «Хора западной пустыни» [Junker 1942; Helck 1986: 926–930, 1152-1153; Leitz, Budde 2002, 3: 394–396; 2002, 7: 525-526], тогда все изречение оказывается организованным двумя парами географических оппозиций – Север-Юг и Запад-Восток. Этот пример показывает, как, лишаясь внешней опоры в виде жертвенного списка, изречение обретает устойчивость внутри себя на новых принципах. В центре новой структуры PT 25 оказывается Тот, и это не удивительно, поскольку еще в Текстах пирамид это божество демонстрирует невероятную гибкость – это «второй» Ра в путешествии по небу (PT 210), «второй» Хора как посланника к богам востока (PT 217), «второй» Сетха как брата Осириса (PT 218), тот, кто перенесет фараона на своих крыльях, если перевозчик откажется сделать это в своей ладье (PT 270). Там, где место в структуре изречения, диктуемое самыми различными системами координат – темпоральной, пространственной, социальной, – рискует остаться пустым, появляется Тот. В рам7 ках храмового ритуала, зафиксированного при XXII дин., происходит то же самое: из изречений PT 35-36 просто исчезает фигура Сетха, также это происходит в версиях изречения PT 25, записанного в погребальных камерах в Поздний период. Однако структура изречения PT 34 требует заполнения «валентности», парной к Хору, и то, что изначально эту валентность занимал Сетх проявляется в написании «Двух владык». Следуя древним традициям, ее занимает Тот. Приведенные примеры показывают, что хотя структура изречений поразительным образом может оставаться узнаваемой на протяжении примерно двух тысяч лет, в каждый период ее наполнение происходит исходя из актуальной религиозной ситуации и соотносится с развитием мифологической картины мира. Восприятие этих различий необходимо для адекватного восприятия мифологического содержания соответствующих текстов. _______________ Литература Александрова 2012 – Александрова Е. В. Мифологический сценарий: миф в раннем религиозном тексте // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 6. Ассман 1999 – Ассман Я. Египет: теология и благочестие ранней цивилизации. М., 1999. Ассман 2004 – Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004. Allen 1950 – Allen T. G. Occurrences of Pyramid Texts with Cross Indexes of These and Other Egyptian Mortuary Texts. Chicago: The University of Chicago Press, 1950. Allen 2006 – Allen J. P. The Egyptian Coffin Texts, Volume 8. Middle Kingdom Copies of Pyramid Texts. Chicago: The Oriental Institute, 2006. Allen 2014 – Allen J. P. A. New Concordance of the Pyramid Texts: 5th and 6th Dynasty. Brown University, 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.dropbox.com/sh/0xo88uy04urnz0v/o16_ojF8f_ Junker 1942 – Junker H. Der sehende und blinde Gott (Mhntj-irtj und Mhntj-n-irtj). München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1942. Hays 2002 –Hays H. M. The Worshipper and the Worshipped in the Pyramid Texts // Studien zur altägyptischen Kultur. 2002. No. 30. Helck 1986 – Helck W. et al. Lexikon der Ägyptologie. Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1986. Vol. 1. Leitz, Budde 2002, 3, 7 – Leitz C., Budde D. Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen. Dudley, MA: Peeters, 2002. Vol. 3, 7. Mathieu 2004 – Mathieu B. La distinction entre Textes des Pyramides et Textes des Sarcophages est-elle légitime? // D’un monde à l’autre. Textes des Pyramides et Textes des Sarcophages, Actes de la Table ronde «Textes des Pyramides versus Textes des Sarcophages», 24-26 septembre 2001 / Bickel S., Mathieu B. eds. Le Caire: IFAO, 2004. 8 Д. И. Антонов (Школа актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС / РГГУ, Москва) Колдун, еретик, антихрист: миф о самозванце в книжности и фольклоре Исторический персонаж может становиться объектом мифологизации в результате действия разных культурных механизмов. Особый тип мифологизации – та, что происходит не postfactum, но моделируется самим историческим деятелем, его сподвижниками и противниками. Такой персонаж при жизни активно стремится создать миф о себе самом, заставляя своих врагов создавать конкурирующий миф, затем адаптирует свой миф под версии оппонентов, заставляя их делать то же самое и т.п. Эта ситуация в более или менее яркой форме воспроизводится в период войн и иных острых социальных конфликтов. Мифы, создаваемые «сверху», активно транслируются с помощью публичных текстов – грамот, посланий, воззваний и проч., а на втором этапе фиксируются в более широком круге источников (исторические сочинения, мемуары и т.д.) адаптируясь при этом под их прагматику и жанровую специфику. Одновременно многие из них переходят в устную традицию (слухи, предания, исторические песни) и активно циркулируют там, претерпевая новые изменения. Все это позволяет проследить историческую судьбу и взаимовлияние различных легендарных биографий одного персонажа в книжности и фольклоре. В русской истории героями, которые постоянно должны были действовать в рамках мифа и в ситуации борьбы мифов, были самозванцы – от Лжедмитрия I до Лжеконстантинов XIX в. При этом первый из псевдо-наследников Ивана Грозного оказался не только первым в русской истории, но и самым мифологизируемым (до и после смерти) самозванцем. Именно при жизни «царевича Димитрия» / «Юшки Отрепьева» и вскоре после его смерти борьба мифов достигла апогея: такое активное взаимодействие разных легендарных жизнеописаний уже не повторялось в русской истории (что естественно, учитывая, что первый самозванец оказался единственным, кому удалось занять царский престол). Если миф самозванца – легенда о спасенном правителе – был детально рассмотрен в целом ряде исследований, то миф его противников не привлекал такого пристального внимания (из основных работ, затрагивающих этот вопрос, см. [Ульяновский 2006: 11–54; Антонов 2009: 68–100]). Однако он был не менее разработан и сложен. Объектом мифологизации оказывался здесь не только сам самозванец, но и его жена, Марина Мнишек, его покровитель, папа римский, и даже созданное им на Москве-реке сооружение (гуляй-город или потешная кре9 пость для мистерии по европейскому образцу; см. [Антонов 2013]). Более того, оба мифа находились в состоянии активного взаимодействия, что определяло возникновение новых мотивов и деталей в легенде о спасенном царевиче. К. В. Чистов представил общую схему мотивов, определявших русский миф о самозванце, с учетом источников, отразивших как официальную позицию претендентов и их сторонников, так и разнообразные «слухи и толки» о вернувшемся наследнике. В виде похожей схемы можно представить и легенду, созданную и активно распространявшуюся московским правительством в 1604– 1605 годы, в период борьбы Лжедмитрия за престол. После смерти самозванца, с появлением новых претендентов, эта легенда сохранила актуальность: сперва она трансформировалась и достроилась новыми фактами в известительных грамотах и иных правительственных документах, затем была по-разному использована в сочинениях книжников. В предлагаемой ниже схеме выстроены ключевые идеи, которые распространялись о Лжедмитрии-Отрепьеве в период правления Бориса Годунова; сюда же интегрированы мотивы, добавленные к официальной легенде после гибели самозванца, при Василии Шуйском. Миф о самозванце 1604–1605 годы и (курсивом) 1606–1607 годы А. Царевич Дмитрий изначально не имел прав на престол (незаконнорожденный) В. Царевич умер В1. «Поколол сам себя» В2. Не может воскреснуть до Страшного суда В3. Был убит В4. По смерти стал святым С. Претендент – самозванец С1. Его изобличают свидетели, спутники С2. Его изобличает мать (признала его раньше из страха) D. Претендент – воплощение зла D1. Вор, мошенник и бражник D2. Монах-расстрига D3. Сторонник католичества D4. Сторонник протестантизма D5. Сторонник «ереси фортуны» D6. Колдун, вызывающий бесов 10 D7. Хотел истребить православие D8. Хотел отдать земли иноверцам D9. Хотел перебить бояр и «многих людей» E. Поверившие претенденту губят свои души E1. Попав под церковную анафему E2. Нарушив крестное целование Годуновым Е3. Погубив законных царей – Годуновых E4. Не поверив святому царевичу-страстотерпцу Легендарная биография самого Лжедмитрия, которая утверждалась в его посланиях 1604–1605 годов, по всем пунктам соотносилась с этой схемой, представляя, разумеется, альтернативную версию происходившего. Более того, миф самозванца достраивался с учетом аргументов московского правительства. Ключевые мотивы этого мифа можно представить в виде аналогичной схемы, которая продемонстрирует основные точки «заочной полемики». Миф самозванца в период борьбы за престол и (курсивом) после убийства Годуновых А. Царевич обладает исключительными правами на престол А1. Природный государь из богоизбранной династии А2. Наследник Ивана IV B. Царевич не умер B1. Убийцы, посланные Годуновым, зарезали другого B2. Годунов оклеветал царевича, приписав ему грех самоубийства С. Претендент – истинный Дмитрий С1. Гришка Отрепьев – другое лицо (пойман царевичем) С2. Наследника узнают люди С3. Наследника узнает мать, Мария Нагая D. Претендент–православный царевич Е. Не поверившие царевичу губят свои души Е1. Нарушив крестное целование его отцу, Ивану IV, и его детям Е2. Служа холопу – грешнику и цареубийце Как видно уже из такой краткой схемы, конкурировавшие легенды находились в зеркальной оппозиции друг другу; во многом они выстраивались (и достраивались впоследствии) как диалог. При этом диалогичными оказывались не 11 только аргументы, но и действия сторон: им приходилось конкурировать как на политическом, так и на символическом уровне, исходя из логики своего мифа1. Легендарная биография еретика-Отрепьева, созданная противниками самозванца, несколько раз изменялась. На первом этапе, в период борьбы Лжедмитрия за престол, его представляли как вора, расстригу, еретика и колдуна-чернокнижника. После свержения ложного наследника в грамотах московского правительства он оказался прежде всего папистом, замышлявшим против Церкви, страны и людей (обличительную аргументацию развернули за счет документов периода его царствования, в том числе переписки с поляками). Наконец, после 1606 г. авторы публицистических памятников (например, келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын, князь Иван Хворостинин или дьяк Иван Тимофеев), авторы житий, посланий, писем и др., демонизируя самозванца, задействовали эсхатологический дискурс. Из чернокнижника, знающегося с бесами, он превратился в «сосуд дьявола», осквернителя, человека, приравнивавшего себя к Богу, Антихриста, который чуть было не погубил мир. Самозванец возносился, как погибельный сын в конце времен, построил на земле ад (потешную крепость), убивал христиан, заставлял людей грешить, хотел установить в храмах «мерзость запустения» (вслед за чем должен наступить конец света); его жена, Марина Мнишек, была подобна Вавилонской блуднице; при этом сторонники Лжедмитрия приравнивали его к Христу и проч. Царь действовал как Юлиан Отступник и служил дьяволу [Антонов 2009: 75–100]. Апокалиптический образ Лжедмитрия завершил развитие его легендарной биографии, выстроенной в XVII в. В устной традиции, где также сохранялась память о Лжедмитрии, действовали несколько иные, хотя и сходные объяснительные модели. Лжедмитрий – колдун и еретик; он попирает святые иконы и кресты, овладевает дьявольскими науками, волхвует по волшебной книге, демонстрирует антиповедение (вместо заутрени идет в баню, играет свадьбу в пост и проч.); его жена Марина – безбожница и колдунья, которая умеет оборачиваться сорокой. В фольклоре образ самозванца также демонизирован, однако эта демонизация гетерогенна по составу мотивов: она включает идеи, типичные как для книжности (колдун, черноТак, в 1605 г., после убийства Годуновых, в грамотах Лжедмитрия подданным даровалось прощение за грех, который традиционно признавался губящим душу человека: нарушение крестного целования государю (и службу холопу-цареубийце); после свержения самозванца, в начале 1607 г., в Москве людям было даровано прощение (разрешительная грамота патриарха Иова) за полярно другие действия, приведшие к аналогичным грехам: цареубийство (расправа с Годуновыми) и службу еретику – самозванцу. После 1607 г. царевича Димитрия почитали носители обоих мифов – одни как царя, другие как святого; и проч. 1 12 книжник, отступник, еретик, расстрига), так и для устной традиции (оборотничество, антиповедение и др.). Таким образом, идея о принадлежности самозванца демоническому миру оказалась стержневой как для многих письменных сочинений XVII в., так и для фольклорных текстов. Часть мотивов естественным образом кочевала между книжной и устной традициями, однако в целом реализация этой идеи определялась структурно-семантическими особенностями каждой традиции: в письменных источниках XVII в. она логично вписалась в корпус актуальных апокалиптических представлений, в фольклоре же была реализована с помощью мотивов, характерных для славянской демонологии. _______________ Работа выполнена в рамках НИР «Структуры и механизмы культурной памяти» ШАГИ РАНХиГС. Литература Антонов 2009 – Антонов Д. И. Смута в культуре средневековой Руси: эволюция древнерусских представлений в книжности начала XVII в. М., 2009. Антонов 2013 – Антонов Д. И. Потешный ад Лжедмитрия, или монстр на Москвереке // In Umbra: Демонология как семиотическая система. Альманах. Вып. 2 / Отв. ред. и сост. Д. И. Антонов, О. Б. Христофорова. М., 2013. Ульяновский 2006 – Ульяновский В. Смутное время. М., 2006. 13 А. C. Архипова, М. И. Байдуж, Д. А. Радченко (Школа актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, Москва) М. Д. Волкова (Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ, Москва) «Если мы – пятая колонна…»: Культурная память в языке плаката Описание материала и исследовательские задачи. 21 сентября 2014 г. сразу в нескольких городах были сделаны попытки провести шествия/митинги против войны на Украине. Шествие в Москве было разрешено столичными властями, «народный сход» в Санкт-Петербурге у Казанского собора состоялся, хотя был нелегальным; акции в других городах частично или полностью были сорваны. Сторонники Новороссии и «русского мира» присутствовали на акциях в обеих столицах, при этом в Москве их было ожидаемо больше. Сначала они пытались организовать свой собственный небольшой митинг, потом выстроились вдоль ограждения, выставленного по ходу московского шествия, с лозунгами, обращенным к участникам акции. Исследовательская группа «Мониторинг актуального фольклора» фотографировала шествие в Москве (включая и сторонников Новороссии), и «народный сход» в Петербурге, стараясь захватить как можно больше знаков вербального протеста (то есть собственно лозунгов) и невербального (венков с желто-голубыми лентами). Полученные фотографии были объединены в базу данных из 400 единиц. Каждая фотография была описана в базе данных по стереотипным параметрам. Мы обследовали протестующих в трех группах. Здесь и далее «тремя группами» называются участники Марша мира в Москве (далее – «Московская акция»), участники неразрешенного «народного схода» в Петербурге (далее «петербуржская акция») и сторонники ДНР и ЛНР. Последние присутствовали (со своей символикой и лозунгами) и в Москве, и в Петербурге, но, поскольку их количество было небольшим (тех, кто держал плакаты или невербальные знаки протеста и таким образом мог быть идентифицирован; причем здесь преимущество было на стороне Москвы), мы считали их за единую группу (далее – «сторонники Новороссии»). Количество лозунгов в Москве, в Петербурге и у сторонников Новороссии было разным, поэтому для каждой группы количество лозунгов мы принимали за 100 %. 14 Кого же мы описываем? Это не любой участник политической акции. Надел ли участник шествия вышиванку, взял ли в руки плакат с текстом «What do you need is love», или просто прикрепил к пиджаку пафицик – все это означает, что он не просто пришел в определенную географическую точку, а хочет выразить свою позицию максимально публичным образом, используя для этого различные способы привлечения внимания. Именно эти точки зрения и стали объектом нашего исследования: как, с кем и о чем на самом деле разговаривают протестующие? Какие культурные паттерны выстраивались ими, как использовались аппеляции к историческому прошлому? Риторика холодной войны в языке плаката. Для решения этого вопроса мы разделили вербальный текст лозунгов на несколько типов дискурса: православный дискурс (цитаты из Евангелия; иконы); цитаты из массовой культуры (цитаты из кино, литературы, речей известных общественных деятелей, кроме детской литературы, которая была выделена в отдельную группу, см. ниже); цитаты из текстов власти (Путин, заблудись); риторика холодной войны (Россия с человеческим лицом, Европа – марионетка США); лозунги c языковыми играми; «детский дискурс» (Ребята, давайте жить дружно). Наибольший интерес вызывает использование риторики холодной войны, как визуальное – ракета, застрявшая в пацифике (рисунок, Московский марш мира), так и вербальное, в том числе с заведомой модификацией: Даешь борщ – нет войне! В группу «риторика холодной войны» входят все лозунги, цитирующие или модифицирующие тексты, ставшие популярными во время противостояния Советского союза и Запада, а также лозунги времен Второй мировой войны. Эта группа трактуется широко, все лозунги с высказыванием про пятую колонну тоже попадают в эту группу. Оказывается, что риторику этого типа охотно используют протестующие всех трех групп: этот тот дискурс, который их объединяет, причем меньше всех такая риторика интересна Московской группе, в то время как сторонники Новороссии и «народный сход» в Питере активно их использовали. Как это можно интерпретировать – мы обсудим в нашем выступлении. 15 Политическое высказывание как историческая парадигма. Встречается и другой тип вербальных лозунгов, чей процент очень высок – это так называемые «исторические плакаты»: 9,5 %. Для сравнения – во время протестной активности 2011–2012 годов количество такого типа лозунгов колебалось между 1 и 2 %. Иначе говоря, количество лозунгов, в которых отражено восприятие протестующими той исторической парадигмы, в которую они «помещают» наше общество, увеличилось почти в 10 %. Такие плакаты можно разделить на три условные подгруппы: 16 плакаты, где приведен список дат (см. ил. 1); плакаты, где Путин сравнивается с другими правителями (чаще всего со Сталиным и Гитлером); плакаты, отсылающие к революционным временам (Октябрьская революция, путч 1991 г. и т.д.). Как устроен такой тип высказывания и почему он возникает именно сейчас – эту тему мы также обсудим в ходе доклада. Ил. 1. Московский марш мира 21.09.2014. Фото М. Д. Алексеевского. М. И. Байдуж (Школа актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, Москва) «Параллельная Тюмень»: визуальные проявления локального текста Интернет-культура, в отличие от письменной и устной, направлена на настоящее, она реагирует на актуальные события и констатирует факты, переживая их часто в пародийном, юмористическом ключе. Важную роль в этом процессе занимают Интернет-мемы, воплощаясь в различных визуальных и вербальных формах современного фольклора. Прожив какое-то время, Интернетмем уходит и заменяется другим – более актуальным. Но что происходит, когда Интернет-мемы, главным образом, в виде картинок и демотиваторов, используют городские локальные стереотипы? Насколько подобные образы являются отражением локального текста или же они, лишь имитируют его согласно законам 17 своего создания [Blackmore 1998]. Попробуем разобраться с этими вопросами на примере тюменских визуальных текстов, опубликованным в сообществах сети «Вконтакте». Стоит сразу отметить, что под Интернет-мемом понимается элементарная единица информации, выраженная в нашем случае картинкой, иногда с текстом или комментарием, отсылающей к понятной всем идее о городе, часто имеющей комический эффект, а также эксплуатирующая актуальные в момент ее создания мотивы современного актуального фольклора. Кроме того, он активно распространяется среди тюменцев – пользователей Интернета. При создании визуальных текстов о Тюмени (фотожабы, демотиваторы, художественные фото с текстами или без) в рамках изучаемого сообщества происходит, например, гиперболизация городских легенд и стереотипов о Тюмени или ее конкретных локусах. С помощью графических редакторов в городское пространство также встраиваются не присущие ему объекты – известные памятники мира, неожиданные животные, кадры из художественных фильмов-катастроф и прочее. Можно сказать, что за счет таких практик происходит осмысление городского пространства, сохранение исторической памяти о ряде значимых мест и событий из жизни города, трансляции этой культурной памяти внутри городского сообщества, в том числе распространение ее в более широкой аудитории через Интернет. В рамках доклада будут выделены группы наиболее типичных сюжетов визуализации реального и нереального тюменского пространства, а также проанализирован комплекс визуальных городских текстов в сравнении с некоторыми устными локальными нарративами, которые связаны с мифологизацией города и бытуют среди тюменцев. Источником исследования является комплекс визуальных текстов о Тюмени, собранный в социальных сетях, в основном, в группах «Параллельная Тюмень», «Я люблю Тюмень» и «Другой взгляд на Тюмень», данные наблюдения за бытованием этих текстов, а также некоторые зафиксированные обсуждения таких картинок. Всего в рабочей базе визуальных текстов 334 единицы, 275 из которых созданы в паблике «Параллельная Тюмень» рядом авторов, некоторые из которых затем размещали свои работы и в других сообществах. Публикация обработанных фотографий в «Параллельной Тюмени» началась 13 января 2013 г. и быстро стала популярной в среде тюменцев. Первоначальными сюжетами, которые остаются основным и сегодня, стали: город в миниатюре, постапокалиптические пейзажи, космическая тема и самый популярный – замена привыч18 ных и знаковых городских объектов (Мост Влюбленных, памятник Ленину и др.) на другие, за счет чего достигается комический эффект, с одной стороны, и некая «параллельная» гордость за Тюмень, с другой. Так, серией картинок, собравших едва ли не самое большое количество лайков и перепостов стали: замена памятника Ленину на одноименной площади на статую Джека Воробья с комментарием «...тем временем где-то в Параллельной Тюмени» и котик, развалившийся на перекрестке центральных улиц как причина пробок в Параллельной Тюмени. Рис. 1. «…тем временем где-то в Параллельной Тюмени» (фото из сообщества Вконтакте «Параллельная Тюмень»). По мере роста подписчиков и, соответственно, авторов картинок, стали добавляться и другие темы, вплоть до политических, которых изначально совершенно не было, а также обыгрывание некоторых городских текстов. В целом, можно выделить следующие наиболее типичные сюжеты в комплексе визуальных источников: I. Группа сюжетов, связанная с влиянием массовой культуры в виде фильмов и мультфильмов, а также современных эзотерических представлений разного толка. 1. Постапокалипсис. Разрушенный город, борьба за выживание и безысходность. 2. Космос. Космические корабли, патрулирующие пространство города, запуск ракет с «тюменского космодрома» и космические тела, преимущественно Луна очень близко к городу. 3. НЛО и вторжение чужеродных существ в город. 19 4. Катастрофы, аварии и крушения. 5. Фэнтези (драконы и другие мифические, сказочные персонажи в Тюмени). 6. Герой и сюжеты мультфильмов (например, «Ежик в Тюмени», герои «South Park»). 7. Сюжеты и герои фильмов (зомби, Джек Воробей, «Титаник», «Silent Tyumen» и т.д.) 8. Котики. 9. Знаменитости в пространстве родного города (Beatles на пешеходном переходе, Брюс Уиллис на набережной и проч.) II. Реакция на актуальные социально-политические и культурные городские события. 1. Изменение климата (похолодание, потепление, жара, дождь, снег и т.д.). Интересно, что во время «потопа» в городе, в июле 2013 использовались сюжеты с Путиным (фото, где он погружается на дно Байкала и когда плывет по реке). Больше образ Путина не использовался. 2. Стройки и городские аварии. 3. Праздники (9 мая, День космонавтики, Пасха и Новый год). III. Сюжеты, играющие на стереотипах о Тюмени и локальных текстах. 1. Визуализация стереотипов о Тюмени как части Сибири (например, где по улицам ходят пингвины и белые медведи). 2. Визуализация городских легенд (Например, подземный ход под сквером; «Сквер кошек на лесобазе» (см. ил. 2), который соединил в себе представления о Лесобазе как криминальном районе и «Сквере кошек» – аллее скульптур в центре города; «Не грози Южному [тюменский магазин и одноименный район], попивая сок у себя в квартале», «Объединенные Заречные Эмираты»; фото надписи на перилах Моста Влюбленных «Любви нет, вы все умрете поодиночке. Прыгай, прыгай»). Рис. 2. Сквер кошек на Лесобазе (фото из сообщества Вконтакте «Параллельная Тюмень»). 20 3. Коммуникация тюменских памятников, в реальности расположенных в разных частях города. 4. Сюжетные художественные фотографии тюменского пространства (например, серия фото Евгения Шульца о городских приметах, где отображены представления о Мосте Влюбленных, Скамье Примирения в Александровском Саду, загадывании желаний на счастье и др.) 5. Использование популярных мемов при создании картинок, соединенных с «локальными мотивами» («Мужик с каменным лицом путешествует в Тюмени» + «место, где в Тюмени все фотографируются»; «Только Тюмень, только хардкор!» + «Тюменские ТЭЦ» (на них играет ребенок барабанными палочками); «Холодная. Мокрая. Твоя» и др.). 6. Соединение старых и современных фото, как правило, исторического центра, но в ряде случаев – известных, например, международных старых фото и тюменского ландшафта. Стоит отметить, что два последних типа (II и III) появились позже остальных. Для картинок II группы, выражающих отношение к актуальным событиям, как правило, не указывается автор. Кроме того, наиболее устойчивыми темами и популярными, вневременными, текстами являются I и III группы, в то время как визуальные тексты II группы используют стандартный набор Интернет-мемов («[Погода], что ты делашь? Ахаха, прекрати!», «Что уже соскучились по мне?», «Зима близко», «<….> обычного человека, <….> тюменца» и др.), в которых меняются переменные согласно очередному событию. Последняя группа текстов обладает наибольшим количеством примеров использования локально специфичных мотивов в сравнении с распространенными Интернет-мемами. Впрочем, все эти разнородные фотографии объединяет стремление через характеристики Параллельной Тюмени высветить особенность города и важность своего проживания в его пространстве, в котором «все, что можешь вообразить – реально» [Параллельная Тюмень]. _______________ Работа выполнена в рамках научно-исследовательской программы «Мониторинг актуального фольклора» Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС. Источники и литература Другой взгляд на Тюмень [сообщество] // Социальная сеть «Вконтакте». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vk.com/othertyumen Параллельная Тюмень [сообщество] // Социальная сеть «Вконтакте». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vk.com/parallel_tyumen 21 Я люблю Тюмень [сообщество] // Социальная сеть «Вконтакте». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vk.com/ilovetyumen Blackmore 1998 – Blackmore S. Imitation and the definition of a meme // Journal of Memetics Evolutionary Models of Information Transmission. № 2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cfpm.org/jom-emit/1998/vol2/balckmore_s.html Д. Д. Беляев (Мезоамериканский УНЦ им. Ю.В. Кнорозова, РГГУ, Москва) «Квазиистория» или «квазимифология» в текстах о древнейших временах у древних майя Развитая письменная традиция представляет собой одно из наивысших достижений мезоамериканской цивилизации в доколумбову эпоху. Вплоть до испанского завоевания на территории Мезоамерики существовало несколько оригинальных иероглифических систем письма – эпиольмекская, майя, сапотекская, теотиуаканская, миштекская, астекская и др. Из них наиболее изученной является письменность майя, существовавшая около 2000 лет – с последней трети I тыс. до н.э. до ХVII–ХVIII вв.1 Иероглифические надписи майя доклассического, или формативного, периода (начало II тыс. до н.э. – III в. н.э.) малочисленны и плохо изучены. От классического периода (III–Х вв.) сохранилось большое число иероглифических текстов – царских коммеморативных надписей и владельческих надписей на керамике и предметах мелкой пластики. Царские надписи, как правило, высекались на каменных монументах, которые помещались на центральных площадях или внутри зданий. Все они имели «историческое» содержание и повествовали о деяниях майяской элиты. В этом смысле они представляют собой материализованное величие царских династий [Беляев 2002]. Несмотря на установленную связь иероглифического майя – престижного языка письменности – с ритуальным языком, устным по своей природе [Давлетшин 2009], иероглифические надписи исторического содержания имеют яркую характерную особенность – гипертрофированную хронологическую систему, которая охватывала не только «историческую» эпоху, но и «мифологические» события. В дошедших до нас надписях I тыс. н.э. отсутствуют такие категории Иероглифическая письменность майя была дешифрована в 1950-е гг. Ю. В. Кнорозовым [Кнорозов 1952; 1955]. В последнее время благодаря работам А. Лакадены была завершена дешифровка астекской письменности, см. [Lacadena 2008] и другие его работы. 1 22 как «в начале времен», «давным-давно» и т.п. Все мифологические сюжеты, включая рождение и воцарение божеств или космологические события (например, победа над гигантским крокодилом, из тела которого был создан ныне существующий мир) имели свои точные даты. Паленке (конец VII – начало VIII вв.). Город Лакамха, известный нам под современным названием Паленке, с конца V в. был столицей царей Бакаля. В правление К’инич-Ханаб-Пакаля I (615–683), его сыновей К’инич-Кан-Балама II (684–702), К’инич-К’ан-Хой-Читама II (702–721) и К’инич-Акуль-Мо-Наба III (721 – ок. 735) была разработана сложная историко-мифологическая схема, в центре которой лежала связь между божествами-творцами, божествами-покровителями династии из так называемой «Паленкской триады» и царским домом (см. [Stuart 2005]). Она была изложена в ряде пространных надписей конца VII – первой трети VIII вв. («Храм Креста», «Храм Лиственного Креста», «Храм Солнца», Храм ХIХ) и выглядит следующим образом: 3309 г. до н.э. – воцарение «Бога I» из «Паленкской триады». 3298 г. до н.э. – «Бог I» обезглавил гигантского крокодила. 3121 г. до н.э. – родился Аканаль-Ишим К’ас-Муван-Мат, первый царь Матвиля. 3114 г. до н.э. – закончилась предыдущая календарная эпоха и начался нынешний календарный цикл из 13 «четырехсотлетий» (5126 лет). 3112 г. до н.э. – Аканаль-Ишим К’ас-Муван-Мат в возрасте 8 лет осуществляет свой первый ритуал, «Бог I» спустился с небес. 2360 г. до н.э. – боги «Паленкской триады» родились в Матвиле. 2325 г. до н.э. – Аканаль-Ишим К’ас-Муван-Мат провел первый юбилейный ритуал и через 200 дней стал царем. 993 г. до н.э. – родился Укокан-Кан. 967 г. до н.э. – Укокан-Кан стал царем Бакаля. 252 г. до н.э. – Укокан-Кан освятил храм богов «Паленкской триады». Сразу же за этим начинается история К’ук’-Балама и его потомков, правивших начиная с V в. н.э. Пьедрас-Неграс (конец VII – начало VIII вв.). Город Мук’ихтун (ПьедрасНеграс) стал столицей царей Йокиба в середине V в. В VII–VIII вв. бакальские и йокибские цари являлись соперниками и боролись за владычество над левобережьем р. Усумасинты. Примечательно, что «мифологическая история» Йокибского царства, записанная на Алтаре 1, началась раньше, чем история его соперника. 23 4710 г. до н.э. – первое событие в Йокибе (возможно, воцарение первого правителя). 4691 г. до н.э. – первый юбилейный ритуал в Йокибе. 3114 г. до н.э. – царь Йокиба присутствует на церемонии окончания предыдущей календарной эпохи. 297 г. н.э. – царь Йокиба завершает очередной календарный период и устанавливает монумент. Тикаль (середина VIII в.). Город Кукуль, или Йашкукуль (Тикаль) – один из древнейших памятников культуры майя, развитие которого началось в VII– VI вв. до н.э. Вплоть до конца IХ в. он был столицей одного из самых могущественных государств майя. В случае с Кукулем мы видим эволюцию «историкомифологической» традиции. Судя по всему, основатель династии Кукуля Йаш-Эб-Шок (I в. н.э.) был реальной исторической фигурой. С него начинается «династический счет» правителей Кукуля, насчитывающий 34 царя, правивших до конца I тыс. н.э. В раннеклассический период (III–VI вв.) ни о какой истории за пределами династической эпохи ничего не известно. Встречаются лишь упоминания легендарного владыки Сак-Хиш-Мута, которому символически «принадлежал» город. Однако в грандиозной надписи, высеченной в 730-е годы на кровельном гребне и фасаде Храма VI по повелению Йик’ин-Чан-К’авиля (734 – около 755) и дополненной его сыном в 765–766 г., выстраивается стройная схема «додинастической истории». 1142 г. до н.э. – первый царь Кукуля проводит юбилейный ритуал «пред ликом» Сак-Хиш-Мута, «священного царя Кукуля». 455 г. до н.э. – освящение святилища в честь Сак-Хиш-Мута. 156 г. до н.э. – юбилейный ритуал «пред ликом» Сак-Хиш-Мута. 514 г. н.э. – юбилейный ритуал «пред ликом» Сак-Хиш-Мута. Три проанализированных традиции демонстрируют одну ключевую общую черту: события отдаленного «мифического» прошлого описываются тем же языком, что и события «исторические». С одной стороны, «мифические» события задали норму для последующих правителей – как божества и первые цари отмечали юбилейные ритуалы, устанавливали монументы и приносили жертвы, так и их далекие потомки проводят те же действия. С другой стороны, не вызывает сомнений, что образцом для конструирования «мифологической» истории на самом деле была династическая и ритуальная практика классического периода. События древнейшего прошлого в иероглифических надписях майя предстают 24 скорее как «квазиистория» (либо «квазимифология»). Они были расположены вокруг 3114 г. до н.э. в связи с тем, что эта точка была начальной в хронологической системе, заимствованной майя у эпиольмеков. В этой концепции фактически нет места «мифологическому времени», которое зачастую считается универсальной характеристикой архаических мифологий. _________________ Литература Беляев 2002 – Беляев Д. Д. Древние майя (III–IХ вв.) // Цивилизационные модели политогенеза. М., 2002. Давлетшин 2009 – Давлетшин А. И. Язык иероглифических надписей майя как язык ритуальный или об устной природе иероглифического майя // Слово устное и слово книжное. М., 2009. Кнорозов 1952 – Кнорозов Ю. В. Древняя письменность Центральной Америки // Советская этнография. 1952. № 3. Кнорозов 1995 – Кнорозов Ю. В. Система письма древних майя. М., 1955. Lacadena 2008 – Lacadena A. Regional Scribal Traditions: Methodological Implications for the Decipherment of Nahuatl Writing // PARI Journal. 2008. Vol. 8. № 4. Stuart 2005 – Stuart D. The Inscriptions from Temple XIX at Palenque: A Commentary. San Fransisco, 2005. Е. А. Болашенкова (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН, Санкт-Петербург) Два представления об эпохе Саманидов в постсоветском Таджикистане После распада СССР и обретения независимости в 1991 г. республики Центральной Азии столкнулись с необходимостью формирования национальной идентичности, что означало переосмысление собственного исторического прошлого и отчасти конструирование новой картины мира. В отличие от характерной для советской идеологии ориентации на «светлое будущее», налицо оказалась другая тенденция: обращение к прошлому, поиск собственного «золотого века», в том числе – определенной исторической личности, способной выполнить роль национального героя [Marat 2008: 25]. Показательно, что ни советский, ни колониальный периоды с их действующими лицами, как правило, с «золотым веком» не ассоциируются. Интерес к отдалённому прошлому, напротив, растет. Среди примеров – культ эмира Тимура (XIV в.) в Узбекистане и 25 эпического героя Манаса – в Киргизии. Оба персонажа не только активно популяризируются на государственном уровне, но и являются объектами своеобразного мифотворчества. «Золотым веком» Таджикистана стала эпоха династии Саманидов (IX–X вв.), а наиболее популярным персонажем – самый известный её представитель: эмир Исмаил Самани (правил в Мавераннахре с 892 по 907 г.). Интересным явлением раннего постсоветского периода стало то, что к эпохе Саманидов апеллировали как президент Таджикистана Эмомали Рахмон, так и сторонники оппозиционной ему Партии исламского возрождения. И та, и другая стороны видели в этом историческом периоде эталон, но при этом акцентировали совершенно разные черты того времени, порой переоценивая и даже выборочно преувеличивая одни аспекты и преуменьшая другие; рисовали две разные, подчас взаимоисключающие картины одной и той же эпохи. В подобном противостоянии можно разглядеть не только чисто политическую борьбу, но и стремление сделать свои взгляды популярнее среди населения, органично вписать их в массовую культуру, сделать частью общественного сознания. Поэтому можно говорить о двух параллельных представлениях о времени Саманидов в постсоветском Таджикистане. Для интерпретации этой эпохи режимом Э. Рахмона определяющей стала идея национальной идентичности. Государство Саманидов начало позиционироваться как первое национальное государство таджиков, а его основатель Исмаил – как лидер, сумевший объединить народ в непростое время. Э. Рахмон не раз проводил параллели между временем Саманидов и современностью [Marat 2008: 56]. Как впоследствии напишут постсоветские учебники, с обретением независимости таджики впервые со времен Саманидов (то есть более чем через тысячу лет) обрели государственность [Blakkisrud, Nozimova 2010: 180]. Теме независимости вообще стало уделяться особое внимание: подчёркивалось, что Саманиды, благодаря своим дипломатическим способностям и умению вести войну, сумели добиться полной независимости от Арабского халифата (интересно, что в советское время эти отношения рассматривались таджикскими историками скорее как успешное сотрудничество Саманидов с арабскими завоевателями) [Blakkisrud, Nozimova 2010: 177]. Среди основных их заслуг называлось создание эффективной, хорошо организованной и простой системы государственного управления [Horak 2010: 70]. В общем и целом эпоха Саманидов изображалась своего рода «потерянным раем», время воссоздать который пришло именно сейчас. В качестве «нового Исмаила Самани» явно представал сам Э. Рахмон, 26 возглавивший страну в разгар тяжелейшей гражданской войны и нестабильности [Blakkisrud, Nozimova 2010: 178]. В отличие от Э. Рахмона и его сторонников, представители оппозиции сделали ставку на религиозную – а именно, мусульманскую – идентичность большинства граждан Таджикистана [Marat 2008: 56]. Наиболее привлекательной характеристикой времени Саманидов стала для них роль ислама: его позиции по-настоящему закрепились в Мавераннахре именно при этой династии. В связи с этим арабское продвижение в Центральную Азию воспринималось главным образом как привнесение сюда важнейшего элемента культурной жизни. Исмаил, приложивший в своё время немало усилий для дальнейшего распространения ислама в регионе, в такой интерпретации выступал прежде всего проводником этой религии и её ценностей. Время же правления его преемников – эпохой, когда ислам оказывал колоссальное влияние на жизнь населения этих земель и, выражаясь современным языком, во многом выполнял роль государственной идеологии. После окончательной победы партии Э. Рахмона в борьбе за власть стало очевидным и преобладание продвигаемого ею образа эпохи Саманидов. Механизмы популяризации этого образа, по наблюдениям исследователей, имеют много общего с советскими методами пропаганды: официальные выступления президента, СМИ, система образования и прежде всего – опора на научное сообщество [Marat 2008: 15]. Сами историки в этой ситуации нередко воспринимают свою профессию как некую «миссию»; всё чаще говорится о существовании монополии на интерпретацию исторических событий и о том, что попытки истолковать их под принципиально иным углом зрения могут быть расценены как непатриотичные [Marat 2008: 84]. Среди основных шагов, предпринятых руководством Таджикистана для конструирования и сохранения исторической памяти о данной эпохе, стоит назвать торжественное празднование в 1999 г. 1100-летия государства Саманидов; возведение в крупнейших городах страны памятников и мемориальных комплексов, посвящённых эмиру Исмаилу; присвоение его имени улицам в ряде населённых пунктов; учреждение награды «Орден Исмоили Сомони», переименование в его честь пика Коммунизма на Памире (высочайшей точки на территории всего бывшего СССР) и, наконец, введение в 2000 г. новой национальной валюты – сомони (на банкноте в сто сомони изображён сам эмир). В последние годы стала намечаться следующая тенденция: в общественном сознании жителей Таджикистана эпоха Саманидов всё меньше ассоциируется с 27 той или иной политической силой. Саманиды (и прежде всего эмир Исмаил) постепенно перестают быть «козырем» как партии власти, так и оппозиции, и превращаются в некий нейтральный узнаваемый символ, «эмблему» страны. Кроме того, примирить два рассмотренных представления об этой эпохе может третье, одинаково близкое обеим сторонам: эпоха Саманидов является, помимо прочего, временем формирования классического литературного персидского (персидско-таджикского) языка, а также периодом расцвета наук и искусств. Обращение к этим чертам фактам может способствовать сплочению населения и формированию коллективной идентичности, не вызывая угрозы раскола на политической почве. _______________ Литература Blakkisrud, Nozimova 2010 – Blakkisrud H., Nozimova S. History writing and nation building in post-independence Tajikistan // Nationalities Papers. Vol. 38. No 2. March 2010. Horak 2010 – Horak S. In Search of the History of Tajikistan. What Are Tajik and Uzbek Historians Arguing About? // Russian Politics and Law. Vol. 48. No 5. September– October 2010. Marat 2008 – Marat E. National Ideology and State-building in Kyrgyzstan and Tajikistan // SILK ROAD PAPER. January 2008. Н. Г. Брагина (Москва) Новый вид публичной памяти в современной России: иронические памятники В докладе речь пойдет о возникшей в России в постсоветскую эпоху тенденции – об установке иронических памятников. Как особый вид коммеморативной практики она сформировалась в 1990-е годы «на руинах» советской идеологии, после того как государство Советский Союз прекратило свое существование. Известную цитату «Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым» (К. Маркс, «К критике гегелевской философии права») можно переформулировать: «Человечество, смеясь, воспроизводит свое прошлое». Современность относится к эпохе иронии [Лефевр 2012]. Ирония предполагает обостренное осознание конфликта и позволяет, не отрицая истории, выдвигать против нее обвинения. Предлагая метафору «шипы иронии выпускают 28 из иллюзий воздух», А. Лефевр отмечает, что ирония кладет конец мистифицированным и ложным результатам познания [Там же]. Соответственно установка на постсоветском пространстве иронических памятников свидетельствует о появлении иронических коммеморативных практик, выражающих идеологию современности. Для современности характерно также перераспределение отношений между официальной и публичной памятью. В реестр коллективных ценностей, формирующих официальную память, включены исторические личности: правители, герои, гении. Памятники историческим деятелям создают прообраз официальной истории и материализуют идею вечности и величия. В отличие от официальной, публичная память появляется как реакция «на злобу дня» почти сразу после каких-либо событий: «…на сегодняшний день мы чувствуем необходимость увековечивать все, даже случайное событие; и массмедиа не просто делает это возможным, но способствует этому» [Hartman 1996: 106]. Расширение сферы публичной памяти имеет лингвистические следствия. Характерно, что все иронические памятники называют именно памятниками, а не статуями, скульптурами, арт-объектами. Иногда это подчеркивают сами названия: Памятник первой батарее; Памятник первому табурету и т.д. Это создает условия для расширения семантики слова памятник. Объектами иронической коммеморации становятся а) комические персонажи прошлого; б) повседневные вещи, сам факт увековечивания которых вызывает комический эффект. Иронические памятники могут рассматриваться в оппозиции к официальным. При этом между официальными и публичными памятниками есть ряд существенных структурных различий. 1. Официальные памятники в честь кого-либо выражают идею посмертной славы и противостояния забвению. Они семиотически и семантически связаны с памятником-надгробием. Официальные памятники – это памятники-утверждения посмертной славы. Публичные памятники – это памятники-отношения. Их назначение − создавать игровое пространство, туристический топос. Они содержат иронические установки и концептуально связаны с масс-медийными практиками. Они удивляют, провоцируют, в них заложена потенциальная возможность разных интерпретаций, что придает им сходство с объектами актуального искусства. Публичные памятники часто порождают дискуссии в обществе, они также становятся своего рода «ньюсмейкерами». Например, в СМИ обсуждается кра29 жа какой-либо детали памятника / самого памятника (например, был украден сырок у памятника сырку «Дружба»; несколько раз крали саму скульптуру Чижика-Пыжика). Публичные памятники также могут наделяться магической функцией – помощи в исполнении желаний, сдаче экзамена и т.п. 2. Официальные памятники ориентированы на создание и производство канонических образов. У публичных памятников объект коммеморации детерминирован не столь жестко. 3. Если рассматривать установку памятников как сообщение [Debrey 2000] и определять адресата и адресанта, то в отношении официальных памятников и адресатом, и адресантом провозглашается народ. С помощью официальных памятников транслируется господствующая идеология, определяемая как народная воля, как воспроизводство фрагментов народной памяти. У публичных памятников адресантом могут быть малые дискурсивные группы. Экспертная оценка может не проводиться или проводиться весьма условно. 4. Официальные памятники предназначены для объединения общественного пространства, публичные памятники – для его дифференциации. Благодаря публичным памятникам проявляется специфика места как части общественного ландшафта. 5. Официальные памятники ориентированы на высокое (катарсис), публичные – на низкое (смех). У публичных памятников почти полностью утрачены коннотации возвышенного. В отличие от официальных памятников, возложение цветов к публичным памятникам значительно менее ритуализовано1. Таким образом, семантическое расширение слова памятник можно описать примерно следующим образом: памятник создается как шутливое, игровое напоминание о людях, животных, событиях, вещах; эти люди, животные, события, вещи могут занимать особое место в практике повседневности, они, как правило, популярны; также они могут быть героями легенд, сказок, фильмов, художественных произведений; сам факт установки памятника выделяет их среди других людей, животных, событий, вещей, приписывая им дополнительные смыслы; эти сооружения могут быть любого размера, часто не намного выше своего прототипа; основная функция – шутливое, игровое признание значимости челоСреди публичных памятников существуют такие, которые можно назвать «трогательными». У подножья их часто лежат цветы. Например, памятник собаке по кличке Мальчик в вестибюле станции метро Менделеевская, на постаменте которого выбито: «Посвящается гуманному отношению к домашним животным». Это – отдельный вид публичных памятников, которые в докладе рассматриваться не будут. 1 30 века, животного, события, вещи; сооружение служит, в частности, для привлечения туристов. Иронические памятники можно классифицировать следующим образом: 1) мнемонические личности официальной советской истории в неканонических образах; 2) профессии, социальные страты, не включенные в практику коммеморации в силу отсутствия коннотаций «возвышенного»; 3) мнемонические вещи, связанные с историей советской повседневности; 4) памятники-«приколы»; 5) памятники литературным (песенным) героям, и знаковым вещам, например, стулу Остапа Бендера (Тернополь). В докладе будет подробно рассмотрена общая классификация иронических памятников, ставших одной из составных частей публичной памяти. ___________ Литература Брагина 2007 – Брагина Н. Г. Память в языке и культуре. М., 2007. Лефевр 2012 – Лефевр А. Введение в современность // Неприкосновенный запас. 2012. № 2. Цит. по электрон. версии: http://www.intelros.ru/readroom/nz/-82-22012/14031-vvedenie-v-sovremennost.html. Bragina 2012 – Bragina N. The New Monuments in Post-Soviet Russia as a Playing Space of the Public Memory // Anzeiger für Slavische Philologie. XL. 2012. F. 9–19. Debrey 2000 – Debrey R. ‘Introduction à la mèdiologie’. Paris: Presses Univ. de France, 2000. Hartman 1996 – Hartman G. H. ‘The longest shadow: in the aftermath of the Holocaust’. Indiana Univ. Press, 1996. Д. С. Буданова (РАНХиГС, Ивановский филиал) «Империя» Р. Капущинского: Формирование коллективной памяти в локальном тексте В конце XX – начале XXI вв. польско-российские отношения развивались непросто. В первую очередь это было связано с переориентацией внешней политики Польши на Запад. Варшаве казалось, что членство в таких международных организациях, как НАТО и ЕС, оградит ее от негативного влияния России и ее имперских амбиций. Но, даже интегрировавшись в вышеозначенные институты, Польша не перестала опасаться угрозы с востока. Во многом эта ситуация связана с закреплением в польской коллективной памяти негативного образа России. 31 Здесь важно напомнить, что коллективная (историческая) память мобилизуется в сложные периоды жизни нации, государства. Конец 1980-х – первая половина 1990-х годов как раз и стали таким периодом в жизни польского общества: распад социалистического блока, крушение СССР, объединение ФРГ и ГДР внушали Польше опасение за свою судьбу. С одной стороны, Варшава оказалась в невыгодном геополитическом положении – между объединенной Германией и нестабильной Россией. С другой стороны, перед поляками стояла трудная задача обновления социально-экономической, политической и культурной жизни. Одним из ярких творцов польской коллективной памяти о России стал известный репортер и писатель, несколько раз выдвигавшийся на Нобелевскую премию, Рышард Капущинский. В 1993 г. им была опубликована книга «Империя», состоящая из заметок и эссе, написанных о Советском Союзе и России. Произведение состоит из трех частей. В первой части собраны впечатления автора от поездок по Советскому Союзу в 1950–1960-е годы, а также детские воспоминания. Вторая часть посвящена Империи в последние годы существования СССР. Третья часть представляет собой размышления и заметки автора о России, сделанные в 1992–1993 годы. При анализе произведения важно понимать, что Империя здесь – не Советский Союз, книга посвящена не ему. СССР, по мысли автора, – это лишь одна из форм существования Империи, одна из ее ипостасей. Более ранней формой была Российская империя, павшая в 1917 г., а более поздней – Российская Федерация, которую, по мысли автора, также ждут распад и крушение. На наш взгляд, рассматриваемое произведение является локальным текстом и по сути, и по тем задачам, которые на него возложены автором. Так, «Империя» в определенном смысле является метатекстом, который вобрал в себя множество письменных и устных текстов о России. С другой стороны, в произведении создан некий идеологический и семантический компакт [Щукин], который включает в себя переживания, размышления, эмоции, понятия, связанные с Россией. Этот компакт мы (вслед за автором произведения) можем назвать «Империя». Забегая вперед, отметим, что Р. Капущинский не испытывал ни к России, ни к Советскому Союзу теплых чувств, а потому и созданный им компакт оказался наполнен в основном негативными эмоциями и пессимистическими размышлениями. В нашем докладе мы лишь кратко 32 рассмотрим основные концепты, созданные Р. Капущинским на страницах произведения. Итак, компакт Империя не монолитен, как не монолитна и сама Империя, состоящая из метрополии и провинции. Примечательно, что при описании метрополии Р. Капущинский почти не уделяет внимания Центральной России. Это объясняется просто: автор считает Сибирь сердцем Империи. Интересно, что неоднократно Сибирь описывается Р. Капущинским как место ссылки неугодных, или просто как огромная тюрьма. Именно она открывает проницательному путешественнику сущность России: «Это мир, где не шутят, мир приказов и послушания» [Капущинский 2010: 28]. Это мир без цвета — мир белого, который ассоциируется со смертью, неотвратимостью, и мир непроницаемой, всеобъемлющей темноты [Капущинский 2010: 36, 39]. Концепту метрополия противостоит концепт провинция. Провинция в произведении Р. Капущинского многогранна, однако под этим понятием подразумеваются, прежде всего, национальные республики Советского Союза. Образы провинции и метрополии диаметрально противоположны. Так, например, метрополия связана с границами, провинция связана со свободой: «Несмотря на жесткий, казарменный корсет советской власти малым, но древним народам удалось сохранить кое-какие традиции, кое-что из своей истории, вынужденно скрываемую гордость и собственное достоинство» [Капущинский 2010: 43]. Стремление к свободе, если верить автору, выражалось, прежде всего, в творчестве. Так, например, рассказывая о Грузии, Р. Капущинский повествует о художнике Нико Пиросмани, рассказывая об Армении, знакомит читателя со скульпторами Беником Петросяном и Амаяком Бдеяном. Интересно отметить, что в очерках о советских республиках тон повествования изменяется — в речи автора появляются позитивные нотки, появляются яркие краски, сочные метафоры; жители провинции вызывают у автора в основном положительные эмоции: радость, сопереживание, восхищение. Жители же метрополии, как правило, несчастны, их можно лишь жалеть или презирать. Концепт «провинция» тесно связан с концептом «жертва». Ведь все национальные республики, по мнению Р. Капущинского, либо не по своей воле оказались в составе Империи, либо страдали от гнета центральной власти. Жертвами оказались и жители провинции. Однако концепт «жертва» гораздо шире: он вмещает в себя и образы советских республик, и образы жителей Империи, и образ Польши, и, наконец, образ самого автора. При этом часто даже 33 палач или триумфатор становятся жертвами. В этом Р. Капущинский видел одну из характерных черт сталинизма (и шире – Империи): во многих случаях невозможно разделить понятия «жертва» и «палач» [Капущинский 2010: 204–205]. Идеологический компакт, условно названный нами «Империя», не призван вызывать положительных эмоций у читателя. Напротив, пожалуй, у любого читателя Россия, увиденная и описанная Р. Капущинским, будет вызывать страх. Собственно, с целью предостеречь европейцев (в частности, поляков) и было опубликовано произведение, ставшее визитной карточкой автора: Советский Союз рухнул, рухнула вся социалистическая система, но появилась Россия как новая ипостась Империи с соответствующими имперскими амбициями. Эту мысль писателя поразительно точно повторил профессор Анджей Новак в 2013 г.: «Россия сейчас — это самое опасное государство мира» [Станишевский]. Немалая заслуга в конструировании подобной исторической памяти о России принадлежит творческой интеллигенции Польши 1980–1990-х годов, в том числе Р. Капущинскому. _______________ Литература Капущинский 2010 – Капущинский Р. Империя. М., 2010. Станишевский – Станишевский М. Россия – самая опасная страна мира. [Электронный ресурс.] Режим доступа: http://inosmi.ru/world/20130808/211685465.html Щукин – Щукин В. Как и почему рождается литературный локальный текст. [Электронный ресурс.] Режим доступа: http://parkbelinskogo.ru/как-и-почему-рождается-литературный-л Е. В. Васильева (Санкт-Петербургский гос. университет) А. В. Козлова (Европейский университет в Санкт-Петербурге) «Тургеневские девушки»: социально-педагогические манипуляции locis communibus произведений И.С. Тургенева в советской и постсоветской культуре 34 Вопрос институализации памяти с помощью учебных текстов актуален не только для школьного курса истории, авторы которого формируют память о «больших событиях» прошлого, но в равной степени и для курса литературы, предлагающего интерпретацию художественных текстов прошлого и превращающего сюжеты и героев литературных произведений в государственное культурное знание. В некоторых случаях от учащихся даже не требуется прочтения оригинальных текстов для того, чтобы увековечить память об изображенных в них событиях или героях. Именно так произошло с частью литературного наследия И. С. Тургенева: понятие «тургеневская девушка», ставшее фразеологизмом еще при жизни автора, не имело необходимого иллюстративного материала в школьной программе до конца 1980-х годов (изучали только совершенно «неудобный» для формирования представления о «тургеневской девушке» роман «Отцы и дети» [Пономарев 2014a]). Несмотря на то, что тургеневские романы всегда оставались на обочине процесса обучения, их воспитательное значение подчеркивалось педагогами на протяжении XX в. с завидной регулярностью. К примеру, в отчете о школьном диспуте «Какой должна быть советская женщина?», напечатанном в журнале «Советская педагогика» за 1949 г., среди рекомендованной к прочтению литературы, должной помочь «школьницам определить идеал женщины, которому надо во всем следовать» [Ильин 1949: 62] перечислены четыре произведения И. С. Тургенева: «Ася», «Накануне», «Дворянское гнездо», «Дым». С 1957 г. канонический текст советских методических разработок к урокам по Тургеневу обязательно включал ритуальную цитату А. А. Фадеева о важном педагогическом значении «тургеневской идеализации женственности» [Фадеев 1957; Моцарев 1959: 80; Голубков 1960 (1955): 12–13; Воробьев 1968: 12 и др]. В связи с этим, первостепенной задачей нашего доклада стало проследить трансформацию толкований образов тургеневских девушек в учебных и медийных текстах в культурно-идеологическом контексте советской и постсоветской эпохи и выявить их влияние на культурную память представителей разных поколений. Материалом послужили учебно-методические пособия, массовые периодические издания 1930–2010-х годов, художественные и мемуарные тексты, в которых продолжилась жизнь «тургеневских девушек», а также интервью с бывшими учителями литературы и учениками послесталинской школы. Если обратиться к первым учебным пособиям советского периода по литературе, то можно заметить, что строителей новой системы образования-воспитания скорее интересуют значительно более близкие к народу «тургеневские му35 жики» [Соколов 1920; Голубков 1928; Феддерс, Цветаев, 1930: 62–79], нежели героини романов. Непопулярны они и в публицистике 20–30-х годов, возникая, прежде всего, в контекстах, связанных с «отжившей» эпохой: «прежние “тургеневские девушки” стали уж “бабушками”, пошли с “чехами” и “колчаковцами”, а не с народом. Народ же, в лице передового пролетариата, сам вышел на сцену, сам творит» [Ильин 1919: 66]. «Тургеневские девушки» попадают на страницы учебного текста лишь к середине 1930-х годов – времени выхода первого советского унифицированного учебника по литературе [Абрамович и др. 1935, см. о нем: Пономарев 2010]. Напомним, что появлению учебника сопутствуют педагогические дискуссии о значении слова «герой», сводящиеся к тому, что настоящий герой должен непременно обладать чертами и выдающимися, и типическими (см. об этом в [Розенблюм 2013: 135])). В соответствии с этим, советизация тургеневских девушек шла двумя путями: с одной стороны, необходимо было вписать их в пантеон революционных борцов, с другой – превратить в трансляторов норм поведения и сделать идеалом для повседневной жизни старшеклассниц. Первая задача активно решается авторами учебных и просветительских текстов в период конца 1930 – начала 1950-х годов: творцы нового литературного пантеона находят место тургеневским девушкам среди предвозвестников революции, которую И. С. Тургенев, «сам того не желая», приближал: «наш народ с любовью и признательностью обращается к Тургеневу, писателю, сумевшему в мрачную эпоху 60-х, 70-х годов разглядеть в русской женщине те прекрасные черты и свойства, которые уже тогда толкали ее на протест, вели борьбу против самодержавия» [Ивановский 1938: 53]. Авторы советских методических пособий обнаруживают в тургеневских романах незамысловатую эволюцию «вовлечения женщины в общественную борьбу»: «Наталья – еще только стремящаяся к общественной деятельности, Елена – уже нашедшая себе полезное дело, но пока еще на чужбине и Марианна – участница русского революционного движения» [Голубков 1955: 142]. Эта стадиальность становится общим местом десятков учебно-методических разработок, причем иногда в ней находится место и Лизе (между Натальей и Еленой), «протест которой пока пассивен» [Свободин 1961: 30], и даже Асе (у самого истока), которая «пока просто мечтает совершить подвиг» [Вишневская 1979: 39]. Из подобных умозаключений учащийся может сделать вывод, что и Ася, и Наталья, и Лиза оказываются частью революционного движения. Советские методисты то и дело вынуждены вводить ложные пресуппозиции или прибегать к фигурам умолчания, чтобы продемонстрировать ре36 волюционность героинь. Чаще всего подобным манипуляциям подвергался образ Елены, которая предстает как «героическая девушка», которая «отдает все силы революционной борьбе» [Прилежаева 1973 (1944): 293], «русская женщина, охваченная глубоким революционным порывом» [Зерчанинов и др. 1949: 92] (при этом иногда авторы обзорных глав о тургеневских романах предпочитают не вдаваться в подробности, что это за борьба и где территориально она происходит). В некоторых случаях подразумеваемые умолчания разворачиваются в желаемые утверждения: «Многие молодые девушки из обеспеченных семей бросали, как Елена Стахова, своих родных, чтобы вместе с любимым человеком идти в революцию – на борьбу за свободу своего народа» [Колокольцев, Литвинов 1957: 91]. Впрочем, к концу 1950-х годов инородные пассажи учебных текстов о героизме сгладились и абстрагировались, и тургеневские девушки постепенно превратились просто в «идеал нормы» [Славникова 2002]. Кроме ожидаемых «равнодушия к буржуазному самоуспокоению, самодовольству, мещанской мелочности и ограниченности» [Благой 1948: 22], «жажды полезной деятельности», «самопожертвенности» [Голубков 1960: 48] – черт, объединяющих всех героинь Тургенева и не вступающих в противоречия с текстами романов – методистам приходилось обращать внимание и на «заблуждения» тургеневских девушек, и, по возможности, их нейтрализовать. Различия между тургеневскими героинями и канонами советской женственности [Здравомыслова, Темкина 2003] также доставляли достаточно трудностей методистам. Одних беспокоила Наталья, «ждущая сложа руки суженого» [Скиталец 1968: 78], других – аполитичная Лиза, «находящаяся во власти темного, мистического <…> чувства» [Голубков 1959: 147], третьих – «разорвавшая связи с родиной» и «обрекшая на страдания семью» Елена [Косолапов 1955: 37]. В связи с этим осуществлялась корректировка уже сложившихся параметров «тургеневских девушек» и добавление к ним порой противоречивых черт. Так, одна вырванная из контекста цитата Елены Стаховой превращала ее в патриотку: «Освободить свою родину! Эти слова даже вымолвить страшно, так они велики…» [Бялый 1966: 213; Книга о героях 1958: 152 и др.]. Кроме того, романы Тургенева, очевидно, использовались педагогами и как учебники по «основам любви», поскольку коллизия взаимоотношений главных героев без труда поддавалась интерпретации в соответствии с единственной легитимированной советской педагогикой трактовкой «товарищества, переросшего в крепкое чувство» (см. об этом [Келли 2013; Пономарев 2014b]): Елена выбирает Инсарова, «так как он вполне отвечает ее представле37 нию о муже, товарище в большом совместном деле» [Голубков 1960: 149]. Из устных бесед с учителями выясняется, что не менее важным воспитательным ходом было акцентирование «чистоты» и «невинности» [Инф. 1] (возможно, поэтому классические для советского письменного методического языка формулировки «тургеневские женщины», «женские образы романов Тургенева» отсутствуют в устной речи учителей). Потенция героической составляющей образа вновь актуализируется в связи с воскрешением памяти о войне и снятием табу с говорения о женском военном опыте [Никонова 2005]: «тургеневские девушки», выходя за пределы оригинального текста и преодолевая его сопротивление, появляются в военной мемуарной памяти и поэзии, быстро попадающей в сценарии школьных дней памяти 9 Мая: Не подвели свою Родину в трудный час «тургеневские девушки». <…> Напрасно дочек умоляют дома, // Уже не властен материнский взгляд – // У райвоенкоматов и райкомов // Тургеневские девушки стоят. [Фоняков 1980: 245 и др.] Нужно сказать, что эта очередная попытка «героической» легитимации удалась плохо: реципиенты скорее были склонны толковать образ «тургеневская девушка на войне» как оксюморон, нежели как отсылку к «героическому» образу Елены Стаховой, отправившейся санитаркой на болгарскую национально-освободительную войну: «Мама была добра, нежна и чрезвычайно щепетильна. В ее характере было много от тургеневской девушки. Но как показали последующие события, когда пришло время действовать, она оказалась активным и мужественным человеком» [Таубкин 2005:85]. Возможно, этот факт сыграл роль и в актуализации и популяризации в постсоветском медийном и речевом пространстве значения фразеологизма «тургеневская девушка», которое наиболее емко обозначил один из наших информантов: «любое существо, абсолютно не приспособленное к жизни» [Инф. 2]. В художественных текстах советских писателей, также преследующих воспитательные цели, но все же допускающих больше свободы, как правило, представлены две точки зрения: отрицательный/«заблуждающийся» герой нелицеприятно отзывается о тургеневских девушках, в то время как «резонер» возражает ему цитатами из текста учебного: Особенно не любил он разговорах о книгах <…>. Литературу у них учили «по образам», и ненавидел он их до зубового скрежета. 38 – На кой мне образ Лизы Калитиной из «Дворянского гнезда? Наплевать мне на это гнездо вонючее… Она «ах», он «ох», она в монастырь – бух, а я учи! Я пыталась как умела ему растолковать глубину и прелесть русской литературы <…> [Грекова 1981: 155–166] (см. аналогичный конфликт в [Прилежа- ева 1973; Кузнецова 1979; Дубов 1982; Жуховицкий 1988]). Если говорить о современной литературе (как художественной, так и документальной) – поведение тургеневских героев, в том числе «девушек», продолжает восприниматься как правильное и, следовательно, скучное. На восприятие писателей, критиков и публицистов, по-видимому, особенно сильно влияет хлесткое высказывание Довлатова: «Знаменитые тургеневские женщины вызывают любые чувства, кроме желания с ними познакомиться» [Довлатов 2010: 56]. Заметим, что, оттачиваясь в соответствии с негласным сводом нормативных этических правил, «тургеневские девушки» все дальше и дальше отдаляются от оригинального текста. Например, в основе характера героини, отождествляющейся с тургеневской, вполне может лежать такая черта, как верность нормам традиционной матримониальной этики: «Мама воспитывала меня как Олю Телегину, тургеневскую барышню. Мама и сама такая. Она отдалась одному человеку, отцу, – и хранит ему верность до сих пор, хотя этой верностью переломала себе всю жизнь» [Иванов 2012: 211]. Напомним, что ни в одном из сюжетов тургеневских романов подобный конфликт не наблюдается. Наряду с критерием нормы, определяющим фактором понятия «тургеневская девушка» оказывается тоска по прошлому, молодости и «прежним временам». В дискуссии блога Бориса Акунина, преследующей цели определения «идеала женщины», «тургеневская девушка» была описана следующим образом: «Раньше у нас под воздействием литературы этих существ было много. Сейчас – под воздействием телевидения и интернета – они почти исчезли. Но тем приятнее такую встретить» [Акунин 2011]. Так, обращение к «тургеневским девушкам» может становиться маркером выражения консервативной, «родительской» точки зрения на современное поколение, что хорошо иллюстрирует пример текста, написанного матерью автора одного из интернет-блогов: «Сейчас на фоне всяких шоу, глупого плоского юмора по телевидению, детективов с убийствами самого разнообразного характера и других прелестей современной культуры трудно представить такой тип девушки. Сейчас он кажется ужасным анахронизмом. Но в советские времена, представьте, их было немало» [Ni_kolenka 2013]. 39 В данном контексте упоминание образа «тургеневской девушки» подводит к логическому тупику: говорящие отсылают нас не к героиням Тургенева, а к воспминаниям о своей молодости, пришедшейся на золотой век нравственности советской эпохи. Воспринимающийся как анахронизм, образ «тургеневской девушки» подхвачен и последними тенденциями – от новой волны русского рока 1980-х до новой русской моды 2000-х. В то время как контексты употребления, уходящие корнями в советское учебное прошлое, ограничиваются, прежде всего, характеристиками внутренних качеств героини, новые медиа и сферы, зависящие от их развития, охотно обращаются к этому старому образу, активно эксплуатируя внешний облик «тургеневской девушки». Прагматика проясняется, например, в фэшн-индустрии: пышные наряды из дорогих тканей прочат «утонченным тургеневским барышням» [Villa Turgenev 2013]. «Тургеневская девушка» уже не определима ни Тургеневым, ни его творчеством, ни социальными реалиями XIX в. Манипулятивные механизмы конструирования поведенческого образца, запущенные в начале прошлого столетия методистами, живы до сих пор, заданный импульс «правильности» позволяет достраивать искомый образ в соответствии с существующим идеалом нормы, солидаризироваться с ним или выражать ироническое, негативное отношение, подключая при этом собственные воспоминания, культурную память или сиюминутные эмоции. «Тургеневская девушка» – сема с «плавающим означающим», образ не обобщающий, а конкретизирующий: невозможность составить список «тургеневских девушек» оправдана возможностью постоянно добавлять в этот список новые имена. ___________ Список информантов Инф. 1 – БРМ, 1958 г.р., г. Йошкар-Ола. Инф. 2 – ДСА, 1974 г.р., г. Орел. Литература Абрамович и др. 1935 – Абрамович Г., Брайнина Б., Еголин А. Русская литература. Часть II. Учебник для IX класса средней школы. М., 1935. Акунин 2011 – Запись «Вопрос недели: идеал женщины» от 04.02.11 // ЖЖ Бориса Акунина «Любовь к истории» (доступ к записи закрыт) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://yablor.ru/blogs/vopros-nedeli-ideal-jenschini/1172936 Благой 1948 – Благой Д. Д. Мировое значение русской литературы // Начальная школа. 1948. 40 Бялый 1966 – Иван Сергеевич Тургенев в портретах, иллюстрациях, документах. Пособие для учителя / Сост. Л. И. Кузьмина, Г. В. Степанова. Под общ. ред. Г. А. Бялого. М.–Л., 1966. Вишневская 1979 – Вишневская И. На встрече с Тургеневым // Искусство кино. 1979. № 11. Воробьев 1968 – Воробьев П. Г. Рассказы И. С. Тургенева в школе. М., 1968. Голубков 1928 – Голубков В.В. И. С. Тургенев: Пособие для школ II ступ., техникумов и для самообразования. М.–Л., 1928. Голубков 1955 – Голубков В. В. Художественное мастерство И. С. Тургенева. Пособие для учителя. М., 1955. Грекова 1981 – Грекова И. Вдовий пароход // Новый мир. 1981. № 5. Довлатов 2010 – Довлатов С. Блеск и нищета русской литературы. СПб., 2010. Дубов 1982 – Дубов Н. Родные и близкие. М.: Художественная литература, 1982. Иванов 2012 – Иванов А. В. Комьюнити. М., 2012. Ивановский 1938 – Ивановский Н. Женские образы Тургенева // Общественница. 1938. № 11. Ильин 1919 – Ильин Д. Ржавое перо // Зарево заводов (Самара). 1919. № 2. Ильин 1949 – Ильин З. Диспуты как форма внеклассной работы // Советская педагогика. 1949. № 2. Здравомыслова, Темкина 2003 – Здравомыслова Е. А., Темкина А. А. Государственное конструирование гендера в советском обществе // Журнал исследований социальной политики. 2003. № 3/4. Зерчанинов и др. 1949 – Зерчанинов А. А., Райхин Д. Я., Стражев В. И. Русская литература. Учебник для IX класса средней школы. [Изд. 3-е]. М.: Гос. уч.-пед. изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1949. Жуховицкий 1988 – Жуховицкий Л. А. Трубач на площади. М., 1988. Келли 2013 – Келли К. «В нашем великом Советском Союзе товарищ ― священное слово». Эмоциональные отношения между детьми в советской культуре // Детские чтения. № 3. Книга о героях 1958 – Книга о героях. Очерки. Вып. 1. М., 1958. Колокольцев, Литвинов 1957 – Колокольцев Н. В., Литвинов В. В. Русская литература: учебник для IX класса нерусской средней школы. М., 1957. Косолапов 1955 – Косолапов В. И. Диспуты и их значение в воспитании учащихся средней школы // Советская педагогика. 1955. № 4. Кузнецова 1979 – Кузнецова А. Земной поклон. М., 1979. Моцарев 1959 – Моцарев И. Т. Новые книги по Тургеневу // Литература в школе. 1959. № 4. Никонова 2005 – Никонова О. Женщины, война и «фигура умолчания» // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ni32-pr.html Пономарев 2010 – Пономарев Е. Р. Чему учит учебник // Нева. 2010. № 2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/neva/2010/ 2/po17.html Пономарев 2014a – Пономарев Е. Р. Общие места литературной классики // Новое литературное обозрение. № 2. 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: magazines.russ.ru/nlo/2014/126/18p.html 41 Пономарев 2014b – Пономарев Е. Р. Воспитание новых людей. Методика новых людей. Методика преподавания в советской школе 1930-х годов // Детские чтения. 2014. № 5. Прилежаева 1973 (1944) – Прилежаева М. П. Юность Маши Стоговой // Прилежаева М. П. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 1. М.. 1973. Розенблюм 2013 – Розенблюм О. Зоя Космодемьянская: эволюция «героя» как «культурного героя» в 1940-е годы // Детские чтения. 2013. № 3. Свободин 1961 – Свободин А. Тургеневская девушка // Советская женщина. 1961. № 7. Скиталец 1968 – Статья С. Г. Скитальца о Тургеневе (Публикация В.А. Громова) // Русская литература. 1968. № 1. Славникова 2002 – Славникова О. Rendes-vous в конце миллениума // Новый мир. 2002. № 2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2002/2/slav.html Соколов 1920 – Соколов Б. М. Мужики в изображении Тургенева // Творчество Тургенева: сб. ст. / Под ред. И. Н.Розанова, Ю. М.Соколова. М., 1920. Таубкин 2005 – Таубкин Д. Минуло шестьдесят лет… // Мишпоха. 2005. № 16. Творчество 1959 – Творчество И. С. Тургенева. Сборник статей. Пособие для учителя. М., 1959. Фадеев 1957 – Фадеев А. А. Субьективные заметки // Новый мир. 1957. № 2. Фиддерс, Цветаев 1930 – Феддерс Г. Ю., Цветаев В. П. Рабочая книга по литературе: Для 7-го года обучения в трудовой школе. М.–Л., 1930. Фоняков 1980 – Фоняков И. Ц. Тайна простых слов // Знамя. 1980. №8. С. 243–246. Ni_kolenka 2013 – Ni_kolenka. День рождения еще одного любимого писателя мамы // Livejournal: блог-платформа для ведения онлайн-дневников. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ni-kolenka.livejournal.com/138554.html Villa Turgenev 2013 – Villa Turgenev Atelier Moscow. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.villaturgenev.ru 42 Г. С. Вртанесян (Российский государственный гуманитарный университет, Москва) Календарная лексика как исторический источник Одна из наиболее консервативных частей словарного фонда (наряду с числительными) – календарная лексика. Поэтому представляет интерес динамика её изменения на примере долган. Долганский этнос формировался с XIX в. до середины XIX в. из эвенков, эвенов (50–52% в сумме), якутов 30–33%, русских – 15% и самодийцев 3–4% (ненцы, энцы). Иначе выглядела языковая картина, – не менее 60% будущих долган говорили на “якутском”, 20% по-русски и 20% “по-тунгусски”. Основа экономики, – оленеводство, охота и зимний лов рыбы. Оленеводческие термины долганы заимствовали у тунгусов, знавших верховую езду, пополнив их элементами самодийского санного оленеводства [Долгих 1963: 92, 128, 135, 129, 132]. Долганский считают диалектом якутского [Дьяченко 2008: 345–346], хотя есть мнение, что это новый тюркский язык, на все части которого (фонетика, строй и т.д.) очень серьезное влияние оказал эвенкийский. В долганском языке большинство слов, имеющих эвенкийское происхождение, являются названиями предметов (существительные), глаголов нет. Но числительные явились калькой с якутских [Убрятова 1985: 3, 65, 135]. Охотничьи обряды долган носят смешанный характер – в них сосуществуют образ якутского бога охоты Баай Баяная и эвенкийские охотничьи амулеты шингкэны [Василевич 1930: 63]. Изменения календарной лексики долган за 150 лет (со второй половины XIX в. и до конца XX в.) отслежены по записям П. Третьякова [Третьяков 1871: 77], А. А. Попова [Попов 1937: 152] и А. Д. Мухачева [Мухачев 2001: 148–178]. Интересно, что в первой записи календаря нет ни одного якутского термина, сохранилось и тунгусское бега ‘месяц’, хотя информанты Третьякова уже считали себя долганами и говорили на долганском. В первой записи формально преобладала фенологическая лексика, а «оленеводческих» терминов всего три – месяцы гона (хирули хани, хиру ‘пороз’), отела и мошки. Последнее, несмотря на “фенологическую” форму, имело прямое отношение к оленеводству, так как связано с устройством дымокуров для укрытия оленей от мошки. Туран бега (букв. ‘вороны месяц’) пояснялся как “половины холодного, половины теплого времени” месяц, по сути маркировал весеннее равноденствие, – точку “равновесия” света и тьмы. Близкий по форме и смыслу термин – “половины свечения месяц” (апрель) – сохранился у эвенков-орочонов [Мазин 1986: 123–124]. В первой записи календаря фенологические названия весенних 43 месяцев (нэлькини, ногнэны) ещё были, но исходный смысл уже был утерян, они значились как “рождения новых телят месяц” и “весенние воды” (то есть разлива рек). Месяц мучин бега (июль), буквально ‘месяц зеленения лиственницы’ [Василевич 1958: 267], в переносном – ‘месяц мошки’ [Третьяков 1871: 77]. Во второй записи есть кардинальное изменение – переход на якутское ыйа ‘месяц’ вместо бега. Название мая – июня, как таба торуур ыйа ‘оленей отела месяц’ – всего лишь перевод на якутский первоначального смысла этого термина. Июль, сохранив смысл (месяц комаров), получил якутское название бырдак ыйа (бырдых ‘комар’ [Словарь 1972: 241]), но таких названий июня и июля в якутских календарях нет [Приклонский 1891: 84]. Август иргекта ыйа ‘оводов месяц’ даже сохранил эвенкское ‘овод’. Сентябрь – октябрь, время гона, стали называться чиекте ыйа ‘опадания хвои’ (т/ч)ин ‘лиственница’ [Василевич 1958: 260], плюс суффикс множественности (кт(а/е) эвенк. ‘хвоя’). Гон оленей начинается с опадения хвои лиственницы, налицо «оленеводческое» название месяца [Баскин 1978: 184]. Иначе говоря, при сохранении оленеводства как основного вида хозяйства сохранилась и семантика названий месяцев, при этом некоторые прежние названия просто калькировали в новый язык. Декабрь, борит бега, назывался одинаково у долган и у эвенков, и означал ‘вторая половина темной поры’ [Третьяков 1871: 77], хотя борит переводится как ‘разделение’ [Василевич 1958: 61]. В последней по времени записи А. Д. Мухачева исходная семантика сохранилась в названиях месяцев с оленеводческой лексикой (отела, гона, мошки, оводов) и зимних – ноября и декабря (‘малой и большой темноты месяцы’) [ Мухачев 2001: 148–178]. Месяцев с такими названиями нет в календарях эвенков [Василевич 1969: 43], но они были у самодийцев [ Третьяков 1871: 77]). Это значит, что оленеводческая и солярная лексика в календаре долган доминировала как во второй половине XIX в., так и в конце XX в. Месяцы зимней рыбалки (с основой «налим») появились только в записи А. А. Попова [Попов 1937: 152]. Роль налима в культуре видна из описания обряда гадания на рыболовную удачу с использованием круглых косточек из головы налима [Мухачев 2001: 84]. Январь хеен ыйа ‘месяц ловли рыбы в истоках озер’ (диал. от сеен ‘исток’, якут. с заменой с > х [Приклонский 1891: 227]). Следующий месяц (вторая половина января – начало февраля) диринг ыйа ‘месяц лова в глубоких местах озер’ (от диринг ‘глубокий’ [Приклонский 1891: 113]), с семантикой оппозиции «малый» (исток) / «большой» (глубина). Синенгийен ыйа – апрель [Мухачев 2001: 153, 157], от эвенк. сёнган ‘налим’ [Василевич 1958: 347]. Иначе говоря, в календар44 ной лексике долган нет ни одного «якутского» названия месяца, при этом некоторые термины (овод, налим) сохранили эвенкийское название и после смены языка. Понятие «месяц» сменилось с эвенк. бэга на якут. ыйа на следующем этапе, что обозначило и «формальный» переход с одного языка на другой. Исчез ‘месяц вороны’ туран, не имеющий прямого отношения к оленеводству, хотя почти все эвенкийские календари сохранили месяц с этим названием [Василевич 1969: 43–44], а в сказках долган ворона имела высокий сакральный статус [Попов 1937: 152]. Более отчетливо проявилось влияние хозяйственной специализации, уже более половины названий месяцев имели прямое отношение к оленеводству, в том числе и ‘месяц половодья’ уу келер ыйа, так как разливы рек влияли на миграции оленьих стад при весенних кочевках. Названия лишь трех зимних месяцев относились к рыболовству (подледный лов и конец нереста налима). Проанализированный материал не дает возможности для более детальной реконструкции того, как шла трансформация календарной лексики. Тем не менее, очевидны две тенденции. Во-первых, в поздних записях календарная лексика, будучи переведенной на новый язык общения, чаще всего сохраняет исходную семантику, при этом исходная форма названий месяцев сохраняется реже. Во-вторых, мы предполагаем, что первый шаг «формального» перехода с одного языка на другой – это изменение названия месяца как «единицы-меры» времени. _______________ Литература Баскин – Баскин Л. М. Северный олень // Крупные хищники и копытные звери. Лес и его обитатели. М., 1978. Василевич 1930 – Василевич Г. М. Некоторые данные по охотничьим обрядам и представлениям у тунгусов // Этнография. 1930. № 3. Василевич 1958 – Василевич Г. М. Эвенкийско–русский словарь. М., 1958. Василевич 1969 – Василевич Г. М. Эвенки. Историко–этнографические очерки. Л., 1969. Долгих 1963 – Долгих Б. О. Происхождение долган // Труды Института этнографии. Новая серия. Т. 84. М.–Л., 1963. Дьяченко 2008 – Дьяченко В. И. Долганы. Краткий исторический очерк // Тюркские народы Восточной Сибири. М., 2008. Мазин 1986 – Мазин А. И. Календарь и цикл хозяйственного года эвенков Верхнего Приамурья (конец XIX – нач. XX вв.) // Этнические культуры Сибири. Новосибирск, 1986. Мухачев 2001 – Мухачев А. Д. Путешествие в мир оленеводов. Новосибирск, 2001. Попов 1937 – Попов А. А. Охота и рыболовство у долган // Памяти В. Г. Богораза (1865–1936). Сборник статей. М., 1937. 45 Приклонский 1891 – Приклонский В. Л. Три года в Якутской области // Живая старина. 1891. Т. III. Словарь 1972 – Якутско-русский словарь. М, 1972. Третьяков 1871 – Третьяков П. Туруханский край его природа и жители. СПб., 1871. Убрятова 1985 – Убрятова Е. И. Язык норильских долган. Новосибирск, 1985. О. В. Головашина (Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина) Короткая память, или есть ли настоящее у истории? Утверждение, что современное молодое поколение не знает историю, является уже своеобразным трюизмом, не требующим подтверждения. Однако только подробные эмпирические исследования фактологических знаний и исторических представлений современной молодежи позволяют делать обоснованные выводы о взаимосвязи знания истории и гражданской идентичности в современной России. Целью данной работы является не исследование исторического сознания вчерашних школьников, а анализ фактологического знания. Исследование проводилось среди студентов младших курсов различных специальностей вузов г. Тамбова в течение 2013–2014 гг. Выборка составила 700 человек, из них 250 – те, которые сдавали ЕГЭ по истории (группы 1 и 2 соответственно). В качестве контрольной группы выступали представители более старших поколений (группа 3). Выборка по контрольной группе составила 300 человек 1985–1960 гг. рождения. Респондентам задавались одинаковые вопросы, направленные на выявление фактологических знаний. Обработка, которая осуществлялась в ручном режиме, позволила выделить следующие результаты. Великая Отечественная война является одним из немногих признанных символов российской государственности. Любые попытки пересмотра или даже альтернативной интерпретации пресекаются. Тема всегда актуальна и вроде бы должна быть известна молодым россиянам. Но правильный ответ на вопрос «Сколько человек погибли в Великую Отечественную войну?» смогли дать только 13 % студентов, не сдававших ЕГЭ по истории, около 5 % считали, что число погибших не превысило несколько тысяч. Исторические представления все дальше уходят от фактов, для студентов важнее образ. Война была ужасна, 46 значит, погибли миллионы, а точное число не имеет значения для яркого образа. Ответ «тысячи» показывает, что многие студенты вообще не представляют масштабов Отечественной войны. Советский Союз для современных студентов стал таким же далеким, как события XIX в. Страна, связанная с юностью их родителей кажется не менее чужой, чем Российская империя. Более 70 % студентов, не знают, что такое ВЛКСМ, 45 % не смогли определить РСФСР и 13 % – КПСС, причем в число правильных были включены ответы, описывающие явление, обозначенное аббревиатурой (ВЛКСМ как «комсомол» и др.) Среди представленных терминов наибольшие затруднения вызвало определение коллективизации, его не смогли дать 58 % опрашиваемых группы 1. Однако и те ответы, которые предлагали студенты, очень редко соответствовали требованиям к выпускникам школы. Индустриализация отождествлялось с популярной в последние годы модернизацией, Коллективизация – это «формирование коллектива», а перестройкой можно назвать любые «реформы», «переход к чему-то новому», «изменение власти». Таким образом, влияние актуального контекста на восприятие терминов можно назвать определяющим. В трактовке понятий наиболее показательно, что «живая» память хранит больше информации, чем историческое знание. В группе 3 определения перестройки, дефицита были более подробны, чем в младших группах, и зачастую, носили эмоциональный оттенок («бардак», «развал СССР» – про перестройку, воспоминания об очередях – про дефицит). Если для младших групп дефицит – это практически 47 исключительно «нехватка чего-либо», то 30 % из числа давших правильных ответ представителей группы 3 называли дефицитом «редкий, труднодоступный товар». 40 % опрашиваемых из группы 1 не смогли правильно написать слово «дефицит». Правильные ответы Индустриализация Коллективизация Перестройка Дефицит Группа 1 58 % 42 % 60 % 87 % Группа 2 62 % 48 % 65% 88 % Группа 3 75 % 69 % 86 % 92 % У представителей всех групп опрашиваемых больше проблем возникало с определением личностей XVII, чем XIX или XX в., хотя, конечно, процент ошибок (или варианта «нет ответа») был несопоставим: Неправильные ответы XVII в. XIX в. XX в. Группа 1 39 % 32 % 24 % Группа 2 18 % 14 % 8% Группа 3 13 % 9,5 % 5% Среди личностей, связанных с XVII в., намного чаще, чем других, во всех возрастных группах называли Петра I (17 % в группе 1,16 % в группе 3 и 40 % в группе 2), второе место занимает Екатерина II, довольно часто вспоминают Ломоносова, иногда Пугачева, Карамзина, а также Лжедмитрия, Ивана Грозного, императоров Александра I и II, писателя Льва Толстого. Выбор персоналий в группе 2 более разнообразный. Так как применительно к XVII и XIX вв. мы не можем говорить о «живой» памяти, то с периодами ассоциируются персоналии, уже мифологизированные. Среди представителей XIX в. наиболее популярен Пушкин (15 % в группе 1,17 % в группе 2,12 % в группе 3), Кутузов, Наполеон, Александр II. Ошибок было меньше; некоторые представители всех возрастных групп относили к XIX в. события начала XX– образование СССР, Серебряный век и т.д. В целом, принципиальных отличий, кроме процента неправильных ответов или варианта «нет ответа» между возрастными группами нет. XX в. для многих респондентов группы 3 связан с «живой» памятью. Если в группе 1 Сталина назвали 20 % от участвующих в опросе представителей дан48 ной группы, а среди студентов, сдававших ЕГЭ – 28 %, то в группе 3 – чуть более 5 %. Зато старшие поколения чаще называют Ленина, Горбачева, всех генеральных секретарей КПСС, космонавтов, музыкантов. Среди наших современников в ответах упоминались Пугачева, Басков. Отдельно необходимо сказать о языке, на котором говорят об истории представители разных обследованных групп. Ответы старших поколений всегда более эмоциональны, и не важно, вспоминают ли они о событиях, свидетелями которых были, или том, что им когда-то рассказывали в школе. Во-вторых, несмотря на два с лишним десятилетия постсоветской истории, в ответах старших до сих пор очень распространены термины и обозначения, принятые в советских учебниках. Революция – это установление диктатуры пролетариата, а главная причина Гражданской войны в том, что «низы не хотят жить по старому, верхи не могут жить по-старому». Ответы младших групп зачастую являются отражением не знаний студентов, а дискурса современных новостных программ: в 1917 г. прошли «массовые акции протеста против невыплат зарплат», а главная причина Гражданской войны в том, что «не договорились лидеры оппозиции». Таким образом: 1. Низкий уровень фактологических знаний по истории свидетельствует о трансформации мышления, вызванной информатизацией общества; 2. С каждым новым поколением снижается уровень фактологических знаний по истории и повышается мифологизация исторических событий и персоналий; 3. Несмотря на то, что образ СССР сохраняется в живой памяти большинства современных россиян, младшим поколениям советский дискурс практически незнаком, образ СССР представляется им столь же далеким, как и история Российской империи; 4. Низкий уровень фактологического знания не позволяет предполагать сформированность исторических представлений молодежи, соответствующих официальному историческому нарративу. _______________ Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках исследовательского проекта № 13–33–01215 «Исследование коллективной памяти в условиях современной социокультурной трансформации». 49 Д. Ю. Доронин (Институт этнологии и антропологии РАН / Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ, Москва) Колыбель на горе, грядущий хан и шаманский бубен: мнемотехники и мнемотексты алтайских тюрков Наиболее яркие и очевидные примеры традиционных мнемотехник и мнемотекстов, до сих пор значимых для алтайской культуры, мы можем обнаружить в фольклоре и этнографии детства. Бир – бука, эки – эчки, ÿч – ÿзÿт, тöрт – тöö, беш – бее, алты – айгыр, jети – jеек, сегис – сек, тогус – торбок, он – jылан1, – подобные «считалки» о животных и духах позволяли запомнить алтайским детям счёт до десяти [Балдарга 2009: 31]. Нетрудно выявить основные мнемонические приёмы этого текста: в каждой паре слова начинаются с одной буквы, порядок чисел запоминается через ассоциации с домашними животными (при этом некоторые связаны в ассоциативные пары: кобылица/жеребец) или с образами сверхъестественного/страшного. Для запоминания числа «десять» используется другой ассоциативный прием: как в замкнутом кольце змеи в этом числе объединяются все предыдущие числа. Частотными детскими мнемотекстами являются потешки о пальцах, а также напоминающий «загадку сфинкса» текст о возрастах человека: Он – ийт, Jирме – тийиҥ, Одус – бöрÿ, Тöртöн тöö, Бежен – белек, Алтан – тайак, Jетен – кööжÿр, Сегизен – булгууш, Тогузон – сокы, Jÿс – jамыртка2 [Балдарга 2009: 30]. Детям он помогает запомнить порядок десятков, для взрослых служит остроумной загадкой, притчей и мнемонической моделью онтогенеза человека. Мнемонические приемы, значимые для взрослых людей, использовались во всех областях традиционного общества, однако в данной статье нам важно рассмотреть те из них, которые сохранили свою актуальность в ХХI в. Более подробно я остановлюсь на мнемотехниках религиозно-мифологического характера. Весьма частотной мнемотехникой в современной хозяйственной жизни алтайца является айыл3, пространство которого чрезвычайно семиотично: расположение мебели и таких атрибутов современного жилья как газовая плита или ‘Один – бык, два – коза, три – привидение/дух умершего, четыре – верблюд, пять – кобылица, шесть – жеребец, семь – дух/бес, восемь – падаль, девять – бычок, десять – змея’ (алт.) 2 ‘Десять – собака, Двадцать – белка, Тридцать – волк, Сорок – верблюд, Пятьдесят – задаток, Шестьдесят – костыль, Семьдесят – жердь-рычаг, Восемьдесят – мешалка для зерна, Девяносто – ступа, Сто – яйцо’ (алт.) 1 холодильник определяется наличием мужской (левой от входа), женской (правой) сторонами, местом очага (центральная часть) и тöрöм – ‘почетным / священным местом за очагом’. То же касается и человека: заходя в айыл, он попадает в пространство активной мнемотехники (можно сказать, сам запускает ее), актуализирующей традиционные нормы, статусную иерархию и ритуализованные действия (угощение огня от даров гостя, предписание совместного чаепития, запрет проходить через тöр). В наши дни айыл также выступает в качестве маркера «алтайскости» городских и сельских алтайцев [Доронин 2014а: 38] Структура и нумерология айыла связывается с сакральной географией и нумерологией «шестиугольного Алтая» [Львова 1988: 34]. По словам кама4 О. К. Асканакова [Инф. 1], «шесть углов айыла связаны с шестью главными священными горами-каанами5 Алтая, а очаг в центе айыла связан с ээзи6 горы Белуха». Чакы – ‘коновязь’ (алт.) – ещё один объект с функцией мнемотекста. Традиционно по форме коновязи, количеству её делений, как по паспорту «считывали» информацию о статусе, богатстве, этнической принадлежности хозяина. В начале XXI в. эта кодирующая функция частично нарушена: коновязь действует как маркер «алтайскости»; по тамге, иногда вырезаемой на чакы, определяется сööк7 хозяина. Подобную «идентифицирующую» функцию мнемонических приемов – опознать/запомнить в неком обширном множестве элементы (люди, животные), относящиеся к своему классу, – выполняют различные покрои чегедеков8, вышитые отделки воротников алтайских шуб-тонов, специфичные для каждого села ритуальные свадебные напевы jаҥар кожоҥ, а применительно к животным – клеймление лошадей родовой таҥмой. И если техники запоминания/мечения «своих животных» в начале XXI в. можно определить как повседневные, то маркирование/различение «своих людей» одеждой и песнями смещено в ритуально-праздничную сферу. К мнемотехникам этой сферы можно отнести различные формы поминовения усопших предков, что до контактов с православием были очень слабо развито у алтайцев, умерший и его могила переставали существовать для родственников после погребения [Доронин 2014: 33; Потанин 1883: 36]. С другой стороны, Айыл – шести- или восьмиугольное срубное жилище с конической крышей, очагом и дымовым отверстием. 4 Кам ‘шаман’ (алт.) 5 Каан ‘хан/правитель’ (алт.) 6 Ээзи ‘дух-хозяин’ (алт.) 7 Сööк ‘кость’ (алт.), родовая экзогамная группа у алтайцев и др. южносибирских тюрков. 8 Одежда замужней алтайки, украшенный нашитыми узорами халат без рукавов. 3 51 благополучно ушедшие в ол jер9 покойники оберегали своих потомков. Поэтому, при отсутствии ритуалов поминовения, у алтайцев хорошо развиты другие мнемотехники, позволяющие запоминать своих предков до двенадцатого колена [Львова 1988: 56; Октябрьская 1990: 31]. Прежде всего, это память о важных людях – родоначальниках, шаманах – воплощенная в разных вариантах (изначально устных, а теперь и письменных) семейных генеалогий. Женщина может фигурировать в таком генеалогическом древе, если она, например, была шаманкой [Тюхтенева 2009: 83], поскольку именно шаманы после смерти становятся семейными духами-охранителями, и помнить о них совершенно необходимо. Для этого применялась еще одна техника – изготовление чалу – символического изображение умершего шамана. В 2012 г. в айыле теленгитской шаманки я видел чалу, как минимум, трех шаманов-предков – длинные отрезы материи разных цветов. Фактически, поминовение умерших шаманов производится перед началом камлания через «кормление» их чалу [Доронин 2014: 35]. Важнейшими предметными и пиктографическими мнемотекстами шаманов являются их шаманское облачение и бубен: подобно конспекту, в емкой каноничной форме [Потапов 1991: 162, 191] с помощью рисунков, орнаментов, лент, подвесок и других элементов от поколения к поколению транслируют они внушительный объем мифологического знания. Исследователи, отмечая для шаманского бубна функции карты10, модели Вселенной11, ментограммы [Львова 1988: 168], указывали на важность предписания, согласно которому первый/новый бубен шамана должен как можно точнее повторять бубен жившего ранее шамана [Потапов 1947: 193]. То же правило касалось его ритуального костюма-маjака [Алексеев 1984: 155]. Кроме того, подобно сложному, составному мнемотексту, бубен мог включать в себя изображения других бубнов, принадлежащих уже умершим камам [Потапов 1991: 191]. Каноничность в исполнении бубнов и маjаков определяла их мнемоническую роль не только для владельца, но и для внешних наблюдателей, которые по их элементам могли «прочесть» этническую принадлежность, ранг, статус, Ол jер ‘тот свет’ (алт.), земля умерших предков. Пиктограммы небесных тел, звезд, в особенности Ориона, по словам шамана первой половины ХХ в. Романа Кайдаракова «помогали ему ориентироваться в космосе во время камлания» [Потапов 1991: 193]. 11 Л.П. Потапов, сравнивал бубен с «походным иконостасом», портативной «походной молельней», в которых «были отражены основные теологические положения алтайского шаманизма» [Потапов 1991: 163, 191, 193, 195]. 9 10 52 ритуальную специализацию и биографию шамана [Алексеев 1984: 157; Потапов 1991: 195]. Разумеется, подобное «прочтение» предполагало знание подобных «мифологических конспектов»/мнемотекстов как обязательную пресуппозицию «читающего». Похожие мнемонические функции выполняет ритуальный коврик ширдек12. Д. В. Арзютов определяет этот предмет как модель идеального мира, как «зеркало присвоенного пространства» и «реализацию символического управления территорией» [Арзютов 2013: 91–93]. Некоторые тексты алтайской традиции пытаются регулировать культурную память, предписывая сохранять те или иные актуальные верования и практики. Так, среди телеутов распространены былички о случайной встрече с их легендарным правителем Шÿнÿ, который, подобно Ойроту13 алтайцев, должен прийти в конце времен и увести свой народ в обещанную им землю. Временами он показывается кому-то из телеутов, чтобы проверить, как они хранят свою веру [Батьянова 2005: 73–74]. Согласно другим текстам, алтайцы и телеуты должны сохранять не только веру, но и некий конкретный признак, например, национальную мужскую косичку-кеjеге [Данилин 1993: 141], черные глаза [Батьянова 2005: 80; Данилин 1993: 60, 62] или черные пояса [Шерстова 2010: 195]. Это предметный мнемотекст, которым должен воспользоваться грядущий мессия для того, чтобы в конце времен отличить свой народ, «перемешанный с русскими, как колосья ячменя и ржи» [Батьянова 2005: 80; Данилин 1993: 60, 62]. О его приходе будут возвещать различные знаки, например, изменятся очертания Белухи [Шерстова 2010: 203]; откроются целебные источники-аржаны, закрытых Ойротом перед его уходом [Данилин 1993: 63–64]. Сам Ойрот/Шÿнÿ должен будет возвратиться в виде белого всадника [Алтайская 1994: 279]. Эти признаки, в свою очередь, являются мнемотекстами, адресованными людям; за прошедшее столетие они несколько раз прочитывались и запускали эсхатологические, мессианские ожидания. Так, около 1900 г. обрушилась одна из трех вершин Белухи, что способствовало развитию бурханизма в начале ХХ в. В 1990-е годы на Алтае стали пробуждаться новые источники, что также было «прочитано» как знак возрождения алтайского народа. Коврик из белого войлока с изображениями (аппликацией) гор, небесных тел, рек, зверей, деревьев, цветов, людей, жилища. Ширдек используется в ритуалах Ак-Jаҥ – ‘Белой веры’ (алт.), современной версии алтайского бурханизма. 13 Ойрот-хан – легендарный правитель Дöрбен-Ойрота, государства ойротов. 12 53 Некоторые тексты сообщают не о грядущих, а о прошлых бедах и катастрофах. Обычно это этиологические легенды, связанные с находками каких-то предметов (колыбель, остатки плота, казан) на вершине горы, что чаще всего объясняется проживанием здесь в далёком прошлом спасшихся от потопа людей. Такие тексты очень частотны и повествуют о разных горах по всему Алтаю: Короты, Корбон, Jал-Мöҥкÿ, Jети-Кöл, Кöкöрÿ, Ирбистÿ, Ыйык и др. [Несказочная проза 2011: 127–133]. Иногда форма конкретного объекта ландшафта связывается с потопом, так, например, мне объясняли происхождение больших песчаных холмов у с. Иня. Иногда находки на горе могут «запускать» другие интерпретации: так, колыбель на горе Кабайлу болчок [Инф. 3] принадлежала супругам, чьи дети постоянно погибали в воде. Поэтому они были вынуждены переселиться на безводную вершину горы, однако и тогда их младенец утонул в корыте. Та сторона, по которой сбежала обезумевшая мать, покрылась лесом, а другая, по которой бежал отец, – камнями. В этой же группе маркеров культурной памяти возможно рассмотреть тексты и практики, связанные с тагылами14, обоо15 и jалама16. Тагылы, даже «спящие» (заброшенные) свидетельствуют об идеологическом освоении и управлении местностью, символической власти на ней. Сами сторонники Белой веры объясняют установку тагылов контролем над территорией через освоение «энергетически активных» мест. Тагыльные комплексы связаны между собой и алтайскими горами в некую «сакральную сеть», защищающую Алтай и его народ. Человек, участвующий в мÿргÿÿле, молении к духам-хозяевам Алтая, «прочитывает», запоминает эту информацию через предметно-акциональный текст тагыльного комплекса. Ритуальное повязывание jалама на перевале/аржане/обоо или подношение камня/еды/денег в каменную кучу обоо в коммуникативном аспекте могут быть проинтерпретированы как мнемонический прием, значимый для духа-хозяина данной местности. Скопление повязанных лент или куча камней – большой предметный мнемотекст, по элементам которого дух-хозяин может запомнить, сосчитать или «прочесть» всех людей, обратившихся к нему. Тагыл – большой валун или сооружение из плитчатых камней около метра высотой и четырёхугольное в плане, жертвенник/один из основных элементов культовом комплексе сторонников Белой веры. 15 Обоо/обо ‘куча / стог’ (алт.) – ритуальная груда камней, подносимых духам-хозяевам. 16 Jалама/кыйра – ритуальная жертвенная лента, узкая полоса материи (3–5 см шириной), как правило, белого, желтого, голубого или зеленого цвета, повязываемая алтайцами в почитаемых местах и на бубны. 14 54 В заключении отметим: несмотря на преобладание письменных форм передачи информации в алтайской культуре начала XXI в., предметные, пиктографические и акциональные мнемотексты по-прежнему сохраняют свое значение, особенно в детских и ритуальных практиках. В докладе невозможно рассмотреть все их многообразие: так, вне нашего внимания остались мнемотехники сказителя-кайчы, значение петроглифов или алтайского национального календаря, столь популярного в последние годы, как мнемотекста. _______________ Исследование выполнено при поддержке РГНФ в рамках проекта «(Нео)религиозная составляющая культурной идентичности малочисленных народов Российского Севера и Сибири» (проект № 13-01-00276). Информанты 1. Асканаков Олег Кимович, 1964 г.р., теленгит, сööк Иркит, шаман, с. Улаган Улаганского р-на Республики Алтай, август 2003 г. 2. Сомоев Токтой Амырович, 1930 г.р., алтаец, сööк Кыпчак, с. Ело Онгудайского района Республики Алтай, июль 2014 г. Литература Алексеев 1984 – Алексеев Н. А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири (лпыт ареального сравнительного исследования). Новосибирск, 1984. Алтайская 1994 – Алтайская духовная миссия в 1910 г. // Бурханизм: документы и материалы. Горно-Алтайск, 1994. С. 275–286. Арзютов 2013 – Арзютов Д. В. Алтайский ритуальный ковер и создание гетеротопии // Антропологический форум – Online. 2013. № 18. Балдарга 2009 – Балдарга кычырар бичик (Книга для чтения). Горно-Алтайск, 2009. Батьянова 2005 – Батьянова Е. П. Телеутская версия бурханизма // Этнографическое обозрение 2005. № 4. Данилин 1993 – Данилин А. Г. Бурханизм. Из истории национально-освободительного движения в Горном Алтае. Горно-Алтайск, 1993. Доронин 2014 – Доронин Д. Ю. Посмертная жизнь шамана: трансформация мифологических представлений об активности мертвых у тюркских народов Алтая // In Umbra: Демонология как семиотическая система. Альманах. Вып. 2 / Отв. ред. и сост. Д. И. Антонов, О. Б. Христофорова. М., 2014. Доронин 2014а – Доронин Д. Ю. Символы статуса и идентичности в вещном мире неме билер улус Алтая // Антропология города: материалы конференции молодых ученых. М., 2014. Львова 1988 – Львова Э. Л., Октябрьская И. В., Сагалаев А. М., Усманова М. С. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир. Новосибирск, 1988. Октябрьская 1990 – Октябрьская И. В., Сагалаев А. М., Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал. Новосибирск, 1990. Несказочная проза 2011 – Несказочная проза алтайцев / Сост. Н. Р. Ойноткинова и др. Новосибирск, 2011. 55 Потанин 1883 – Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии. СПб., 1883. Вып. 4. Потапов 1949 – Потапов Л. П. Бубен телеутской шаманки и его рисунки // Сборник музея антропологии и этнографии / Отв. ред. С.П. Толстов. М.–Л., 1949. Т. Х. Потапов 1991 – Потапов Л. П. Алтайский шаманизм. Л., 1991. Тюхтенева 2009 – Тюхтенева С. П. Земля. Вода. Хан Алтай: этническая культура алтайцев в ХХ веке. Элиста, 2009. Шерстова 2010 – Шерстова Л. И. Бурханизм: истоки этноса и религии. Томск, 2010. М. С. Дудина (Международный институт государственной службы и управления РАНХиГС) Механизмы манипуляции мнемическими процессами в системе массовых коммуникаций Современное информационное пространство конкурирует за внимание аудитории, используя для этого все возможные механизмы, в том числе и механизмы манипуляции мнемическими процессами. «Одним из важнейших итогов коммуникационных процессов является накопление в кладовой человеческой памяти созданных ранее другими людьми знаковых систем, необходимых для дальнейшей связи и поддержания контактов индивидов и общества» [Психология 2007: 128]. Что касается СМИ, это накопление редко бывает преднамеренным, в большинстве случаев мы говорим о непроизвольном запоминании, выявление опор которого представляет интерес не только научный, но и практический, так как тогда открываются совершенно уникальные возможности для манипулирования аудиторией. Одной из таких опор выступают теги и хэштеги. Тема использования тегов практически не изучена в психологии массовой коммуникации, так как основные работы, касающиеся процессов памяти в этой сфере, были написаны в 19701980-х гг. Основные мнемические действия, хорошо изученные отечественными специалистами еще в первой половине XX в., это ориентировка в материале, его группировка, установление внутригрупповых и межгрупповых отношений между элементами. Сегодня эти действия выполняет не человек с помощью словесно-логической памяти, а теги, которые повсеместно используются в электронных СМИ. Особенно качественный пример такого использования можно наблюдать у государственного информационно-аналитического агентства Российской Федерации «РИА-новости». 56 СМИ используют свойства человеческой памяти и рассчитывают на узнавание ранее воспринятых явлений и ситуаций. Пример: заголовок «Миссия Саакашвили на Украине» явно направлен на создание ассоциативных связей украино-российского конфликта 2014 г. с российско-грузинским вооруженным конфликтом 2008 г. При этом «предел насыщения» аудитории темой Украины уже достигнут, и та аудитория, которая ранее отвергала предлагаемую официальную точку зрения, согласилась с ней, так как не произошло интенсивного контр-пропагандистского воздействия (так называемый «дремлющий эффект» [Аронсон, Пратканис 2003: 264]). Сегодня журналистика активно входит в стадию конвергенции – подготовка информационных материалов ведется «капсульным» методом. Электронные площадки сети Интернет позволяют подавать материал сразу с нескольких позиций – видео, фоторепортаж, подкрепленный инфографикой, текстовой информацией и, возможно, интерактивными формами. Таким образом, информация достигает аудитории по всем возможным каналам, определяемым типами памяти: и зрительной, и слуховой, и даже двигательной. Особый упор сделан СМИ и на «аффективную память» – «память чувств». Информация забывается значительно быстрее и усваивается не столь эффективно, если не подкреплена эмоциональным раздражителем. Доказательство этому мы видим ежедневно по телевидению. В системе массовых коммуникаций широко используется прием дробления информации с целью рассеять внимание индивида. Именно поэтому часто новости подаются краткими, быстро сменяемыми сюжетами, при просмотре которых человек не в состоянии производить анализ и синтез полученной информации. Также часто мы сталкиваемся с таким приемом: СМИ подают сенсационную новость, которая впоследствии оказывается неправдой. Интересно, что психика человека воспринимает информацию, полученную первоначально, «на веру», и даже дальнейшее опровержение полученных сведений не влияет на полученный психологический посыл. Первичная информация в нашем подсознании остается правдивой. Построение ложных причинно-следственных цепочек – также отличный механизм манипуляции. В условиях системного кризиса, каким и является сегодняшняя ситуация с введением санкций, любые негативные действия противоборствующих стран будут подаваться как проявления «мирового заговора». Если в памяти аудитории присутствует образ авторитетного человека, который поддерживает близкие для них идеи, то может использоваться распро57 странение некого ореола значимости. Например, когда знаменитый спортсмен поддерживает политика, то в нашем сознании заслуги и значимость первого распространятся и на второго. На что направлена манипуляция мнемическими процессами в современных СМИ? В-первую очередь это продвижение выбранного политического курса, который также не столь однозначен в своей оценке. С одной стороны перед аудиторией российских СМИ сегодня разыгрывается хорошо знакомая с советских времен схема формирования национальной идентичности: «свой/чужой», «мы/они». С другой стороны, мы видим, что если раньше СМИ чаще использовали память о героическом советском прошлом, то сегодня схема «свой/чужой» не допускает изоляции России на международной арене. Сегодня продвигаются идеи поворота на восток, азиатское направление внешней политики впервые за всю историю выходит на передний план. Изучение механизмов манипуляции мнемическими процессами в системе массовых коммуникаций необходимо и должно осуществляться с позиций всех акторов процесса: и самих СМИ, которые будут использовать выявленные механизмы для пропаганды, и аудитории, которая должна уметь защищаться от манипуляции мнемическими процессами и понимать, каким образом и с какой целью им преподносится информация. Для этого очень важно ввести уроки медиаобразования в систему школьного образования, ведь именно в школьном возрасте закладываются практики работы в информационно насыщенной среде. Количество медиаинформации, потребляемой человеком будет расти, что скажется и на его психике, и даже на способах переработки получаемой информации. Только развитие рациональнокритического восприятия системы массовой коммуникации позволит нам сохранить информационную культуру человека. _______________ Литература Аронсон Э., Пратканис 2003 – Аронсон Э., Пратканис Э. Р. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребление. СПб., 2003. Психология 2007 – Психология массовой коммуникации: коммуникатор, аудитория, сообщение, каналы, эффекты и эффективность: хрестоматия / Сост. В. П. Васильева. Под ред. К. В. Киуру. Челябинск, 2007. 58 И. С. Душакова (Институт культурного наследия Академии наук Республики Молдова, Кишинев) Память и забывание в репрезентации территорий в интернет-СМИ Медиа-анализ сегодня является важным дополнением к традиционной этнографии. Анализ СМИ позволяет выявить транслируемые или даже конструируемые идеи, понятия, категории, зафиксировав, таким образом, передачу значимых для социума сообщений посредством медиа. Нами был проведен анализ: 1. образа городов Гагаузии на гагаузских сайтах (самопрезентация, уровень города) – по материалам официальных сайтов города Чадыр-Лунга и города Комрат, а также двух новостных порталов, находящихся на первых двух позициях в Google по запросу «новости Гагаузии» (Гагауз-инфо и Гагаузлар); 2. образа Молдовы в российских СМИ (репрезентация «другого», страна) – по материалам российских газет «Известия» и «Новая газета», имеющим печатную и электронную версии, придерживающихся разных политических взглядов; 3. образа Запада и Востока в молдавских СМИ (смешанная репрезентация, регион) – по материалам наиболее популярных информационных агентств Молдовы enews.md и pan.md. Проведенный анализ сообщений за последние пять лет показал, что во всех случаях культурная информация затрагивает такие области, как: 1. Историческая память. В рассмотренных случаях она складывается из таких компонентов, как память о Великой отечественной войне на уровне города (в том числе упоминаются герои ВОВ) и страны (констатируется лишь факт участия страны в ВОВ), о холодной войне на уровне региона (понимается как отчасти продолжающаяся до сих пор, что связывается с потенциальным расширением НАТО в противовес расширению российского влияния). Сюда же можно отнести упоминания об исторически сложившемся партнерстве (с Турцией, Болгарией, Азербайджаном, Россией на уровне города; с Украиной, Россией на уровне страны; на уровне региона упоминается только Россия). 2. Актуализация этнической идентичности. В изученных нами изданиях встречаются взаимоотношений гагаузов с молдаванами и болгарами на уровне городов, взаимоотношений молдаван и румын на уровне страны и региона. Также происходит утверждение полиэтничности пространства (например, отмечаются праздники разных этнических групп, проживающих на данной территории, а также проводятся этнокультурные фестивали). Это, однако, в мень59 шей степени характерно для уровня страны. Так, например, весьма редкими оказались упоминания о гагаузах в российских СМИ, хотя это и противоречит самопрезентации Гагаузии как постоянного партнера и исторического друга России (вероятно, репрезентация «другого» упрощает представления об этнической структуре и формирует образ более монолитного пространства). 3. Сохранение культуры и языка. Данная категория складывается из вопросов сохранения болгарского и гагаузского языков на уровне города, в частности, большое количество сообщений посвящено выходу книг на гагаузском языке или о гагаузах, распространению, преподаванию гагаузского и болгарского языков, развитию художественной литературы и показу театральных постановок на гагаузском языке и т.д. На уровне региона поднимается вопрос о сохранении русского языка. Этот вопрос затрагивается и на уровне страны, но в этом случае возможность сохранения и развития русского языка является также маркером политического сближения или отдаления России и Молдовы. Для уровня городов и страны общими являются религиозная (христианство) и спортивная тематики (представлена довольно узко, в основном, футбольными клубами). Религиозная тематика оказалась ведущей в создании культурного образа городов Гагаузии, в ней встречаются сообщения о религиозных праздниках, о праздничных литургиях, о постройке или восстановлении церквей и храмов, о состоянии дел в монастыре и т.д. На уровне страны и региона общим оказался вопрос проведения границ и отнесения Молдовы к западному или восточному пространству. Важно, что единства в разрешении этого вопроса нет ни в молдавских, ни в российских СМИ. В целом культурная память представлена двумя условно разделенными нами образами исторического прошлого: 1. создается образ общего положительного советского прошлого и нынешнего разделения христианских ценностей и принадлежности к русскому миру, в таком случае Молдова становится частью Востока. 2. создается образ навязанного тоталитарным СССР разделения общего прошлого, в таком случае Молдова становится частью Запада и разделяет в таком случае уже ценности развития демократии. В российских СМИ это разделение пролегает между изданиями (первый образ в газете «Известия», второй – в «Новой газете»), в молдавских СМИ разделение проходит между статьями, общая позиция издания оказывается смешанной. 60 Помимо уже указанного отличия по упрощению этнической ситуации был выявлен ряд других различий. Так, на уровне страны культурная информация оказалась наиболее положительно окрашенным блоком информации о Молдове (по сравнению с такими блоками, как экономический, политический, социальный и др.), потому ее преобладание в отдельные годы в российской прессе формировало положительный образ республики. На уровне же региона культурная тематика тесно связана с политической, она рассматривает культуру и память о прошлом как один из рычагов игры геополитических акторов «Запад» и «Россия». На этом уровне явно прослеживается идея русского мира как через констатацию самого наличия этого мира, так и через утверждение о том, что русская культура является родной или близкой русскоязычным жителям Молдовы (в данном случае культурное многообразие территории маркируется не через этническую принадлежность, как на уровне города, а через родной язык). Эмпирические исследования репрезентации территорий в интернет-СМИ показали, что важной составляющей образа любой территории является культурная информация (приблизительно одна шестая часть релевантной информации). Это проявляется как на уровне городов, так и на уровне стран и даже регионов. Культурная информация в формировании образа играет важную роль как в случае самопрезентации, так и в случае репрезентации «другого». Однако степень детальности информации снижается при переходе от меньших территорий к большим. Так, на более высоком территориальном уровне не включаются в культурную информацию личности, образ территории становится более монолитным (исчезает этническая дифференциация), а отличия маркируются более общими категориями (например, выделение не Великой отечественной войны, а холодной войны, разделение население не по этническому, а по языковому признаку). Что же касается забывания, то его анализ на материалах СМИ видится проблематичным с методологической точки зрения. Семиотический подход к анализу текстов позволяет выделять так называемые «нулевые знаки», указывающие на значимое отсутствие какой-либо информации в текстах. Однако для их выявления необходимо иметь «эталонный список» знаков, которые должны быть проявлены и с которым происходит сверка проявленности знаков. Именно создание такого «эталонного списка» и является основной проблемой, поскольку список этот создается исследователем, следовательно, является его конструктом, а потому отражает лишь его позицию. 61 _______________ Источники Электронные ресурсы. Режим доступа: http://www.ceadir-lunga.md http://www.comrat.md http://www.enews.md http://www.gagauzinfo.md http://www.gagauzlar.md http://www.izvestia.ru http://www.novayagazeta.ru http://www.pan.md Н. С. Душакова (Институт культурного наследия Академии наук Республики Молдова, Кишинев) «Без Бога ни до порога»: культурная память в жилом пространстве старообрядцев Культурная память воплощается в объективированных фактах культуры (тексты, ритуалы, изображения, здания, памятники) [Kansteiner 2002: 182]. Соответственно, традиционное старообрядческое жилище можно рассматривать как своего рода хранилище культурной памяти этой этноконфессиональной общности. Учитывая вариативность практик традиционного домостроительства среди старообрядцев разных согласий и регионов проживания, в данном докладе в первую очередь остановимся на основных особенностях жилого пространства старообрядцев (оформление переднего угла, придающего старообрядческому жилищу высокий ритуальный статус; длительное использование русской печи; наличие бани в усадебном комплексе; хранение в доме этноконфессиональных символов и др.). В докладе будут показаны примеры изменения традиций (или их смыслов), связанных с жилищем, у старообрядцев липованского и некрасовского согласий, проживающих на территории России, Республики Молдовы, Южной Украины и Румынии (например, расположение икон в доме; хранение и использование «поганой» посуды; наличие в доме телевизора и его расположение в переднем углу). Отдельно будут рассмотрены (1) механизмы сохранения старообрядческих традиций, связанных с жилищем; (2) причины вариативности этих традиций; (3) причины отказа от традиции. 1. На примере беспоповских общин Верхокамья и Южной Вятки в рамках проекта «Традиционная культура в условиях модернизации в конце XIX – XXI вв. (на примере крестьян-старообрядцев)» российскими исследователями была проделана работа по выявлению механизмов, выработанных старообрядцами 62 для сохранения традиции. В. П. Богданов разделяет факторы, влияющие на сохранность элементов культуры, на объективные («те явления и процессы, которые существуют вне старообрядческих общин, но влияют на нее достаточно долгий период времени») и субъективные («явления и процессы, происходящие внутри общин, связанные нередко с индивидуальными мотивами поведения конкретных людей») [Богданов 2013: 10]. По его мнению, на изменение традиции оказывают влияние именно субъективные факторы: «Общемировые и национально-исторические процессы постоянно бросают вызов местным локальным религиозным объединениям, которые находят на него свои ответы, но ответы эти зависят от позиций конкретного человека, конкретной семьи и, в конце концов, конкретной социальной среды» [Богданов 2013: 23-24]. Проведенные полевые исследования позволяют в целом согласиться с мнением В. П. Богданова. Степень сохранности традиций в том или ином старообрядческом поселении нередко зависит от личности священника / наставника и его авторитета в общине; от позиции местной элиты (учителей, краеведов, писателей). Что же касается роли этноконфессионального окружения, то следует обратить внимание, что в условиях иноэтничного и иноконфессионального проживания старообрядческих общин степень сохранности традиционных практик значительно выше (например, у липован и некрасовцев Румынии сохранилось больше элементов традиционной культуры, чем у старообрядцев Южной Украины). Кроме того, важную роль в активации культурной памяти и сохранении микротрадиции играют исследователи, которые непосредственно взаимодействуют с носителями традиций, выясняя степень сохранности той или иной культурной черты. Этому также в значительной степени способствуют научные конференции, проводимые в изучаемой среде (например, ежегодная международная конференция «Липоване: история и культура русских старообрядцев», слушателями и участниками которой выступают, кроме ученых, носители старообрядческой культуры). 2. Варьирование традиционных практик вызвано адаптацией к климатическим условиям региона, влиянием иноэтничного окружения, экономическими условиями и др. Отметим, что конфессиональные формы традиции, как правило, остаются неизменными. Так, при общей ориентированности старообрядцев на традиционное деревянное домостроительство характерен их переход к другим, более доступным в соответствующей природно-климатической среде материалам. Осваивая новую технику возведения жилища, старообрядцы сохраняют практику использования христианской атрибутики во время строительства. В 63 качестве примеров заимствований из культуры соседнего населения можно рассматривать применение более яркой цветовой гаммы украшения экстерьера и интерьера старообрядческого жилища под влиянием молдавской культуры (в старообрядческих поселениях севера Молдовы). Любопытно, что характерное для молдаван и румын использование ковров для оформления интерьера прослеживается и в жилищных практиках липован Астраханской области – реэмигрантов из старообрядческих поселений Румынии (села Сарикей и Каркалиу). Иллюстрацией влияния экономических условий на бытование традиции является строительство обеспеченными старообрядцами деревянных домов в тех же условиях дефицита материала (село Журиловка, Румыния). 3. Одна из ярких тенденций в организации жилого пространства старообрядцев обследованных поселений – это ориентир молодого поколения на «престижную европейскую культуру» (например, предпочтение современных душевых кабин перед курными банями или «евроремонта» перед традиционным интерьером с побеленными стенами). Среди причин подобных ценностных приоритетов следует отметить влияние трудовой миграции. Однако здесь важно подчеркнуть, что это не затрагивает конфессиональный пласт традиции (даже после «евроремонта» традиционно оформленным остается передний угол). _______________ Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 14–3650–257 мол_нр Литература Богданов 2013 – Богданов В. П. Объективные и субъективные факторы в жизни старообрядческих общин в условиях модернизации // Старообрядчество в условиях модернизации: исследования и материалы / Под ред. В. П. Богданова. М., 2013. Kansteiner 2002 – Kansteiner W. Finding meaning in memory: a methodological critique of collective memory studies // History and theory. 2002. Vol. 41. 64 А. В. Жидченко (Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омск) Трансформации культурно-исторической памяти в пространстве сибирского города (сер. ХХ в. – современность) В современной ситуации новых поисков в гуманитарных исследованиях на первый план выходят ранее менее значимые подходы, связанные с усилением междисциплинарных методов. Это приводит к более глубокому осмыслению ряда научных проблем и к получению нового научного знания о сложных объектах исследования. В предлагаемой работе ставится проблема трансформации культурно-исторической памяти в пространстве Сибирского города в середине – второй половине ХХ в. Данное исследование выполнено на стыке устной истории, теории культурно-цивилизационного ландшафта, истории повседневности и теории культурной памяти. Источниками послужили устные опросы, воспоминания старожилов городских районов сибирских городов, документы из семейных архивов, картографический материал, материалы натурного обследования, визуальные материалы и т.д. В качестве объекта исследования обратимся к ряду новых городов и городских районов Сибири, формирование которых пришлось на 1950–1960-е годы. В основном это районы массового жилищного строительства, которые создавались в городах по принципу районной застройки для работников крупных предприятий. Среди подобных объектов можно выделить, например, район красноярского правобережья, новый крупный города Ангарск в Иркутской области, Южный поселок города Кемерово, омский городок Нефтяников и т.д. Для строительства этих городов и городских районов (также для последующей жизни в них и работы на градообразующих предприятиях) привлекались люди как из других городов и регионов СССР, так и представители сельского населения данных регионов Сибири. Как правило, первую группу составляли специалисты, имевшие опыт работы на других крупных предприятиях страны, и молодежь, прибывавшая сюда по комсомольским путевкам; вторую – рабочие без квалификации, которые составляли основную часть новых жителей района. Таким образом, особенность формирования новых городских районов в крупных городах Сибири заключалась в динамичном процессе урбанизации, в ходе которого возникало смешение представителей городского и бывшего сельского населения. Опора на теорию Я. Ассмана [Ассман 2004: 45] при рассмотре65 нии культурной памяти дает нам право выделить три составляющих процесса ее эволюции для горожан 1950–1960-х годов и последующих десятилетий. Во-первых, это перемены, связанные с традициями повседневной жизни; во-вторых, перемены в области окружающей среды, которая менялась в зависимости от смены места жительства и; в-третьих, перемены, возникавшие в сознании людей. Переплетение общесоветских тенденций в повседневной жизни с локальной ее спецификой имело ряд особенностей, воплотившихся в конкретных новых городских районах в СССР 1950–1960-х годы. Эти районы символически закрепили в себе один из этапов советской истории, на фоне которого происходил переход к массовому жилищному строительству, к новым нормам потребления, к новому образу жизни. В настоящее время в этих районах появляются архитектурные сооружения более позднего времени: строятся новые магазины, предприятия, учреждения; районы заселяются новыми поколениями с принципиально иными ментальными и культурными установками. Культурное пространство изменилось гораздо быстрее, чем пространство вещественное, материальное. Однако эти изменения необратимо делают городские районы 1950– 1960-х годов достоянием истории и памяти. Практика рассмотрения эволюции культурной памяти в тесной привязке к городскому пространству дает право говорить о локальной специфике этих процессов, о взаимовлиянии семейной биографии и событий истории страны в сфере передачи памяти от поколения к поколению. Представители городского социума, родившиеся и выросшие в деревне, по-своему хранили традиции и перенесли многие из них в городскую культуру, в которой оказались. Показателен следующий пример: в традициях новых районов массового жилищного строительства на протяжении примерно десяти лет после заселения сохранялись практики, более характерные для сельской жизни. Среди них можно отметить проведение пышных застолий и массовых гуляний не в отдельной квартире, как это было характерно для городских жителей, а на улице. Долгое время в районах массового жилищного строительства отсутствовало снабжение газом, что становилось причиной сооружения близ многоэтажных жилых домов небольших дровяных сараев. Уже в 1970–е годы подобные элементы повседневной жизни стали уходить на второй план, а в дальнейшем и вовсе утратили свое значение, сохранившись лишь в семейных архивах и воспоминаниях. Повседневная жизнь людей, которые получали отдельные квартиры в этих домах, не входит в анналы официальной истории, редко упоминается в качестве 66 фактора влияния на общественно-политическое и социально-экономическое развитие страны, и сохраняется лишь в устных рассказах, фотографиях и воспоминаниях старожилов этих районов. В них прошла большая часть жизни многих советских граждан, и эта культурно-историческая память, которая передается их потомкам, становится частью другой, неофициальной истории. При этом стоит отметить, что потомки первых жителей районов массового жилищного строительства в Сибири, ставшие горожанами с рождения, существенно изменили эти традиции или вовсе отказались от некоторых из них, оказавшись естественными образом вовлеченными в реалии другого образа жизни, характерного для своего поколения. Определенное воздействие на трансформации культурной памяти оказала и городская среда. Памятники и памятные места как социокультурные координаты играют роль и в культурной памяти, и в повседневной жизни людей, а также связаны с их восприятием повседневности и дальнейшей передачей социального опыта. ___________________ Публикация подготовлена в рамках проекта РГНФ №14-51-00008. Литература Ассман 2004 – Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004. Е. Г. Захарченко (Институт культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, Москва) От «жизни по книге» – к жизни вне книги: литературные тексты и контексты их восприятия Заметим, что в России (и по сию пору) многие судьбоносные культурные трансформации случаются не таким образом, чтобы накапливаться исподволь и затем обнаруживаться как проявление подлежащих исследованию и объяснению эволюционных процессов. Напротив, важнейшие новшества вначале учреждаются, а уж затем происходит насильственное и зачастую болезненное их внедрение (принятие христианства; петровская европеизация быта – бритье бород, поведение на ассамблеях, курение табака и т.п.). А в случае если назначен67 ное к учреждению к тому моменту и вовсе в природе не существует – таковое начинает создаваться, и иногда вполне энергично и успешно – например, новый русский язык, на котором следует писать книги и его же употреблять для перевода иностранных сочинений. Известно, что одной из устойчивых форм приобщения к европейской культуре в послепетровской России была «жизнь по книге». Ю. М. Лотман подробно исследовал, как переложение на русский язык Тредиаковским «Езды в остров любви» выполняло актуальную задачу – создавало в реальной жизни культурное пространство нового типа. И в этом новом светском пространстве как бы заново создавались и культурная элита (хотя бы по причине низкого образовательного уровня основной массы дворянства), а с нею вместе и сама культура. Заметим, что определение «элитарное» к светской культуре этого периода неприменимо, поскольку другой просто не существовало. Для того чтобы культура осознавалась как сознательно обособившаяся, выделенная, необходимо наличие прежде всего общего поля культуры, внутри которой и выстраивается оппозиция элитарная – массовая. В нашем же случае нарождающаяся европеизированная культура формировалась не на противопоставлении, отделении себя от других, а на основании уже существующего пространства, над- и достраивая себя как вершину целостности. Последующее развитие этой тенденции в области словесности заключалось, в частности, в том, что низовая («лубочная») и религиозная («духовная») литература частично втягивались в общелитературное пространство, трансформировавшись к 1830–1840 годы в предтечу современной «массовой» культуры (выразительный пример – «Иван Выжигин» Ф. Булгарина). На этом фоне можно проследить и обратную тенденцию – исхода из «высокой культуры» и возникновение, вероятно, одного из самых первых феноменов массовой культуры – трансформацию образа Поэта, единственного поэта, чья частная жизнь была возведена общественным мнением в разряд исторических фактов эпохи, – в «Пушкина», персонажа массовой культуры, в мем «А кто посуду будет мыть, Пушкин?», в предшественника хармсовских Гоголя и Жуковского-Жукова, а затем анекдотических Чапаева и Штирлица. Именно на пушкинское поколение приходится бурная смена художественных систем, своеобразная инверсия романтического мироощущения: если традиционные романтики стремились сделать жизнь частью литературы, то пушкинский круг намеренно и достаточно последовательно и размывал границы между литературой и бытом, делая факт искусства деталью реального бытия. Переписка Пушкин пестрит подобными приметами: Буянова, героя поэмы свое68 го дяди Василия Львовича, он называет своим двоюродным братом и сокрушается о его будущем потомстве; обсуждает, почему Кавказский пленник не утопился вслед за черкешенкой, и находит, что тот поступил очень благоразумно, потому что по собственному опыту знает, как опасны кавказские реки. Эта игра продолжалась и в период работы над «Онегиным»: сталкивались или уподоблялись друг другу персонажи из разных текстов (знакомый нам Буянов является на именины Татьяны); совмещались литературная реальность и реальная жизнь: Каверин ждет к обеду Онегина, в Москве на балу к Татьяне «Вяземский подсел и душу ей занять успел». Ю. М. Лотман считал, что перед литературой была поставлена совершенно новая задача: не только жизнь превращать в текст, но и текст, литературу привносить, претворять в жизнь. И можно сказать, что эта тенденция продолжилась и в следующую эпоху. К 1840–1850 годам гуманитарный канон в общественном сознании замещается естествознанием. Крен от эстетизма к факто- и социологичности потребовал новых актуальных – публицистических – жанров. Теперь уже действительность, в отличие от вымысла, объявлялась истиной и одновременно высшей эстетической ценностью («прекрасное есть жизнь» – Чернышевский). Отсюда следовало и изменившееся отношение к искусству: от него в первую очередь требовалась польза. Репин с раздражением вспоминал об этом «нигилистическом времени», когда «искусство могло получить права гражданства лишь помогая публицистике». Признавалась только утилитарная сторона воздействия на массы; в то время как строгость, тщательность исполнения и профессионализм объявлялись излишними мудрствованиями. Вышедшее в 1855 г. собрание сочинений Пушкина сражающиеся между собой сторонники «чистого искусства» и нигилисты тут же приспособили для своих целей. Тогда и обнаружилась трансформация образа поэта, о которой говорилось выше. Опытный литератор, идеолог «чистого искусства», Дружинин неожиданно и странно «проговаривается»; вопреки предпринятому намерению оживить поэта, использовать его поэзию как лучшее орудие против «излишне реального» направления, он его окончательно хоронит: «Перед нами <...> строгий мрамор, изображающий собою истинные черты того, кем мы гордимся! С благоговением подходим мы к хладному, вечному мрамору и навсегда прощаемся <…> с Пушкиным <...> и, преклоняя свои головы, вновь и вновь рыдаем над его прахом!..» [Дружинин 1937] (здесь и далее подчеркнуто мной. – Е. З.). Иными словами, мы присутствуем на открытии памятника уже давно похороненному человеку. Однако если в поисках истинного лица поэта Дружинин обнаружил художественно изваянную в 69 мраморе аллегорию, то у Чернышевского лицо Пушкина скорее похоже на посмертную маску. И поскольку для демократической критики искусство получает главное оправдание своего существования в социальной полезности, авторитетный критик поясняет, что «писатель есть человек, оказывающий большую услугу, делающий много добра своей родине», а «литература есть дело очень важное, полезное, заслуживающее величайшее уважение», он учтиво произносит вежливые и откровенно скучные фразы: «Вот как велика была польза, принесенная Пушкиным русской литературе и публике: он научил публику любить и уважать литературу, возбудил сильный интерес к ней в обществе, научил литератора писать о том, что занимательно и полезно для русских читателей» [Чернышевский 1974]. Портрет дорисован. Имя превращается в знак с весьма расплывчатым понятийным объемом, отсылающий к эпохе и литературному направлению, но никак не характеризующий реальную личность. Предельная обобщенность перерождается в безликость, абстракцию, теряющую связь с объектом. Здесь уместно привести еще одну поразительную «проговорку» Дружинина: «Последнее издание <...> по справедливости должно называться первым памятником писателю от потомства. На этом широком и незыблемом фундаменте будущие поколения могут строить все, что им будет угодно...» [Дружинин 1937]. Будущие поколения воспользовались предоставленной возможностью. Полый знак прошедшей эпохи – неподвижная фигура со стертым лицом, в условиях формирующейся массовой культуры она легко принимала любые значения: обезличенность равнодушно стерпит любой присвоенный ей лик. Разночинная публика создавала свой миф о Пушкине. Жизнь его обрела необходимую сюжетную завершенность и занимательность: в ней присутствовали все черты, необходимые произведению массовой литературы, весь набор элементов «жестокого романса». И Пушкин к середине XIX в. был усвоен массовым сознанием как центральный персонаж авантюрной или любовной повести, способный с равной успешностью принимать любые черты в зависимости от ситуации, в которой актуализируется этот сюжет – не столько человек и литератор, сколько фантом общественного сознания. Подобный же механизм, мне думается, действовал и во многих других случаях. Но этот поворот проблемы связан, конечно же, не с реальным Пушкиным или другими литературными и реальными персонажами, а с иным обобщенным субъектом – читателем. 70 _______________ Литература Дружинин 1937 – Дружинин А. В. А. С. Пушкин и последнее собрание его сочинений // Пушкин. Сборник критических статей. М., 1937. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://az.lib.ru/d/druzhinin_a_w/text_0150.shtml Чернышевский 1974 – Чернышевский Н. Г. Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения // Н. Г. Чернышевский. Собрание соч. в 5 тт. Том 3. Литературная критика. М., 1974 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://az.lib.ru/c/chernyshewskij_n_g/text_0200.shtml Н. В. Казурова (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН, Санкт-Петербург) Феномен войны в современном иранском и израильском кинематографе: национальная травма и коллективная память Сегодня на экспорт в страны мусульманского Востока Иран продвигает в основном популярные фильмы и сериалы. Сняты они с учетом строгой цензуры, поэтому соответствуют, прежде всего, иранскому пониманию исламских ценностей и норм поведения; содержание фильмов имеет сугубо этнокультурную подоплеку. Так, чтобы растрогать аудиторию или внести в фильм тон печали, грусти или настоящей трагедии семейного или национального масштаба, иранским режиссерам достаточно упоминания об ирано-иракском конфликте. Авторы вводят в фильмы атрибуты, в повседневной жизни неразрывно связанные с памятью о войне и прославлением шахидов. Иранский зритель рефлекторно узнает даже тончайшие намеки на события этой национальной трагедии: для него такие аудиовизуальные образы выступают неотъемлемой составляющей коллективной памяти, поэтому реакция на узнавание мгновенная. Не удивительно, что тема ирано-иракской войны и культа мученичества пронизывает многие фильмы авторского и, особенно, популярного иранского кинематографа. Отдельные иранские сериалы и фильмы мейнстрима получают широкое признание среди зрителей-мусульман. Однако интерес зрителя-мусульманина поддерживается, только пока он узнает себя в образе иранца, чувствуя общность принадлежности к исламской традиции, но как только аудитория перестает считывать культурные коды страны – интерес пропадает. Национальная сериальная продукция почти всегда побеждает иностранную, так как имеет дело с глубоко 71 укорененными в сознании массового зрителя этническими и национальными стереотипами. Исключение составляют, пожалуй, американские сериалы, которые добиваются транснационального успеха за счет создания образов «среднестатистического человека», действующего в большинстве случаев вне контекста реальной национальной американской истории. Обусловленные этнокультурной и религиозной спецификой региона сюжеты на тему смерти и погребальная символика действуют в иранском кинематографе как морально-психологическая и этическая категория. Народные представления и суеверия, сплетаясь в единое целое с нормами ислама, продолжают оказывать сильное воздействие на мировоззрение современных иранцев. Поэтому символический мир ислама и ценности народной культуры, воплощенные в почитании святых мест / могил предков, культе мученичества, бытовании института оплакивания покойников и продолжительном трауре, находят свое отражение не только в повседневной жизни, но и в иранском кинематографе. В свою очередь, израильские режиссеры неизменно обращаются к истории арабо-израильского противостояния. Израиль удивительной красоты страна, в которой все, казалось бы, отвечает духу киногении. Однако режиссеры предпочитают скудную обстановку военных лагерей, линий обстрела и военных баз. Разумеется, появляются и более тонкие вариации сюжетов из жизни людей среди врагов и оружия, решенные по модели жанровых схем черной комедии или драмы с неожиданной развязкой, но на фестивальном рынке они встречаются значительно реже. На фоне непримиримой политической вражды между Ираном и Израилем особого внимания заслуживает документальная работа одного из ведущих иранских режиссеров Мохсена Махмальбафа «Садовник» (2012). В кинокартине устами известного кинодеятеля и его молодого сына проговаривается полифония идейных устремлений современных иранцев. Сам М. Махмальбаф на заре творческой карьеры представлял радикальное крыло в борьбе за победу божественного закона над светским. Сегодня, в зрелом возрасте, режиссер приехал в сады бахаи, раскинувшиеся на горе Кармель в городе Хайфе, чтобы попытаться найти ответы на свои самые сокровенные вопросы о войне и мире среди представителей разных этносов и конфессий. Анализ видеоисточников и сопутствующей литературы показывает, что кинематограф выступает как проводник традиций страны и переносит кинематографическими средствами ее элементы на киноэкраны, влияя на аудиовизуальный ряд, жанры и содержание иранских и израильских фильмов. В то же время 72 кинематограф действует как мощный ресурс пропаганды и образовательной работы среди самого населения обеих стран, являясь деятельным соучастником коммуникации в создании национальных и этнических клише, стереотипов поведения и нравственной шкалы ценностей граждан иранского и израильского обществ. В докладе будут продемонстрированы механизмы работы кинематографа как соавтора конструирования реальности в двух странах Востока. На примере конкретных фильмов будет показана локальность и одновременно транснациональность кинематографического процесса посредством анализа фестивального промоушена и постфестивальной системы проката. Кино сохраняет память отдельных людей и целых народов о былом и вместе с тем способно искажать и способствовать забвению. Таким образом, экранное искусство оказывается в числе тех явлений, которые имеют власть над прошлым, а соответственно и над нашим будущим. 73 А. А. Кирзюк (Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург) Г. В. Кузовкин (НИПЦ «Мемориал», Москва) «…Говорят, что скоро все позапрещают…». Слухи послесталинской эпохи (1953–1987): идея справочника и материалы к словнику Возможно, слухи – самый древний способ неформальной массовой коммуникации, который дожил до наших дней. Эта коммуникативная практика привлекает исследователей как «особый способ записи и передачи культурных значений» (Б. Дубин), позволяющий реконструировать систему коллективных представлений общества. Не меньший интерес представляют образующие молву механизмы сгущения мнений и способы их трансляции. Во всяком случае, в начальной стадии воплощения нашей идеи, четко разграничивать контент и его информационную среду, на наш взгляд, и затруднительно, и преждевременно1. В гуманитарных науках признание ценности слухов как исторического источника – уже свершившийся факт. Свойство молвы аккумулировать в себе и воспроизводить мифологемы и стереотипы общественного сознания делает ее неотъемлемой частью культурной памяти народа. Трудно представим социум, в котором слухи отсутствовали бы полностью. При этом информационный уклад «закрытого» общества создает, как известно, особенно благоприятные условия для их формирования и распространения. Также питательной средой для активного размножения толков становятся экстремальные и пограничные ситуации. Естественно поэтому, что работ о слухах, ходивших во времена революций, голода, коллективизации и войн, значительно больше, чем исследований, выполненных на материале «спокойных» эпох (см., например [Слухи 2011]). Позднесоветский период, прошедший без глобальных социальных потрясений, еще не становился, насколько нам известно, предметом специфического интереса руморологии. Пожалуй, наиболее близки к нашему замыслу работы В. Козлова и О. Эйдельман (см., например [Крамола 2005]), где много внимания уделено народному инакомыслию в послесталинском СССР. Почти в каждой работе о слухах содержатся попытки создать типологию, – явный признак того, что авторы ощущают потребность в систематизации данСошлемся на мнение Бориса Дубина: «распространяемые слухами мнения и оценки сами представляют собой <…> проекцию системы массовых коммуникаций данного общества» [Дубин 2001: 79]. 1 74 ных. Испытанным способом такой систематизации является составление справочника. Мы решили предложить научному сообществу сделать этот шаг и начать составление Регистра или Каталога слухов послесталинской эпохи. Насколько нам известно, такой справочник возникнет впервые в отечественной традиции (предполагаем, что и в зарубежной тоже), во всяком случае, для позднесоветского периода об этом можно говорить без всяких сомнений2. В 2011 г. созвучную идею высказала Е. Осетрова, предположив возможность создания «антологии слухов в российской и мировой истории»3. Наш выбор пошаговой стратегии продиктован трезвой оценкой собственных сил. Более того, мы открыты к взаимодействию и рассматриваем этот доклад как приглашение участвовать в создании справочника. Не пытаясь охватить сразу весь послесталинский период, мы решили начать с эпохи застоя. Словник слухов этого времени станет стартовым элементом будущего регистра. Источником формирования словника послужит знаменитая «Хроника текущих событий». Самиздатский бюллетень, выходивший с 1968 по 1983 г., ныне – один из ключевых источников по истории неофициальных общественных движений и политического контроля в эпоху застоя. Работа над научным изданием «Хроники» ведется в «Мемориале» уже несколько лет (см. [Кузовкин 2012]), и она позволила раскрыть новые грани источниковой ценности этого памятника. Было еще одно соображение, повлиявшее на наш выбор: среди письменных источников по истории слухов ХХ в. самиздат еще не оказывался в фокусе исследовательского внимания4. Изучение репортажей «Хроники» в поисках упоминаний о молве и первые подступы к формированию словника привели нас к убеждению, что придется создавать специальный инструментарий. Результаты труда над его проектированием мы и хотим представить в докладе. Единицей регистрации (мы ориентировались на опыт М. Мельниченко [Мельниченко 2014: 70]) выбран сюжет; сформировать банк сюжетов еще предстоит. На данный момент выявлены упоминания о слухах в «Хронике», создана первая итерация цитат, идет ее обработка. Впрочем, сам процесс извлечения данных о слухах из репортажей бюллетеня оказался не такой уж простой зада- Мы говорим, разумеется, только об открытых исследовательских публикациях. Она заметила, что количество иллюстративного материала, собранного на сегодняшний день в литературе о слухах, позволяет начать работу по их каталогизации [Осетрова 2011: 69]. 4 Возможно, более детальное знакомство с историографией темы уточнит эту гипотезу. 2 3 75 чей. Довольно быстро стало понятно, что имеет место дефицит сведений для воссоздания сюжетной канвы5. Гораздо легче шло общение с респондентами, которые сообщили нам около двух десятков свидетельств о толках времен застоя. Но эти блиц-опросы, несмотря на всю их привлекательность, рассматриваются нами как факультативные и вынесены за рамки этого доклада. Письменный источник, в отличие от респондента, не может ничего сам прокомментировать и уточнить, но мы рассматривали эту «молчаливость» как аргумент в его пользу. Итак, слухи встречаются в 34 выпусках «Хроники», с 1968 по 1981 г., всего выявлено 60 упоминаний. Поиск велся по электронной рукописи, в поисковую форму вводились слова «слух» и «говорят». Поисковый набор будет расширен за счет синонимов: «молва», «толки», «сплетни» и др. В ряде случаев формула «говорят» выглядит как отказ от ответственности за достоверность информации. В первых номерах «Хроники» она соседствует с оборотом «по непроверенным слухам». Поскольку в дальнейшем обе эти модели встречаются реже, можно предположить, что их использование связано с манифестацией одной из центральных стилистических установок редакции «Хроники» – стремления к безупречной точности. Для обработки полученного массива и результатов будущих изысканий, на наш взгляд, необходима база данных. Мы начали ее проектировать. Сейчас в эскизе карточки описания слуха уже более десяти полей, включая поле для маркеров, которые предложены в уже существующих классификациях. Полагаем, что список полей6 не окончательный. Несколько слов о маркерах. В теоретической литературе предлагаются различные принципы классификации слухов – по информационной характеристике, по происхождению, по масштабу охватываемых событий и т.д. Накопление этих данных в специальном поле позволит получить представление об адекватности и эффективности имеющихся типологий. Слух часто определяется как передача эмоционально значимых для аудитории сведений (см., например [Назаретян 1997), поэтому нас привлекла классификация Р. Кнаппа, который предложил делить слухи по признаку отражаемых/вызываемых ими эмоциональных состояний на «слухи-желания» В нашем рабочем сленге даже появились такие обозначения как слухи с «нулевым» и гипотетическим сюжетом. 6 Список полей: порядковый номер сюжета, описание сюжета, источник(и) данных о сюжете, тема, атрибуты, дата фиксации, место фиксации, ареал распространения, статус ареала, распространители, носители, аудитория, маркеры. 5 76 (выражающие надежды аудитории), «слухи-пугала» (фиксирующие ее страхи) и «слухи-разделители» (направленные на дискредитацию человека/группы) (см. [Knapp 1944; Симонян 2010]). Обращение к типологии Кнаппа во многом предопределено тематической спецификой «Хроники». В массиве репортажей бюллетеня если не доминирует, то очень весомое место занимает повествование о преследованиях и репрессиях. Издавна в репрессивных технологиях важную роль играет дискредитация оппонента, которая ведется как по официальным, так и по неофициальным каналам. «Хроника» отмечала как публикации в советских СМИ, «разоблачающие» инакомыслящих, так и дискредитирующие слухи. Бюллетень систематически выполнял функцию обезвреживания подобных кривотолков, демонстрировал их сфабрикованность. «Хроника» зафиксировала и другие манипуляции власти с молвой. Слухами объявлялась в официальных СМИ информация, которую обнародовали общественные активисты. В других случаях официальные СМИ экстренно опровергали слухи (как, например, во время волнений в Литовской ССР в 1972 г.). Приведем предварительные подсчеты. Количество упоминаний о естественно появившихся и искусственно созданных слухах составляет соответственно 31 и 297. Подсчеты в рамках эмоциональной классификации выявили ничтожно малое число «слухов-желаний» (4) и довольно большое «пугал» (20) и «разделителей» (25). «Слухом-фаворитом» (лидером по количеству упоминаний) стал искусственно созданный слух-разделитель, намеренно распространяемый в локальном пространстве (населенный пункт, лагерь). Персонаж такого сюжета наделяется атрибутами преступника (причастность к убийствам, шпионажу, тайник с оружием, рация, валюта и т.п.). Полученные данные уточняют возможности «Хроники» как источника по истории фольклора позднесоветского общества. На ее страницах не оказалось ни одного популярного в те годы (да и вообще влиятельного в репертуаре слухов) «большого» конспирологического сюжета. Не нашлось и «слухов-сенсаций», которые заполняют ныне страницы желтой прессы. В бюллетене проступили две основные группы упоминаний о слухах. К одной из них можно отнести сведения, у которых нет независимых подтверждений или источники которых Подсчеты выполнены А. Кирзюк. Подчеркнем, что все цифры носят предварительный характер и выполнены по 1-й итерации корпуса цитат. Следующие итерации, разумеется, внесут коррективы, впрочем, можно предположить, что это будет именно коррекция, а не кардинальный пересмотр. 7 77 нельзя раскрывать. Другая (доминирующая) представляет информационные манипуляции власти с целью дискредитации инакомыслящих. Хотя «Хронику» еще никто не рассматривал под таким углом зрения, для нас это был все же побочный результат. Главным итогом предпроектной фазы исследования можно считать то, что идея справочника стала обретать реальные очертания. Нам удалось подготовить материалы к составлению словника, начать проектирование базы данных для работы над ним. Представляя результаты нашей работы, мы надеемся на экспертные оценки со стороны научного сообщества, прежде всего профессиональных фольклористов. С удовольствием приглашаем к взаимодействию всех заинтересованных коллег и надеемся, что объедение усилий позволит создать качественный и полезный справочник. __________ Литература Дубин 2001 – Дубин Б. В. Речь, слух, рассказ как трансформации устного в современной культуре // Дубин Б. В. Слово – письмо – литература: Очерки по социологии современной культуры. М., 2001. Крамола 2005 – Крамола: Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953– 1982 гг. Рассекреченные документы Верховного суда и Прокуратуры СССР / Под ред. В. Козлова и С. Мироненко, отв. сост. О. Эдельман. М., 2005. Кузовкин 2012 – Кузовкин Г. В. Научное издание «Хроники текущих событий» и новые возможности для изучения Самиздата // Acta Samizdatica / Записки о Самиздате: Альманах: Пилот. вып. М., 2012. С. 35–45. Назаретян 1997 – Назаретян А. Психология массового стихийного поведения. М., 1997. Мельниченко 2014 – Мельниченко М. Советский анекдот: Указатель сюжетов. М., 2014. Осетрова 2011 – Осетрова Е. Слухи в современной социокультурной среде: Историографический обзор // Антропологический форум. № 15. 2011. Симонян 2010 – Симонян Р. Психология слухов Р. Кнаппа // Слухи как специфический историко-психологический источник. СПб., 2010. Слухи 2011 – Слухи в России XIX–XX вв. Неофициальная коммуникация и «крутые повороты» российской истории: Сб. ст. / Ред. И. В. Нарский и др. Челябинск, 2011. Knapp 1944 – Knapp R. N. A Psychology of Rumor // The Public Opinion Quarterly. 1944. Vol. 8. № 1. 78 Ю. И. Ковыршина (Петрозаводская государственная консерватория (академия) им. А. К. Глазунова) Поморское чаепитие: конструирование «другого» как элемент культурной памяти Демонстрации (performances) особенностей чаепития в селах Поморского берега Белого моря представляют собой синтетические фольклорные формы, сложившиеся в середине ХХ в. на базе актуальной для традиции категории противопоставления свой/чужой1. Performances локальных практик чаепития имеют широкий круг более ранних функциональных аналогов в местной традиции и могут быть рассмотрены в комплексе разнообразных исторических сведений, фольклорных текстов и традиционных представлений жителей сел Поморского берега о нормах социального поведения, о жителе соседнего села как о «другом». 1. Традиция «культурного» чаепития к началу ХХ в. стала на Поморском берегу Белого моря развитой ритуализированной формой, которая предусматривала обязательные атрибуты, правила поведения участников и в свернутом виде содержала информацию о значимых для местных жителей культурных нормах. Наличие самовара в доме во второй половине XIX в. являлось признаком особого достатка, богатства поморской семьи; в начале ХХ в. поморы гордились качеством приобретенного на ярмарках чайного фарфора, норвежскими сладостями и др. Чаепитие выделялось местными жителями в отдельный прием пищи, чай пили через час или два после обеда (или ужина), не спеша, выпивая по нескольку чашек, принимали гостей или сами ходили в гости к соседям, вели во время чаепития пространные разговоры. Отмеченные в performances чаепития особенности поведения жителей разных поморских сел характеризуют сумлян и нюхчан как соблюдающих нормативы «культурного» чаепития (они не спешат, держат блюдце с чаем степенно, «правильно» и др.), а, например, жителей других населенных пунктов, т.е. виремчан, колежóмов и сорóчан – как нарушающих эти правила (они пьют чай стоя, разговаривают и занимаются работой во время чаепития, спешат, сдувают чай на сидящих рядом, пьют слишком горячий чай и др.). Несоответствие повеРассказы-демонстрации о различиях чаепития в Поморье записывались в селах Нюхча (от Л. М. Кичигиной и А. К. Демьянчук) и Сумский Посад (от З. В. Евшиной) Беломорского района Республики Карелия экспедициями ИЯЛИ КарНЦ РАН в 2003 г. (собиратели А. П. Конкка, В. П. Кузнецова, Ю. И. Ковыршина) и Фонда Juminkeko в 2013 г. (собиратели Я. Ниеми, П. Хутту-Хилтунен, М. Каллберг, М. Кемппинен, Я. Сеппянен). 1 79 дения во время чаепития эталону вызывало смех у жителей Поморского берега (прежде всего, у самих нюхчан и сумлян, от которых и были записаны интервью). Отчетливое выделение двух «положительных» локусов – сел Нюхча и Сумский Посад – представляется не случайным. Возможно, в данном случае имело значение своеобразное соревнование сел (продолжающееся отчасти и сегодня) за статус самого богатого и старинного, с лучшими песнями, традициями, костюмами, «настоящего» поморского села на Поморском берегу. По сравнению с соседними Вирмой, Сухим и Шижней, села Нюхча и Сумский Посад крупнее, а Нюхча (как центр, в котором сохранились рассказы о чаепитии) располагается на значительном расстоянии от Сороки (ныне г. Беломорск), что позволяло селу оставаться «вне конкуренции» как культурному центру. Не исключено, что в противопоставлении жителей поморских сел, «позитивно» и «негативно» оцениваемых в аспекте чаепития, сыграли определенную роль и брачные контакты поморов. Все села Поморского берега были связаны взаимными брачными связями (см. [Бернштам 1978]). Однако, как свидетельствуют данные, записанные от жителей сел Поморского берега, девушки-поморки в первой половине ХХ в. выходили замуж 1) прежде всего в своем селе, 2) в крупные и богатые села (Сумский Посад, Нюхчу), 3) в села на других берегах – преимущественно Онежском. Таким образом, в performances чаепития могло выражаться своеобразное «отталкивание» поморов от сел, менее «престижных» с точки зрения брачных связей. 2. Характеристики жителей поморских сел, выделяемые в performances чаепития имеют связи с прецедентными текстами, бытовавшими в традиции, а именно с развитой системой локально-групповых прозвищ (жителей поморских сел, представителей различных фамилий в разных частях сел), прозвищными нарративами (анекдотами, преданиями, рассказами), а также фольклорными текстами различных жанров (корильными и шуточными песнями, частушками о жителях соседних сел, так называемыми географическими песнями), в которых прозвища выполняют важные семантическую и структурную функции. Как отмечает Н. В. Дранникова, бытование прозвищ «свидетельствует о речевой гомогенности сообществ <...> Система прозвищного фольклора поддерживает групповое единство» [Дранникова 2004: 279; см. также 281–283, резюме]. Система прозвищ жителей Поморского берега фиксирует прежде всего их социальные отношения. Негативные характеристики, лежащие в основе ряда прозвищ, приписывают поморам разных сел воровство, участие в осквернении церкви, неряшливость и др. Многочисленные нарративы связывают прозвища 80 со спецификой занятий жителей разных сел, особенностями расположения села (на берегу моря или в удалении от береговой линии) и хозяйственной деятельности (например, сорóчана пьют чай, занимаясь снаряжением судна). Село Сумский Посад выделяется как поселение с преимущественно положительным, высоким статусом (ср. прозвища местных жителей цари, мещане), относительно нейтрально характеризуются сухонцы (обливанцы) и виремчане (кочегары, толстогубые). Характеристики же соседних, конкурировавших в брачных контактах и на совместном промысле Нюхчи и Колежмы негативны, связаны с мотивом покушения на чужое имущество, что в условиях исторически сложившейся системы разделения территорий промысла и тоней при ограничении природных ресурсов является серьезным обвинением. 3. При возникновении локально-групповых прозвищ в Поморье оказывается важна фигура значимого, статусного внешнего наблюдателя, которому приписывают авторство прозвища. Как отмечает Н. В. Дранникова, «в роли культурных героев, дающих прозвища различным селениям, выступают цари и святые» [Дранникова 2004: 282]2. В традиции Поморского берега Белого моря происхождение прозвищ жителей с. Нюхча воры и кафтанники связывается с именем Петра I. В записанных поморских performances важен как сам факт наличия стороннего наблюдателя, оценившего когда-то поморов и породившего прецедентный текст, так и статус этого лица. Так, информанты вспоминают о финагенте А. М. Усковой, в 1960–1970-е годы посещавшей поморские села и предположительно создавшей прецедентный текст. Финагенты, собиравшие налоги с промысловиков, выступали как представители власти, от их работы и от отношения с ними зависело будущее поморов; недостача налогов или несвоевременный их сбор мог грозить судом. В Поморье часто записывались рассказы о страхе в связи с возможным судебным наказанием за отлучку с промысла, о невозможности работы в советской плановой системе с ее противоречием традиционному промысловому календарю, о недовольстве поморов бессмысленностью выполняемой ими под принуждением работы. Даже при теплых взаимоотношений с А. М. Усковой поморы скорее воспринимали ее как контролирующего и оценивающего субъекта, наделенного властью (опасной, карающей), а ее оценка (хотя бы и выраженная в насмешливом тексте, ставшем фольклорным) была важна для поморов и сохранилась в памяти. Такими героями в архангельских нарративах нередко выступают Иван Грозный, Петр I, Н. С. Хрущев и др. Ср. исследования П. Ф. Лимерова, в которых базовая модель получения имени населенного пункта от культурного героя, царя или святого раскрывается на материалах традиции коми [Лимеров 2014]. 2 81 4. В демонстрации особенностей чаепития в поморских селах значима перформативная и ситуационная составляющие, синтетический характер performances, содержащих дублирующие друг друга коды: текстовый, кинесический (жесты и мимика), визуальный и интонационно-звуковой (интонация, звукоподражание, регистр, акцентуация, скорость речи, гипертрофия речевых особенностей жителей сел). Таким образом, performances чаепития в селах Поморского берега Белого моря отразили потребность традиции обновлять и дублировать тексты, отражающие глубинные структуры традиции, репрезентирующие локальную идентичность местных жителей и значимые для традиции ценностные комплексы – представления об эталонном поведении, противопоставление жителям соседних сел, наличие внешнего оценивающего взгляда, комплекс характеристик чужого/соседа. ____________ Литература Бернштам 1978 – Бернштам Т. А. Поморы: формирование групп и система хозяйства / АН СССР; Ин-т этнографии; под ред. К. Р. Чистова. Л., 1978. Дранникова 2004 – Дранникова Н. В. Локально-групповые прозвища в традиционной культуре Русского Севера. Функциональность, жанровая система, этнопоэтика: Монография / Поморский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; отв. ред. В. М. Гацак. Архангельск, 2004. Лимеров 2014 – Лимеров П. Ф. Топонимический мотив в легендах о Стефане Пермском // V Всероссийская конференция финно-угроведов «Финно-угорские языки и культуры в социокультурном ландшафте России: Материалы. Петрозаводск, 2014. С. 279–284: [Электрон. ресурс:] http://resources.krc.karelia.ru/illh/doc/knigi_stati/mater_fin_ugr_konf.pdf И. В. Козлова (Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург) Память жанра новин и героический эпос про Путина Как известно, «советские былины» или так называемые «новины» были жанром, просуществовавшим активно около 20 лет (со второй половины 1930-х по 1950-е). В 1930-е годы о них писали, как об уникальном советском эпосе, вызванном к жизни новой героической эпохой, а их персонажей сравнивали с былинными богатырями. Но уже в конце 1940-х годов новины стали предметом оживленной дискуссии о фольклорном статусе эти произведений. В 1960-е годы 82 большинством советских исследователей новины были окончательно признаны явлением искусственным, не имеющим отношения к народной культуре. Надо отметить, что с самого своего возникновения «советские былины» хотя и складывались большей частью устно, но распространялись в печатном виде, в первую очередь, через газеты и журналы. После дискуссии 1960-х годов тексты новин окончательно исчезли из печати, и разговор о них в научной среде прекратился на 30 лет. Только в постсоветское время они стали рассматриваться исследователями как полноправный элемент культуры определенной эпохи, зафиксировавший в высоком фольклорном жанре имена вождей и героев, подвиги тружеников и события повседневности, и в какой-то мере ознаменовавший ее временные рамки. Как ни удивительно, но жанр новины неожиданно оказался востребован в 2010-е годы. Мною в настоящее время было найдено в блогах некоторое количество текстов о В. В. Путине, стилизованных под былины. Также в Интернете можно ознакомиться с современным тувинским эпическим сказанием про С. Шойгу, что тоже напоминает ситуацию 1930-х годов, когда новый эпос сочинялся на всех языках СССР. Про Путина в Интернете существует (кроме эпоса) довольно много песенпеределок и частушек. Эти жанры, как и новины, были широко распространены и в сталинское время, но песня-переделка и частушка, в том числе политического характера, постоянно существовали в советском / постсоветском пространстве. Новины же, насколько мне известно, не складывались с 1960-х до конца XX в. Удивительно, что непродуктивный эпический жанр оказался востребован в качестве модели для создания новых текстов в Новое время дважды: в эпоху социалистического строительства конца 1930-х годов и в первые десятилетия XXI в. Нам сейчас довольно хорошо известны причины возникновения «советских былин» в 1930-е годы – на возникновение былин о советских вождях был заказ государства, для выполнения которого к известным уже исполнителям традиционного эпоса в 1937 г. были командированы «литературные помощники»: то есть «продуктивность» былины была вызвана искусственно. Каковы же могут быть причины возникновения эпических текстов в наши дни? Понятно, что наличие былин о Путине в блогах вряд ли может быть опосредовано политическим заказом, но в то же время мысль о «естественном» возрождении былины в 2000-е годы кажется не менее абсурдной. У современных былин есть ряд черт, объединяющих их с советскими новинами и отличающих те и другие от традиционных былин: 1) их герои – конкрет83 ные исторические лица, живущие и действующие в современности автора и читателей; 2) тексты посвящены остроактуальным событиям политической или общественной жизни, параллельно обсуждающимся в средствах массовой информации; 3) их главный герой чаще всего – собственно первое лицо государства (Сталин для советских новин, Путин для современных); 4) в них используется поэтика нескольких фольклорных жанров (не только былины, но и песни, плача, сказки); 5) они ориентированы в первую очередь на прочтение, а не на устное исполнение; 6) все они созданы какими-либо авторами и не пропускаются через фильтр цензуры коллектива. В то же время, есть принципиальные отличия новин 2000–2010-х от новин 1930–1950-х: 1) современные «былины» пишутся в блогах, а не печатаются в средствах массовой информации или сборниках; 2) современные «былины» сочиняются всегда людьми грамотными, принадлежащими к письменной культуре, в то время как создателями «классических» новин были в первую очередь носители культуры устной; 3) ни о каком соавторстве людей разных социальных групп, характерном для ситуации 1930-х годов (крестьянин + профессиональный литератор или фольклорист) в наши дни не может быть и речи; 4) отношение создателей современных текстов к изображаемым героям и событиям часто ироническое, в то время как в советских новинах этого быть не могло. Помимо всего прочего, есть важная черта, объединяющая современные новины с традиционными былинами и противопоставляющая их новинам советского времени. Современные былины не встроены в матрицу официальной культуры и, соответственно, не проходят цензурный отбор и редакторские правки, как это было с новинами. Соответственно, они в гораздо большей степени могут быть названы фольклором, чем новины «классические». В то же время они, в отличие от традиционного фольклора, не проходят и цензуру коллектива — написать новую былину на любую тему и выложить ее в Интернет сегодня может каждый, как и любое своё стихотворение или рассказ. Сравнение былин традиционных, советских и современных дает возможность подумать о том, от чего отталкиваются авторы современных былин. По всей вероятности, такие тексты по форме создания и бытования равно далеки как от былин, так и от новин, и оказываются, по сути, наивной поэзией. Если же обратиться к содержанию былин о Путине, то становится понятно, что это не столько реконструкция новин, сколько их деконструкция, поскольку найденные тексты носят в основном (хотя не всегда) саркастический характер. 84 Остается нерешенным вопрос, почему же современные авторы всё-таки обращаются к былинной форме. Как мне кажется, одним из факторов этого может быть массовое чтение былин в современной школе, где в рамках программы по литературе в 6–7 классах изучается фольклор и в некоторых школах учителя дают ученикам задание сочинить былину. Среди былин о Путине есть былины учеников, сочиненные в рамках таких творческих заданий, хотя, конечно, обращение к столь масштабным темам в школьных былинах в целом редкость – пока мной найдено всего 2 таких текста, – и это единственные «серьезные» произведения. Большинство же былин о Путине написано взрослыми пользователями и пропитано либо иронией («Владимир Путин добывает Фанагорийские амфоры»), либо откровенным сарказмом («Былина о битве Путина с марсианами»). Возможно, авторам «высокий штиль» народной поэзии кажется самым подходящим для высмеивания гордыни первого лица государства. Неизвестно, знают ли авторы современных иронических былин о существовании былин советских. Предполагаю, что, по всей вероятности, не знают, поскольку о новинах в наши дни упоминается только в научной (редко и в научно-популярной литературе), однако фрагменты современных былин, сочетающие архаичный слог с названиями современных реалий иногда поразительно напоминают фрагменты советских новин. Например, известная как образец неудачного сочинения новины строчка М. К. Рябинина «Тут садился богатырь да в скороходный ЗИС» кажется отлично сопоставимой с сочинением современного автора «Ноги твои быстры, как “Газель” на второй скорости!». Таким образом, жанр новины, забытый на полвека, оказался актуализирован в памяти современных носителей русской культуры (главным образом в блогосфере), и, вероятно, вне всякой зависимости от их знания об этих текстах. 85 Н. Г. Комелина (Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербург) «Как за частушку посадили…»: политический фольклор в северной деревне Политическая частушка привлекала внимание фольклористов Советской России еще в 1920-е годы и была одним из «признанных» официальной наукой жанров политического фольклора. В эти годы политические частушки публиковались в сборниках пропагандистского характера [Жаров 1923, 1925; Князев 1925], песенниках и сборниках, посвященных современному фольклору [Огурцов 1922; Князев 1924] и др. Начиная с 1930-х годов, исполнение антисоветских частушек расценивалось карательными органами как антисоветская и контрреволюционная деятельность, подобные факты фиксировались в доносах и сводках НКВД. Обратившись к документам, можно понять, в какой ситуации могли исполняться политические частушки: 1931 г.: «Под влиянием разлагающей агитации а/с учительства ученики пишут и распространяют среди остальной части учеников а/с частушки, распевают их и вывешивают на стенах» [СД 2003: 642]. 1936 г.: «Юръевецкий район. В колхозе «Красный льновод» ликвидирована группа антисоветски настроенной молодежи. Арестованы Балахонов А. В., Отроков Е. М. и Аникин А. В. Одной из форм контрреволюционной деятельности этой группы было распевание среди колхозников контрреволюционных частушек, дискредитирующих вождей партии и правительства. Следствием установлено, что такого рода контрреволюционные частушки Балахонов, Отроков и Аникин распевали в колхозе во время работы на льно-пункте, а также и в бараках среди лесорубов» [ТСД 2002: 898]. Во всех перечисленных случаях исполнение антисоветских частушек было публичным, будь то школа, вокзал или редакция газеты. А. С. Архипова и С. Ю. Неклюдов приводят статистические данные по Татарской АССР о наказаниях за исполнение антисоветского фольклора и на их основе приходят к выводам, что «(1) в первой половине 1930-х внимание уделялось скорее частушкам, а во второй половине — и анекдотам, и частушкам; (2) количество дел за анекдоты и частушки после 1935 года увеличивается, а приговоры становятся все более суровыми» [Архипова, Неклюдов 2010: 93] – от двух лет заключения до высшей меры наказания. 86 В докладе будет рассмотрено несколько случаев исполнения политических частушек в крестьянской среде и ряд политических репрессий, последовавших за ними. Тексты об этом были записаны в ходе полевой работы на Зимнем берегу Белого моря от родственников осужденных и односельчан. В центре внимания будет случай, произошедший в дер. Ручьи Зимнего берега Белого моря в 1941 г. На сенокосе мужчина и женщина исполнили частушку: Шла корова на угору, Слезы капали на нос, Обманул товарищ Сталин, Не пойду больше в колхоз. Женщине за исполнение частушки дали 2 года, мужчина же был репрессирован на 10 лет и на родину не вернулся. В мемуарах, датированных 1990 –ми годами, сын осужденного говорит о том, что отец был обвинен не только и не столько в исполнении частушки, сколько в критике действий Советского правительства: Отца репрессировали (забрали) с 3 февраля на 4–е 1941 года за то, что он был недоволен войной с финнами 1939–1940 г<одов> (говорил об этом на Инцах (кустарка) во время зверобойки) и другими недостатками в нашем руководстве, знал и частушку, которую слышал в Мурманске (но не пел), а враги и завистники у него были и главный из них <…> написал всю чепуху на отца, за то, что отец не дал ему хлеба (на Инцах). В дневниковой записи называется имя человека, написавшего донос. С сыном репрессированного в 1990-е годы беседовал журналист, он изучил уголовное дело в архиве Архангельска. Газетный репортаж, написанный им, был озаглавлен «Обманул товарищ Сталин…», и в нем цитируется частушка и материалы следственного дела, согласно которому: «обвиняемый <…> в июле месяце 1938 г. среди колхозников пел цинично оскорбительные контрреволюционные частушки по адресу вождя ВКП(б) и колхозного строя» [Доморощенов 1992: 1]. Можно предположить, что рассказы жителей Ручьев о том, «как за частушку посадили…», а именно акцент в деле на фольклорный текст, связан с этой журналистской статьей. Кроме того, внук пострадавшего за частушку жителя Ручьев сообщил, что разговоры о репрессиях стали возможны только в 1990-е годы. Реабилитация жертв политических репрессий и появление публикаций в прессе активизирует сельский нарратив о событиях 1940-х годов только в 1990-е 87 годы. Вероятно, что 1940–1980-е годы — скрытый период бытования и / или существования знания о политических репрессиях и запрещенном фольклоре. В крестьянских политических нарративах, отнесенных к советскому времени, можно отметить следующие черты: 1. Память о том, кто кого раскулачивал и кто на кого доносил жива в поморской деревне в силу низкого уровня миграции населения. Эти нарративы помогают понять социальные связи и описать конфликтные ситуации. Нарративы делятся на две группы: рассказы «своих» и «чужих» (родственников (пострадавших) и наблюдателей). 2. Многие из опрошенных могли сказать, за какую именно частушку посадили, произнести ее. В других случаях, нарративы позволяют понять, когда и где мог бытовать политический фольклор в крестьянской среде. 3. Рассказ о политических репрессиях часто сопутствует сообщению об истории деревни, семьи и, таким образом, отражает локальную идентичность сообщества или семьи. ________________ Литература Архипова, Неклюдов 2010 – Архипова А. С., Неклюдов С. Ю. Фольклор и власть в закрытом обществе // Новое литературное обозрение. 2010. № 101. Доморощенов 1992 – Доморощенов С. Низкий поклон. Сборник очерков о мезенцах и пинежанах, жертвах сталинских репрессий. Архангельск, 1992. Жаров 1925 – Красная гармошка. Деревенские политчастушки. Составил А. Жаров. 2-е изд. М., 1925. Жаров 1923 – Красная тальянка. Избранные деревенские частушки. Составил А. Жаров. М., 1923. Князев 1924 – Князев Василий. Современные частушки 1917–1922. М.-Пг., 1924. Князев 1925 – Князев Василий. Частушки красноармейские и о красной армии. М., 1925. Огурцов 1922 – Огурцов Серафим. Частушки (Иваново-Вознесенского края) // Красная новь. 1922. № 4 (8). СД 2003 – Советская деревня глазами ОГПУ-НКВД. Т. 3. 1930–1934. Кн. 1. 1930– 1931. Документы и материалы. М., 2003. ТСД 2002 — Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы. Т. 4. 1934–1936. М., 2002. 88 С. Ю. Королёва (Пермский государственный национальный исследовательский университет) Судьбы людские: большая, малая и личная история в «наивном» поэтическом сборнике Е. Е. Зверевой Письменная фиксация различного рода нарративов (бытовых и автобиографических рассказов, семейных историй и проч.), отражающих опыт старшего поколения, становится сегодня массовым явлением. Подобные тексты, зачастую имеющие «наивный» характер, генерируются и записываются теми людьми, кто посчитал свой жизненный опыт достаточно репрезентативным и ценным, чтоб передать его другим. В некоторых случаях запись осуществляется кем-то из окружения рассказчика: родственниками (с целью сохранить этот опыт как часть семейной истории), библиотекарями, учителями, краеведами («для истории» как таковой). Осмысление нарративов «простых» людей как социально значимых сообщений, достойных стать частью культурной памяти, может считаться одной из тенденций современной социокультурной ситуации в России. Заметить эту тенденцию позволяет активное издание «наивной» мемуаристики, стихотворных и прозаических автобиографий и родословий в виде печатных книг (за счет автора, при поддержке родственников, соседей, знакомых предпринимателей, местной администрации). Очевидно, что для традиционно ориентированного сознания книга остается наиболее авторитетной формой презентации личного и коллективного опыта, превращает рукописные тексты в «тексты культуры». К числу подобных изданий относится стихотворный сборник «Судьбы людские», написанный и изданный пермской пенсионеркой Екатериной Егоровной Зверевой (Пермь, 2010). Даже с учетом уже известного многообразия текстов «наивной» литературы, книга эта представляется весьма примечательной по целому ряду параметров: объем (300 стр. печатного текста и фотографий), полижанровость (цикл стихотворений, конструирующих личную биографию; поэтическая родословная; графически оформленные элементы генеалогического древа; прозаическое изложение семейной истории; семейный фотоальбом); степень подробности и многообразие представленного жизненного опыта. Особый интерес вызывает проявившийся здесь способ конструирования истории в разных ее масштабах: личном (автобиография, судьба семьи), локальном (события местного уровня) и «большом» (события, касающиеся 89 страны в целом). На материале разнообразной «наивной» словесности исследователи уже выявили, что представление о прошлом строится тут «по принципу эгоцентричности», при котором в центре происходившего оказывается личность рассказчика и судьба его ближайшего окружения, а также «по принципу деиерархичности», при котором события большого исторического масштаба уравниваются в сознании говорящего с событиями его личной жизни [Левкиевская 2010]. По-видимому, выявленная закономерность является типологической чертой историзма «наивной» литературы. Появляется она и в поэтическом сборнике Е. Е. Зверевой, где разномасштабные события оказываются «встроенными» в повествование о собственной судьбе. Представляет интерес отбор автором тех фактов и воспоминаний, которые воспринимаются ею как значимые для социума сообщения. В стихотворениях о военном детстве лейтмотивом становятся упоминания о бытовых тяготах и постоянной нехватке еды: С утра поесть мы все просили: И братья, стриженые под овец, И мы, дистрофики полуживые, Живот большой, а ножки тонки, И тонки наши голоса. А в огороде ни соринки, И съедена вся лебеда [Зверева 2010: 17]1. Есть хотелось нам всегда, – констатирует автор (упоминания о том, чем именно приходилось питаться, встречаются многократно). Однако драматичные ситуации имели и другие причины. Несколько стихотворений повествуют о бытовых несчастных случаях, которые заканчивались серьезной травмой (ожоги, укусы собаки и проч.): Вдруг все затмило огнём-полымём, / Горящим факелом стала я (с. 9). Судя по количеству упоминаний, в семье были нередки телесные наказания детей: Меня в детстве били / И вицей лупили. / Орала до одури я, / Теперь такая большеротая (с. 38). Попытки повзрослевшего автора описать подобные воспоминания с юмором не вполне убедительны и сводятся к самоиронии. В целом воплощенный в стихотворениях Е. Е. Зверевой детский опыт можно охарактеризовать как травматичный (на преобладание среди русских «наивных» крестьянских автобиографий «травматических нарративов» указывает Е. Е. Левкиевская). 1 Далее все цитаты приводятся по этому изданию с указанием страниц. 90 Личная история взросления выстраивается в этой «наивной» автобиографии как последовательное включение в различные коллективы. Е. Зверева подробно описывает женскую школу-семилетку (иногда учились в третью смену; детям из бедных семей разово выдавали бесплатную обувь), затем – ШРМ, куда перешла, т.к. не могла платить за обучение в старших классах. Учебные коллективы «перемежаются» трудовыми: первую работу санитарки сменяет коммерческий конторщик, / Потом дистанция пути, / потом работа лаборантом, / Потом сельхоз встал на пути (с. 60). После сельхозинститута Е. Зверева становится агрохимиком. В ее наивно-поэтическом повествовании личное зачастую неотделимо от общественного: в тексты включаются обширные списки различных имен, рассказы о судьбах одноклассников, однокурсников, преподавателей, коллег; с теплотой и ностальгией описываются совместные праздники. Индивидуальная судьба «расширяется» за счет рассказов об истории семьи. Отдельное стихотворение посвящено судьбе отца (воевал в I-ую Мировую, видел императора, был в австрийском плену, потерял первую жену) и его знакомству с матерью (каталась на масленицу в нарядной шали, и он посватался). Примечательно, что автобиографический цикл открывает стихотворение о малой родине Е. Зверевой и ее родителей – не существующей ныне деревне Белая Юрлинского р-на Пермского края (упоминается местное предание, что юрлинские села и деревни основаны стрельцами, сосланными Петром I). Переезды семьи способствуют тому, что в поле зрения автора попадают различные части пригорода Перми (теперь – городские микрорайоны): Кислотный, Январский, Заозерье и др., – а также истории соседских семей. Наконец, работа агрохимика позволяет включить в пространство, освоенное автором (в т.ч. поэтически), ряд районов Пермского края. Образ советской эпохи и «типичного» советского человека, складывающийся в «наивных» стихах Е. Зверевой, оказывается более интересным, сложным и объемным, благодаря туристическому опыту автора. С обилием подробностей – иногда юмористических – описаны поездки юных «уральских провинциалок» в Москву, Ленинград, Таллинн; в ярких красках описаны изобильные «восточные базары» Ташкента и Самарканда, путешествие с мужем в Казахстан. «Наивные» стихотворения Е. Зверевой воплощают также опыт «советского интуриста» (Чехословакия, ГДР, Болгария), характерной чертой которого становится «инструктаж» в КГБ и посещение магазинов вперемежку с культурными достопримечательностями (В магазинах красо91 та, разбегаются глаза», с. 174; Девчата джинсы накупили, / А в день отъезда на себя все натянули. / На фоне импортных машин снялись..., с. 184) На протяжении всего наивно-поэтического повествования, зачастую в пределах одного текста, автор сопрягает различные пласты истории: «большой» (коллективизация, война, репрессии, хрущёвская оттепель, распад Советского Союза), «малой» (жизнь уральского города), семейной (судьбы родственников) и личной. Определенная клишированность оценок и описаний (отражающих, в частности, идеологию и риторику Перестройки) сочетается с изложением любопытных социально-бытовых подробностей, которые игнорировались официальной советской культурой. В целом автобиографический цикл Е. Зверевой не сводится ни к набору идеологем, ни к «травматическому нарративу», оказываясь значительно шире – возможно, благодаря таким индивидуальным особенностям автора, как оптимизм, юмор, культивируемый интерес к жизни. _________________ Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ, проект №14-14-59009а/У «Наивная литература в современной региональной культуре Прикамья». Литература Зверева 2010 – Зверева Е. Судьбы людские. Пермь, 2010. Левкиевская 2010 – Левкиевская Е.Е. «Наивное» членение исторического времени в крестьянских автобиографических текстах // «Маргиналии–2010: границы культуры и текста»: Тезисы Междунар. конф. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://uni-persona.srcc.msu.su/site/conf/marginalii-2010/thesis.htm А. В. Корчинский (Российский государственный гуманитарный университет, Москва) Конструирование памяти о героях в русских революционных сообществах второй половины XIX века: фольклорные и литературные элементы В 1870–1880-е годы в кругах русской радикальной интеллигенции стали возникать новые формы сообществ, отличные как от «обществ» декабристского типа, так и от «кружков» 1840–1860-х годов [Brower 1975; Gleason 1980; Confino 1990]. 92 Способы коммеморации, практиковавшиеся в этих сообществах, выполняли два вида функций. В синхронии они не только играли роль нарративов солидарности и определяли идентичность членов группы, но и должны были способствовать формированию определенного рода морали и кодекса поведения [Ицкович 2011], предполагающего готовность к радикальному действию и самопожертвованию. В диахронии они должны были служить воспроизводству сложившейся идентичности и революционного этоса, поддерживать память поколений внутри коллектива и втягивать в ее орбиту новых участников. И действительно, если «кружки» 1860-х годов не создали эффективных механизмов такого воспроизводства, то модель сообществ 1870-х годов оказалась чрезвычайно устойчивой. На ее основе строились революционные группировки в 1880-е (после событий 1 марта 1881 г.) и практики самоопределения интеллигенции в 1890-е годы. Затем эта модель была отчасти реанимирована эсерами уже в новом столетии. В основе этой модели лежат специфические формы коллективной памяти – памяти о героях, структура которых опирается сразу на несколько жанрово-дискурсивных традиций: фольклорную, библейскую и литературную. Мифологический характер героики русского революционного «подполья» этих лет уже анализировался историками [Могильнер 1999], однако культурный генезис этой мифологии и, в особенности, механизм конструирования и воспроизводства коллективной памяти остаются не вполне ясными. В поэтических произведениях, романах, биографиях революционеров, эго-документах и устных высказываниях оказываются востребованными фольклорные образы героев (например, былинных богатырей) и античная и средневековая литературная героика. Однако героический субстрат не определяет дискурсивный материал текстов, меморизирующих фигуры революционеров-героев. В нарративах радикальных сообществ отчетливо выделяется еще два дискурсивных слоя, восходящих, с одной стороны, к мартирологической и агиографической традиции, а с другой стороны, к сюжетному мотиву возмездия, праведного мщения. Совмещение фигур героя и мученика, мученика и мстителя сообщает не только своеобразие, но и крайнюю парадоксальность образам революционеров-героев, циркулирующих в дискурсивной продукции радикальных движений 1870–80-х годов и определяющих коммеморативную коммуникацию. Огромную роль играют также механизмы производства и воспроизводства культурной травмы в коллективной памяти сообществ [Весслинг 2005]. 93 ____________ Литература Brower 1975 – Brower D. Training the Nihilists. Education and Radicalism in Tsarist Russia. Ithaca-London, 1975. Confino 1990 – Confino M. Rеvolte juvеnile et contre-culture: les nihilistes russes des “annеes 60’ // Cahiers du monde russe et soviеtique. Vol. XXXI (4). 1990. Gleason 1980 – Gleason A. Young Russia: The Genesis of Russian Radicalism in the 1960's. New York, 1980. Весслинг 2005 – Весслинг Р. Смерть Надсона как гибель Пушкина: «образцовая травма» и канонизация поэта «больного поколения» // Новое литературное обозрение. 2005. № 75. Ицкович 2011 – Ицкович М. Нигилизм в России 1860–х годов как социокультурное явление. Автореферат... канд. ист. н. Самара, 2011. Могильнер 1999 – Могильнер М. Мифология «подпольного человека»: радикальный микрокосм в России начала XX века как предмет семиотического анализа. М., 1999. Д. Ф. Мищенко (Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург / LLACAN CNRS, Париж) Мифические застолья и бабушкины рецепты: пища в культурной памяти Каждый по опыту знает, насколько прочно запоминаются запах и вкус. Казалось бы, давно забытый запах или вкус, который мы неожиданно ощутили, может восстановить в нашей памяти всю ситуацию, связанную с ним. В этом отношении еда является очень хорошим аккумулятором воспоминаний, поскольку она задействует все органы чувств – не только вкус и обоняние, но и зрение, осязание и даже слух (вспомните, «как упоительны в России вечера», когда в одном ряду оказываются «и вальсы Шуберта, и хруст французской булки»). Кроме того, пища всегда воспринимается в контексте ситуации ее употребления, а значит, к воспоминанию о самой еде добавляются воспоминания о пространстве, людях, разговорах… Но случаями, когда физический опыт становится катализатором воспоминания, взаимосвязь пищи и памяти не исчерпывается. Пища сама может становиться объектом воспоминания, и в этом случае определенное событие или целый период своей жизни мы можем восстанавливать через воспоминание о еде – о блюде или о трапезе. При этом пища может даже не быть неотъемлемой частью того события, в мысленный образ которого она 94 проникает. Неудивительно, что рассказ о детском садике многие начнут с жалобы на манную кашу с комочками, которой там ежедневно кормили, – удивительно, что и события, в которые еда оказалась вовлечена более или менее случайно, тоже могут реконструироваться через образ пищи. Так, один мой старший друг свой рассказ о гибели Цоя – важном событии в его жизни – неизменно начинал с упоминания о том, как он пил пиво перед телевизором, когда сообщили об автокатастрофе, в которой погиб музыкант. Как бы пафосно это ни звучало, но очевидно, что эта бутылка пива оказалась связана в памяти моего знакомого с горечью потери, стала символом тщетности повседневной жизни в противопоставлении судьбе. Наблюдение подобных фактов, демонстрирующих способность человека вспоминать событие через его связь с пищей, определило появление отдельного направления в культурной антропологии, посвященного изучению взаимосвязи пищи и памяти. Первопроходцем в этой области принято считать Дэвида Саттона, автора книги «Remembrance of Repasts: An Anthropology of Food and Memory» [Sutton 2001]. Саттон заметил, что его информанты – жители греческого острова Калимнос – часто вспоминают события далекого прошлого через еду: например, рассказывают об абрикосах, которые они ели, обследуя заброшенную синагогу во время нацистской оккупации. По-видимому, фактором, делающим возможным подобную связь, является эмоциональная нагруженность пищевого опыта и переживания того или иного события. Слияние эмоционального опыта делает возможной замену знака: вспоминать пищу и вспоминать событие, которому она сопутствовала, становится одним и тем же, когда за ними стоит одно переживание. С другой стороны, воспоминание, связанное с едой, может стать защитным механизмом подмены, когда переживание пищевого опыта вытесняет в памяти человека переживание негативного события. В определенном смысле вспоминать о пище вместо того, чтобы вспоминать о событии, – то же самое, что «заедать» депрессию. Многочисленные примеры обеих функций воспоминания о пище фиксируются в текстах, записанных мной и моими коллегами в экспедициях от представителей малых народов России. Так, например, знакомство с русскими одна информантка-нанайка ярко описала в рассказе о том, как впервые попробовала черный хлеб: в ее памяти воедино слились необычный вкус и удивление перед незнакомой культурой. Другой весьма характерный пример – воспоминания калмыков о пережитой ими депортации в Сибирь, в которых 95 важнейшее место занимает пища; это хорошо видно по опубликованным собраниям устных текстов о депортации, ср., например: «Нас, сестёр девяти и семи лет, отец отвёл в школу, она была начальной, где давали горячий завтрак. Плохо помню, что было на уроках, но хорошо помню вкусный гороховый суп, перловый и др. Хорошо помню, как женщина-раздатчица подзывала меня знаками за добавкой» [Кардонова 2003: 141]. То же самое наблюдалось и в текстах, записанных нами в Калмыкии в 2006–2008 гг. Воспоминание о еде, однако, не остается достоянием памяти отдельного человека. Подобно тому как сам акт принятия пищи, опыт по определению индивидуальный, приобретает социальную значимость в человеческом коллективе, так и воспоминание о пище не остается сугубо личным, а превращается в элемент культурной памяти. Собственно, непосредственное переживание пищевого опыта членом коллектива для поддержания воспоминания в культурной памяти необязательно. Мои информанты-нанайцы с увлечением сообщали мне рецепты нанайской кухни, хотя позже выяснялось, что некоторые из этих блюд они ни разу в жизни не пробовали. «Процесс знаю, но… не было нужды делать»1, как (правда, по другому поводу) поясняет информантка. Знание «процесса» становится информацией, передача которой оказывается культурно значимой даже в отсутствие «нужды делать». На этом этапе память о некогда бывшем может подменяться «памятью» о никогда не бывшем. Идеализированные представления об изобилии семейных застолий, тоска по советской колбасе, которая «даже пахла иначе», относятся именно к этому разряду «воспоминаний». Прекрасным примером могут служить высказывания информантов Анны Кушковой, которые она приводит в своей статье о салате «Оливье», ср., например: «В России принято было кормить гостей. Это в отличие от других стран» [Кушкова 2005]. Таким образом, перемещаясь из сферы индивидуальной памяти в пространство коллективной памяти, воспоминание о пище превращается в стереотип, изнутри характеризующий культуру. В этом своем новом качестве пища является важнейшим средством формирования и поддержания идентичности, в первую очередь этнической. Отсылки к тому, что и как едят (или не едят) члены той или иной группы становится способом отграничить себя от других и установить более тесные связи внутри группы. Так, представители западноафриканских этносов, с которыми мне довелось работать, в качестве доказательства своей принадлежности к некоторой группе зачастую 1 Полевые материалы автора. Экспедиция в Хабаровский край, 2011 г. 96 называли продукт, который они, в отличие от прочих, употребляют или, наоборот, не употребляют в пищу. Разумеется, употребления или неупотребления некоторого продукта недостаточно для выделения этнической группы, но для подтверждения существования границ между этносами или кланами подобные различия эксплуатируются постоянно. _______________ Литература Кардонова 2003 – Кардонова К. Э. Я лишь хочу, чтобы это не забылось // Годаев П. О. (сост.). Мы – из высланных навечно: Воспоминания депортированных калмыков: 1943–1957 гг. Элиста, 2003. Кушкова 2005 – Кушкова А. В центре стола: зенит и закат салата «Оливье» // Новое литературное обозрение. № 76. 2005. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/76/ku23.html. Sutton 2001 – Sutton D. Remembrance of Repasts: An Anthropology of Food and Memory. London: Berg, 2001. Д. Н. Нефёдова (Самарская государственная академия культуры и искусств) Мифоэпические элементы в индийском кинематографе как фактор ретрансляции компонентов национальной культурной памяти В культуре конца XX – начала XXI в. произошел ряд изменений, повлекших за собой трансформацию и деформацию различных культурных явлений. Так, активная глобализация породила не только политическое и экономическое единство различных частей света, но и размывание национально-культурных границ, забывание традиционных ценностей, а также частичную или полную утрату национальной идентичности. Подобные ситуации грозят утерей культурного своеобразия отдельных обществ и нивелированием ряда характеристик, свойственных современной картине мира. Противодействию подобным явлениям во многом способствует укрепление и ретрансляция компонентов культурной памяти, механизмам чего отвечает, в том числе, и область искусства. Кинематограф, как один из самых современных видов искусства, не только подвергается воздействию со стороны последних технических новшеств, но и откликается на изменения культурных ситуаций, влияя на зрительскую аудиторию с целью формирования различных реакций. Одним из результатов воздей97 ствия кинематографа на зрителя может быть формирование правильного, с точки зрения имеющейся ситуации, восприятия культурных традиций, мифологических образов, религиозно-церемониальных действий и т.д. Наиболее ярким примером кинематографа, с успехом выполняющего указанную функцию, является киноиндустрия Индии (в особенности, центр кинопроизводства на севере страны, известный как Болливуд). Влияние оказывается различными способами, но наиболее интересный и своеобразный среди них – включение мифологических и эпических образов и элементов в сюжеты кинофильмов, носящих бесспорно современный характер. Мифоэпические элементы в индийском кинематографе принимают различные очертания. Нередко кинематографисты включают в киноленты образы божеств, отсылая через сюжетные линии или действия героев к их мифологическим качествам и свойствам. Так, в ряде фильмов, богиня-мать вмешивается в дела персонажей (что зрителю дают понять, в том числе, посредством кинематографических приемов, таких как приближение камеры, задержка кадра на ее лике и проч.). Ярким примером активного использования этого образа является лента «Каран и Арджун» (Karan Arjun, 1995), где благодаря молитвам женщины богине Кали (которая наряду с грозными атрибутами победительницы демонов нередко зовется индийцами Maa – мать), вновь рождаются ее погибшие сыновья и мстят врагу семьи. Кроме того, следует упомянуть фильмы «Каприз» (Anjaam, 1994), «Солдат» (Soldier, 1998) и многие другие, где образ матери не просто обожествляется, но напрямую соотносится с высшими силами. Не остаются без божественного вмешательства и дела влюбленных, которым грозит разлука или иные беды. Так, в ленте «Будешь со мной дружить?» (Mujhse Dosti Karoge!, 2002) во время молебна семейному божеству, проводимого совместно с возлюбленным, с которым она должна вскоре навсегда расстаться, на пробор героини просыпается синдур, знак замужества. Еще одним элементом мифоэпического порядка являются некоторые действия самих персонажей. Так, два брата часто ассоциируются с Рамой и Лакшманой, героями эпоса «Рамаяна», а злодей может называться Раваной. Их действия, поступки, взаимопомощь или вражда, а иногда и прямое упоминание персонажей «Рамаяны» в ассоциации с киногероями, говорит о связи, а, следовательно, и ретрансляции традиционных образов в современную действительность. Таков фильм «Я рядом с тобой» (Main Hoon Naah, 2004), где не только имена главных героев – братьев Рама и Лакшмана, но и их совместная победа над злодеем, бесспорно ассоциирующимся с демоном Раваной, указывают на 98 эпос. Кроме того, параллели с «Рамаяной» находятся в сюжетах кинолент «Подкидыш» (Gair, 1999), «Книга любви» (Prem Granth, 1996) и других. Третье связующее звено между мифологическими элементами и транслируемой кинофильмами современностью – имена персонажей. Как уже говорилось ранее, один из братьев может быть назван именем эпического персонажа. Оскорбленная и мстящая мать может носить имя Дурга, Парвати или иные имена богини-матери. Другие персонажи могут быть также наделены именами богов, героев или других мифологических персонажей и в той или иной степени воспроизводить действия своих прототипов. Из этих примеров можно сделать вывод, что мифоэпические образы в индийском кинематографе являются частым и широко используемым сюжетным приемом, применяемым создателями фильмов с целью популяризации и утверждения элементов традиционной культуры. Однако необходимо отметить, что включение соответствующих эпизодов в киноленты является хотя и явным, но достаточно ненавязчивым. Кинематографисты не отрицают положительной стороны некоторых предметов «чужой» культуры (особенно материальных), однако при этом оставляя за традиционной национальной культурой функцию духовного ориентира, главным образом, для молодого поколения индийцев, все больше тяготеющего к Западу. Данная особенность бесспорно актуальна не только ввиду наличия огромной по численности аудитории, которой необходимо объяснить, напомнить и рассказать доступным языком о ее «корнях», не вступая при этом в противоречие с реальностью, но и по причине большого количества разбросанных по миру диаспор. Такие общности, постоянно проживая в инокультурной среде, наиболее подвержены утрате национально-культурной идентичности и склонны к уходу от культуры предков к культуре глобализации. Кинематограф, следовательно, оказывает воздействие не только на современную культурную ситуацию, сохраняя традиции и ценности, существующие зачастую с древности, но и осуществляет процесс ретрансляции компонентов культурной памяти, что особенно необходимо в условиях активности глобализационных процессов. 99 А. А. Ожиганова (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва) Конструирование традиции в неоязыческой общине «Правоведи» Практика неоязычества открывает широкие возможности для религиозного и социального творчества. Одна из интереснейших неоязыческих общин – «Правоведи» – находится под г. Коломна. Эта община, или, как называют ее члены сообщества, «семейно-родовое селение» (ПМА),достаточно закрыта: посторонние люди могут попасть на праздники и другие мероприятия только по личному приглашению лидера общины Ма-Лены, причем любая фото- и видеосъемка строго запрещена.Однако, в среде славянских неоязычников община и лично Ма-Лена хорошо известны: члены общины участвуют в неоязыческих форумах, выступают на конференциях. Всего в общине проживает около 50 человек (включая детей), причем ее ядро составляют родственники Ма-Лены по женской линии: ее пожилые сестры и их взрослые дочери со своими семьями, старшие дочери Ма-Лены со своими мужьями и детьми, а также ее трое младших сыновей. Ма-Лена является авторитарным лидером: ни один вопрос в общине не решается без ее ведома. Однако основная ее деятельность состоит в формировании специфического обрядового комплекса сообщества, сочинении ритуальных текстов, песен и сказов. Члены община живут по собственному календарю, разработанному МаЛеной. Год состоит из 12 месяцев, в каждом из которых 30 дней (месяцы названы по знакам зодиака) и дополнительного месяца из четырех дней под названием Змееносец. По этому календарю в каждом году числа месяца выпадают на одни и те же дни недели. Например, Новый год (ЧислоКолоГод) наступает 1 января (1 козерога), которое всегда приходится на воскресенье. Таким образом, как считает Ма-Лена, достигается «равномерное движение времени». К числу важнейших праздников общины относятся также День Духа-Земли (13 козерога), День Матери-Земли (8 рыб), весеннее равноденствие (12 рыб), Возрождение (5 овна), Праздник Мирового Яйца Рода (1 тельца), летний солнцеворот (22 близнецов), день Воина Земли (13 рака), осеннее равноденствие (22 девы), день Матери Мира (7–8 весов), зимний солнцеворот (22 стрельца). 100 На вопрос, какую религию исповедуют жители «Правоведи», Ма-Лена отвечает: «Служим “Вечному Времени”» (ПМА). По всей видимости, это означает, что они обращаются к «вечным», т.е. традиционным обычаям. Смысл названия общины Ма-Лена объясняет следующим образом: «Право – Закон, Веди – знай, т.е. ведай… Мы не “Праведы”, не “Правоведы” и не “Веды”. Мы наРод, живущий здесь и сейчас. Мы Славящие Правь и знающие, т.е. Ведающие, именно от этого мы “Православны – ПравоВеди”» (ПМА). Ср.: «“Навь, Правь и Явь” как “три стороны бытия”, где Правь – это мир светлых богов, Навь – обитель темных божеств, а Явь – земной мир людей, являются его важнейшим концептом (впервые эта триада упоминается в Велесовой книге)» [Шиженский 2009]. Как видим, Ма-Лена вписывает свою общину в контекст русского неоязычества (заметим, что она посещает устраиваемые неоязычниками конференции, ПМА). В общине поддерживается своеобразный матриархальный уклад: знание об обрядах и целительстве передается по женской линии, соответственно, наибольшим авторитетом после Ма-Лены пользуются ее дочери. Члены общины следуют жестко предписанным гендерным ролям. Мужья работают в Коломне на стройках, женщины занимаются домашним хозяйством, детьми и целительством. Все женщины, включая самых маленьких девочек, ходят в длинных юбках и головных уборах, стилизованных под древнерусские наряды. Мужчины носят высокие сапоги, рубахи-косоворотки с пиджаками и картузы, напоминая своим обликом одевшихся в праздничную одежду фабричных рабочих начала XX в. Члены общины стремятся к многодетности: в некоторых семьях по четверо-пятеро детей. Все женщины рожают дома, в родах им помогает одна из дочерей Ма-Лены, занимающаяся также целительством. К врачам члены общины не обращаются, считается, что любые проблемы со здоровьем можно разрешить с помощью целительских познаний Ма-Лены. Как многие создатели так называемых возрожденных традиций, Ма-Лена претендует на сугубую «научность» своих языческих реконструкций, но при этом признается, что в основном «черпает информацию из космоса». Община «Правоведи» являет пример парадоксального обращения с традицией. Претендуя на воспроизведение древнеславянской религиозной системы и называя себя «русичами», члены общины фактически создают новую традициюна основе этнографических и фольклорных данных, основных мифов NewAge и, в немалой степени, – современной массовой культуры. Особые интерес представляет тот факт, что члены общины «Правоведи» реализуют сконструирован101 ную традицию в своей повседневной жизни. Они абсолютно убеждены, что являются носителями древнего тайного знания, унаследованного от далеких и могущественных предков. Школа в общине «Правоведи». Фото автора. Таким образом, в неоязычестве традиция превращается в инновацию: она вечна, но никогда не завершена окончательно; неоязычники объявляют себя продолжателями традиционных культов, исчезнувших, но продолжающих свою существование на «тонком плане». Другое ключевое понятие – род – осмысляется неоязычниками как общность, обращенная не в прошлое, а в будущее: надо вырастить «на земле», в условиях языческой общинной жизни свою линию потомков, которые и сформируют новый род. «Акцент делается уже не столько на восстановлении или возрождении некоей утраченной веры предков, сколько на определении истинного духовного пути, на творческом конструировании по сути новой религии» [Костелло 2009: 302]. _______________ Литература и сокращения Костелло 2009 – Костелло А. Современные языческие религии Евразии: крайности глобализма и антиглобализма// Религия и глобализация на просторах Евразии. М., 2009. ПМА – Полевые материал автора, община «Правоведи», 2011. Шиженский 2009 – Шиженский Р. В. «Явь, Правь и Навь» как религиозно-философские основы славянского неоязычества. 2009. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ogin.in.ua/index.php? option=com_content&view=article&id=29:l-r-&catid=3:2009-11-01-23-0824&Itemid=8 102 Н. В. Петров (Школа актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС / Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ, Москва) Каменная Зоя: слух, легенда, история «Шесть лет назад в Куйбышеве церковники пустили провокационный слух, что на оной вечеринке девушка, которой не хватило кавалера, сняла икону и танцевала с ней. За надругание над святыней бог будто бы наказал безбожницу: она окаменела и приросла к полу. Что якобы не делали атеисты: из Москвы на самолетах прилетали знаменитые профессора – ничего не помогло. Только, когда священник отслужил перед статуей молебени окропил ее “святой водой”, окаменевшая ожила…» [Свиридов 1962: 72–73]. Возникает ли сюжет об окаменевшей плясунье в середине 1950-х годов, в период относительно нестабильной и противоречивой религиозной обстановки в стране? Какие сходные тексты поддерживают его распространение? Каким образом девушка получает имя Зоя? Множество деталей этой истории проникают в сюжет довольно поздно и обрамляют его, легенда включается в список православных «чудес», тем самым «подгоняется» под определенные лекала. Сюжет становится детализированным, как мне представляется, только в конце 1990-х и переходит из разряда слухов в ранг православной легенды. Истории этого сюжета и посвящена данная работа. Можно подумать, что в начале 1956 г. действительно произошло какое-то событие, которое стало толчком для создания сюжета и поводом для рецепций во властной среде. 24 января 1956 г. в газете «Волжская коммуна» появляется фельетон «Дикий случай», где передается основной костяк истории [Кулагин 1956]. В связи с религиозными волнениями в городе созывается 13-я Куйбышевская областная партконференция, а первый секретарь ОК КПСС тов. Ефремов устраивает делегатам мощнейший разнос в связи со случившимся событием: «Да, произошло это чудо – позорное для нас, коммунистов, руководителей парторганов. Какая-то старушка шла и сказала: вот в этом доме танцевала молодежь, и одна охальница стала танцевать с иконой и окаменела» [Соколов-Митрич 2007]. Уполномоченный ЦК по делам РПЦ во время поездки в Борский район (120 километров от Куйбышева) фиксирует высказывания колхозников: «Мы точно не знаем, что там было на Чкаловской улице, но говорим об этом и сейчас, поддерживаем веру в это чудо и припугиваем этим молодежь, чтобы не ху- 103 лиганили, меньше ходили на танцы, а больше ходили в церковь» [Информационный отчет 1956]. Среди носителей фольклорной традиции эта история как в Куйбышевской области, так и за ее пределами, вероятно, имела хождение, начиная с середины 1956 г.1. Редакция журнала «Наука и религия» в начале 1960-х годов комментирует письма читателей, которые хотят знать о куйбышевских событиях: «Мне недавно пришлось встретить в нашей станице группу религиозных старушек. Одна из них, перекрестясь, рассказывала такую чушь. Якобы в Куйбышеве комсомольцы-“нехристи” решили устроить вечеринку. И вот во время танцев одной девушке не хватило пары; она взглянула на икону “святого Николая” и сказала: “Святой угодник, пойдем со мной танцевать!”. Вдруг эта девушка окаменела, как статуя неподвижная…. В таком состоянии она была несколько месяцев, потом вдруг ожила, вышла из комсомола и стала религиозной. Когда я спросил у вещуньи откуда ей все это стало известно? – она стала уверять, что кто-то получил из Куйбышева письмо, в котором “очевидец” все описывает подробно» [Наука и религия 1960: 53; см. также: Свиридов 1962]. Письмо, упоминаемое в «Науке и религии» – так называемое «Зоино житие», составленное неизвестным автором, вероятно, начало циркулировать в конце 1950-х. Содержание самого «документа» местами различается в разных копиях2, но основная фабула везде примерно одинакова: описывается, «неправильное» поведение девушки, чудо стояния, ее оживление. Наряду с письменными текстами в период с 1960 г. по 1990 г. (и позднее) ходят и устные нарративы об окаменении девушки, танцевавшей с иконой / человека, танцевавшего в церкви: «А у нас в Устреке тоже. Открыли церкву… и – старушка. Уже ны… давно уж, семисят лет ей. Пошла она первая плясать. В гармошку заиграли в клубе, и пошла она плясать. Утром не стала… на ноги. И… ию параличом разбило. Разбило сына, разбило дочку, разбило вторую, разбило третью. Только один сын оставши. Вот так»3. См. данные по Кировской области в [Шабалин 2004: 99]. См. варианты в архиве Нижегородского университета: из с. Кочетовка Сеченовского района, 1996 г. (Абашина П.И., 1912 г.р.); из д. Нориха Сеченовского района (Симонова Е.В., 1931 г.р.) – переписано из тетради Дербеневой Г.А., с. Двоеглазово Тонкинского района – на обложке тетради написано: «1964 год, г. Краснодар, Памятник Зое Великомученице» [РРПНК 2008: 236–237]. 3 Запись из архива Европейского университета в Санкт-Петербурге, ЕУ-Хвойн-99, № 32, ДОМ. См. другие тексты в [Добровольская 1997, Штырков 2012: 53–82]. Всего я нашел 21 вариант этого сюжета из Архангельской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Тверской обл. Часть из них является пересказом письма о Зоиных мучениях, другие тексты приурочивают события к определенной местности – селу, деревне. 1 2 104 В самом общем смысле этот сюжет оказывается конкретной реализацией известной нарративной схемы ‘наказание за святотатство’: человек нарушает табу, наказывается, затем исцеляется. Нарративная схема такова: ‘с преступником происходит то, что он совершил со святыней, наказывается та часть тела, которой / с помощью которой было совершено преступление’, а конкретный мотив – святотатца разбивает паралич4. Поддерживаемый, с одной стороны, письменными текстами («Зоино житие»), с другой многочисленной группой религиозных текстов о наказании святотатцев, появившихся в крестьянской культуре в качестве реакции на антирелигиозные кампании советского времени, сюжет продолжал функционировать в крестьянской и, вероятно, в городской среде, заняв свободную ячейку в этой группе фольклорных текстов. В 1990-е слава Зои выходит за пределы крестьянской и окологородской религиозной культуры. Поучительный текст о Зоином стоянии чрезвычайно популярен в православной среде: он вместе с другими свидетельствами о чудесах святых встречается в церковных сборниках начиная с начала 1990-х годов [Жоголев 19925; Стояние Зои 2000; Стояние Зои 2005; Стояние Зои 2010; Чудеса в православии 2011]. История о Зое с 1990-х годов используется журналистами, которые пытаются разобраться в деталях куйбышевского события (расследования изданий «Эксперт», «Комсомольская правда», «Русский репортер») [Варцегов 2004; Полынский 1997а; Полынский 1997b; Рябинина 2006; Соколов-Митрич 2007]. В 2009 году снимается и выходит в прокат мистическая драма «Чудо», посвященная этому событию (реж. А. Прошкин)6. В Самаре в мае 20127 года открывается памятник св. Николаю Чудотворцу. Бронзовая фигура святого под золоченым куполом поставлена в память о некотором чудесном событии, получившем название «стояние Зои» [Шепелева 2012]. В самарском храме во имя Иоанна Воина находится большая житийная икона св. Николая с клеймами, Tabu: dancing in churchyard [Thompson: C 51.1.5]. Журналист А. Жоголев, редактор газеты «Благовест», редактор интернет-портала Православной газеты «Благовест» - один из тех людей, благодаря стараниям которым «Стояние Зои» стало популярнейшим сюжетом, связанным с чудесами Св. Николая. 6 Ранее был снят документальный фильм «Стояние Зои» (авторы В. Осипов, Д. Одерусов, Ю. Изъятский и др., 2000 г.), в котором приводятся интервью жителей Самары о событиях 1956 г. 7 Собственно, памятник на Чкалова, 84 – предположительно, дом, где случилось чудо – самарский священник предлагал поставить еще в 2004 г. [РРПНК 2008: 238]. 4 5 105 нижний ряд клейм посвящен чуду стояния Зои в Куйбышеве (икона появилась в 2002 г.)8. Собственно, слух об окаменевшей девушке обрастает «достоверными» подробностями, превращается в легенду о девушке, наказанной св. Николаем за то, что она танцевала с его иконой, и затем освобожденной им же, и входит благодаря широчайшему распространению в православной литературе и медиа в список самых известных чудес советского времени9. Однако данный сюжет не рождается в 1956 г., фольклорные истоки его обнаруживаются ранее. Существует украинские тексты, записанные с 1928 по 1930 годы, про то, как руки святотатца прирастают к иконе, как каменеют замахнувшиеся на святыню (святого) большевики: «В церкви светится ночью, большевик пошел туда с винтовкой и слышит голос: “Можешь читать Евагелие?”. Большевик матерится. “Можешь прикладом стукнуть о землю?”. Стукает и уходит по колено в землю»; «Сын большевика решил проверить, обновилась ли икона. Стал расколупывать икону, а руки приросли» [УПФ: 60, 61]. В журнале «Безбожник у станка» в 1925 г. публикуется похожий текст: «И теперь, товарищи, чудес неисчислимое количество. Недавно под Москвой на станции Перово один комсомолец поснимал у себя дома иконы, взял косарь, сел на сундук и стал было колоть. Замахнулся он, и пристыл к сундуку-то. Родители и так и сяк, вся улица сбежалась, отдирать от сундука стали, не отдерут. Две роты красноармейцев вытребовали, четыре пожарных дружины из Москвы, а комсомолец как сидел на сундуке, так и сидит» [Дорофеев 1925: 15]. Другие два текста практически полностью повторяют «Стояние Зои». К стихотворению Зинаиды Гиппиус 1919 г. «А. Блоку» в качестве эпиграфа приводится легенда: «...На танцульке в Кронштадте сильно выпивший матрос, обиженный отказом барышни, сорвал икону Божьей Матери и принялся с нею выплясывать. Через час он умер. Легенда (или правда) наших дней» [Гиппиус 1996]. В 1885 г. М. Дикарев приводит свидетельства, что такие толки (о наказаВ интервью с настоятелем храма иереем Игорем Соловьевым указывается и имя иконописца: «Икону написала самарский иконописец Татьяна Михайловна Ручка, мы освятили икону в августе этого года. Мы решили написать икону с чудом о Зое, чтобы это чудо не забылось» [Белкина 2002]. 9 См. исследование этого сюжета в [Хун 2012]. В тезисах я не буду останавливаться на конспирологической теории, согласно которой слух об окаменевшей девушке был запущен в 1956 г., чтобы перекрыть набиравшую популярность историю о мужеложестве куйбышевского иеромонаха Серафима (Полоза), дискредитирующую местную церковную власть. В действительности, эта теория вполне может объяснить почти одновременное со слухами появление и распространение в околоцерковных кругах письменного текста о житии Зои и появление в письме имени Серафима. 8 106 нии Николаем Угодником, реже Богородицей, плясунов и музыкантов за кощунство над иконой) имели хождение в Воронежской и Казанской губернии [Дикарев 1886: 144]. Таким образом, сюжет об окаменевшем святотатце-плясуне, известный в России как минимум с конца XIX в., актуализируется в 1919 и 1956 годы. «Зоино стояние» 1956 г. оказывается наиболее устойчивой текстуализацией этого сюжета, поддерживающегося в 1960–1990-х годы популярной нарративной схемой о наказании святотатцев за осквернение святынь и имевшего хождение в качестве письменного текста. Вероятно, на текстовое и сюжетное оформление, популярность и тиражирование этого сюжета в фольклорной среде оказывают влияние религиозные фольклорные нарративы о наказании святотатцев; грешница получает конкретное имя: Зоя (возможно, это происходит благодаря широчайшей известности имени культурного героя советского времени Зои Космодемьянской, см. о героизации Космодемьянской в [Розенблюм 2013]). В 1990-е и 2000-е годы «Зоино стояние в Куйбышеве» фиксируется в православном и медиа дискурсе, детализируется, обретает статус православной легенды (связанной с чудесами Николая Чудотворца) и становится «фольклорным брендом» Самары, основанном на «реальных исторических событиях». ___________________ Работа выполнена в рамках НИР «Структуры и механизмы культурной памяти» ШАГИ РАНХиГС. Литература Белкина 2002 – Белкина Л. В Самаре написана житийная икона Свт. Николая с клеймами, повествующими о чуде, известном в православном мире как «Стояние Зои» // Николай Чудотворец. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nikola-ygodnik.narod.ru/Raznoe_059.html Варцегов 2004 – Варцегов Н.Танцующая с иконой богохульница Зоя окаменела // Комсомольская правда. 2004. 1 ноября. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kp.ru/daily/23394/33533/ Гиппиус 1996 – Гиппиус З. H. Опыт свободы / Подготов. текста, примеч. Н. В. Королевой. М., 1996. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://az.lib.ru/g/gippius_z_n/text_0500.shtml). Дикарев 1886 – Дикарев М. Толки народа в 1895 г. // Этнографическое обозрение. 1896. № 1. Добровольская 1997 – Добровольская В.Е. Несказочная проза о разрушении церквей // Славянская традиционная культура и современный мир. Сборник материалов научно-практической конференции. Вып. 2. М., 1997. Дорофеев 1925 – Дорофеев Н. О Боге, о чудесах и о нечистой твари // Безбожник у станка. 1925. № 7. 107 Информационный отчет 1956 – Информационный отчет. Куйбышевская обл. за первое полугодие 1956 года. 8 июля 1956 года. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1356. Л. 17. Розенблюм 2013 – Розенблюм О. Зоя Космодемьянская: эволюция «героя» как «культурного героя» в 1940-е годы // Детские чтения. 2013. № 3. РРПНК 2008 – Рукописная религиозная проза Нижегородского края: Тексты и комментарии / Сост. Ю. Шеваренкова. Нижний Новгород, 2008. Рябинина 2006 – Рябинина О. «Каменная» Зоя // Аргументы и факты. 2006. 9 августа. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gazeta.aif.ru/online/aif/1345/40_01?print Свиридов 1962 – Свиридов Н. Главное – знать людей! Атеисты за работой // Наука и религия. 1962. № 8. Соколов-Митрич 2007 – Соколов-Митрич Д. Каменная Зоя. Как скромная работница трудного завода стала великой грешницей // Русский репортер. 2007. 26 декабря. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rusrep.ru/2007/30/zoino_stoyanie Стояние Зои 2000 – Стояние Зои. Чудо святителя Николя в Самаре / Авт.-сост. А. Жоголев, Т. Трубина. Самара, 2000. Стояние Зои 2005 – Стояние Зои: чудо святителя Николая в Самаре / Сост. А. Жоголев: Рязань, 2005. Стояние Зои 2010 – Стояние Зои: чудо святителя Николая в Самаре / Сост. А. Жоголев: Рязань, 2010. УПФ 2008 – Українский полiтичний фольклор. Київ, 2008. Чудеса в православии 2011 – Чудеса в православии / Авт.-сост. Владислав Артемов. М., 2011. Шабалин 2004 – Шабалин Н. Русская Православная Церковь и Советское государство в середине сороковых – пятидесятые годы ХХ века. На материалах Кировской области. Киров, 2004. Шепелева 2012 – Шепелева А. В Самаре в честь городской легенды открыли памятник Николаю Чудотворцу // Российская газета, 22.05.2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rg.ru/2012/05/22/reg-pfo/zoja-anons.html Штырков 2012 – Штырков С.А. Предания об иноземном нашествии: крестьянский нарратив и мифология ландшафта (на материалах Северо-Восточной Новгородчины). СПб., 2012. Хун 2012 – Хун У. Содом и гоморра в Куйбышеве // Неприкосновенный запас. М., 2012. № 6 (86). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nz/2012/6/h8-pr.html#_ftnref2 Thompson – Thomplson S. Motif-Index of Folk-Literature. A Classification of Narrative Elements in Folk-Tales, Ballads, Myths, Fables, Medieval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books and Local Legends. Helsinki: Academia Scientarum Fennica. Second. ed.: 6 vols. Bloomington. Indiana University Press, 1955–1958. 108 А. Д. Попов (Крымский экономический институт, Симферополь) Войны и Мы: горизонты культурной памяти в мемориальных текстах позднего советского периода Во время работы над исследовательским проектом о туристских связях СССР и ГДР в 1950–1980-х гг. нами была выявлена интересная группа источников по интерпретации событий Второй мировой войны в советском массовом сознании послевоенного периода. Речь идет о записях в книгах отзывов, сделанных советскими гражданами во время посещения ими трех ключевых «мест памяти» Восточной Германии: 1) Национальный музей Бухенвальд (Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald), открытый в 1958 г. и являвшийся самым посещаемым из мемориализированных концентрационных лагерей не только Восточной Германии, но и всей Европы. На ментальной карте советской коллективной памяти он был точкой, наиболее ярко ассоциирующейся с практикой «фабрик смерти» – нацистскими концентрационными лагерями. 2) Мемориальный комплекс-музей на Зееловских высотах (Gedenkstätte der Befreiung auf den Seelower Höhen) в районе Франкфурта-на-Одере, который был торжественно открыт 28 декабря 1972 г. «на месте решающих боев за Берлин». Взятие Зееловских высот в коллективных представлениях советских людей являлось прологом Победы, предпоследним пунктом следования в героическом пути советской армии «На Берлин!». 3) Историко-мемориальный Зал-музей Группы советских войск в Германии (ГСВГ), открытый в 1967 г. и впоследствии переименованный в Музей истории капитуляции фашистской Германии в войне 1941–1945 годов (Берлин-Карлсхорст). Это было место, олицетворявшее победный финал войны и при этом гораздо более удобное для советских коммеморативных практик, нежели расположенный на территории ФРГ Нюрнберг. Анализ статистики посещения данных объектов в период существования ГДР показал, что среди их посетителей значительную часть составляли именно советские граждане – представители официальных делегаций, военнослужащие ГСВГ и члены их семей, организованные туристские группы. В Бухенвальде и на Зееловских высотах граждане СССР составляли не менее 20 % от общего количества посетителей, а в Карлсхорсте этот показатель превышал 40 %. В абсолютных цифрах «пиковые» ежегодные показатели посещения данных объектов 109 советскими людьми были достигнуты: для Бухенвальда – в 1985 г. (114 тыс. посетителей из СССР), для Зееловских высот – в 1980 г. (29 тыс. посетителей из СССР) и для Карлсхорста – в 1978 г. (44 тыс. посетителей из СССР)1. Согласно существовавшей традиции, многие группы посетителей после осмотра мемориальных объектов делали записи в книгах отзывов (Ehrenbuch – в Бухевальде, Gästebuch – на Зееловских высотах, Книга отзывов почетных посетителей – в Карлсхорсте). Оставление записей в книгах отзывов во многом носило ритуальный характер и имело глубокое социальное и символическое значение. Это действие осуществлялось на заключительном этапе посещения мемориального объекта и должно было подчеркнуть большую общественную значимость происходящего. Именно поэтому, например, в случае с посещением туристами, запись с формулировкой «от имени группы», «по поручению группы» обычно делал руководитель группы, как формальный лидер, или же кто-то другой из наиболее уважаемых её членов (например, единственный в группе ветеран Великой Отечественной войны). Формулировка текста записи для книги отзывов являлась очень ответственным делом и в определенном смысле служила «контрольным тестом» на правильность восприятия увиденного. С целью поиска записей, сделанных гражданами СССР, нами в 2011– 2012 гг. были обработаны все книги отзывов, которые сегодня находятся на постоянном хранении в архивах современных организаций-правопреемников указанных выше мемориальных объектов: Gedenkstätte Buchenwald, Gedenkstätte/Museum Seelower Höhen и Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst. В первых двух случаях были выявлены и просмотрены de visu книги отзывов от момента открытия объектов до окончания периода существования ГДР (1990 г.). В случае с музеем Берлин-Карлсхорст удалось обнаружить лишь книги отзывов за 1985–1990 годы. В результате были выявлены сотни записей, сделанных в разные годы посетителями из СССР. Анализ их содержания позволяет, в том числе, сделать следующие выводы: Язык мемориального дискурса. Официальным языком советского дискурса памяти был русский язык. Именно на нем было сделано подавляющее большинство записей посетителей из СССР независимо от того, какую союзную республику они представляли (за исключением одной единственной записи, сделанной на украинском языке 14 января 1975 г. группой туристов из Волынской области). Выбор русского, а не родного языка представителями националь1 Более подробную статистику со ссылкой на источники см. [Попов 2013: 158–159]. 110 ных союзных республик определялся, на наш взгляд, несколькими причинами. Во-первых, в русскоязычном варианте запись была более понятной для потенциальных читателей (членов последующих групп, сотрудников мемориала и т.д.). Во-вторых, многие используемые авторами записей слова, фразы, оценочные суждения имели стереотипный характер и были заимствованы из прочитанных или услышанных ими до этого русскоязычных текстов (материалов путеводителей, проспектов и буклетов, публикаций в прессе, художественной, научнопопулярной и учебной литературы, рассказов экскурсоводов). Темпоральная динамика. Для большинства записей характерна тесная взаимосвязь события прошлого с настоящим и будущим, причем собственно прошлое нередко занимает очень скромное место, например: Мы, группа советских людей, посетили мемориал в Бухенвальде и в наших сердцах вновь острой болью всколыхнулись страшные преступления фашизма. Нынешняя администрация США зовет опять к «крестовому походу» против коммунизма. Мы вместе с нашими друзьями из стран социалистического содружества сделаем все, чтобы сорвать преступные замыслы против светлого будущего человечества» (29 мая 1984 г.) [Ehrenbuch]. Темпоральная динамика: настоящее – прошлое – настоящее – будущее. Мы всегда будем помнить наших воинов, отдавших жизнь за Родину, и в свою очередь будем делать все, чтобы крепить мир и дружбу между народами, за то чтобы на земле никогда не было войны! (11 мая 1988 г.). [Gästebuch] Темпоральная динамика: будущее – прошлое – будущее. Характерно также, что приведенные выше записи, сделанные в разные годы и во время посещения разных мемориальных объектов (одна – в Бухенвальде, вторая – на Зееловских высотах), начинаются с местоимения «Мы». Отличительной особенностью подавляющего большинства выявленных нами русскоязычных записей являлась их принадлежность именно к коллективной, а не индивидуальной культуре памяти. Большинство изученных нами записей в книгах отзывов написаны от имени группы посетителей, на что явно указывают завершающие текст подписи (например, «делегация КПСС на Х съезде СЕПГ», «дирекция поезда дружбы из Литовской ССР», «группа туристов из г. Николаева»). Состав каждой группы в среднем включал 20–30 чел., что было обусловлено, в том числе, экскурсионной спецификой осмотра мемориальных объектов. И 111 авторы некоторых записей пытались найти некую связующую нить между событиями войны и коллективным «Мы» данной группы. Например, туристы из Смоленской области в тексте записи подчеркивали, что они являются земляками сержанта Егорова, водрузившего знамя Победы над Рейхстагом. Туристы из Белоруссии напоминали, что именно на белорусской земле в годы войны произошла страшная трагедия Хатыни, а представители Урала – о том, что с уральских заводов на фронт шли танки Т-34. Это было особенно характерно для тех групп, где преобладали представители послевоенного поколения, личная биография которых не давала конкретных точек соприкосновения с военным прошлым. Именно тогда в качестве связующего звена использовались люди-символы, места-символы, предметы-символы, также заимствованные из коллективной мемориальной традиции. Образы «своих» и «чужих». Безусловный интерес представляют используемые в записях траектории разграничения «своих» и «чужих», которые также были направлены не только в прошлое. Некоторые примеры использовавшихся в записях определений и характеристик представлены ниже: «Свое/свои» Прошлое Настоящее/будущее «Чужое/чужие» - славные герои, освободившие нашу Родину и народы Европы от фашизма; - советские воины, павшие за светлое будущее наших народов; - павшие герои, завоевавшие для народов Европы мирное небо; - наши погибшие воины, отдавшие свои жизни за ваше и наше счастье; - советские воины, отдавшие свою жизнь во имя истребления фашизма; - советские люди, отдавшие жизнь за счастье и мир во всем мире. - немецкие братья; - немецкие друзья; - немецкие товарищи; - стойкие борцы за мир во всем мире. - коричневая чума; - фашистская чума; - фашистские варвары; - фашистские звери; - фашистские мерзавцы; - фашистское иго; - черные силы фашизма. - темные силы реакции; - будущие агрессоры; - силы войны и мракобесия; - неофашисты. Как мы видим, образы как «своих», так и чужих в текстах мемориальных записей были стереотипны, контрастны и в значительной степени обезличены. В исторической ретроспективе авторы считали важным подчеркнуть преступную, античеловеческую сущность фашизма и мессианскую роль советских вои112 нов, освободивших не только Советский Союз, но и весь мир (включая и саму Германию) от этого зла. С точки зрения настоящего, в котором СССР и ГДР являлись стратегическим партнерами по социалистическому блоку, было важно провести четкую разделительную линию между «фашистскими мерзавцами» прошлого и «немецкими братьями/друзьями/товарищами» настоящего, а также обвинить недругов СССР (в первую очередь США и ФРГ) в неофашизме и развязывании новой мировой войны. В этом контексте уместной была также мобилизационная риторика о том, что «порох нам необходимо держать сухим», а также призывы к общенациональной мобилизации («своим добросовестным трудом крепить экономическое и оборонное могущество нашей Родины») и международной консолидации («дружба и единство прогрессивного человечества всего мира никогда не позволят повторения подобных ужасов»). Характерно, что сходные по своей стилистике и логической конструкции записи содержатся в книгах отзывов, сделанных посетителями Зала воинской славы Мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде (открыт в 1967 г.), например: Самый лучший венок памяти героев – это наш труд во имя светлого будущего Родины! Мы дадим нефть (нефтяники Тюмени, февраль 1975 г.) [Голоса сердец: 117] Будьте прокляты агрессоры и зачинщики новой войны. Мы не забыли наших погибших – 20 000 000 жизней во Второй Мировой войне [Голоса сердец: 137]. В целом можно констатировать, что практика оставления записей в книгах отзывов мемориальных объектов являлась одним из инструментов транслирования коллективной памяти о Войне и Победе, и вместе с тем, в определенной мере, сама формировала эту коллективную память. Деперсонификация данной практики наглядно показывает, что личное «Я» играло второстепенное значение по сравнению с коллективным «Мы», поскольку в этом случае было проще удержать исторические представления советских граждан в рамках «опорных точек» памяти, важность которых впервые обозначил ещё Морис Хальбвакс [Хальбвакс 2005]. Во-первых, это помогало монополизировать сферу исторических представлений, сконцентрировать их вокруг единой мемориальной парадигмы. Во-вторых, это актуализировало включенные в дискурс исторической памяти проекций настоящего и будущего, повышало их мобилизационный эффект. Наконец, применительно к представителям послевоенного советского по113 коления деперсонификация исторической памяти служила своего рода компенсацией, замещением отсутствия личного военного опыта. Именно поэтому вспоминая о героических и трагических страницах Второй Мировой войны посетители мемориальных комплексов в 1950–1980-е годы все чаще писали «Мы», а не «Я». _______________ Литература Голоса сердец 1985 – Голоса сердец: Сборник / Сост. В.Б. Ростовщиков, И.М. Кандауров. 2-е изд. – Волгоград, 1985. Попов 2013 – Попов А. Д. Экспорт советской модели выездного туризма: случай разделенной Германии // Вестник Пермского университета. Серия «История». 2013. Вып. 3. Хальбвакс 2005 – Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html Ehrenbuch – Ehrenbuch der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald. Bd. 3 (14.05.1980–7.10.1990) // Gedenkstätte Buchenwald Archiv (GBArchiv). Gästebuch – Gästebuch Gedenkstätte der Befreiung auf den Seelower Höhen. Bd. 5 (1988–1989) // Archiv der Gedenkstätte / Museum Seelower Höhen. А. А. Пригарин (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова) «Народные предания» и «историография»: уровни исторического (со)знания липован В современной науке обсуждаются вопросы, связанные с исторической памятью, особенностями ее функционирования, механизмами транслирования, соотношения форм и уровней и т.д. Однако некоторая размытость понятия «историческая память» позволяет вольно трактовать феномены рефлексии над прошлым. При том, что осознается социальность (коллективность) этого понятия, анализ часто осуществляется на уровне идей, имеющих индивидуальное происхождение. Нередко оказывается, что приходится оперировать эмпирическим многообразием трактовок мыслей, слов или символов. В силу этого кажетcя продуктивным обращение к изучению данного феномена специалистов по контекстуальному бытованию смыслов: этнологов, фольклористов и т.д. Имея дело с «народным» сознанием и его проявлениями именно специалистам этих 114 дисциплин можно ставить проблемы многовекторности и многослойности мышления и поведения людей, а также возможности вычленения факторов воспроизводства исторического (со)знания. Было бы небезынтересно проверить, как функционирует историческое сознание в общности, которая не отображалась бы в профессиональных и образовательных историях (их официальной модели). Устно-мифологический характер фактов такого рода традиции может быть даже кодифицирован, однако, они продолжают находиться на периферии: «локальное прошлое» выступает фольклорным отклонением от «нормального» изложения хода «Ее Величества Клио». Таким является общество старообрядцев, которые выступали активными субъектами исторического процесса, но так и не стали субъектами истории в научных и учебных изданиях. С 1998 г. я провожу полевую работу в среде одной из региональных общностей старообрядцев – липован Украины, Молдовы, Румынии и Болгарии. Пограничное положение этой общности наложилось на динамику политических режимов в этом регионе; в результате она оказалась «вне времени и пространства». В таких условиях вплоть до современности письменная культура оказалась тесно переплетена с фольклорной. Печатные и рукописные фиксации прошлого немногочисленны и имеют много общего с устной традицией. В ходе работы накоплен корпус исторических преданий, фиксирующих народные представления о происхождении общности, ее современном названии, истории отдельных поселений. Наряду с этим я наблюдал выстраивание историографии этих же проблем. Возникла идея провести компаративный анализ «документальных» и «бытовых» версий исторического знания. Их «механическое» сравнение вряд ли будет продуктивным. Равно малоэффективным кажется иерархическое противопоставление «грамотность/народность»: эти системы исторического сознания находятся в плоскости взаимных пересечений, выполняют близкие общественные функции (социализации, обоснования прав и т.д.). 1. «Фольклор в науке»: исследовательское измерение народных преданий. Представления современных старообрядцев об их переселении на Дунай и возникновении анклавов существуют в виде фольклорных текстов различных жанров (сказки, легенды, предания, бывальщины и т.д.). В современной устной истории и фольклористике их принято относятся к мифологическим или «квазиисторическим», а не «документальным» нарративам. Этот феномен успешно изучается (В. Ф. Тумилевич, В. А.Липинская, Е. Е. Анастасова, А. Анфимова и т.д.). Предания о происхождении группы привлека115 лись намного ранее (Ф. Е. Мельников, Н. И. Субботин, В. И. Кельсиев и др.). Отсутствие должного корпуса других источников, а также методологическая неразработанность проблем критики устных сведений привели к однозначному доверию к фольклору. Господствовала идея, что эта информация содержит в себе историческую достоверность. Находясь в зависимости от такого понимания, сложно в устных нарративах увидеть их прагматику, нередко подчиняющую себе «правду». Память избирательно не столько просеивает и сохраняет фактическое прошлое, сколько «поясняет» настоящее положение рассказчиков и слушателей. «Факты» устного повествования не равны историческим фактам; они составляют часть иной – фольклорной – картины мира. Презумпция реалистичности фольклорных сюжетов приводит к тому, что концепты и информанта некритично становятся элементами научных конструкций. Исследования этноконфессионального фольклора (К. В. Чистов, С. Е. Никитина и т.д.) показывают операционные возможности устных источников. В частности, фольклорные тексты предлагается рассматривать с точки зрения их функций в культуре – генерирующей, консервирующей, регламентирующей и т.д. Становится важным и содержательным как сам описываемый факт, так и его контекст – выяснение значений, которые данный сюжет имел/имеет для носителей культуры. Анализируя историческое (со)знание общности старообрядцев на Дунае, вряд ли стоит исходить из идей о достоверности/соответствии прошлым событиям. «Локальные истории», скорее всего, позволяют характеризовать наших современников с их мировоззренческими установками и эстетическими предпочтениями. В их исполнении предания могут выявить механизмы преломления исторических фактов, а также их роль для нынешних старообрядцев. Таким образом, мы будем иметь дело с несколькими уровнями реальности. Это поможет снять «шлимановское» противоречие поиска реликтового архетипа – объективность не может транслироваться напрямую нарративами таких жанров. Первый уровень – уровень исторического прототипа – относится к историческому событию/процессу (уровень «мифологем»). Эта реальность всегда выступает планом содержания для общественного сознания. Второй уровень (меморатов) – уровень контекста рассказа – предусматривает отбор материала через жанровый фильтр нарратива. И, наконец, уровень рассказчика и его восприятия прошлого (уровень фабулатов) – выбирая должную форму повествования, он творчески обрабатывает и приспосабливает нарратив к своему времени 2. «Наука в фольклоре»: бытование текстов в народной среде. 116 Важны ситуации актуализации такого рода фольклорных текстов. Во-первых, отметим их роль как трансляторов коллективной памяти и традиции в целом. Эти тексты рассказывают представители старшего поколения младшим, обмениваясь мнениями между собой; в результате такого диалога обосновывается специфичность группы и конструируется основа миропонимания. Важной чертой при этом является указание на книжное происхождение этих данных, даже если они сообщались устно. Практически все рассказывали о «книге, в которой было все написано». Обращает на себя внимание, что эта книга «появлялась» в рассказе, когда затрагивались моменты объяснения сегодняшнего дня и эсхатологии. Обязательным являлось указание на книжную предсказанность современности. Однако сколько ни искали мы эту «книгу», отыскать ее не удавалось – ее всегда увозил «чужой» человек. Интерес представляют и маргиналии – записи на полях книг. В каждой старообрядческой семье хранились книги, в которых указывались важнейшие события в жизни села, церкви, семьи. Несмотря на разнородность и фрагментарность информации «на полях», из нее можно синтезировать общую «Историю». Подобные заметки могли также стать объектом рассуждений стариков. У некрасовцев существуют предания о «Книге Игната», или «Заветах Некрасова». Этот кодекс обычного права в сочетании с сюжетами исторического, нравственного, религиозного и социального характера считался записанным. Его якобы видели многие из ученых, начиная с ХІХ в., но все его варианты известны лишь по устным данным. Существующая письменная фиксация – лишь фрагменты или результат собирательской работы уже ХХ в. Несмотря на важность исторической реальности в сознании группы, очевидна ее периферийность – она подчинена сакральной истории. Эти припоминания прошлого в качестве прецедента обслуживают мотивацию современности и конструируют будущее. Синтез истории старообрядчества в сочетании с актуальной для рассказчика реальностью имеет дидактическую и социализирующую составляющие. Совместно они направлены на подтверждение групповой идентичности. Такие катехизисные диалоги рассматривались и как социально-интегрирующие действия. Перечислим основные сюжеты и темы подобных преданий: «спасение души / поиск благочестия»; «поиск земли обетованной» («Беловодье – Град Некрасов»); «гонения на веру»; исторические реальности эмиграции из России в фольклорном оформлении; семейные и топонимические истории; народная этимология названий группы. 117 Итак, историческая память на уровне общественного сознания сохраняет принципиальные факты, мотивы, тенденции исторического прошлого старообрядцев на Дунае. При этом народные представления об истории представляют собой скорее историософию, в основе которой лежат не только реальные события, но и религиозные представления о ходе истории. В них проявляется стремление общности вписать себя в сакральное время (утопии, апокалиптические идеи и т.д.), а также обосновать свои позиции в профаном (переселения, основания сел-общин и др.). Учитывая старообрядческий (можно сказать, оппозиционный) характер населения, мы здесь имеем дело с альтернативной автоисторией, имеющей важные отличия от институализированного взгляда на прошлое. Стоит еще раз подчеркнуть роль исторических преданий для самой общности – их социализирующие, интегрирующие, генерирующие и другие функции. Обращение к прошлому для носителей традиции обусловлено выстраиванием собственного будущего. Для этого опыт становится совокупностью прецедентов поведения. Любой факт обязательно расценивается в связи с его потенциалом. В отношении же внешнего окружения (в том числе и исследовательского) исторические предания направлены на объяснение и обоснование своего права быть собой. В результате ученые имеют четкую и оригинальную версию истории как проявления старообрядческого общественного сознания. С другой стороны, исторические предания могут быть использованы (с учетом всех указанных выше обстоятельств) для реконструкции исторического прошлого и воссоздания особенностей мировоззрения носителей данной традиции. Возникшие в среде старообрядцев письменные версии истории оказались скорее чуждыми их устной истории. Они опирались не столько на актуальные для данной общности события, сколько на схемы официальной науки. Возникшие уже на современном этапе труды самих липован вынуждены были или примеряться с «чужой» историей, или синтезировать альтернативную реальность прошлого. При этой двойственности в подходе общим является то, что они опираются на фольклорную память и «народные концепции». Ярким примером выступает народная этимология: все актуальные толкования названий групп повторяют фольклорные версии. В целом, можно ставить вопросы о возникновении и механизмах трансляции «народной историографии/историософии». Наблюдения над традицией липован позволяют раскрыть феномен исторического сознания, рассмотреть его 118 роли в консолидации общности и другие социокультурные функции, а также особенности бытования фольклорных исторических жанров. Д. А. Радченко (Школа актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, Москва) «Я пережил конец света»: катастрофы в русскоязычном интернет-фольклоре Интернет-фольклор оперативно откликается на актуальные события, описываемые средствами массовой информации, в частности, на масштабные или значимые явления трагического характера: природные и техногенные катастрофы, эпидемии и финансовые кризисы глобального или регионального значения. В современной культуре сложился «комплекс зрителя», подразумевающий восприятие информации одновременно приобщенно и дистанцированно (см., например [Астафьев 2004: 205; Дубин 2000: 56]). Благодаря вовлеченности в насыщенные информационные потоки (один из которых создается сетевой средой), реципиент, с одной стороны, «проживает» не относящиеся к нему напрямую события, а с другой – ощущает свою отстраненность, неучастие в них. Такая специфическая форма вовлеченности порождает, с одной стороны, слухи и так называемые «городские легенды», а с другой – значительные корпуса иронических или юмористических текстов: анекдотов, демотиваторов, «фотожаб» и т.д. Фольклорные тексты такого рода активно эксплуатируют как текущий медийный дискурс, так и популярные образы массовой культуры и фольклора (см., например [Laineste 2002]), позволяющие не только найти аналогии происходящему в освоенном информационном поле, но и сделать текст адекватным культурному пространству сообщества. Как справедливо отмечает Р. Фрэнк, фольклорная реакция на актуальные события в значительно степени основана на том, как их преподносят медиа [Frank 2011: 92; см. также Hathaway 2005], в том числе на предложенной СМИ образной системе и способах выражения [Oring 1987]. Медийная работа с актуальными событиями характеризуется двумя особенностями. С одной стороны, катастрофы освещаются очень активно, информация транслируется по всем возможным каналам СМИ. С другой, в первые часы и даже дни после события эти каналы, как правило, предоставляют крайне ограниченную информацию, нередко ограничиваясь простой констатацией того, что произошло, но не предоставляя аналитики. В результате общество оказывается подвергнуто массированной «бомбардировке» одними и теми же текстами 119 и визуальными образами [Oring 1987: 282]. Недостаток информации в ситуации стресса ведет к необходимости ее получить, осмыслить и рационализировать событие. Для этого привлекается, в том числе, информация о предыдущих аналогичных происшествиях, масскультурные репрезентации подобных событий или их иронические аналоги. Взаимодействие сообщества интернета с информацией о катастрофе актуализирует его знание о «катастрофическом» в целом: память о предыдущих подобных событиях (в т.ч. выраженную в фольклорных текстах), эсхатологические ожидания, как традиционные, так и свойственные интернеткультуре и т.д. На первый взгляд, интернет-фольклор (и вообще новостной фольклор) отличается кратким жизненным циклом, его тексты исчезают, как только утрачивают непосредственную актуальность. Как отмечает Фейи [Fahey], к началу 2000-х годов из оборота практически полностью исчезли шутки, относившиеся к катастрофам 1955–1994 годов, тем не менее, после атаки на ВТС актуализировались шутки, посвященные взрыву шаттла «Челленджер». По наблюдениям Л. Фиалковой, анекдоты о Чернобыле активно бытовали в Киеве в 1986–1987 годы, но затем практически вышли из употребления [Fialkova 2001]. Следует, однако, обратить внимание на то, что, в отличие от более раннего «висельного юмора», распространяющегося в узком круге «своих» (см. [Obdlik 1942]), интернетфольклор по определению максимально публичен. С одной стороны, он распространяется совершенно открыто и, более того, культура сети нацелена на максимальное распространение текстов. С другой, официальные медиа (по крайней мере, сетевые) охотно комплектуют и публикуют подборки таких текстов в качестве общественного отклика на событие. Такие подборки затем активно распространяются в социальных сетях. Тем самым, медиа не только поставляют сетевому сообществу материал для фольклорной обработки, но и являются активным агентом их распространения, способствуют реактуализации старых текстов и самим фактом своего внимания стимулируют создание новых. При определенных условиях, таким образом, новостной фольклор оказывается способен к реактуализации. Это побуждает нас поставить вопрос о функционировании памяти о прошедших катастрофах в интернет-фольклоре. На основании анализа корпуса вербально-визуальных текстов, созданных и распространявшихся в интернете в период 2010–2013 годов и посвященных таким событиям, как авария на АЭС Фукусима-1, извержение вулкана Эйяфьядлайокюдль в Исландии, аномальная жара в России в 2010 г. и т.п., можно утверждать, что интернет-фольклор «обрабатывает» актуальные события в основном с помощью 120 аналогий из текстов массовой культуры, в том числе репрезентирующих катастрофические ситуации (38% текстов). 16% текстов, тем не менее, сравнивают актуальную ситуацию с аналогичной ситуацией прошлого. Сопоставление двух таких событий может быть основано на их рядоположенности во времени или в пространстве. Также для рассматриваемого корпуса характерны сопоставления, основанные на визуальном или типологическом сходстве событий, или на характере угрозы (так, тексты, созданные в период эпидемии так называемого «свиного» гриппа, сравнивают это заболевание с предыдущими эпидемиями, прежде всего «птичьего» гриппа). Кроме того, события могут объединяться в рамках общей конспирологической теории или эсхатологических представлений. Особый интерес представляют ситуации, когда сопоставляется не два, а целый ряд событий, выстраивающих своего рода историческую перспективу катастроф. Этот вектор включает эпидемии, погодные аномалии (жара, холод, магнитные бури), политические процессы, революции (в т.ч. «оранжевая революция»), техногенные катастрофы (Чернобыль, Фукусима, проблема 2000, запуск Большого адронного коллайдера), финансовые кризисы. Нередко он либо оканчивается концом света, либо включает его, как уже произошедшее событие, в перечень рядоположенных катастроф. Так, 13 ноября 2009 г. в РФ стартовал показ фильма «2012». C января 2010 г. начинают активно распространяться тексты типа «Я пережил N катастроф, меня не испугать концом света 2012». Периодическая актуализация этого текста связана с летними пожарами 2010, взрывом АЭС Фукусима-1 в 2011 (количество зафиксированных воспроизведений в блогосфере и социальных сетях составляет до 49% по отношению к первому пику) и собственно наступлением даты 21.12.2012 (до 40% к первому пику). Последняя актуализация, хотя и малозначимая статистически (около 6% к первому пику), относится к апрелю 2014 г. и содержит «ответ» на введение санкций против России в связи с украинскими событиями. Текст «Я пережил N катастроф» весьма вариативен. Наиболее «популярные» события этого перечня, встречающиеся в большем числе воспроизведений в интернете – это события, вызывавшие непосредственную обеспокоенность большого количества людей: эпидемии птичьего и свиного гриппа, эпидемия коровьего бешенства, проблема 2000, финансовые кризисы (от 1800 до 6000 записей). С большим отрывом следуют погодные «аномалии» – зима 2009, лето 2010 – от 200 до 500 записей) и группа явлений новейшей истории (застой 1970х, сухой закон 1985, перестройка, путч 1991 – до 200 записей). Остальные собы121 тия не превышают 50 записей. Крайне редко в список включаются спортивные события – непопадание российской сборной на ЧМ 2010, подготовка олимпиады в Сочи и т.п. Интересно, что в этот список носители данной фольклорной формы включают и сложные периоды личной жизни: разводы, службу в армии и т.п. В условиях включенности в информационные потоки интернета восприятие катастрофических ситуаций принимает новые черты. С одной стороны, информация о реальных катастрофах, масскультурные репрезентации катастроф, и даже очевидно не отвечающие реальности слухи, бытующие в сети, ставятся в один ряд и воспринимаются (в тех случаях, когда они не касаются индивида непосредственно) остраненно-иронически. С другой стороны, насыщенность информационного пространства текстами о катастрофах, реальных и вымышленных, такова, что их восприятие требует упорядочения событий, поиска общей логики или единого процесса. События воспринимаются как череда инспирированных властями мероприятий, проявления близкого конца света и даже как ключевые точки персональной биографии. _______________ Работа выполнена в рамках НИР «Событие и общественное мнение: мониторинг актуальных городских текстов» ШАГИ РАНХиГС. Литература Астафьев 2004 – Астафьев Я. У. Катастрофическое сознание и массовые коммуникации // Страхи тревоги россиян. СПб., 2004. Дубин 2000 – Дубин Б. В. От инициативных групп к анонимным медиа: массовые коммуникации в российском обществе // Pro et Contra. 2000. Т. 5. № 4. Ellis 2002 – Ellis Bюill. Making a Big Apple Crumble: The Role of Humor in Constructing a Global Response to Disaster // New Directions in Folklore 6 (June 2002). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.temple.edu/english/isllc/newFolk/journal_archive.html#sixth Fahey – Fahey W. SHOCK HORROR: The Folklore of Disaster. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://warrenfahey.com/fc_humour-shock6.html Fialkova 2001 – Fialkova L. Chornobyl’s Folklore: Vernacular Commentary on Nuclear Disaster // Journal of Folklore Research. 2001. Vol. 38. No. 3. Frank 2011 – Frank R. Newslore: Contemporary Folklore on the Internet. Jackson: University Press of Mississippi, 2011. Hathaway 2005 – Hathaway R. V. ‘Life in the TV’: The Visual Nature of 9/11 Lore and Its Impact on Vernacular Response // Journal of Folklore Research. 2005. Vol. 42. No 1. Kuipers 2005 – Kuipers G. ‘‘Where Was King Kong When We Needed Him?’’ Public Discourse, Digital Disaster Jokes, and the Functions of Laughter after 9/11 // The Journal of American Culture. 2005. Vol. 28. No 1. Laineste 2002 – Laineste L. Take It With A Grain Of Salt: The Kernel Of Truth In Topical Jokes // Electronic Journal of Folklore. 2002. Issue 20–22. 122 Obdlik 1941 – Obdlik A. J. “Gallows Humor”: A Sociological Phenomenon // American Journal of Sociology. 1941–1942. Vol. 47. Oring 1987 – Oring E. Jokes and the discourse of disaster // The Journal of American Folklore. 1987. Vol. 100. No 397. Д. С. Рыговский (Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск) Трансляция культурной памяти о святых местах в традиции белокриницких старообрядцев Западной Сибири Трансляция культурной памяти в ряде случаев является наблюдаемым процессом, и осуществляется с помощью различных механизмов, обусловленных культурой того сообщества, в котором она реализуется. Для современных старообрядцев это происходит в том числе во время посещений святых мест, что было отмечено в ходе полевых исследований автора, в 2010–2014 гг. участвовавшего в работе Сибирского этнографического отряда под руководством д-ра ист. наук А.Ю. Майничевой В настоящей работе речь пойдёт о святых местах, расположенных на территории Западной Сибири и входящих в сферу почитания старообрядцев белокриницкого согласия, сейчас наиболее многочисленного среди других старообрядческих деноминаций данного региона. В его городах и сельских районах насчитывается 16 белокриницких общин. Как правило, святые места посещаются старообрядцами во время православных праздников. Большую часть года они ходят в храм или молитвенный дом своей общины. В Западной Сибири также распространена традиция уезжать в гости в другие приходы на престольные праздники. Кроме того, на данной территории известно несколько почитаемых мест, отмеченных поклонными крестами, которые посещаются старообрядцами во время крестных ходов. Все эти духовные практики непосредственно связаны с механизмами трансляции культурной памяти. Большое значение приобрели два культовых объекта, расположенные в районе р. Большая Юкса (Томская область), где со второй половины XIX в. до 1930-х годов находились Михаило-Архангельский и Ново-Архангельский белокриницкие скиты, представлявшие из себя мощные духовные центры, впоследствии, разрушенные советской властью. В 2004 г. старообрядцы поставили здесь поклонные кресты, и с тех пор ежегодно проводится крестный ход (ПМА). Примечательно, что практически всегда поклонные кресты устанавливаются на каком-либо памятном для белокриницких староверов месте, в основном 123 это разрушенные в 1930-е годы церкви или скиты. Не случайно структура типичного посещения данных объектов предполагает наличие элементов, связанных с трансляцией культурной памяти. К ним относится, например, лития – поминовение усопших монахов, священнослужителей и прихожан разрушенных монастырей и храмов, а также произнесение речей, посвященных данному месту, теми людьми, которым наиболее известна его история. Свидетелей того времени, когда белокриницкие скиты в Томской тайге еще действовали, уже не осталось в живых. Поэтому большая часть этих речей представляет собой пересказ услышанного от насельников монастырей. Некоторые события, впрочем, происходили недавно – это попытки найти скитскую библиотеку, спрятанную монахами во время побега, поиски монашеских захоронений и пр., – о чём рассказывают непосредственные их участники. Произносятся также личные нарративы, связывающие биографию выступающего с данными святыми местами. Так или иначе, все эти речи представляют собой тексты-коммемораты, которые формируют у пришедших на крестный ход паломников представления о святости данного места, а также обеспечивают трансляцию знаний о нем как об объекте культурного и исторического наследия старообрядчества. Схожим образом в устных и письменных текстах старообрядцы описывают поклонные кресты, расположенные в других местах. Например, крест, установленный в г. Енисейске, где более 3-х лет пребывал в заточении протопоп Аввакум [Сафронников 2009: 5]; в с. Таскино Каратузского района Красноярского края [Скачков 2010: 11]; в районе несуществующего сейчас старообрядческого села Ново-Глушенское в Алтайском крае, где были разрушены старообрядческие церкви (ПМА). В 10 км от села Тарбагатай (Бурятия) рядом с пещерами на высоте 250 м воздвигнут крест «в память о священномученнике Афанасии» – белокриницком святом, который почитается как в Западной, так и в Восточной Сибири. Считается, что владыка Афанасий спрятал в этих пещерах в 1930-е годы («во времена гонений на веру») книги и церковную утварь [Думнов 2009: 28–29]. Безусловно, это доказывает, что посещение святых мест выполняет для данной конфессиональной группы функцию формирования идентичности. Аналогичным образом, в структуру престольных праздников встроены моменты, предполагающие произнесение речей, актуализирующих пространство культурной памяти. Одним из таких моментов является братская трапеза. Значимый её элемент – это застольные речи. Во время произнесения этих речей старейших прихожан просят рассказать о своей жизни. Например, в Барнауле это прихожанин 88-ми лет, повествующий о своей деятельности в годы Великой 124 Отечественной войны, а также о трудовом опыте после неё. Весьма характерно, что данный текст он рассказывал, как в 2013, так и в 2014 г. Барнаульские староверы также вспоминают о первом храме своей общины, который был взорван в 1970-е годы, и его прихожанах. Как правило, гости и хозяева вспоминают какието события, связанные с историей того храма, на чей престольный праздник они собрались. В время трапезы могут разбираться важные для прихожан вопросы: например, в с. Мульта в 2014 г. на празднике пророка Илии духовенству был задан вопрос о «чипировании» людей (ПМА). Завершается братская трапеза исполнением духовных стихов и совместной молитвой. Подводя итоги, следует заметить, что современные белокриницкие общины Западной Сибири представляют собой небольшие, относительно замкнутые группы, чья жизнь в результате воздействия процессов модернизации и глобализации далека от того традиционного уклада, к которому были приспособлены конфессиональные нормы старообрядчества. Поэтому для староверов имеют значение огромное символы и практики, необходимые для сохранения групповой идентичности. В настоящее время на исследуемой территории происходит частичное восстановление разрушенной советской властью в 1930-е годы сети святых для старообрядцев мест, которая сложилась в начале XX в. При этом их посещение сопряжено с практиками трансляции культурной памяти. __________ Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 14-36-50604. Литература и сокращения Думнов 2009 – Думнов У.А. Епископ Иркутско-Амурский Афанасий // Сибирский старообрядец. 2009. № 5 (53). ПМА – Полевые материалы автора. Сафронников 2009 – Сафронников А. (иерей) Крестный ход в Енисейске // Сибирский старообрядец. 2009. № 1 (50). Скачков 2010 – Скачков И.Л. Таскино // Сибирский старообрядец. 2010. № 5 (53). Irena Šentevska (University of Arts, Belgrade) From Folk-lore to Video-lore: Serbia’s return to the “roots” Political culture in Serbia had long retained its pre-modern, patriarchal features: political parties were perceived as “families” – their leaders as father-figures. The so125 cialist regime was not succeeded by the “rule of democracy”, but a “new order” pursuing the interests of the ethno-national majority. Politically, Serbia is a battlefield of competing champions of the national cause who seek mass support for their often elusive agendas. One of the most powerful “weapons” in this battle is popular media culture adorned in folkloric ornaments. When the opposition “urban-rural” is observed from the perspective of contrasts and conflicts between traditional and modern cultures, in the debates characteristic for the post-socialist Balkans the village is often attributed with symbolism of “healthy” (unspoiled) life, grounded in traditions and folklore. As for Serbia, the “usual suspects” for the crime of abandoning this “true” life is the generation of “bourgeois peasants” (peasants-industrial workers) – the so-called centaurs of Yugoslav economy. As spokesmen (if not inventors) of the Volkgeist embodied in idealized peasantry, in the romanticist legacy of Serbian nationalism, intellectuals often dismiss these “half wits” as “riders of the cultural apocalypse”. Their guilt is furthermore attributed to “communism” and degradation of religion: everything preceding this historic demise tends to be rendered in idyllic hues. In the context of post-Yugoslav re-composition of national and ethnic identities, contemporary variations of ethno music and their accompanying visual imagery constitute powerful channels of communicating contemporary notions of the national. From my broader research on music video in Serbia I have extracted a number of paradigmatic examples in order to discuss the contemporary media forms of Folklorismus (conceived as the “second life” of folklore) in popular culture, characteristic for the Serbian society in the post-Yugoslav era. In the contemporary cultural discourse, ethno music is associated with “actualization” and revitalization of tradition, its “re-branding” and “re-packaging”, and its modern use (of new technologies)… Ethno sound is considered as a viable contemporary cultural expression only if it is somehow detached from the realm of traditional folk music, techniques and instruments, which otherwise ensnares both the producers and consumers of this music in a rural culture that ceased to exist. Accordingly, visualization of ethno music in the form of promotional videos implies a search for visual aesthetics that most effectively communicates its “messages”. The “living tradition” advocated by this aesthetics demands a modern visual language, created in the city and addressing urban population. For this population, fascination with the rural ancestral culture assumes a form of reflexive nostalgia for the experiences which were never lived through. 126 In my journey through the “video Ruritania” I have identified several distinctive formulas of its visualization, falling into two basic categories: 1. the mythical ethno country is conceived as depository of emblems of national purity, authenticity and difference from the Others (e.g. other Balkan or ex-Yugoslav nationalities); 2. in a hybrid space of “crossovers” emblems of national traditions blend with contemporary signifiers of the mass-mediated culture. 1. Is a distinct representational formula wherein performers perceived as “voices” of the (Serbian) ethno-national majority feature in “gentrified” ethno villages, often real tourist locations like Stanišići or Galetovo sokače. “Ethno village” as a mental and physical construct of the “new” (post-Yugoslav), urban Serbia, detached from the harsh realities of village life and exclusively concerned with “aestheticization” of the rural national past. Performers voice the nostalgia over the pastoral times long gone, or comment the plights of contemporary Serbs (for instance, in the now independent Republic of Kosovo). The stars might be wearing modern urban clothes, driving expensive modern cars, but in the videos they often interact with extras dressed in “museum” folk costumes – as a rule, young and beautiful men and women wearing heavy make-up. This formula is adopted in videos by pop singers (like Željko Joksimović or Zdravko Čolić) who may often find themselves in “gentrified” rural environments or under a spell of some mysterious village beauty. Some performers (e.g. Garavi sokak from Novi Sad) use similar representational formulas to spotlight regional specificities (in this case, of Vojvodina). Here the heavy use of folk costumes and ethnographic detail highlight the cultural complexity and multiethnic life of a region. In a variation of this model, performers with different music backgrounds and stylistic affiliations appear in “real” ancient monasteries, churches and cultural monuments preserved from the past, in order to communicate current messages (of national homogenization, patriotism and loyalty, spirituality etc.) or simply to wish a happy Christmas or Easter to the Orthodox community. Sometimes, a music video is a fictional cinematic recreation of historical events (e.g. patriotic struggle of Serbian hajduks against the Ottoman rule) which again mainly communicates “patriotism”. 2. Situates the notions of “national culture” in a contemporary mishmash of indiscriminately crossbred local and global influences. It is safe to refer to it as “turbofolk” aesthetics of national self-representation, which heavily exploits (often at the 127 same time) e.g. the Dionysian imagery of the music festival in Guča, representational formulas familiar from Emir Kusturica”s films, “quotes” from Hollywood, hip-hop imagery, Latino or Turkish soaps, reality shows, documentaries and travelogues… This, loosely conceived ethno aesthetics basically serves to entertain the “nation” with humorous contrasting of ethno signifiers with modern gadgets and lifestyles. According to this formula, for instance, turbo-folk / dance stars of the 1990s (like Ivan Gavrilović and Baki B3) might be singing about “hot nights in the discotheque” dressed in “museum” folk costumes… This anything goes principle allows ethno performers to sing, for example, Bulgarian folk themes against a background of XIX century neo-baroque stained-glass walls of the city hall in Zrenjanin (Hungarian: Nagybecskerek), like in a video by Biljana Krstić and ensemble Bistrik. On the other hand, situating ethno performers with a rural background (e.g. frula player Bora Dugić) in “high-cultural” (for instance, gallery) spaces implies an attempt to inscribe these folk maestros in the realm of the official Hochkultur. Continuity in attempts to introduce Serbian folkloric elements into the realm of “high” (national) culture discloses a longue durée historical process whereby aspects of popular culture claim a position and status of (previously non-existing) “elite” culture according to the (Western) European standards. Images of the “golden age” of national past, often haphazardly created by the media and official culture (for mass consumption) raise many questions about their purpose in the Serbian society, where each generation claims new cultural forms, “imported” from the West and crossbred with the existing (traditional) patterns. This process displays clear continuity in the domain of popular mass-media culture, as I attempted to demonstrate using examples from the Serbian contemporary music video production. А. А. Соловьева (Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ, Москва) Золотые монеты, поющие ламы и беспокойные места: историческая память монгольских демонологических сюжетов Демонология, как сфера актуальных представлений и верований, крайне пластична и восприимчива к различным изменениям и событиям, происходящим в жизни сообщества. В силу этого она может стать информативным источ128 ником по изучению фольклорной памяти. Наличие разновременных материалов, содержащих сведения о монгольской демонологии, позволяют отметить некоторые особенности трансформации традиции и отражения в ней культурных процессов и конкретных исторических событий. Прежде всего следует сделать определенные наблюдения, относящиеся к трансформациям самой монгольской демонологической традиции. Эти изменения неоднородны и относятся к разным уровням и элементам последней. Изменения произошли в сюжетном составе рассказов и поверий, связанных с демонологическими персонажами. Можно отметить ряд сюжетов и мифологических представлений, вышедших из актуального бытования. Например, поверья и рассказы о целебных функциях органов и отдельных частей тела алмаса (демоническое существо, дикий человек), связанных, среди прочего, с традицией тибетских лечебников, популярных вплоть до советского периода; сохранились поверья о чотгоре, посылаемом Эрлик-ханом (владыкой ада) за душами, но практически вышли из употребления соответствующие нарративы; такая же ситуация с сюжетом о духах-покровителях местности и о возможном нанесении им увечий в результате земельных работ, проводимых без соответствующего ритуала. В традиции меняется представления об отдельных персонажах и их функциях. Так, характерное для традиции конца XIX – начала XX в. более четкое разделение духов-покровителей местности на водных (лусов) и, условно, лесных, отвечающих за весь сухопутный ландшафт (савдаг), в современной традиции сливается, что, среди прочего, выразилось и на языковом уровне в виде бинома, отсутствующего прежде, – лус-савдаг. Материалы, записанные в разные периоды, позволяют также сделать некоторые наблюдения, касающиеся вопроса протяженности фольклорной памяти, срока бытования отраженных в нем исторических событий. Так, место одного из популярных в 1960–1970-е годы образов демонов-чотгоров в качестве духов умерших гоминдановских солдат, сменяют образы Второй Мировой войны – японские и русские военные. Обновление традиции не сводится исключительно к замене признаков персонажей и их валентностей (как в приведенном выше примере), но выражается также в появлении новых образов и связанных с ними сюжетов и поверий. В настоящем докладе в качестве примером будут проанализированы образы трех персонажей, популярных в современной фольклорной традиции [Материалы]. Один из сюжетных комплексов связан с исчезающими (превращающимися в навоз или черепки) китайскими золотыми монетами. Человек в белой одежде 129 (или с элементами белого) приходит в ломбард, магазин, пытается заплатить за оказанную услугу (например, водителю) старыми злотыми монетами, которые на следующее утро оказываются разбитыми черепками или сухим навозом. В рассказах часто указывается время (как один из демонологических маркеров ситуации) – после захода солнца, вечер-ночь, и место (окраины Улан-Батора и прилегающие сельские поселения, район монастыря Гандан). В заключении к некоторым рассказам информант сам определяет незнакомца с монетами как духа китайца, когда-то жившего в Монголии. Данная группа сюжетов отражает сочетание нескольких культурно-исторических контекстов, а также особенности восприятия соседней национальности и связанные с ней этнические стереотипы. Рассказы содержат память о различных периодах (включая советское время), когда выходцы из Китая в большом количестве проживали на территории Монголии, занимаясь в основном торговлей и мелким ремеслом. Неслучайно, видимо, даже упоминаемые в рассказе места в целом совпадают с районами расселения китайских торговцев. Связь с торговлей, денежными операциями получила отражение в широко распространенных представлениях, которые продолжают бытовать до сих пор, об особой скупости китайцев, об их привязанности к деньгам и к вещам. Некоторые повествования имеют прямые демонологические коннотации: «Китайцы очень привязаны к своему имуществу, деньгам и драгоценным вещам. Они всю жизнь копят, тратить не любят, стараются собрать как можно больше богатства. Так они и живут, все время думая о своем имуществе. Копят и прячут. И даже когда умирают, их душа продолжает радеть за свои накопленные богатства, остается на земле, привязанной к ним, к тому месту, где они лежат, превращается в демона, пугает и сбивает с толку живых» (С.П., 1962 г.р., 17.05.2009, Улан-Батор). Прошлые контексты «подпитываются» современной ситуацией, большим притоком работников из Китая (строителей, обслуживающего персонала, работников сферы услуг). Другой комплекс сюжетов можно обозначить как «мемориальный». Он объединяет многочисленные рассказы о случаях активности духов на местах захоронений (известных и неизвестных), при этом формы проявления этой активности так или иначе связаны с буддийской (ламаистской) символикой – голоса, читающие сутры, звон ритуальных колокольчиков, горящие лампады. Духами, обитающими в таких местах, являются ламы, оказавшиеся жертвами репрессий и «борьбы с суевериями» в Монголии в 1930-е годы. Надо сказать, что репрессированы (включая и самые крайние меры) были не только ламы, но и шаманы. 130 Однако в нарративах о шаманах прошлого мотив посмертного появления духов погибших не получил подобного отражение. Возможно, в данном случае свою роль сыграла разная институционализированность ламы и шамана, как в мире людей, так и в потустороннем мире соответственно. Ламы, представленные как организованное сообщество, занимающее четкое положение в монгольской общественной иерархии, не получили в фольклорных представлениях какого-то специфичного посмертного статуса и функции. В отличие от официально не институционализированных шаманов (сочетавших деятельность магического специалиста с другими профессиональными занятиями, не организованных в сообщество и пр.), души которых, согласно до сих пор актуальным верованиям, после смерти становятся духами-покровителями местности (лус-савдаг) или духами-помощниками другого шамана (онгон). И, наконец, третья группа сюжетов связана с «беспокойными местами» (гуйдэлтэй газар). Они располагаются за пределами городского пространства, обычно в степи, внешне ничем не маркированы. А рассказы о них, наряду с другими ландшафтными нарративами, бытуют в локальных традициях. Подобные места представляют собой одну из разновидностей дурных мест в современной демонологической традиции. Характерны они тем, что человек, случайно пересекающий это место, начинает испытывать различные воздействия демонических сил, частыми являются рассказы о неполадках с транспортом, механизмами и прочим: «Лошадь спотыкается, машина глохнет и даже приборы самолета, пролетающего над таким местом, начинают барахлить» (Г.Х., 1975 г.р., Даланзагдад, 15.05.2009). Последствиями пребывания в таком месте обычно бывает болезнь. Согласно бытующим поверьям, причина дурного воздействия этих мест – кости, останки, погребенные под землей. Сложно определить конкретный период появления в фольклорной традиции подобных мест и сюжетов, с ними связанных, но есть основания полагать, что случилось это достаточно поздно, во второй половине XX в., и связано с изменением доминирующей практики похоронного ритуала. Традиционный монгольский ритуал варьировался в зависимости от социального статуса, однако наиболее распространенной формой являлась практика незаметного оставления тела умершего в степи («потери») [Обычаи 2006: 21–28; Дробышев 2005]. Попытки утверждения ингумации в качестве официальной формы похоронного ритуала происходили неоднократно, однако они каждый раз встречали активное сопротивление населения. Окончательно новая похоронная практика утвердилась уже в советское время, но до сих пор нередкими являются негативные отзывы о ней (и даже случаи противозаконного 131 сейчас традиционного захоронения), и главным аргументом против служит представление о том, что «погребенная вместе с телом под землей душа не может выйти и найти следующее перерождение, поэтому вынуждена оставаться на земле в виде демона, тревожащего людей» (Х.Д., 1941 г.р., Хархорин, 26.08.2011). ______________ Исследование выполнено при поддержке РНФ, проект № 14-18-00590 «Тексты и практики фольклора как модель культурной традиции: сравнительно-типологическое исследование». Литература Баруун монголын домог 2003 – Баруун монголын домог, хууч яриа. Улаанбаатар, 2003. Беннигсен 1912 – Беннигсен А. П. Легенды и сказки Центральной Азии. СПб., 1912. Дамдинсүрэн 1991 – Дамдинсурэн Ц. Чөтгөртэй учирсан хүмүүсийн өрчил (Лус савдаг чөтгөр шулмастай учирсан хүмүүсийн өрчил). Улан-Батор, 1991. Дамдинсүрэн 1998 – Дамдинсүрэн Ц. Бүрэн зохиол. Т. 2. Улан-Батор, 1998. Дробышев 2005 – Дробышев Ю. И. Похоронно-поминальная обрядность средневековых монголов и ее мировоззренческие основы // Этнографическое обозрение. 2005. № 1. Лус савдаг чөтгөр 1998 – Лус савдаг чөтгөр шулмастай учирсан хүмүүсийн яриа // Цэнд Материалы – Материалы российско-монгольской экспедиции Центра типологии и семиотики фольклора, 2006-2014. Обычаи 2006 – Обычаи монгольского народа. Улан-Батор, 2006. Позднеев 1993 – Позднеев А. М. Очерки буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии в связи с отношениями сего последнего к народу. Элиста, 1993. Потанин 1883а – Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии. Вып. IV. Материалы этнографические. СПб., 1883. Потанин 1883b – Потанин Г. Н. Тангутско-тибетская окраина Китая и Центральная Монголия. Т. 2. СПб., 1883. Цендина 2008 – Цендина А. Д. Рассказы о чертях из записей Ц. Дамдинсүрэна // Живая старина. 2008. № 4. А. Ю. Суслов (Казанский национальный исследовательский технологический университет) Кинематограф оттепели и образы социалистов: идейный заряд или проверка истории? Важной теоретической проблемой современной интеллектуальной истории является обращение к феномену исторической памяти. Историческая память 132 чаще всего понимается как одно из измерений индивидуальной и коллективной/социальной памяти – как память об историческом прошлом или, вернее, как символическая репрезентация исторического прошлого. Зафиксированные коллективной памятью образы событий в форме различных культурных стереотипов, символов, мифов выступают как интерпретационные модели, позволяющие индивиду и социальной группе ориентироваться в мире и в конкретных ситуациях. Сразу же после захвата власти перед большевиками, как и перед любым революционным режимом, встал вопрос о легитимности, то есть задача доказать, что ими была совершена настоящая революция, а не военный переворот, как утверждали меньшевики и эсеры. Важной частью пропаганды становится кино (именно с 1920-х годов восприятие мира современным человеком становится все более опосредованным экраном), где образы меньшевиков и эсеров изображаются резко отрицательно. Успешность формирования нового исторического сознания зависела и от того, насколько большевикам удастся вовлечь население в процесс его создания – в конечном счете, в процесс своеобразного «конструирования прошлого». Для того чтобы то или иное историческое явление закрепилось в коллективной памяти, оно должно наполниться смыслом для ее носителей. Такие конструктивные элементы получили в исторической науке названия «фигуры воспоминания» или «места памяти». Они являются главными ориентирами для членов сообщества и дают представления о прошлом и настоящем. Исследователи проблем культурной памяти и коммеморации (Э. Хобсбаум и др.) отмечают, что существуют «границы применения» изобретенных традиций. Они должны быть в какой-то мере созвучными потребностям тех сообществ, которым адресованы. Другими словами, очень сложно навязать населению образ, к которому люди не испытывают никакой близости. Далеко не каждый образ прошлого можно превратить в исторический миф. Как показывают исследования, механизм создания мифа вокруг реального исторического события заключается в том, чтобы соотнести повествование об этом событии с одним из «циркулирующих в мировой культуре универсальных сюжетов»; отбросить из рассказа все «лишние» детали и привнести детали новые, более соответствующие мифическому прообразу; и, наконец, перевести повествование в яркий образный ряд. Поэтому в антиэсеровской и антименьшевистской пропаганде и использовались отмеченные выше черты, апеллировавшие к бытовому антисемитизму и недоверию к интеллигенции, то есть к архаическим структурам 133 мышления, архаическим способам освоения мира. С помощью самых разнообразных средств печатной и массовой пропаганды власть в конечном счете сумела создать к 1930-м гг. такой образ истории социалистических партий, который переживался на уровне личной и групповой памяти и обеспечил людей тем языком, которым они выражали свои воспоминания. Кинематограф «оттепели» был напрямую причастен к кризису советской идеологии, стал точкой отсчета для ее «заката». Образы «врагов революции» были иногда далеки от карикатурных – можно выделить фильм «Шестое июля» (1968 г., режиссер Ю. Ю. Карасик, сценарист М. Г. Шатров) о выступлении левых эсеров в 1918 г., снятый к юбилею ВЧК сериал «20 декабря» (1981 г., режиссер Г. Никулин, сценарист Ю. Семенов) и другие. Принципиальным новаторством этих кинематографических работ была трактовка характера противников большевиков как цельных, искренних, идейно убежденных людей. Попытка вдохнуть в революционную традицию новую жизнь с помощью фильмов историко-революционной тематики, отождествление эпохи «оттепели» с периодом первых лет революции (не случайно «Шестое июля» было черно-белым фильмом, ассоциирующимся с документальной хроникой 1920-х), когда еще не было сталинских репрессий, оказалась неудачной. Одной из главных причин стало то, что «оттепель» создавала свои мифы (прежде всего о В. И. Ленине и идеальном обществе – справедливом и гуманном) в противовес официальным мифам сталинской эпохи, не имея возможности выйти за рамки «социализма с человеческим лицом» и незыблемости революционных идеалов. Безусловно, пьеса М. Шатрова и фильм Ю. Карасика были правдивее и достовернее, чем «Ленин в 1918 году». Однако фильмы Ромма, будучи фальсификациями (практически все изображенные события подверглись существенной правке) были поставлены на основе глубокой убежденности, на сознании того, что создается образ исторического процесса. По своему масштабу они превосходили кинематограф оттепели. Фильм «Шестое июля» не нес в себе такого же мощного идейного заряда, как ленты 1930-х годов. В итоге культура 1960-х немало способствовала разрушению советской системы, так как произведения советской культуры и особенно советское кино сохраняли свою художественную ценность для общества и последующих поколений прежде всего своими избыточными смыслами, теми, которые не предполагала система. Для нее любой вид искусства оставался, прежде всего, средством пропаганды и агитации. Однако власть не может ограничиваться примитивными (и потому неубедительными) пропагандистскими приемами; она выну134 ждена привлекать избыточные смыслы, которые авторы вкладывают в свои произведения. Таким образом, кино, наряду с другими культурными практиками, оказало существенное влияние на формирование исторического сознания советского общества. Современные исследования (и в России, и за рубежом) показывают, что формально большинство населения когда-то получило информацию о прошлом из учебников (в рамках всеобщего школьного образования) и считает этот источник самым значимым, но фактически основными текущими источниками являются кино и телевидение, затем следуют популярные и художественные печатные издания, потом – музеи, экскурсии и устные рассказы, и наконец – радио и специальная историческая литература. Образ представителей социалистических партий, меньшевиков и эсеров, прошел определенную эволюцию в отечественном кинематографе – от схематичных, однозначно негативных стереотипов сталинской эпохи, через более достоверные произведения 1960–1970-х годов – до крайне противоречивых современных сюжетов. Характерен случай с Ф. Каплан: покушению на Ленина в 1918 г. посвящено несколько документальных фильмов («Фиалка террора», 2003, Украина, реж. И. Кобрин; «Кто заплатил Ленину: тайны века», 2004, Россия, реж. Г. Огурная; «Тайны века. Ульяновы. Неизвестная семья. Покушение», 2004, Россия, реж. О. Рясков и др.), однако, несмотря на привлечение весьма авторитетных ученых в качестве экспертов, в большинстве случаев тиражируются старые мифы, а параллельно развивается новое мифотворчество. Sergey Toymentsev (Институт перспективных гуманитарных исследований и технологий МГТУ им. М. А. Шолохова, Москва) Mnemonic Hybrids in a Hybrid Regime: Reckoning with the Soviet Past in Putin’s Russia The paper examines the current state of the collective memory of the Soviet past in contemporary Russia. Most scholars approach this problem in a rather homogeneous way, namely, as a thorough re-legitimization of the Soviet legacy and its overall integration into Russian history. For Dina Khapaeva, for example, Russia’s public memory of the Soviet past is characterized by its “selective amnesia” of its atrocities, 135 while for Nikolai Koposov it is being supervised by a prison-like “strict-security” control. For Alexander Etkind, post-Soviet culture is being “haunted” by “the unquiet ghosts” of the Soviet terror. Russia’s politics of public memory is, however, far from being straightforward as it seems to be based on a structural ambiguity, according to which the Soviet past is both condemned and glorified at the same time, which is fully consistent with the current political regime in Russia characterized as the “hybrid regime,” a regime which effectively synthesizes the traditions of both authoritarianism and democracy. As I argue, the dynamic of Russia’s post-Soviet memory should be derived from the structure of its political regime, which will be demonstrated on the basis of opinions polls, examples from film, television and literature. Russia’s ambiguous politics of the collective memory of the Soviet legacy is formulaically captured in Putin’s tribute speech to the victims of Stalin’s repressions, given on October 30, 2007, where he suggests that “while remembering this tragedy, we should focus on what is best in the country and unite our efforts for the country's development.” Glorifying “what is best” while still remembering the worst in the country’s past without recognizing the relation of causality between the two extremes has become the main tendency in Russia’s reckoning with its communist past, a seemingly reconciliatory tendency which manifests itself in a plethora of mnemonic paradoxes. According to a 2007 opinion poll conducted by Dina Khapaeva and Nikolai Koposov in St. Petersburg, Kazan, and Ulyanovsk, 50 percent believed that the Soviet legacy has had a “positive influence on the development of national culture,” while 64 percent of St. Petersburg’s respondents considered that “with Stalin people used to be kinder, more generous and more compassionate.” Ironically enough, according to the same poll, 91.6 percent were aware that repressions did occur in Stalin’s Russia, while 63.5 percent understood that “from 10 to 30 million victims” suffered from these repressions. The poll’s paradoxical results suggest a rather alarming conclusion – namely, that in the mass consciousness of contemporary Russia the Soviet legacy still deserves a positive evaluation despite its fully acknowledged criminal underside. Post-Soviet contradictory coexistence of commemorations of both Soviet heroes and their victims has crystallized into a rather monstrous pattern of mnemonic hybridity charged with such irreconcilable affective extremes as nostalgic longing for the Soviet past as well as a profound revulsion against it. Such emotionally disruptive and deliberately scandalous mnemonic hybrids proliferate in contemporary Russian cinema and literature. For example, in Alexei Balabanov’s film Cargo 200 (2007) about a Soviet police officer who kidnaps and rapes a girl, shocking violence is accompanied by the soundtrack of sentimental Soviet songs. In Alexei Gherman’s film The 136 Paper Soldier (2008) about the USSR space program, the Baikonur space port is built on the territory of the former Gulag camp just as official enthusiasm about the conquest of outer space is countered by the suicides and despair of the Soviet intelligentsia. Yet if in contemporary art cinema the constitutive contradictions of the memory politics predominant in Putin’s regime are subversively exposed and critically evaluated, in recent television shows such contradictions are, on the contrary, melodramatically reconciled. For the past few years Russian television has been rather aggressively airing a number of biographical series on exceptional personalities of the Soviet Age. Such a persistent focus on the private lives of former (anti-) heroes of the Soviet pantheon maybe considered as the emergence of a new genre, that of the post-Soviet biopic of a Soviet hero, characterized by a number of narrative conventions, such as the melodramatic focus on the heroes’ private lives at the expense of historical accuracy as well as their representation as potential dissidents in confrontation with Soviet authorities. Taken separately, each biopic series can hardly be suspected in any kind of propaganda, since a Soviet demigod there is systematically de-ideologized and deheroized in both political and everyday contexts. And yet, taken together, such TV biopics seem to offer a rather effective scenario of how the Soviet legacy could be rehabilitated and remembered in Russia’s public memory: through the emphasis on the subversive anti-Soviet tendencies in most representative Soviet figures and the tabloid trivialization of their private lives that foreground their humanity. In contemporary Russian prose the structural confusion in remembering the Soviet past is most vividly illustrated in Dmitry Bykov’s novels. For example, in Justification (2001), the protagonist conjures up a paranoid theory that would justify millions of Soviet victims including his grandfather: Stalin’s terror was not a genocide committed against his own people; on the contrary, tortures and killings were meant to mold a new species of humanity that would be hyper-resistant to severe suffering and thus would win WWII. Listed Out (2005), a parody on the conspiracy theory novel, similarly entertains the ambiguity of the current memory politics regarding the Soviet terror. The hero finds out that he becomes a member of some enigmatic list, the purpose of which remains in mystery throughout the entire novel. Ironically enough, the plot never progresses further but is solely dedicated to countless and absurd speculations on whether the “list” is a list of “enemies of the people” and thus designates a new round of mass repressions or it’s a list of the state’s most distinguished patriots and thus foretells a future promotion. Precisely because the logic of Stalin’s terror has never been legally and historically clarified in public consciousness, the irrationality of its traumatic return manifests itself by inertia in paranoid speculations of the present. 137 In conclusion I will ponder on whether the hybrid condition of post-Soviet memory is permanent or temporary. To envision such prognosis I will turn to Antonio Gramsci’s notion of “passive revolution” that results in the stalemate dialectic between progressive revolution and total restoration. From this perspective, the future of Russia’s historical memory could be viewed as either the continuous reconciliation of its contradictory tendencies or the full-fledged justification and glorification of its totalitarian past. О. Б. Христофорова (Школа актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС / Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ, Москва) Как Дёма и Максим подругу не поделили: раздел 1866–1888 годов в устной истории старообрядцев Верхокамья Во второй половине XIX в. старообрядцы Верхокамья пережили внутренний раскол. Конфессионально и культурно единое сообщество беспоповцев поморского толка разделилось на два согласия – дёминское и максимовское. Произошло это из-за несогласий духовных наставников соборов и взаимных обвинений в неблагочестии. Размолвка наставников Давыда Ивановича и Максима Григорьевича Федосеева (с одной стороны), Максима Егоровича Жданова и Ивана Никифоровича Панова (с другой) случилась в с. Сепыч в 1866 г. и окончательно раздел был закреплен в 1888 г. на соборе в д. Гришки [Поздеева 1982: 40–71; 2005: 131–132; Сморгунова 1982: 247–265; Смилянская, Кобяк 1994: 7]. Одно из двух новых согласий получило название по д. Дёмино около Сепыча, где собирались сторонники Давыда Ивановича и Максима Григорьевича, второе – по имени духовника Максима Егоровича. С тех пор оба согласия, сохраняя единство в устройстве общин-соборов, книжной традиции и порядке богослужения и мало отличаясь друг от друга бытовыми запретами и нормами, существовали независимо и воспринимали друг друга крайне недружелюбно вплоть до последних лет. Максимовские, более строгие в отношении «новин» (фотографии, радио, телевидения, езды на автомобиле и т.п.), считали, что в конфликте столетней давности виноваты наставники нынешних дёминских, поэтому согласны были принимать к себе последних не иначе как первым чином – перекрещиванием (что противоречит одному 138 из положений Символа веры, говорящему о «едином крещении», и абсолютно недопустимо для христиан, крещеных погружательно). В свою очередь, дёминские винили в расколе Максима Егоровича, полагали, что он Давыда отлучил от моления «не по правилам», и уличали его в любоначалии, корыстолюбии, блудодействе и волховании [Материалы 2013: 81–98]. Тем не менее, дёминские были настроены менее враждебно и, хотя в целом также не были склонны к объединению, со второй половины XX в. принимали к себе максимовских на моление простым «началом», не требуя перекрещивания. Сохранились два «подлинника о разделе», подробно передающие суть конфликта и обосновывающие правоту каждой из сторон; эти документы, написанные «по горячим следам» раздела, во второй половине XIX в., были обнаружены московскими археографами в 1970-е (максимовский подлинник) – 1990-е (дёминский) годы. Однако несмотря на то, что в Верхокамье некоторые грамотные старики знакомы с «подлинниками» и, соответственно, прекрасно осведомлены о тех событиях, большинство населения придерживается иных мнений о причинах конфликта. Попытаемся сравнить официальную (зафиксированную в письменных документах) и современную устную версии событий 1866 г. и показать, каким образом вторая может быть порождена первой в условиях естественного забывания героев истории и сути их раздора, но при сохраняющейся актуальности деления на два не приемлющих друг друга согласия. Начало расколу, согласно письменным источникам, положила незначительная размолвка между Давыдом Ивановичем (с одной стороны) и Максимом Григорьевичем и Татьяной Петровной (с другой) по поводу того, где праздновать Пасху. Размолвка стала предметом соборного обсуждения, на которое Давыд не явился. На соборе другой Максим – Максим Егорович Жданов – стал инициатором отлучения Давыда от духовенства; при этом он ссылался на соответствующие места Кормчей книги. В дальнейшем, также на основании правил Кормчей, были отлучены от моления Максим Григорьевич и другие люди, которые, зная об отлучении Давыда (как Максим Григорьевич) или не зная об этом, молились с ним вместе. Конфликт стал предметом дискуссий на нескольких соборах, но не был разрешен, а лишь усиливался, и через 12 лет, в 1888 г., его последствия – раздел на два согласия – были окончательно закреплены. В свою очередь, устные нарративы конца XX – начала XXI в. фиксируют следующие мотивы (приводятся по полевым материалам автора и небольшой публикации в [Материалы 2013: 234–238]). 139 Распространенные среди представителей обоих согласий: Дёма и Максим – два брата и/или два духовных наставника; раздел вызван их ссорой; причины ссоры: «не поделили подругу» (самая распространенная версия); «не поделили брагу»; «что-то не поделили»; «не поделили праздник» (самая редкая и имеющая параллели с письменными источниками). Распространенные в основном среди максимовских: на собор за Максимом послали «лошадь с колокольцáми», как на свадьбе «по невесту» / духовник приехал на собор «с колокольцáми» (семантика унижения духовника / духовником собора; этот мотив в его первой версии восходит к максимовскому подлиннику, в котором он, однако, приводится без толкования). В некоторых версиях дёминских «лошадь с колокольцáми» парадоксально означает не унижение, а «восхваление» духовника. Распространенные в основном среди дёминских: Максим отлучил Дёму из ревности к своей подруге (мотив восходит к отраженной в дёминском подлиннике репутации Максима как блудника); Дёма и Максим спорили о том, чья вера правая – сажали овес на «грани»: «на чьей стороне правда, то зерно и будет крепче»; Максим «в туалете скончался», по смерти «почернел», на его похоронах «вороньё каркало» и «могила провалилась со всем гробом» – на 36 метров (7 саженей/аршин и под.): «три вожжи не достали до дна, а снизу гул пламени слышен» (восходит, с одной стороны, к уподоблению Максима в дёминском подлиннике ересиархам, в частности, Арию, с другой – к мифологическим представлениям о смерти колдунов). Итак, в устных нарративах история подверглась явной редукции и новеллизации. Вместо нескольких основных участников конфликта появились два героя, ставшие в некоторых версиях братьями, имена которых восходят к названиям согласий. Запутанная причина конфликта свелась к простому объяснению (наиболее распространенному) – «подругу не поделили», находящему подтверждение в особенностях социальной структуры сообщества верхокамских беспоповцев (об «институте подруг» см. [Христофорова 2013: 232–233]). При том, что некоторые мотивы рассказов восходят к подлинникам (неизбежно меняясь в устном бытовании), другие родом либо из иных книжных сюжетов (смерть Ария), либо исключительно из устной традиции (спор об истинности веры). 140 Любопытным «перекрестком» устной и письменной традиций выступают книжные маргиналии. Так, на рукописи максимовского подлинника первой половины XX в. явно дёминский читатель писал: «На пути дьявол помог поновить ересь», «Максим Егорович был неблагословлен на духовное дело», «Тех обвинить, кто состоял в ереси, вина через жен» [Поздеева 2005: 131–132]. Возникает существенный вопрос – насколько мы можем сопоставлять официальную версию причин раздела с точкой зрения в с е х современников истории? Возможно, современное «народное» толкование – это один из существовавших уже в 1860–1880-е годы «слухов», дошедший до наших дней (при этом подробности неизбежно были забыты). Но и в таком случае наши рассуждения, как кажется, позволяют ответить на вопрос, почему именно этот слух сохранился в памяти потомков. ______________ Работа выполнена в рамках НИР «Структуры и механизмы культурной памяти» ШАГИ РАНХиГС. Литература Материалы 2013 – Материалы к истории старообрядчества Верхокамья: по итогам комплексных археографических экспедиций исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова: Сборник документов / Отв. ред. В. П. Богданов, В. П. Пушков. (Труды исторического факультета. Т. 60. Серия I. Исторические источники. Т. 6.) М., 2013. Поздеева 1982 – Поздеева И. В. Верещагинское территориальное книжное собрание и проблемы истории духовной культуры русского населения верховьев Камы // Русские письменные и устные традиции и духовная культура (по материалам археографических экспедиций МГУ 1966 – 1980 гг.). М., 1982. Поздеева 2005 – Поздеева И. В. Книжность старообрядческого Верхокамья: истоки, читатели, судьбы (по записям на экземплярах книг Верхокамского собрания НБ МГУ) // Традиционная культура Пермской земли: К 180-летию полевой археографии в Московском университете, 30-летию комплексных исследований Верхокамья (Мир старообрядчества. Вып. 5) / Отв. ред. И. В. Поздеева. Ярославль, 2005. Смилянская, Кобяк 1994 – Смилянская Е. Б., Кобяк Н. А. Предисловие // Агеева Е. А., Кобяк Н. А., Круглова Т. А., Смилянская Е. Б. Рукописи Верхокамья XV-XX вв. Каталог. Из собрания Научной библиотеки Московского университета им. М.В. Ломоносова. М., 1994. Сморгунова 1982 – Сморгунова Е. М. Пермская рукопись XIX в. «О разделе» // Русские письменные и устные традиции и духовная культура (по материалам археографических экспедиций МГУ 1966–1980 гг.). М., 1982. Христофорова 2013 – Христофорова О. Б. «Худенька рубашка, да и то переменка»: жены и «подруги» в жизни верхокамских мужчин в XX в. // Визуальное и вербальное в народной культуре: Тезисы и материалы международной школы-конференции – 2013 / Сост. А. С. Архипова, С. Ю. Неклюдов, Д. С. Николаев. М., 2013. 141 Е. Ф. Югай (НОУ ВПО Вологодский институт бизнеса, Вологда) «Я не причитаю, не покажу на голос». Какие строчки причитаний дольше всего сохраняются в памяти? Причитания – жанр классического фольклора, сопровождающий похороны и поминки. На рубеже XX–XXI вв. большинство текстов записывается «по просьбе собирателя», то есть, вне обряда. Считается, что чем длиннее текст, чем больше в нём импровизационных фрагментов, тем он ценнее для исследователя. При воспроизведении большого текста (на голос или говорком) некоторые фрагменты появляются при повторной записи, в какой-то момент информант может «вернуться» к началу, повторить, исполненное прежде иначе. Всё это происходит при попытке показать «причёт» (так причитания называют на Вологодчине) как можно более полный. Однако часто начав говорить текст, информант останавливается после второй, четвёртой, шестой строки и отказывается вспоминать дальше. В ответ на просьбу повторно воспроизводит те же две– четыре строки. Иногда это можно объяснить иной коммуникативной задачей, например, рассказать «как причитали»; иногда тем, что информант никогда не исполнял причитания, а был лишь слушателем в то время, когда причитания были обязательными и существовали специалисты, делавшие это хорошо. В случае отказа информанта «показать, как причитали», просьба «рассказать» приносит плоды в виде фрагментов причитаний, помечаемых в архиве как «проба текста» и обычно не входящих в собрания и публикации. В сборнике Вологодских причитаний [Югай 2011] подобные фрагменты давались в форме рассказа с вкраплениями поэтических строк. В данной работе будут рассматриваться именно короткие отрывки причитаний, хранящиеся в Вологодских архивах. Итак, какие строчки вспоминаются теми информантами, которые потеряли способность (или желание) к воспроизведению более или менее полного текста причитания? 1. Во-первых, те части причитания, которые необходимы для проведения обряда, то есть, практическая ценность которых наиболее высока. Для примера можно привести фрагмент интервью: …умершего клали на лавку и сразу. Начинали причитать: Выхожу я сиротиночка, На широкую на улочку, 142 На разъездную дороженьку. Попушшу я свой зычен голос По заре, да по вечоровой. Лети, лети мои слова, Разбей гробову доску. Ставай, да приходи. Про тебя да байна истоплена. Про тебя вода ключевая нагрета. У тебя платьё замаралось, Да и сама замаралась. Приходи мойся да… Причитают, когда душу провожают: Распрошшайся со своим благодатным домом, Со своёй семьёй и со всей природушкой. И со широкой улочкой, И со широкими полями. Причитают, когда душу зовут: Собрались да все, родня да природушка, Все дожидают тебя. Садись за столы, да за дубовые, Для вас всё приготовлено… [КЦТНКиР]. Первый текст интервью, несмотря на небольшой объём, обладает композиционной законченностью. Экспозиция – рассказ о себе, о дороге причитальщице к месту причёта, в некоторых текстах занимающий десятки строк, составляет первые три строки. Речевое действие – описание собственно причитания, своего голоса как силы, способной пробудить умершего и побудить душу прийти на поминки. Обращение к умершему, императив «ставай да приходи!» (без присутствующих в развёрнутых текстах причитаний обращений к разным стихиям и отдельно к каждой части тела умершего). Описание бани, мотивировка («платье замаралося») и приглашение. Таким образом, текст представляет собой конспект, основное содержание причитания, костяк, на который можно нарастить множество словесных формул. Следующие два фрагмента содержат по четыре строки. Из причёта на проводы души информант вспоминает характерный для причитаний «по дороге на кладбище» мотив прощания с миром живых (фрагмент непосредственно начинается со слова «распрощайся»). Из причёта–приглашения души в гости – сооб143 щение, что все родственники собрались и ждут. Небольшой, но содержательный текст похож на приговор. Фрагменты причитаний могут дублировать (и подтверждать) комментарии и содержать фактически руководство-памятку к проведению обряда. 2. Другой вариант – попытка вспомнить ряд не содержательных (пересказывающих обряд), а поэтических формул: Ну, вот например, если рано уйдёт: Ой, закрылись твои ясны глазоньки, Не вовремя ты ушёл… Да вот там: …сизым голубем нарядился. Всякие разные причёты. Я не причитаю, не покажу на голос [Югай 2011. Баб. 22: 78]. Наиболее частые и общие мотивы в похоронных причитаниях: обращение к умершему, сетование на его скорый уход. В поминальных – обращение к стихиям, просьба открыть глаза – см. [Югай 2011. Тот. 14, Тот. 15]. Возможно вплетение поэтических формул причитаний в рассказ: «Вишь, слезно чтобы оплакатьто надо. Из высокого терема уж пойдёт дак, чтобы…. Тут уж по-за ёй идут, кои глядели, дак всё покидают: стулья, столы. Всё, чтобы тункало: пошёл хозяин из дому, боле не воротится дак, всё это покидают» (курсивом выделены формулы причитаний) [Югай 2011. Баб. 16: 75]. В одном из фрагментов в урезанном виде присутствует специфический для Никольского района Вологодской области образ реки с колючими берегами, ни к одному из которых нельзя причалить: «Вот эдак и ревут, девочки: «однаодинёшенька», верно, «ни к которому бережку не приплыть, не приплавати...». Всю, девочки, я вот эдак и жизнь прожила. Восемьдесят первый год уж» [Югай 2011. Ник. 4: 91]. В причитаниях других районов эта формула не встречается. То есть память сохраняет и редкие элементы, если они распространены в конкретном месте. 3. Припоминание подчёркнуто нетипичных фрагментов присутствует в рассказах о сочинении причёта. Сюжеты таких рассказов повторяются, вероятно, речь идёт не об элементе авторской импровизации, а о редкой для данной местности формуле. Например, строки: «Научит горё плакати / Научит горё тужити, / Да без руна шерсти чёрные, / Да без рябые-то курушки» [Югай 2011. Тарн. 14: 55] входят в устный рассказ (о том, что данный фрагмент правильнее 144 классифицировать как устный рассказ, чем как собственно причёт или его фрагмент, см. [Югай 2012: 85]. Как редкие, обратившие на себя внимание информанта, припоминаются следующей строки в рассказе о причёте: «Все–те люди насмехалисе, / И вороны-те все накаркалисе» [ВОДЮЦТНК]. Исполнительница подчёркивает ситуативность причёта: «женщина отняла от бабы мужика, а он умер. Мать умершего причитала». Этот пример запомнился ей в силу нетипичности. Однако параллелизм злословящих людей и каркающих (лающих) ворон есть в причитаниях знаменитой плакальщицы И. Федосовой: «Добры людушки меня да приобаяли, / Черны вороны талан, знать, приоблаяли!» [Круглов 2000. № 237: 309]. И в том, и в другом случае никаких других – типичных – фрагментов причитаний не приводится. Цель информантов не показать, как это бывает вообще, а рассказать о некоем особо примечательном причёте, передать воспоминание о редком, на взгляд информанта, уникальном случае, свидетелем которого он являлся. Таким образом, строчки из причитаний, припоминаемые информантами, без воспроизведения полных текстов, зависят от следующих контекстов: рассказ об обряде (как и что именно следует делать); рассказ о традиции в целом (в таком случае воспроизводятся общие места причитаний, наиболее распространённые в русской или – реже – местной традиции); рассказ об «уникальном случае» (когда приводятся строчки не типичные, редкие). При таких кратких рассказах невозможна импровизация, отсутствуют и развёрнутые речевые фигуры. Вспоминаются чаще всего 2–4 строчки причитаний. Но эти строчки служат идентификатором, своеобразным заголовком причитания по первой (или ключевой) строке. Несмотря на свою кажущуюся неценность именно эти строчки наиболее живучи, они – последнее, что остаётся от причитаний в памяти носителей традиции. ____________ Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 14–36–50255 мол_нр Источники и литература ВОДЮЦТНК – Архив БОУ ДОД «Вологодский детско-юношеский центр традицонной народной культуры». Зап. от Ванюшиной М. М., 1926 г.р. Вологодская обл., Вожегодский район, д. Нефёдовская, 2006. Зап: Шохина Н. Е. АФ 1191. № 17. КЦНТКиР – Экспедиционный фонд МУК «Кадуйский центра народной традиционной культуры и ремёсел». Зап. от Павловой А. Н., 1919 г.р. Вологодская обл., Кадуйский район, д. Аксентьевская, 1995. Зап.: Зуева Т. А. АФД – 019. № 34–36. 145 Круглов 2000 – Круглов Ю. Г. Обрядовая поэзия: Кн. 3. Причитания. Москва, 2000. Югай 2011 – Югай Е. Ф. Причитания похоронно-поминального цикла на территории Вологодской области: к проблеме разграничения фольклорных диалектов // Фольклористика и культурная антропология сегодня: тезисы и материалы Международной школы-конференции — 2012. М.: РГГУ, 2012. Югай 2012 – «Не пристать, не приехати ни к которому бережку»: похоронные и поминальные причитания Вологодской области / Сост., авт. вступ. ст. и коммент. Е. Ф. Югай. Вологда, 2011. (Вып. 1: Тотемский, Тарногский, Бабушкинский и Никольский районы). А. Б. Юдкина (Тула) Между свидетельством и архивом: механизмы перехода от коммуникативной к культурной памяти В рамках исследования я, вслед за немецким египтологом Яном Ассманом, буду понимать культурную память как «одно из внешних измерений памяти», в которое при определенных условиях перемещаются три другие измерения памяти: миметическое (деятельное), предметное и коммуникативное. Главное в культурной памяти – это передача и воскрешение культурных смыслов посредством обрядов (действий) и предметов (памятников, мемориалов, храмов и т.д.), которые «эксплицируют имплицитный показатель времени и идентичности» [Ассман 2004: 19–21]. В фокусе данного доклада будут отдельные аспекты и механизмы перехода из коммуникативной памяти в память культурную на двух конкретных примерах. Коммуникативная память – это совместные воспоминания современников о недавнем прошлом, которые создаются в единой пространственной среде и при постоянном взаимодействии. Временной период данной памяти – 80–100 лет или 3–5 сосуществующих поколений; немецкий историк Алейда Ассман еще называет эту память «оперативной» по аналогии с оперативной памятью компьютера, в которой во время его работы хранятся выполняемые программы, а также входные, выходные и промежуточные данные, обрабатываемые процессором [Ассман 2004: 52, Ассман 2014: 22–24]. Культурная память имеет дело с фиксированными и воссозданными воспоминаниями, она нормативна и сконструирована. В ней история превращается в миф посредством воспоминания. Ян Ассман отмечает, что культурным воспоминаниям присущ сакральный компонент и часто воскрешение их в памяти 146 происходит посредством праздника и ритуалов. Его исследования сосредоточены на древних культурах, но это утверждение справедливо и для современного общества [Ассман 2003: 54]. Культурная память основывается на опыте и знаниях, которые отделяются от живых носителей и переходят на материальные информационные носители. Символы являются носителями культурной памяти, «экстернализированным и развоплощенным опытом». Культурная память базируется на внешних медиаторах: текстах, изображениях, монументах, ритуалах. Пока зафиксированные материально и институционально знаки сохраняются, временной диапазон культурной памяти расширяется. Символы закрепляют воспоминания тем, что обеспечивают императивную общность воспоминаний для следующих поколений. Монументы и памятники, годовщины и ритуалы из поколения в поколение упрочивают коммеморацию за счет материальных знаков и периодичности повторений. Они дают возможность последующим поколениям, не имеющим соответствующего собственного опыта, приобщиться к общественному. Функционирование культурной памяти обеспечивается социальной коммуникацией, в процессе которой она усваивается памятью отдельных индивидов, т.е. культурная память возвращается в коммуникативную или оперативную память общества. Если живое общение нарушается, исчезает и совместное воспоминание. Тогда материальные носители этой живой памяти (фото и письма) становятся «окаменелым следом утраченного прошлого, неспособным ожить благодаря спонтанному воспоминанию» [Ассман 2014: 25–32]. Культурное воспоминание становится коммуницируемой информацией посредством репрезентации (символического кодирования, записи на материальные носители, ретрансляции и т.д.). Для того чтобы превратиться в знание, эта информация должна быть воспринята заинтересованным человеком и переработана им, в противном случае она будет отложена в культурной накопительной памяти (Ассман 2014: 227–228). Первый из рассматриваемых случаев – мемориал в пос. Первомайский Щекинского р-на Тульской области. До 2013 г. он ассоциировался исключительно с памятью о Великой Отечественной войне, затем приобрел дополнительные значения: как потенциальное место памяти – зажжение первого Вечного огня в СССР в 1957 г. и как новый локальный бренд Тульской области. Как это стало возможно? Во-первых, в период создания мемориала и зажжения Вечного огня не было достаточной репрезентации данных событий, оно не воспринималось как уникальное (первый Вечный огонь в СССР), на повестке дня были другие 147 моменты (окончательный пуск завода, вынужденное перепрофилирование производства), у местных властей не возникало потребности обозначить это событие. Во-вторых, по всей видимости, данное воспоминание непродолжительное время обсуждалось, находилось в области коммуникации, учитывая постоянную «текучку» кадров на предприятии, а значит, непостоянный состав населения поселка. Хотя очень обрывочно и неполно, но информация о данном событии отложилась в культурной накопительной памяти (обрывки воспоминаний, архивная советская периодика, заметки в краеведческой литературе). Плюс в районе и области в настоящее время проводится активная политика патриотического воспитания молодежи и увековечения памяти о Великой Отечественной войне, уделяется много внимания памятникам особенно в преддверии Дня Победы. Все эти факторы способствовали запуску механизмов передачи информации о первом Вечном огне в СССР по каналам культурной памяти в коммуникативную и конструирования нового места памяти. Если в первом случае событие, память о котором была восстановлена, относится к концу 1950-х годов, то во втором кейсе будет рассмотрены механизмы сохранения и ретрансляции памяти о событии 10-летней давности – захвате заложников в школе № 1 г. Беслана в республике Северная Осетия, Алания, 1–3 сентября 2004 г. Тогда во время праздничной линейки террористы захватили в заложники более 1000 человек. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 – дети. Как отмечает Алейда Ассман, публичная мемориальная культура (сооружение памятников, музейные экспозиции, кинофильмы и другие формы) формируются обычно спустя 15–30 лет после событий травматичного характера [Ассман 2014: 29]. Однако на примере Беслана можно констатировать более раннее начало этих процессов. Начавшись стихийно с первых часов после окончания штурма, мемориализация Бесланской трагедии получила институциализированную форму посредством создания официальных монументов и «вторичных» памятных знаков, как в самом Беслане, так и далеко за его пределами. Новая дата была внесена в календарь государственных памятных дат как День солидарности в борьбе с терроризмом. На руинах школы создан мемориальный комплекс, рядом с ним ведется строительство храма, «Матери Беслана» планируют открыть музей, посвященный памяти жертв, в частично отреставрированном здании школы. 148 Коммеморации Бесланской трагедии носят регулярный и международный характер, инициатива их проведения исходит как от государственных комитетов, так и от частных лиц. На сегодняшний день можно говорить о том, что сложился определенный сценарий траурных мероприятий. Акции памяти вобрали в себя фабулу и все главные символы мемориальной практики, сложившейся первоначально в Беслане [Юдкина 2014]. К 2014 г. снято несколько документальных фильмов о Бесланской трагедии. В 2014 г. в Сахаровском центре в Москве прошла фотовыставка английского фотографа Джеймса Хилла «Беслан». В преддверии годовщины во многих СМИ появляются интервью с очевидцами тех событий, а также издано много сборников художественной литературы, посвященных памяти жертв. Воспоминания о Бесланской трагедии до сих пор находятся в коммуникативной памяти общества, но они уже конструируются и сохраняются на различные материальные носители для перехода в культурную память. _______________ Литература Ассман 2014 – Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика. М., 2014. Ассман 2004 – Ассман Ян. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004. Юдкина 2014 – Юдкина А. Мемориализация бесланской трагедии // Этнографическое обозрение. 2014. № 2. 149