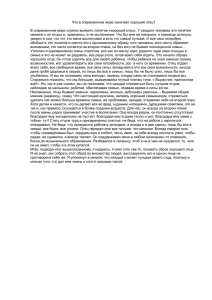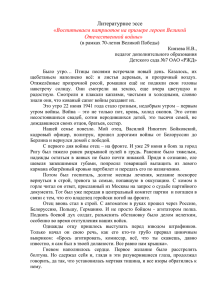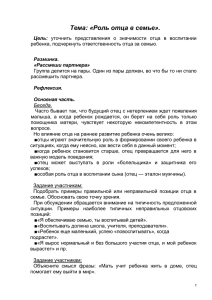Отец
advertisement
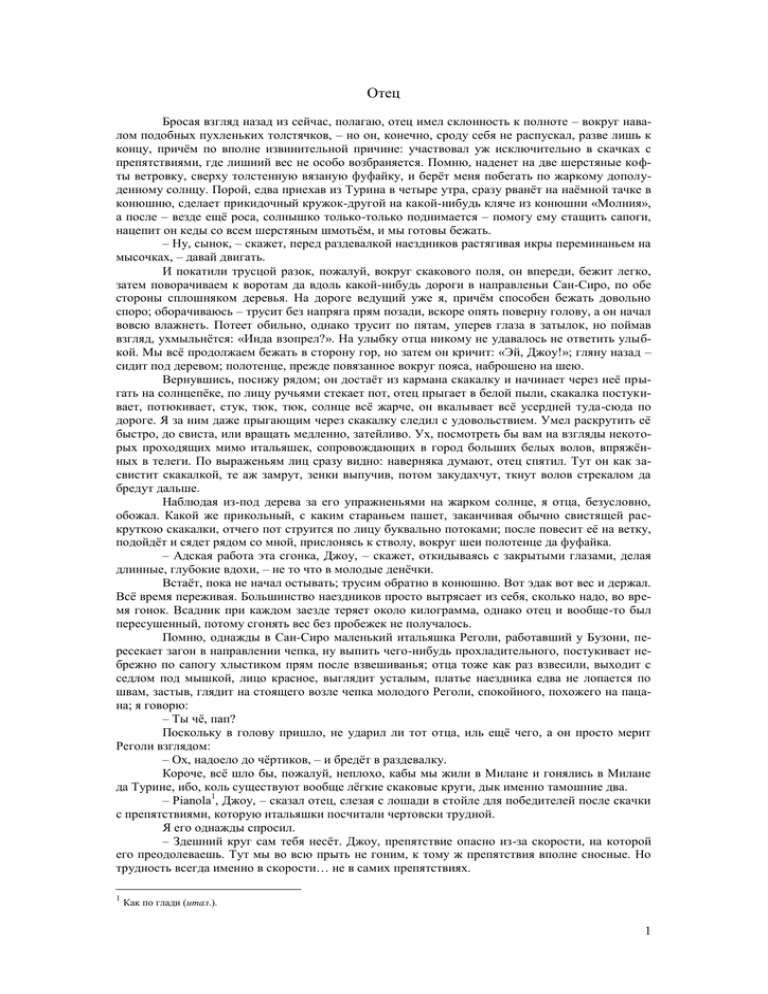
Отец Бросая взгляд назад из сейчас, полагаю, отец имел склонность к полноте – вокруг навалом подобных пухленьких толстячков, – но он, конечно, сроду себя не распускал, разве лишь к концу, причём по вполне извинительной причине: участвовал уж исключительно в скачках с препятствиями, где лишний вес не особо возбраняется. Помню, наденет на две шерстяные кофты ветровку, сверху толстенную вязаную фуфайку, и берёт меня побегать по жаркому дополуденному солнцу. Порой, едва приехав из Турина в четыре утра, сразу рванёт на наёмной тачке в конюшню, сделает прикидочный кружок-другой на какой-нибудь кляче из конюшни «Молния», а после – везде ещё роса, солнышко только-только поднимается – помогу ему стащить сапоги, нацепит он кеды со всем шерстяным шмотьём, и мы готовы бежать. – Ну, сынок, – скажет, перед раздевалкой наездников растягивая икры переминаньем на мысочках, – давай двигать. И покатили трусцой разок, пожалуй, вокруг скакового поля, он впереди, бежит легко, затем поворачиваем к воротам да вдоль какой-нибудь дороги в направленьи Сан-Сиро, по обе стороны сплошняком деревья. На дороге ведущий уже я, причём способен бежать довольно споро; оборачиваюсь – трусит без напряга прям позади, вскоре опять поверну голову, а он начал вовсю влажнеть. Потеет обильно, однако трусит по пятам, уперев глаза в затылок, но поймав взгляд, ухмыльнётся: «Инда взопрел?». На улыбку отца никому не удавалось не ответить улыбкой. Мы всё продолжаем бежать в сторону гор, но затем он кричит: «Эй, Джоу!»; гляну назад – сидит под деревом; полотенце, прежде повязанное вокруг пояса, наброшено на шею. Вернувшись, посижу рядом; он достаёт из кармана скакалку и начинает через неё прыгать на солнцепёке, по лицу ручьями стекает пот, отец прыгает в белой пыли, скакалка постукивает, потюкивает, стук, тюк, тюк, солнце всё жарче, он вкалывает всё усердней туда-сюда по дороге. Я за ним даже прыгающим через скакалку следил с удовольствием. Умел раскрутить её быстро, до свиста, или вращать медленно, затейливо. Ух, посмотреть бы вам на взгляды некоторых проходящих мимо итальяшек, сопровождающих в город больших белых волов, впряжённых в телеги. По выраженьям лиц сразу видно: наверняка думают, отец спятил. Тут он как засвистит скакалкой, те аж замрут, зенки выпучив, потом закудахчут, ткнут волов стрекалом да бредут дальше. Наблюдая из-под дерева за его упражненьями на жарком солнце, я отца, безусловно, обожал. Какой же прикольный, с каким стараньем пашет, заканчивая обычно свистящей раскруткою скакалки, отчего пот струится по лицу буквально потоками; после повесит её на ветку, подойдёт и сядет рядом со мной, прислонясь к стволу, вокруг шеи полотенце да фуфайка. – Адская работа эта сгонка, Джоу, – скажет, откидываясь с закрытыми глазами, делая длинные, глубокие вдохи, – не то что в молодые денёчки. Встаёт, пока не начал остывать; трусим обратно в конюшню. Вот эдак вот вес и держал. Всё время переживая. Большинство наездников просто вытрясает из себя, сколько надо, во время гонок. Всадник при каждом заезде теряет около килограмма, однако отец и вообще-то был пересушенный, потому сгонять вес без пробежек не получалось. Помню, однажды в Сан-Сиро маленький итальяшка Реголи, работавший у Бузони, пересекает загон в направлении чепка, ну выпить чего-нибудь прохладительного, постукивает небрежно по сапогу хлыстиком прям после взвешиванья; отца тоже как раз взвесили, выходит с седлом под мышкой, лицо красное, выглядит усталым, платье наездника едва не лопается по швам, застыв, глядит на стоящего возле чепка молодого Реголи, спокойного, похожего на пацана; я говорю: – Ты чё, пап? Поскольку в голову пришло, не ударил ли тот отца, иль ещё чего, а он просто мерит Реголи взглядом: – Ох, надоело до чёртиков, – и бредёт в раздевалку. Короче, всё шло бы, пожалуй, неплохо, кабы мы жили в Милане и гонялись в Милане да Турине, ибо, коль существуют вообще лёгкие скаковые круги, дык именно тамошние два. – Pianola1, Джоу, – сказал отец, слезая с лошади в стойле для победителей после скачки с препятствиями, которую итальяшки посчитали чертовски трудной. Я его однажды спросил. – Здешний круг сам тебя несёт. Джоу, препятствие опасно из-за скорости, на которой его преодолеваешь. Тут мы во всю прыть не гоним, к тому ж препятствия вполне сносные. Но трудность всегда именно в скорости… не в самих препятствиях. 1 Как по глади (итал.). 1 Мировейший круг из мною виденных – в Сан-Сиро, но отец называл такую жизнь собачьей. Сновать между Мирафиоре да Сан-Сиро, почти ежедневно участвуя в заездах, причём каждую вторую ночь проводить в поезде. А ещё я с ума сходил по лошадям. Непередаваемое ощущенье: выходят и ступают по дорожке к исходной черте. Выглядят вроде бы приплясывающими, напряжёнными, наездники туго натягивают повода, порой чуть приотпуская, дозволяя небольшую пробежечку. Сильней всего меня прихватывало после того как они уже у перегородки. Особенно в Сан-Сиро, где большое зелёное скаковое поле, вдали горы, да дебелый итальяшка с длинным кнутом, дающий знак к началу соревнований, да наездники, разворачивающие скакунов, затем перегородка резко взлетает, звучит колокол, сорвавшись гурьбой, начинают вытягиваться в цепочку. Ну, знаете мчащую ватагу кляч. Наблюдая с верхних мест для зрителей через подзорную трубу, видишь только, мол рванули, потом долетает колокольный перезвон, впечатленье, словно бьёт целую тыщу лет, а те уж закладывают поворот. Отродясь ни с чем не сравню. Но однажды в раздевалке отец перед самым выходом на улицу сказал: – Джоу, ни одну из тутошних развалюх лошадью не назовёшь. В Париже всю шоблу пустили б на шкуры да копыта. В тот день он выиграл Торговую награду на Ланторне, выстрелив ею из плотной толкучки на последних ста метрах, точно пробкой из бутылки шипучего. Сразу после гонки за Торговую награду мы, завязав, Италию покинули. Отец поспорил за столиком в «Галерее» с Хоулбруком и каким-то жирным итальяшкой в соломенной шляпе, всё утиравшим лицо платком. Разговор шёл по-французски, оба чего-то из отца вытягивали. В конце концов он замолчал, однако продолжал сидеть, глядя на Хоулбрука, а те двое всё наезжают да наезжают, сперва говорит один, затем другой, причём жирный итальяшка постоянно Хоулбрука перебивает. – Джоу, сходи купи мне «Ристателя», лады? – не отрывая взгляд от Хоулбрука, отец дал мне мелочь. Короче, выйдя из «Галереи», шагаю к храмине, где показывают поючие действа, покупаю перед входом заказанное изданье, бреду обратно и встаю чуток в сторонке, поскольку встревать-то неохота; отец сидит, откинувшись, в кресле, смотрит на свой кофе, вертя в руках ложечку; Хоулбрук с большим итальяшкой стоят, большой итальяшка утирает лицо, покачивая башкой. В общем, подхожу; отец ведёт себя, словно те двое вовсе там не стоят; «Джоу, мороженого хошь?» – спрашивает. Хоулбрук, глядя на отца, без спешки, членораздельно выговорил: «Сукин ты сын», и они с жирным итальяшкой, огибая столики, отвалили. Отец сидит, на губах вроде б усмешка, но лицо бледное, выглядит чертовски скверно, я прям перетрусил, аж подташнивает, ибо чую: чего-то произошло; а сам не понимаю, как чувак посмел назвать отца сукиным сыном и остаться безнаказанным. Открыв «Ристателя», отец просмотрел по-быстрому раздел о скачках с препятствиями, после говорит: – Джоу, тебе надлежит ещё многое познать. Три дня спустя мы навсегда укатили поездом из Милана через Турин в Париж, распродав возле конюшни Тёрнера всё не влезшее в сундук и чемодан. Рано утром приезжаем на длинный грязный помост, названный отцом Лионским вокзалом. После Милана Париж выглядит жутко большим городом. Вроде бы, словно в Милане, каждый куда-то идёт, все трамваи куда-то едут, и вообще-то никакой неразберихи, но Париж похож на клубок ниток, который никто не намерен распутывать. Тем не менее, я его полюбил – по крайней мере, местами, – и уж поверьте: скаковые поля там лучшие в мире. Впечатленье, якобы именно вокруг них заверчено всё; причём наверняка можешь рассчитывать чуть ли не на единственное: автобусы покатят к той дорожке, где намечены бега, сквозь любые преграды к той самой дорожке. По-настоящему Париж я так и не узнал, ибо просто приезжал туда раз-другой в неделю из Домов с отцом; он всегда сидел в закусочной «Мир» обочь Храмины поючих действ с остальною братвой из Домов; насколько понимаю, там самая деловая часть города. Вообще-то чуднό: в столь большом поселеньи как Париж нету «Галереи», правда? Словом, жить мы поехали в Дома Лафитта, где обитают почти все, кроме шайки-лейки из Шантийи, к г-же Майерз, содержащей комнаты с кормёжкой. Дома – мировейшее виденное мной за всю жизнь место для проживанья. Посёлок-то ничего из себя не представляет, однако наличествуют озеро да мировой лес, куда мы, кучка пацанов, порой хаживали на целый день просто ради удовольствия; отец сварганил рогатку, благодаря ей много чего с парнями добыли, лучшей поживой стала сорока. Однажды младший Дик Аткинсон подбил из неё кролика, положили мы добычу под дерево, сами сели вокруг, у Дика нашлось несколько сигарет, вдруг кролик, вскочив, рвёт в кусты, все за ним, но так ни фига и не нашли. Да уж, прикольно мы в Домах 2 проводили время. Г-жа Майерз по утрам даёт с собой завтрак, и я исчезаю до вечера. Французский выучил быстро. Язык-то лёгкий. Едва приехав в Дома, отец письменно запросил из Милана свои корочки; изрядно волновался, мол не вышлют. В Домах он обычно сидел с братвой в закусочной «Париж», там жили многие парни, знакомые ему по гонкам в Париже ещё до войны; а времени штаны протирать предостаточно, поскольку вся работа в скаковой конюшне (в смысле, у наездников) заканчивается к девяти утра. Первую половину кляч выводят для верховой работы в 5 30, вторая вкалывает с 8 часов. Значит, вставать надо очень рано, ложиться тоже. Коль наездник ещё за кого-то выступает, ему помногу пьянствовать нельзя, ибо пока молоденький, его всю дорогу пасёт руководитель подготовки, а станет постарше – сам себя сдерживает. В общем, вне работы всадник торчит с братвой в закусочной «Париж», они запросто просиживают перед какой-нибудь рюмкой вроде разбавленного водой вермута часа по два-три, болтают, травят байки, пустомелят кто во что горазд; короче, вроде как смахивает на комнату отдыха или на миланскую «Галерею». Правда, на «Галерею» не совсем похоже, поскольку там состав вечно переменный, а тут все безвылазно сидят за столиками. Короче, отец корочки таки получил. Слова не сказав, переслали; он раза два-три поучаствовал в забегах. В Амьене на севере, ещё где-то, но вроде бы на постоянную работу не приглашали. Всем он нравился; всякий раз, как зайду перед полуднем в закусочную, обязательно с кем-либо выпивает; отец ведь совсем не прижимистый в отличье от большинства тех наездников, кто заработал первые бабки, гоняясь на всемирной выставке в Сент-Луисе в лохматом тыща девятьсот четвёртом. Эдак он обычно говорил, подкалывая Джорджа Бёрнза. Тем не менее, мимо скачек его как бы прокатывали. Каждый день мы ездили из Домов в тачке на какое-нибудь скаковое поле – это самое прикольное. Я радовался возвращению лошадей из Довиля и лету. Даже несмотря на прекращенье шатаний по лесу – ведь вместо того мы катили в Ангиен, или Трамбле, или Сен-Клу наблюдать бега с мест для наставников и наездников. Во время выездов с братвой я здорово нахватался насчёт скачек; любой день – сплошная прикольность. Помню один случай в Сен-Клу. Проводили нехилый забег, наградные двести тыщ франков, семь участников, явно наибольшая вероятность выиграть – у Кцара. Мы с отцом пошли в загон глянуть на соискателей; вы сроду подобных лошадей не встречали. Знаменитый Кцар – огромный здоровенный золотистый жеребец; судя по виду, создан исключительно для скачек. Отродясь подобной лошади не встречал. Его прогуливали по загону на поводу; идёт с опущенной головою мимо – у меня аж дух перехватило, до чего красивый. Столь чудесных, стройных, скроенных под бег лошадей вообще свет не видывал. Ходит себе по загону; ноги переставляет уверенно, спокойно, тщательно; движенья лёгкие, словно прям понимает, какая предстоит работа; не дёргается, на дыбы не встаёт, дикие буркала не пучит навроде сидящих на игле коняг, подготовленных заводчиками к продаже. А толпища нахлынула такая густая, что мне его уже не видно, только ноги идущие да промельки золотистого; отец вылез из толкучки, я следом, режет угол к раздевалке наездников, на задах там в рощице, у входа тоже яблоку негде упасть, но служитель в котелке у дверей отцу кивнул, мы и заходим; все сидят, одеваются, напяливают рубахи через головы, влезают в сапоги, кругом пахнет возбужденьем, потом, мазями какими-то, снаружи народ зенки пялит. Отец шагнул к Джорджу Гарднеру, надевавшему брюки, сел рядом и спрашивает: – Чё пророчат, Джордж? – просто обычным голосом, ибо вокруг да около ходить бесполезно: тот сказать ему либо вправе, либо нет. – Выиграет не он, – склонившись застегнуть нижние пуговицы на штанинах, очень тихо говорит Джордж. – А кто? – тоже нагибается поближе отец, дабы другие не услыхали. – Кёркуббин. Коль взаправду победит, откинешь мне с двух-трёх ставочек. Отец чего-то вещает невозмутимо; Джордж ему: – Умоляю, в жисть не играй на бабки, – ну вроде как шутливо; короче, мы отваливаем, пробираемся сквозь заглядывающий внутрь народ и прямиком к устройству приёма 100франковых ставок. Но я понимаю: происходит чего-то важное, поскольку Джордж как раз скачет на Кцаре. По дороге родитель хватает жёлтый листочек с напечатанными первоначальными ставками: Кцара оценивают в 5 с каждых вложенных 10, следующий Сефисидот по 3 к 1, пятым в списке Кёркуббин с прикидкой 8 к 1. Отец вбухивает пять тыщ на выигрыш Кёркуббина, тыщу ставит на распределенье победителей; мы обходим сзади возвышающиеся ряды для зрителей, всходим по лестнице и занимаем место, дабы следить за скачкой. Набилось нас точно сельдей в бочку; выходит человек в длинной крылатке, высокой серой шляпе и с хлыстом, обвитым вкруг кулака, после, одна за другой, – лошади, наездники 3 уже в сёдлах, каждую с обеих сторон держат под уздцы конюхи, все следуют за выводящим. Могучий золотистый Кцар шагает первым. Сначала столь большим не выглядит, пока не увидишь длину ног, вообще всё телосложенье, как ступает. Э-эх, сроду подобного коня не встречал. На нём восседает Джордж Гарднер, плывут не спеша по пятам за стариканом в высокой серой шляпе, возглавляющим шествие, словно распорядитель в ристалище. За Кцаром, гладкозолотистым в лучах солнца, смазливый вороной жеребец с изящной головой под седлом Томми Арчибалда, после вереница из ещё пяти лошадей, все вышагивают медленной торжественной цепью мимо возвышенья для зрителей и pesage 2. Отец говорит: вороной – Кёркуббин; я хорошенько пригляделся – выглядит впрямь здоровско, но далеко не Кцар. А тот пока проходит, все его приветствуют; уж конечно, он единственный из лошадей выглядит мирово. Шествие проследовало обочь pelouse3 на другом крыле, затем обратно к ближней части скакового круга, ристалищный распорядитель велел конюхам отпустить участников одного за другим, дабы проскакали намётом перед зрителями к исходной черте – пусть, мол, все посмотрят хорошенько. У черты их вообще почти не задержали, ударили по тарелке, и вот уже у дальнего конца поля вся плотная ватага заходит на первый поворот, словно пригоршня игрушечных лошадок. Смотрю через подзорную трубу – Кцар приотстал, а скорость задаёт какая-то гнедая. Ворвавшись в поворот, выписали дугу, скачут с топотом мимо нас, Кцар далеко сзади, а первым тот коняга, Кёркуббин, чешет гладко. Э-эх, жуть пробирает наблюдать за рвущими мимо, и уже вынужден глядеть, как убегают вдаль, становясь меньше, меньше, затем сжатая перед поворотом гурьба на дуге растягивается, а ты чувствуешь всё более настоятельные позывы сыпать бранью и сквернословить. Наконец, вышли из последнего поворота на прямую; тот коняга, Кёркуббин, значительно впереди. Народ выглядит прикольно, все с досадой приговаривают «Кцар»; а те втыкают всё ближе на заключительном отрезке, тут из кучи чего-то выскочило прям ко мне в подзорную трубу, точно золотистый мазок с лошадиной головой, все заорали «Кцар», словно чокнутые. Тот мчал быстрей чего-либо виденного мною в жизни, доставая Кёркуббина, бежавшего насколько вообще способен, наездник адски хлещет вороного плёткой, какой-то миг летят ноздря в ноздрю, однако впечатленье, словно скорость у Кцара чуть не в два раза выше благодаря огромным прыжкам и вытянутой голове… но поравнялись-то уж за ленточкой; согласно выскочившим в окошке итогам, первым пришёл номер 2, то бишь выиграл Кёркуббин. У меня внутри всё дрожит, ощущенье прикольное, затем нас крепко стиснули люди, спускавшиеся к доске перед щитом, где вывесят, сколько положено за Кёркуббина. Честно сказать, наблюдая за забегом, я позабыл, какую тьму бабок отец в него вбухал. Столь чертовски сильно жаждал успеха Кцара. Но теперь-то всё позади, посему мирово знать, что он поставил на победителя. – Во мировая скачка, правда, пап? А он глядит на меня вроде как с приколом, котелок на затылке: – Джордж Гарднер мировой наездник, вот уж всем правдам правда. Только великий наездник в силах не дать выиграть скакуну наподобье Кцара. Я, само собой, всю дорогу понимал насчёт прикола. Но отец, вот эдак вот напрямую высказав, конечно ж, весь балдёж обломал; я уже по-настоящему не угорал; даже после того как на доске обнародовали числа, прозвонил колокольчик, дескать начата выплата, и мы увидели: Кёркуббин принёс 6,75 к 1. Народ вокруг говорил: «Бедный Кцар! Бедный Кцар!» А я думал: вот бы стать наездником да скакать на нём заместо сегодняшнего сукина сына. Прикольно было думать про Джорджа Гарднера точно про сукина сына, он ведь мне всегда нравился, и вообще подсказал нам победителя; тем не менее, полагаю, названье для него подыскал, безусловно, правильное. После того забега у отца образовалась куча денег, он завёл привычку ездить в Париж чаще. Коль скачки проводили в Трамбле, на обратном пути к Домам просил высадить посреди города; мы с ним, заняв столик перед закусочной «Мир», разглядывали прохожих. До чего ж прикольно. Мимо бурлят потоки людей, разные чуваки подходят с желаньем впарить всяческую хренотень, любил я посидеть там с отцом. Прикольней всего время проводили именно тогда. Проходят парни, продающие прикольных кроликов, прыгающих, коль стиснуть грушу; подойдут к нам, а отец с ними перешучивается. По-французски умел прям как по-английски, все тамошние разномастные парни его знали, поскольку наездника сразу чуешь… к тому ж мы всегда сидели за одним и тем же столиком; короче, они привыкли нас там видеть. Чуваки толкают брачные объявленья, девицы втюхивают резиновые яйца, на которые нажмёшь, а оттуда выла2 3 площадки для зрителей (фр.). дешёвых мест (фр.). 4 зит петушок; какой-то похожий на червя старикан продавал открытки с видами Парижа, всем их показывал, но никто, конечно же, сроду ни одной не взял, а после возвратится, выставит исподнюю часть стопки, а снизу открытки все непристойные, посему многие, покопавшись, кой-чего приобретали. Э-эх, какие ж порой выползали прикольные существа. Девицы, ближе к ужину выискивающие, кто бы пригласил поесть; заговаривали с отцом, он выдаст шуточку по-французски, те потреплют мою макушку да идут дальше. Однажды за соседним столиком сидела американка с маленькой дочкой, обе кушали мороженое, я всё глядел на девочку, ужасно хорошенькую, потом ей улыбнулся, она – мне, однако дальше не пошло, поскольку потом каждый день выглядывал её с мамашей, изобретал приёмчики, как с ней заговорить, задавал себе вопрос, сумею ли поближе узнать, коль мать разрешит пригласить дочку в Отёй или Трамбле, но ни одну из них больше не встретил. Вообще-то, полагаю, ни фига хорошего всё равно б не вышло, ибо, глядя в прошлое, припоминаю, что наилучший придуманный способ завести разговор заключался в следующем: спросить «Извините, но назвать вам, кто сегодня победит в Ангиене?», после чего она, пожалуй, решила б, я жучок с бегов, а вовсе не норовлю подарить ей победителя. Мы обычно сиживали в закусочной «Мир», отец со мной, посему завели мощный блат у подавальщика, ибо родитель пил виски, по пять франков за рюмку, следовательно при расчёте полагались крупные чаевые. Он выпивал изрядней, чем я видел за все времена, но ведь вообще в гонках не участвовал; кроме того, говорил, якобы виски не даёт набирать вес. Однако я заметил: всё равно, конечно же, полнеет. Со старой шайкой из Домов расплевался, вроде бы больше всего любил сидеть со мной на улице. Но ежедневно проигрывал на скачках. После заключительного забега, пролетев по итогам дня, впадал в тоску, пока не доберёмся до нашего столика да не опрокинет первую рюмашку; после-то уж прикольный. Постоянно читал «Парижские состязанья», глянет на меня поверх страницы: «Где ж твоя девчушка, Джоу?»; ну, шутки ради – я ведь рассказал про девочку в тот день за соседним столиком. У меня аж кровь к лицу прильёт, однако нравилось, коль насчёт неё подкалывали. Ощущенье приятное. – Разуй глаза и жди, Джоу, – бывало скажет. – Обязательно придёт взад. Задавал мне вопросы про всякую всячину, над кой-какими ответами посмеивался. Затем начинал рассказы. О скачках в Египте, или в Санкт-Морице по льду до маминой ещё смерти, или постоянно проводившихся во время войны бегах на юге Франции без каких-либо наград, ставок, зрителей, вообще просто так, ради поддержанья породы. Обычные забеги, где наездники адски гнали лошадей. Э-эх, отцовы байки впору слушать часами, особливо после двух-трёх рюмашек. Расписывал, якобы пацаном в Кентаки охотился на енотов, вообще старые деньки в Американских Государствах, прежде чем там всё пошло наперекосяк. Добавляя: – Джоу, вот сорвём приличный куш, поедешь обратно в Америку да поступишь учиться. – Нафига ж ехать учиться, коль там всё наперекосяк? – Совсем иное дело, – скажет, подзовёт подавальщика, заплатит за выпивку, возьмём мы тачку к вокзалу Сен-Лазар, а оттуда уж поездом до Домов. Однажды в Отёйе после гонки с препятствиями распродавали лошадей, и отец купил победителя за 30 тыщ франков. Естественно, малёк поторговались, но в конце концов конюшня уступила; отец за неделю выправил свидетельство и цвета. Э-эх, во меня гордость распирала, чуть только он стал владельцем. Насчёт стойла сговорился с Чарлзом Дрейком, бросил поездки в Париж, снова начал пробежки да потенье, всю работу по конюшне делали вдвоём. Скакуна звали Гилфорд, ирландских кровей, препятствия брал чётко, плавно. Отец считал его хорошим вложением, коль самому готовить к бегам и выступать. В общем, я от всего испытывал удовольствие, причём ставил Гилфорда не ниже Кцара. Прыжок точный, собранный, масть гнедая, скорость на ровных участках, ежели раззадорить, вполне приличная, на вид тоже весьма привлекателен. Э-эх, как я его полюбил. При первом же выступлении под седлом отца пришёл третьим в скачке с препятствиями на две с половиной версты; отец слез в стойле для занявших наградные места насквозь мокрый, счастливый, шагает на взвешиванье; я чувствую за него жуткую гордость, словно родитель впервые попал в тройку. Понимаете ли, после того как чувак долго не гонялся, с трудом веришь, якобы он впрямь прежде участвовал в бегах. Теперь-то вообще всё по-другому, поскольку там, в Милане, даже на крупных скачках отец всегда выглядел, будто ему по фигу; выиграет – а сам вовсе не возбуждённый, всё такое; зато сейчас я прям спал вполглаза всю ночь перед гонкой; про отца тоже знаю: взволнован, пусть даже того не показывает. Заезды на собственную лапу – совсем иной расклад. 5 Второй раз Гилфорд с отцом выступали дождливым воскресеньем в Отёйе – скачка с препятствиями на четыре с половиной версты за награду в память Марата. Едва их вывели, мчу к местам для зрителей с новой подзорной трубой, купленной мне отцом для удобства наблюденья. Исходная черта на дальнем краю поля, и уж возле перегородки возникла сложнячка. Какаято в шорах прям на взводе, всё норовит на дыбы встать, даже долбанула раз перегородку, но вижу – отец в чёрном камзоле с белым перекрестьем и чёрном шлеме, сидя на Гилфорде, похлопывает по холке. Вдруг, рванув прыжком, скрылись за деревьями, тут в тарелку врезали изо всех сил, и окошки на конторках приёма ставок с дребезгом опустились. Свят-свят, я жутко мандражировал, аж глянуть на них трусил, но навёл-таки трубу в то место, где выскочат из деревьев, они впрямь выскочили, родненький чёрный камзол идёт третьим, все плавно взмывают над препятствием, словно птицы. Затем снова исчезают из виду, опять возникают – и с топотом вниз по склону, работают чётко, плавно, легко; всем скопом спокойно взяв забор, удаляются от нас кучной ватагой. Впечатленье, точно запросто пройдёшь по хребтам, столь плотной, плавной скачут связкой. Затем облизали брюхами большую двойную живую изгородь со рвом, один участник упал. Кто именно, я не видел, однако через несколько мгновений лошадь, встав, самостоятельно подхватила намёт, а все остальные, пока ещё грудой, выписывают длинный левый поворот к прямой. Перемахнули каменную стену, тесной кодлой вышли на участок перед ямой с водой, расположенной прям возле зрителей. Смотрю – приближаются, ору скачущему мимо отцу, он впереди почти на туловище, причём уходит в отрыв, лёгкий, словно обезьянка, мчат к яме с водой. Взлетели единым целым над высоченным препятствием на краю ямы, и тут произошло столкновенье; две лошади, отброшенные в стороны, забег продолжили, а из трёх других образовался завал. Причём нигде не вижу отца. Одна лошадь поднялась с колен, наездник уздечку не выпустил, посему запрыгивает в седло да посылает её вперёд, за деньгами, соответствующими занятому месту. Ещё один жеребец, вскочив, припустил самостоятельно, прядая головой, переходя со свисающим поводом в намёт; его наездник, пошатываясь, отошёл к забору на краю дорожки. Затем Гилфорд перекатился на бок, освобождая отца, встал и побежал на трёх ногах, приподнятое копыто болтается, а отец лежит на ровной траве навзничь, вся голова сбоку в крови. Я сбежал по лестнице, пролез сквозь толпу к огражденью, какой-то мент схватил меня и держит; тут идут за отцом два здоровенных чувака с носилками, а на другой стороне поля вижу – три лошади выскакивают сильно растянутой вереницей из-за деревьев и берут препятствие. Отец умер ещё до того, как занесли внутрь; пока врач приставлял ему к сердцу заткнутую в уши фиговину, раздался хлопок, означавший, что пристрелили Гилфорда. При перетаскиваньи в больничную комнату я лежал рядом с отцом; повиснув на носилках, плакал навзрыд; а он выглядел столь бледным, безжизненным, столь ужасно мёртвым; меня не покидала мысль, дескать раз уж погиб отец, пожалуй, не следовало убивать Гилфорда. Чай, копыто срослось бы. Даже не знаю. Я так любил отца. Затем подвалили два мужика; один, потрепав меня по затылку, шагнул поглядеть на отца, стаскивает с койки простыню, накрывает его; второй звонит по-французски, мол пришлите перевозку доставить покойного в Дома. Я всё без остановки плачу, рыдаю, задыхаюсь, ну вроде того, после пришёл Джордж Гарднер; сев обочь меня на пол, приобнял: – Ну-ну, Джоу, старина. Вставай, пойдём наружу ждать перевозку. Побрели к воротам, я норовлю прекратить рёв, Джордж утирает мне лицо собственным платком; встали чуток сзади, пока толпа вываливает из ворот; рядом остановились два чувака, ну где мы ждали, что толпа пройдёт через ворота; один, пересчитывая стопку билетиков, говорит: – Вот эдак вот, Батлер получил своё, сполна. А другой ему: – Мне даже ни хрена не жаль прощелыгу. Обломилось по заслугам – эвон какие корки отмачивал. – Да уж, не поспоришь, – первый порвал стопку напополам. Джордж Гарднер глянул на меня, дескать уловил ли; видит, мол ещё как уловил, и говорит: – Джоу, не слушай, чё молотят всякие балаболы. Уж кто-кто, а отец твой был мировым парнем. Но вообще-то не знаю. Похоже, стоит таким раскочегариться, шиш с маслом после себя не оставляют. 6