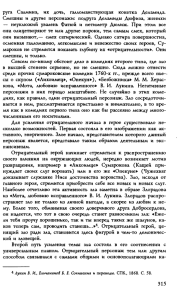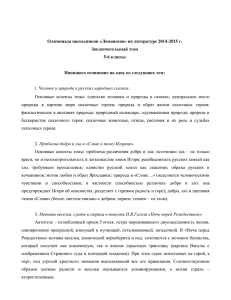(МГУ) «ЗЛОЙ РЕБЕНОК» В ПРОЗЕ А.Ф.ЛОСЕВА
advertisement

Е.А. Тахо-Годи (МГУ) «ЗЛОЙ РЕБЕНОК» В ПРОЗЕ А.Ф.ЛОСЕВА (О СИМВОЛИСТСКИХ МОТИВАХ В ЛИТЕРАТУРЕ ПОСТСИМВОЛИЗМА) Творчество философа и филолога-классика А.Ф. Лосева включает в себя и целый пласт литературных произведений – повестей и рассказов i , создававшихся, в основном, в 30-40-е гг. Исследование лосевской прозы только начинается, и, естественно, при этом встает закономерный вопрос о необходимости определить ее место в системе литературных координат. То, что стиль лосевских философских сочинений 20-х годов, как и сам тип философствования является по своей сути «постсимволистским», было уже замечено С.С. Аверинцевым ii . Однако, как представляется, это определение можно отнести и к лосевской прозе. Принадлежность лосевской прозы литературе постсимволизма предопределяет, с одной стороны, скрытую критику символизма. Отсюда изображение Лосевым мира кошмара: не только потому, что «мир кошмара» – один из излюбленных мотивов литературы рубежа веков, но и потому что для Лосева символизм, как и для И. Ильина, в определенной мере, – одна из духовных предпосылок кошмаров Октябрьской катастрофы. С другой стороны, критическое отношение не отменяет усвоения и использования Лосевым зародившихся в лоне символизма тем и образов, причем в эпоху, когда сам символизм не только уже стал литературным прошлым, но и был выведен официальной советской идеологией за рамки культуры. Только имея это в виду, можно объяснить появление образа «злого ребенка», возникающего у Лосева в рассказе «Жизнь» и в таких незавершенных вещах как повесть «Завещание о любви» и рассказ «Епишка». Тема зла – одна из вечных тем литературы. Однако при этом вопрос о зле как об одной из составляющих души ребенка чуть ли не впервые был поднят именно на рубеже XIXXX веков. До этого ребенок трактовался, главным образом, как существо изначально чистое. Если у романтиков возникновение зла в душе ребенка извне могло объясняться с мистически-сказочным аллегоризмом (осколок зеркала Снежной Королевы, попавший в сердце Кая в сказке «Снежная королева» Г.-Х. Андерсена), то у писателей-реалистов зло получало, преимущественно, социальное обоснование. Оно приходило из «взрослого мира» с его равнодушием, сословными предрассудками, социальным неравенством. Зло в душе ребенка, таким образом, имело свою историю, свою эволюцию, свою точку отсчета. Символизм подверг сомнению социальную подоплеку этого эволюционного процесса. Это был результат не только литературной полемики с русской классической прозой, традиции которой на рубеже XIX–ХХ веков нашли отражение в изображении детей в творчестве А.П. Чехова, А.И. Куприна, М. Горького. Переоценка шла с религиозных позиций. Попытки пережить заново и по-своему «старый» христианский опыт, актуализировав для символистов проблему зла, заставили их обратить внимание на религиозные корни этого явления. С точки зрения таких авторов как Л.Д. ЗиновьеваАннибал или Ф. Сологуб, зло оказалось одной из составляющих детской души, причем принадлежащей ей изначально. В «Трагическом зверинце» Л.Д. Зиновьевой-Аннибал душа ребенка – арена борьбы противоположных стихий: любви и ненависти, святости и греха, добра и зла. Но если добро в душе героиня «Трагического зверинца» все-таки имеет опору в матери или в сельском священнике, то в «Жале смерти» Ф. Сологуба гибельное влияние Вани Зеленева предопределяет отпадение доброго Коли Глебова и от любимой мамочки, и от Бога. Безумие, овладевающее сологубовскими детьми, также результат их «метафизического одиночества», «оставленности Отцом Небесным» iii . Отсюда кошмары сологубовских сюжетов, которые, даже имея «вполне реалистическую мотивировку», благодаря «едва уловимой двусмысленности, позволяющей соотнести описанное явление с разными понятийными уровнями», явно выводятся «за пределы реалистической традиции» iv . Аналогичное мы видим и в прозе А.Ф. Лосева. Рассказам, в которых автор обращается к изображению детства, присущ реалистический стиль, налет чего-либо таинственного или мистического сведен в них почти на «нет», и все же тема зла в них не может быть интерпретирована лишь в социально-этической плоскости. Лосевская проза не исключает эволюционного развития человеческой души, но, чтобы произошли те или иные изменения, не требуется многих лет или особых социальных условий. Эволюция у Лосева «революционна» – она происходит «вдруг», «мгновенно», как мгновенно совершается в душе выбор между грехом и добром. Этим подчеркивается ее символический, а не социальный характер. Детство героя рассказа «Театрал» (1932) – уютный и радостный мир, в котором и он сам был чист душою, хотя социальная среда, в которой он рос, была та же самая, что и позже, когда герой решил отречься от своей любви к театру. Среда – мещанская и серая – оставалась «нейтральной» лишь до тех пор, пока герой не совершил выбора в ее пользу, отдав себя мгновенно во власть безумия, зла, ненависти. И эта моментальность перерождения личности – лучшее подтверждение символичности такого перерождения. Социальное оказывается в лосевской прозе не основой, а лишь проекцией в окружающем мире того зла, что завладело отдельной человеческой душой. Подтверждает это положение и созданный в начале сороковых годов рассказ «Епишка». Безумие входит в жизнь героя «Епишки», когда он пятилетним мальчиком видит своего двойника, в котором «не было ни капли чего-нибудь страшного, чудовищного, сказочного». С этого времени двойник, по признанию героя, «скрыто владел мною, направлял то в ту, то в другую сторону». Но в отличие от «невинного», тихого, внесоциального безумия героев Сологуба из рассказа «Тени», безумие лосевского персонажа носит особого рода социальный характер: злобный двойник Епишка подчиняет своей власти и массы других людей, выступая в роли «проповедника, агитатора, основателя какой-то религии, секты или чего-то вроде этого». Таким образом, таящееся в детской душе зло не только не угасает с возрастом, а, напротив, ширится, пытаясь поработить весь окружающий мир. Если Епишка – плод раздвоения самого героя, распадения его души на две половины, то злой соседский мальчик Мишка из лосевского рассказа «Жизнь» отнюдь не второе «я» маленького Алеши. Мишка вполне реален, но он олицетворяет все то зло, которое отравляет и уродует жизнь не только Алеши, но и всего человечества. Если Мишка омрачает похожее на рай детство Алеши своим садизмом, если белокурый Епишка, эта белокурая бестия, сводит героя с ума, то другой злой ребенок из незавершенной повести «Завещание о любви» – Тимошка – пытается совершить убийство маленького Суши. Рассказ о первой любви десятилетнего Суши к девочке Тане становится вновь рассказом о первом столкновении с патологическими и внешне ничем не обусловленными ненавистью и злобой. То, что герою, все, происшедшее с ним, напоминает «думаю, еще не до рождения ли даже моего виденный сон», подчеркивает, что зло в Тимошке, существовавшее изначально, до своего земного воплощения, уже не может трактоваться не символически. Столкновение Алеши с Мишкой, Суши с Тимошкой – отражение вечной борьбы «детей Божиих и детей диавола», о которой говорит апостол Иоанн (1 Ин, 3:8-10). Лишь путь любви и жертвы во имя Небесной Родины – Царствия Небесного – избавляет Алешу от зависимости и страха перед злом, какой бы облик в земной жизни оно ни приобретало. Если этот выбор духовно освобождает героя от власти «князя мира сего» и его детей, то «литературно» он выводит его за пределы сологубовской традиции в русской литературе, для которой полная свобода от зла почти недостижима. В этой победе лосевского героя над злом через жертву ощущается близость его к героям Ф.М. Достоевского – не к тем из них, кто, подобно сологубовским, бросается «в новое преступление как в исход» (слова Достоевского), а к тем, кто ищет чистоты и правды, как Алеша из «Братьев Карамазовых». Таким образом, в решении сложнейшей философско-религиозной проблемы «добра и зла» Лосев как писатель-постсимволист возвращается к опыту русской классической прозы, уже будучи обогащен открытиями, сделанными в этой области символизмом. Все сказанное, как представляется, может служить еще одним аргументом, подтверждающим принадлежность лосевской прозы к тому направлению в литературе ХХ века, которое в последнее время получило название неотрадиционализма. i Наиболее полное собрание: Лосев А.Ф. «Я сослан в ХХ век…». Т. 1-2. М., 2002. ii Аверинцев С.С. «Мировоззренческий стиль»: подступы к явлению Лосева // Аверинцев С.С. София-Логос. Словарь. – Киев, 2001. С. 319. iii Павлова М. Между светом и тенью// Сологуб Ф. Тяжелые сны. Роман. Рассказы. Л., 1990. С.13 iv Там же. С. 12.