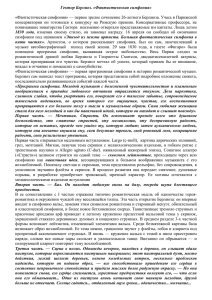Фантастической симфонии» Гектора Берлиоза
реклама
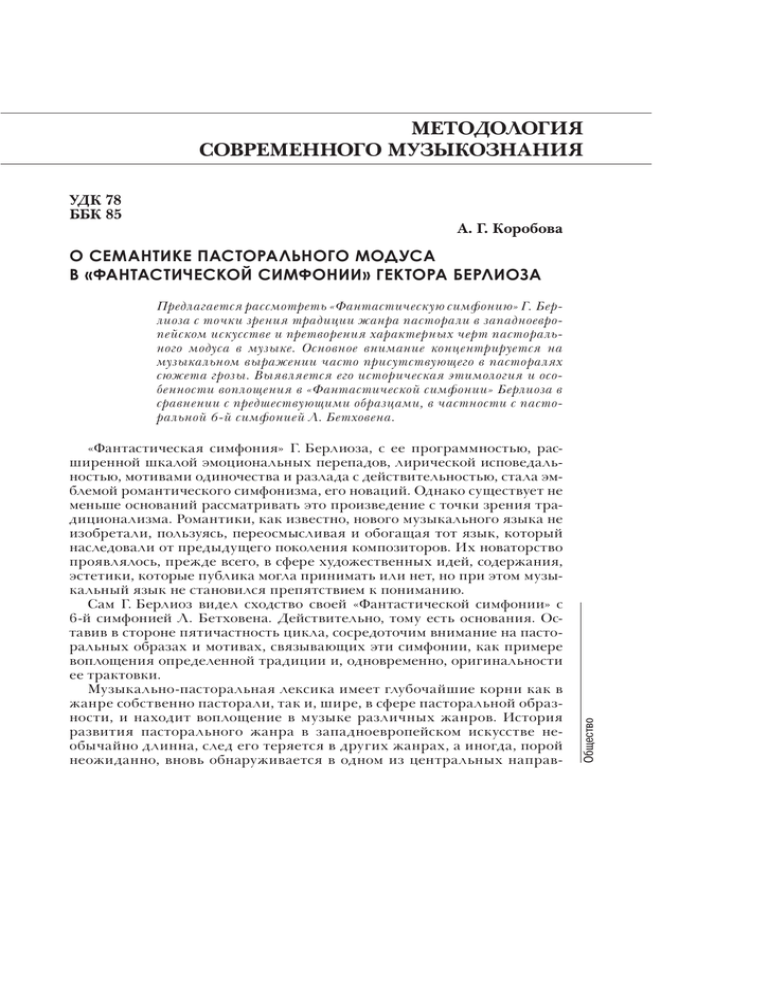
МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКОЗНАНИЯ УДК 78 ББК 85 А. Г. Коробова О СЕМАНТИКЕ ПАСТОРАЛЬНОГО МОДУСА В «ФАНТАСТИЧЕСКОЙ СИМФОНИИ» ГЕКТОРА БЕРЛИОЗА «Фантастическая симфония» Г. Берлиоза, с ее программностью, расширенной шкалой эмоциональных перепадов, лирической исповедальностью, мотивами одиночества и разлада с действительностью, стала эмблемой романтического симфонизма, его новаций. Однако существует не меньше оснований рассматривать это произведение с точки зрения традиционализма. Романтики, как известно, нового музыкального языка не изобретали, пользуясь, переосмысливая и обогащая тот язык, который наследовали от предыдущего поколения композиторов. Их новаторство проявлялось, прежде всего, в сфере художественных идей, содержания, эстетики, которые публика могла принимать или нет, но при этом музыкальный язык не становился препятствием к пониманию. Сам Г. Берлиоз видел сходство своей «Фантастической симфонии» с 6-й симфонией Л. Бетховена. Действительно, тому есть основания. Оставив в стороне пятичастность цикла, сосредоточим внимание на пасторальных образах и мотивах, связывающих эти симфонии, как примере воплощения определенной традиции и, одновременно, оригинальности ее трактовки. Музыкально-пасторальная лексика имеет глубочайшие корни как в жанре собственно пасторали, так и, шире, в сфере пасторальной образности, и находит воплощение в музыке различных жанров. История развития пасторального жанра в западноевропейском искусстве необычайно длинна, след его теряется в других жанрах, а иногда, порой неожиданно, вновь обнаруживается в одном из центральных направ- Îáùåñòâî Предлагается рассмотреть «Фантастическую симфонию» Г. Берлиоза с точки зрения традиции жанра пасторали в западноевропейском искусстве и претворения характерных черт пасторального модуса в музыке. Основное внимание концентрируется на музыкальном выражении часто присутствующего в пасторалях сюжета грозы. Выявляется его историческая этимология и особенности воплощения в «Фантастической симфонии» Берлиоза в сравнении с предшествующими образцами, в частности с пасторальной 6-й симфонией Л. Бетховена. Terra Humana 66 лений художественной культуры той или иной эпохи. В музыке жанр пасторали постепенно преобразовался в самостоятельный музыкальный модус пасторальности1. Этот модус, со временем оторвавшись от породившего его жанра, но сохранив основной жанровый «код», продолжил существование, прочно войдя в музыкальный «словарь» позднейших эпох. Таким образом, данный модус, как некая выявленная музыкой квинтэссенция пасторальной жанровости, имеет древнюю этимологию. Что же представляет собой этот жанровый «код» пасторальности, ее «семантический инвариант»? Его можно условно обозначить как «человек и природа», а точнее – как поэтическое видение человеческого существования в гармоничной связи с миром и акцентирование идиллического аспекта этого существования. Особенностью музыкального модуса пасторальности является его многослойность. С одной стороны, это слои первичных жанровых лексем, основная атрибутика того самого музыкального компонента, который изначально задан в пасторальном жанре его тематикой (звучание сиринги и цевницы, танцы нимф, наигрыши пастухов и сигналы охотников, пение и пляски селян и т. п.). С другой – все те интонационные пласты, которые отложились в пасторали за долгую историю ее существования в качестве жанра музыкального искусства. При этом пастораль как жанр целиком принадлежит «вторичной» жанровой системе, опираясь на комплекс определенных «первичных» жанров в качестве своих семантем. Однако состав пасторальной лексики не ограничен только этими жанровыми средствами, но включает также изобразительные элементы, выработавшиеся в музыкальном языке: прием эхо, подражание пению птиц, журчанию ручья и прочим «голосам природы». Все вместе это можно назвать базовым слоем пасторальной музыкальной лексики, в котором уже отражен семантический инвариант пасторальности с его соотношением «человеческого» и «природного» компонентов. Это даже не два компонента – это две стороны пасторали, отсюда – постоянно наблюдаемая их контаминация. Так, если первоначально в музыкальном модусе пасторальности «природное» реализовалось через отражение прежде всего «первичных» форм музицирования, ассоциирующихся с «пастушеским, сельским» как «природным», то впоследствии все чаще «человеческое» обретает свое выражение через лиризацию и одушевление «природного», его поэтическое претворение в ракурсе эмоционального переживания. Этот сплав типизируется в музыке XVII–XVIII вв., в которой образы идиллической лирики, по замечанию Т. Н. Ливановой, как правило, имеют пасторальный оттенок2. Оба компонента могут быть в различной степени абстрагированы или конкретизированы: «человеческий» компонент – через национальное и социальное атрибутирование «первичных» жанров, «природный» – через звукоизобразительную детализацию. Однако особенностью пасторального модуса является то, что эта атрибутика, преломляясь в ракурсе пасторальной эстетики, всегда сохраняет налет условности. Поэтому пасторальному модусу остаются равно далеки и музыкальная бамбоччата, и этнографизм. 67 Îáùåñòâî Трактовка «природного» в пасторали, как и использование жанровых элементов, во многом отражает общестилевые тенденции той или иной эпохи. Важным этапом был также перенос пасторального жанра в инструментальное искусство – это расширяло рамки музыкальной пасторальности: она начала вбирать в себя тот семантический «контекст», который в условиях синтетического искусства вокальной или сценической музыки выражался словом, действием, декорациями. В результате пасторальность осваивает новые измерения: музыкальной картинности и даже сюжетно-фабульного развертывания. Впрочем, по своей сути музыкальная пасторальность тяготеет больше к статике картины, и в таком качестве может представать в виде отдельных произведений или входить в более крупное целое. Вероятно, лишь один сюжет закрепился в инструментальной музыке как имманентно пасторальный: картина мирной идиллии, нарушаемая грозой и с ее окончанием вновь восстанавливаемая. С конца XVII в. примеры воплощения этого сюжета в инструментальных сочинениях многочисленны. А. Вивальди в программном концерте «Лето» из «Времен года» не без юмора сопоставляет традиционно величественный образ грозы с «тучами жуков и роями мух» (не менее традиционный образ предельной ничтожности), равно с грозой вызывающих «отчаяние крестьянина». Изображение грозы встречается в органной «Пасторали» аббата Фоглера, а его ученик Й. Кнехт публикует в 1794 г. свою органную импровизацию «Грозой прерываемая пастушеская жизнь, музыкальная картина на органе». В финале фортепианного концерта № 3 Д. Штейбельта (1798) звучит «Пасторальное рондо и буря». Трудно сказать, от чего именно отталкивался Л. Бетховен, воплощая эту модель в 6-й симфонии, – от образцов Й. Кнехта и Д. Штейбельта или от «Времен года» (1801) Й. Гайдна. Данная модель присутствует и в третьей части «Фантастической симфонии» Г. Берлиоза, «Сцене в полях». Думается, что дело здесь не только в миметических устремлениях программной инструментальной музыки по сути: в типизировавшемся «сюжете грозы» просматривается сублимация более архаичного пасторального сюжета, опирающегося на древнейшие прототипы. Напомним, что жанр пасторали вырастал из мифов, из песен Дафниса, из древнего культа Артемиды в Сицилии и дионисий. В западноевропейском искусстве пастораль сама превратилась в некий миф. И каждая эпоха формировала новый побег на древе пасторального жанра. Большой резонанс получила пастораль в культуре Возрождения, благодаря чему из локальных областей жанровой системы переместилась в центр, а в отдельных видах искусства даже заняла на определенное время доминирующие позиции. Именно в форме пасторали начинается история гуманистической драмы в Италии – со «Сказания об Орфее» А. Полициано (1471), а позднее история оперы – с «Дафны» Я. Пери и «Эвридики» Дж. Каччини (вторая половина 1590-х). К этим двум сюжетам ранних «драм на музыке» наиболее часто обращались композиторы и впоследствии. Пастораль фактически «присвоила» себе эти мифы, наделив их сюжеты с собственными жанровыми особенностями, чего не наблюдалось, Terra Humana 68 например, в «Метаморфозах» Овидия (главном источнике данных фабул для искусства Ренессанса). Обращает внимание, что эти сюжеты (как они изложены в новоевропейской пасторали) роднит три момента: 1) мотив утраты возлюбленной, 2) олицетворение в главных персонажах (Орфей, Аполлон) гармонизующей силы Искусства, 3) мотив поединка светоносного героя с некими темными силами. В сюжете об Аполлоне последний мотив выражен в более архаичном виде, поскольку и сам этот миф относится к более архаичным пластам. Сюжет битвы громовержца с его противником, несущей освобождение жизненным силам и победу над хаосом, присутствует в космогонических мифах разных народов (достаточно упомянуть древнеиндийского Индру, западно-семитского Балу или Ваала, древнеславянского Перуна, греческого Зевса и, соответственно, римского Юпитера, германо-скандинавского Тора, кельтского Тарана). Архетип этой битвы просматривается в многочисленных легендах о сражении с хтоническим чудовищем, этом популярнейшем подвиге богов и героев. В данном ряду находится и легенда о битве Аполлона с Пифоном, которая разрабатывается в искусстве начиная с первого из дошедших до нас образцов древнегреческой музыки – пифийской оды Пиндара. В искусстве мотив поединка преломляется сквозь идею агона, столь любимого еще древними греками, нашедшего место и в их «музыкальных» мифах. Интересно, что в ренессансной пасторали Орфей ведет свой агон как герой поющий, а Аполлон – как герой танцующий. Таким он предстал уже в третьей из шести интермедий Дж. Барди и О. Ринуччини, созданных к бракосочетанию великого герцога Тосканы (1589), где основой стал не только сам миф, но и его представление на Пифийских играх: как отмечает Р. Роллан, Аполлон в этой интермедии танцевал свою битву вследствие ошибки Дж. Барди при переводе греческого текста3. Подобная трактовка сохранилась и впоследствии: еще и в XVII в. роль Аполлона в битве с Пифоном поручалась танцовщику. Вслед за победой над Пифоном по сюжету звучал гимн Аполлону. И, думается, небезосновательна гипотеза о том, что именно эта контрастная смена образа борьбы-бушевания могущественной силы образом благодарной радости, обретя постепенно свою типизированную музыкальную лексику, в абстрагированной и редуцированной форме была воспринята инструментальной музыкой в контексте пасторального жанра для воплощения уже, казалось бы, немифологического сюжета грозы. Таким образом, данный сюжет в поздней музыкальной пасторали архетипически связан не только с древней мифологемой, но и с имманентными процессами в самом жанре. Архетипы, по К. Г. Юнгу, это некие праобразы (мотивы), уходящие корнями в коллективное бессознательное и являющиеся инвариантной основой общечеловеческой символики, в том числе и художественной. Они не поддаются дискурсивному осмыслению и адекватному выражению в языке и доступны лишь толкованию результатов наблюдения над повторяющимися семантическими структурами. Как же реализуется обнаруживаемая пасторальным жанром семантическая структура «грозы» в двух симфониях, премьеры которых разделяют всего 22 года? При опо- 69 Îáùåñòâî ре на общую музыкальную лексику, эта семантическая структура обретает совершенно различное смысловое наполнение. В трех последних частях бетховенской симфонии («Веселое собрание крестьян», «Гроза. Буря», «Пастушеская песнь. Радостные и благодарные чувства после бури») данная семантическая структура реализуется вполне определенно. Если исходить из программы и задач музыкально-изобразительного характера, то особая драматизация в четвертой части и глубина выражения радостного чувства в пятой выглядят явно преувеличенными. Это не оставалось незамеченным критикой, но объяснялось чисто бетховенским темпераментом и тенденцией к внутренней театрализации музыкального развертывания в симфонии. Принимая эти аргументы, нельзя однако не учитывать, что в 6-й симфонии Л. Бетховена, которая, по верному замечанию К. Нефа, «замыкает собой множество пасторалей и пасторальных настроений музыки XVII– XVIII века»4, проявляют себя определенные «коды» данного жанра, переплавляющие некие архетипические формы сознания с новыми философско-эстетическими представлениями века Просвещения (прежде всего – с руссоистскими идеями). И как раз в некоторой укрупненности образной дихотомии, возможно, сказывается скрытое действие описываемого архетипа. С этой точки зрения «Фантастическая симфония» Г. Берлиоза в контексте другой художественной картины мира обнаруживает иное преломление «кодов» пасторального жанра. Идиллия пасторалей предыдущих эпох в ней трансформируется в психоделию. Буря происходит прежде всего в смятенной душе героя: линия развития постоянно рвется, кульминации, не разрешаясь, размываются внезапным торможением и диминуэндо или нивелируются на стыке разделов; в тембре деревянных духовых и пасторальном модусе, подменяя собой основную тему части или соединяясь с ней, появляется idée fixe симфонии, словно навязчивая галлюцинация. Наступающее затишье не несет радостного оживления, но напротив, нарушается и та первоначальная иллюзия идиллии, которая как будто существовала в окружающей поэта природе. «Пастушескому наигрышу» английского рожка уже не отвечает гобой, как в начале. И это отсутствие когда-то бывшего отклика становится поэтической метафорой щемящего чувства одиночества и тоски. В результате семантическая структура «грозы» в симфонии Берлиоза модифицируется под влиянием «минус-приема», что придает данному ее воплощению особую, чисто романтическую выразительность. Наряду с отмеченным, обнаруживается еще одно расхождение в интерпретациях пасторального модуса Г. Берлиозом и Л. Бетховеном: Берлиоз возвращает ему любовную тему, с которой неразрывно была связана сценическая (шире – светская) пастораль барокко и рококо. При этом в соотнесении «человеческого» и «природного» прослеживается тот же синергизм, но уже на иной основе – в условиях утраты ощущения гармоничности мироздания. Таким образом, «Сцена в полях» из «Фантастической симфонии» Г. Берлиоза объективно включена в длительную традицию пасторального жанра западноевропейского искусства. И рассмотрение новаторской симфонии Берлиоза в этом контексте дает еще одну прежде не исследо- 70 ванную возможность ощутить ее глубокую укорененность, и вместе с тем, через характер преломления пасторальной традиции, глубже осмыслить неповторимость творения Берлиоза и своеобразие раскрывающейся в нем новой картины мира. Terra Humana 1 Понятие «музыкального модуса» употребляется здесь в том значении, как оно разработано Е. В. Назайкинским, – в значении одной из наиболее универсальных категорий музыкального искусства. В соответствии с концепцией Е. В. Назайкинского, это определенная «музыкально-языковая структура», объективирующая в музыке «целостное, конкретное по содержанию…, художественно опосредованное состояние» (Назайкинский, Е. В. Логика музыкальной композиции. – М., 1982. – С.194, 239). 2 См. об этом: Ливанова, Т. Н. Западноевропейская музыка XVII–XVIII веков в ряду искусств : Исследование. – М., 1977. 3 Роллан, Р. Музыкально-историческое наследие : В 8-ми вып. Вып. 2 : Опера в XVII в. в Италии, Франции, Германии и Англии; Гендель / Р. Роллан; пер. с франц. Е. Гречаной; ред. и коммент. В. Брянцевой. – М., 1987. – С. 24. 4 Неф, К. История западноевропейской музыки. – 2-е изд. – M., 1938. – С. 227.