Яков Давыдович, когда и где вы родились?
advertisement
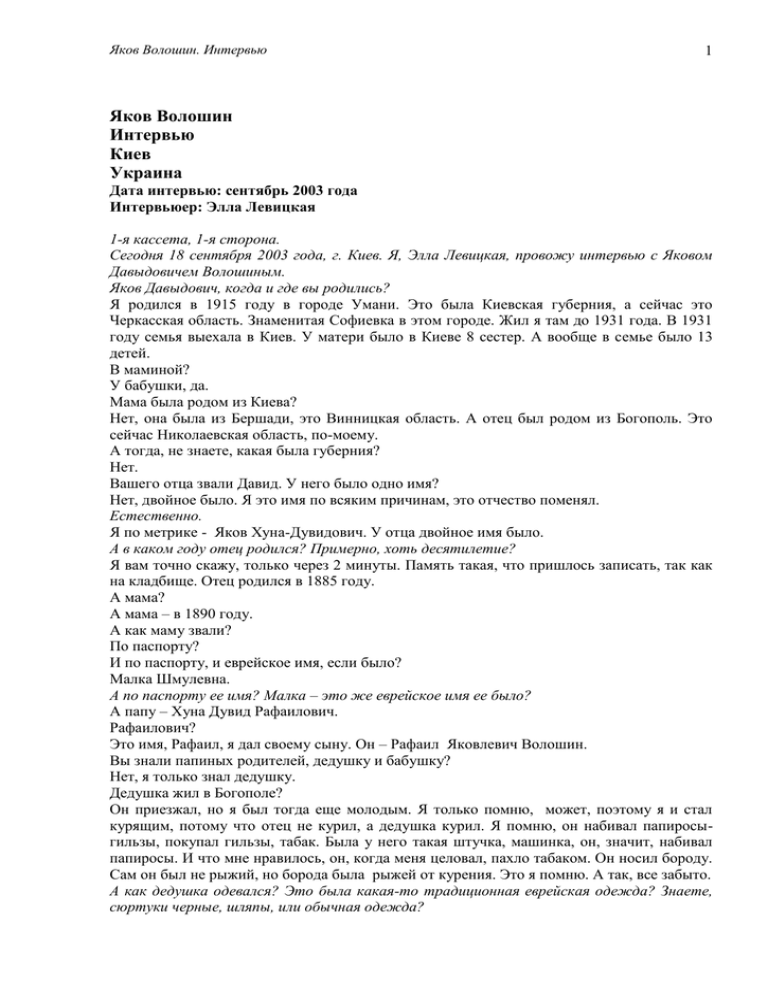
Яков Волошин. Интервью 1 Яков Волошин Интервью Киев Украина Дата интервью: сентябрь 2003 года Интервьюер: Элла Левицкая 1-я кассета, 1-я сторона. Сегодня 18 сентября 2003 года, г. Киев. Я, Элла Левицкая, провожу интервью с Яковом Давыдовичем Волошиным. Яков Давыдович, когда и где вы родились? Я родился в 1915 году в городе Умани. Это была Киевская губерния, а сейчас это Черкасская область. Знаменитая Софиевка в этом городе. Жил я там до 1931 года. В 1931 году семья выехала в Киев. У матери было в Киеве 8 сестер. А вообще в семье было 13 детей. В маминой? У бабушки, да. Мама была родом из Киева? Нет, она была из Бершади, это Винницкая область. А отец был родом из Богополь. Это сейчас Николаевская область, по-моему. А тогда, не знаете, какая была губерния? Нет. Вашего отца звали Давид. У него было одно имя? Нет, двойное было. Я это имя по всяким причинам, это отчество поменял. Естественно. Я по метрике - Яков Хуна-Дувидович. У отца двойное имя было. А в каком году отец родился? Примерно, хоть десятилетие? Я вам точно скажу, только через 2 минуты. Память такая, что пришлось записать, так как на кладбище. Отец родился в 1885 году. А мама? А мама – в 1890 году. А как маму звали? По паспорту? И по паспорту, и еврейское имя, если было? Малка Шмулевна. А по паспорту ее имя? Малка – это же еврейское имя ее было? А папу – Хуна Дувид Рафаилович. Рафаилович? Это имя, Рафаил, я дал своему сыну. Он – Рафаил Яковлевич Волошин. Вы знали папиных родителей, дедушку и бабушку? Нет, я только знал дедушку. Дедушка жил в Богополе? Он приезжал, но я был тогда еще молодым. Я только помню, может, поэтому я и стал курящим, потому что отец не курил, а дедушка курил. Я помню, он набивал папиросыгильзы, покупал гильзы, табак. Была у него такая штучка, машинка, он, значит, набивал папиросы. И что мне нравилось, он, когда меня целовал, пахло табаком. Он носил бороду. Сам он был не рыжий, но борода была рыжей от курения. Это я помню. А так, все забыто. А как дедушка одевался? Это была какая-то традиционная еврейская одежда? Знаете, сюртуки черные, шляпы, или обычная одежда? Яков Волошин. Интервью 2 Нет, по-моему, обычная. Он был не из богатых, так что, видно, у него гардероба особого не было. А кем дедушка работал? Не могу вам сказать. Много было детей в семье у отца, я имею в виду его братьев и сестер? Тоже не могу вам сказать. Я только знаю дядю, брата отца, значит. Он тоже был художником, вот, может, поэтому и передавалось в семье в какой-то степени… Поскольку вы коснулись дяди, я хочу вам сказать, какая у него была трагическая смерть. Можно я скажу? Конечно, расскажите все, что вы помните. Когда пришли немцы в этот, в Богополь, а этот город разделен как-то на 2 части. Там река Буг, мост, и 2 части. Значит, немцы женщин отделили от мужчин с одной стороны, этой части города, а мужчины – с другой стороны. Но, насколько я знаю, я вам сейчас скажу, откуда я это все подробно знаю, когда в Киеве в 1945 году судили немцев, был такой процесс в Киеве в Доме офицеров, их потом повесили публично, на Майдане Незалежности стояли виселицы, и там этих фашистов вешали. Вот такой приговор суда был. Я знаю, я не знала, что этому предшествовал суд. Именно о том, как вешали, рассказывали. Был суд, да. И в газете, у меня той газеты, к великому сожалению, нет, на суде фигурировал Моисей Волошин – это мой дядя. Он с ума сошел. В начале было, вроде, ничего, рисовал Гитлера, большие портреты. Ну, все, что немцы приказывали. И, поскольку он не мог один жить, а жена и, у него были две девочки, были на другой стороне этого города, понимаете, он сошел с ума. Это такая его смерть была. Это на суде фигурировало. Ваш дядя был старше отца, или младше? Он был младше. А ваш отец кем работал? Служащим. Продавец, что ли. Вы не знаете, он в детстве какое-то еврейское образование получил? В хедере, или чтото вроде? Этого я не знаю. Я только знаю, что когда я уже был более-менее, ну, лет 12-13, я помню еврейские праздники. Отец ходил в синагогу. У меня еще сестра была, вот она, покойная, это моя сестра. А это – моя жена покойная. Это – родители. Да, я помню, нам с сестрой очень нравился Судный день. Значит, родители уходили в синагогу, а нам оставляли фрукты: виноград, яблоки, груши, все такое. И мы целый день питались. Был такой для нас Судный день! Ну, и ждали, пока они придут из синагоги. А там уже был такой, семейный ужин, то, что полагается. Родители соблюдали традиции? Да. Родители соблюдали, особенно отец. Мама – так, не очень, а отец соблюдал. Оба соблюдали, можно сказать. Вы не знаете, как отец воспринял революцию? Он никогда не рассказывал? Нет. А о еврейских погромах? Не знаете, были? Рассказывал. Петлюровцы… Это в Богополе, или в Умани уже? Нет, это еще в Богополе. Приходили петлюровцы, значит, грабили, насиловали, искали в погребах, на чердаках евреев и убивали. Вы начали рассказывать о еврейских погромах, о петлюровцах. Ну, то, что я помню, отец рассказывал. Яков Волошин. Интервью 3 А из членов семьи вашего отца никто не пострадал от погромов, не знаете? Нет, не пострадали. Только грабили. Особенно постельные принадлежности, отец рассказывал, подушки, перины – все забирали. Это петлюровцы. То есть, это уже период гражданской войны? Да. Вы о Богополе не знаете? Нет, я там не был. Мамину семью вы знали, вы говорили, бабушку и дедушку с маминой стороны? Сказать честно – почти не знал. Я только знал, что дедушка, отец мамы, содержал в Бершади заезжий двор, это я помню. Он был почему-то инвалид. Не знаю, или это от империалистической войны след остался? У него была ампутирована одна нога. Это я помню. То есть, может, он и воевал тогда, да? Да, возможно, и воевал, но я не знаю точно причину. А дедушкину фамилию вы не помните, мамину девичью? Мамину помню – Альштейн. А как бабушку звали, мамину маму? Нет, не помню. А папину, тоже? Папину маму, бабушку с папиной стороны? Нет. Примерно, в каком десятилетии дедушка родился, не знаете? 1860-е, 1870-е? Не могу сказать. А как выглядел дедушкин заезжий двор? Дедушка говорил, что носил бороду, небольшую бороду. А вот, заезжий двор вы видели? Как он выглядел, двор заезжий? Я только помню, очевидно, родители рассказывали, ну, тогда же передвижение было на лошадях, в основном. Брус (?) для ног, ну, такое бревно, что ли клали, чтобы ноги не уставали и разъезжали по местечкам, по селам. Я только помню, то ли мама рассказывала, то ли папа рассказывал, что был такой ездовой, по имени Федул, его «кацап» называли, русский, у которого была рыжая борода. Так этот кацап, папа говорил, знал еврейский язык, идиш, лучше, чем какой-то еврей, понимаете? Вот эту деталь я почему-то запомнил, не знаю почему. Федул. Я сразу забыла спросить. А дедушка с папиной стороны разговаривал на идиш? Между собой – да. А с вами уже по-русски? А со мной по-русски, да. А дедушка Шмуль, мамин отец, на идиш тоже? Не могу вам сказать. Наверное, да. Это все было до революции, понимаете, так что… Местечко. Бершадь – это небольшой городок, местечко, конечно. Евреев там много было, наверное, да? Да, наверно, было много. Но я вам точно не могу сказать. Вы там не бывали? Не бывал. Ну, там же во время войны гетто сделали. Возможно. Там же был лагерь смерти. Это в Винницкой области. А маминых сестер вы помните? Помню некоторых. Даже есть снимки у меня. Я вам потом покажу. Вы не помните, кто был из них старше мамы, а кто младше, если можно? Яков Волошин. Интервью 4 Помню, по-моему, старше было две сестры тогда. Чарна – тетю звали, тетя Чарна, и Хануся. Мы ее звали Нюсей, но ее настоящее имя – Хануся. Это я помню, две сестры. А вообще было, я вам говорил, в Киеве жило 6 сестер. Ну, с семьями, с мужьями, конечно. А вы их помните? Конечно, помню. Расскажите, пожалуйста. Все они были домашними… Они не работали, мужья работали. Эта, Хануся, дядя был полиграфист. Он меня и устроил редакцию газеты в 1931 году. А как его звали? Ой, Боже… Ну, не важно. Изя, Израиль, Израиль. Менахимович фамилия. Это один из дядей был. Муж Хануси? Хануси. А у Чарны был Абрам Львович Гольштейн. Абрам или Аврам, я точно не могу вам сказать. А кем он был? Кем работал? Абрам работал в каких-то учреждениях. Служащий. А дети были у них? Были. Сколько детей было? У Чарны был один сын. Миля его звали. Но что интересно, я вам еще скажу, был такой певец – Эпельбаум. Михаил или Миша Эпельбаум. Михаил. Жена Михаила Эпельбаума была сестрой Абрама Гольштейна, мужа тети. Понимаете? Когда он приезжал уже в Киев на гастроли, Эпельбаум, он у нас бывал. У нас, или у тети. Еще могу такую деталь сказать. Может, она интересна вам, Эпельбаум сидел в тюрьме. Ну, когда был этот самый… В 1937? Да, да, да. В те времена. И когда его освободили, они сидел, ну, в том числе был такой писатель Матвей… Мотл… забыл фамилию. Ну, вот, вспомню. Он где-то там, в лагере, или в тюрьме сидел вместе с этим писателем. На языке, а имя забыл. Само вспомнится. Ну, и когда, значит, Эпельбаума уже освободили, он приехал в Киев, ну, как-то так разговорились, мы там устроили торжественный обед, он рассказал эту историю, что он был с Матвеем… фамилию забыл, с писателем был вместе в лагере. Я говорю: «Миша! Ты хочешь, он сейчас будет здесь?». Он говорит: «Не может быть! Каким образом?». А мы жили на Чеховском переулке тогда, это я тут живу 25 лет, а после войны мы жили на Чеховском переулке. Вы киевлянка? Да. Знаете Чеховский переулок? Знаю, возле велотрека. Пройти через… И там жил Матвей, как писатель, в этом доме. Ну, телефона я не помню. То ли у меня еще не было, то ли у него не было. Я не знал. Я говорю: «Миша, если он дома, сейчас он будет здесь». Я пошел – Матвей дома. Как же его фамилия? Он уже умер. Пришел я с Матвеем. Какая была встреча – можете себе представить. Короче, наш обед где-то под утро закончился. Во-первых, Миша рассказывал много чего, Матвей рассказывал. Он даже пел немного, прямо стекла дрожали, такой голос у него. Яков Волошин. Интервью 5 Яков Давыдович, это был 1937 год или 1948, когда космополитов, писателей забирали? Наверно, 1948, космополиты, да. Потому что вы сказали, певец, писатель – это как-то больше к тому периоду. Никак не могу вспомнить фамилию. Закурю, с вашего позволения. Вы тоже, пожалуйста. Вы свои курите? А остальные мамины сестры? Ну, помню, дядя, муж одной из сестер, был жестянщик. А как звали сестру? Сестер? Берта или Бузя, Бузя по-еврейски. Это одна из сестер, дальше – Чарна, Хануся… Забыл, больше не помню. А мама вам не рассказывала, в ее детстве ее семья была религиозной, да? Думаю, что да. Я не помню. Еврейские праздники отмечали? Ну, раз ходили в синагогу, конечно. Не мама, а родители и дети, наверняка? Да, да. И подробностей о мамином детстве вы не знаете? Нет. А как познакомились ваши родители, вам не рассказывали? Может, рассказывали, я не могу вам… А не знаете, у них была еврейская свадьба, или обычная? Ну, такая, светская? Не могу сказать. И они тогда поселились в Умани вдвоем, или еще?… Ну, каким-то… не могу вам сказать. Не знаете, как они попали в Умань? А вы были старшим в семье? Нет, сестра старшая. Сестра старшая, да? Я 1915 года, а сестра – 1913. Сестра тоже в Умани родилась, да? Да. То есть, они до вашего рождения переехали. Ну, ее звали Розалия. А еврейское имя Рейзл, наверно? Не знаете? Не могу сказать. А где вы жили в Умани? У вас свой дом был? Нет. А что, квартиру… Снимали. Был хозяин, Скотков, такой был хозяин. А жили мы на Инженерном переулке, это я помню хорошо. Инженерный переулок, дом 7. «Дом Скоткова», так и назывался. Там было несколько домов небольших. И там, значит, мы жили. А в 1931 году я окончил школу, и вот, родители решили переехать в Киев. И вот, переехали Киев. И поскольку я в школе рисовал, все что надо, от стенгазеты до лозунга, и так далее… Мне учитель по рисованию в Умани такое, как вам сказать, рекомендательное письмо написал для поступления выше. И вот, я решил поступить. В Киеве был, сейчас его нет, был художественный техникум, сейчас нет его. Сейчас есть только институт. Вот, наш выпуск в 1934 году был последним. И он закрылся. Это я помню. Но чтобы поступить наверняка, тогда было то л и постановление, то ли приказ набирать учеников в средние учебные заведения в первую очередь детей рабочих и колхозников, крестьян. Ну, тогда колхозы не очень, это был 1931 год, но уже колхозы формировались. Были разные. Я помню, был Яков Волошин. Интервью 6 такой, наименование «СОЗ» - это «совместная обработка земли». Это начало колхозов, понимаете? И вот, отец, как я вам говорил, был служащий, так чтоб наверняка, как папа говорил: «Чтоб Яшенька поступил», иду на завод. Вот, мы жили на Кузнечной, это сейчас Горького улица. Это так, примерно, ну, где стадион республиканский, это угол Жилянской, сейчас не знаю, как она называется… Жилянская. Нет, Жадановского. Уже Жилянская. Уже опять – Жилянская? Уже опять Жилянская. Это угол Жилянской и Кузнечной, сейчас Горького называется. А возле нас, недалеко, это где-то… Там дальше идет Физкультурная улица. Вот, где-то там гвоздильный завод есть. Или был, или есть, имени Письменного. А, есть, есть. Вот, папа ради меня пошел чернорабочим. Так он меня любил. Приходил, я и не узнавал его. Вы же можете себе представить: квалификации же не было никакой, он возил тачки с гвоздями, с проволокой… Ну, гвоздильный завод. Ну, я поступил, слава Богу. Но тяжело было. И вот, решили, что я буду учиться и работать. Дядя, как я говорил, был коммерческий директор, была такая должность, это зам директора. Была такая газета, «Пролетарская правда», она сейчас называется «Киевская правда». Вот она, я ее до сих пор получаю. Как пенсионеру, мне редакция выписывает. Я поступил в редакцию учеником в отдел иллюстраций. Было у меня два учителя. Один – Казимир Решко, фотограф, тогда фотокорреспондент назывался, и художник был – Агнит-Свидзевский. Оба, между прочим, Казимиры. Художника настоящая фамилия – Свидзевский, но под рисунками он подписывался «Агнит», это был такой псевдоним у него. Вот, я работал там до 1937 года. Уходя армию, мне редакция подарила такой портсигар. Можно сделать небольшой антракт. Почитайте, что там написано. «Воспитаннику коллектива редакции «Пролетарская правда» Якову Давыдовичу Волошину, призванному в ряды славной рабоче-крестьянской Красной армии от месткома редакции. 30.11.37, г.Киев». Портсигар сохранился. Я носил его в гимнастерке в левом кармане. Ну, думаю, если пуля, так, может быть, как-то рикошетом пройдет. Конечно, я им не пользовался, потому что я пользовался кисетом. Ну, что там было? Махорка и табак. Тут была фотография жены и фотография сына. В 1937 году, идя на работу, у крыльца стоял зав отдела кадров, так назывался. Ну, я был в редакции самый молодой, мне было 16 лет. Когда вы поступили на работу? Да, 16 лет. И что вы делали после ученичества? Сейчас я расскажу по порядку. Я один эпизод еще расскажу. Иду на работу. А жил я… В общем, так, иду на работу. Мне этот, кадровик говорит: «Яша, тебя вызывают на Розы Люксембург 19». Это ГПУ. Сейчас там тоже, по-моему. А может, они уже и не там. Но что-то там есть. У меня ноги подкосились. Но был какой-то патриотизм, что ли, не знаю. Я сразу подумал: «А мне в этом году…». Я уже знал, что я призываюсь в армию. Думаю: «А как же я служить буду?». Понимаете? Это я не рисуюсь, это я вам честно говорю. Ну, понимаете, сказать вам причину, почему меня вызывали, сейчас сложно, техническая такая… Вот, все фотографии сейчас идут по такой технологии, а когда-то вроде как сетка, понимаете… Сейчас я вам… Я знаю, как будто точечки такие. Яков Волошин. Интервью 7 Да. Это сетка. Ну, это по обывательски сказать, а по-настоящему это растр называется. И через этот растр фотографировали фотографии. Потом делали на цинке клише. А я был ретушером. Вот этому меня научил художник Агнит. Все снимки надо было ретушировать, понимаете? Где-то подправлять, где-то какие-то изъяны убрать, понимаете? Безумная работа? Ну, я был в Киеве в пятерке лучших ретушеров. Меня все издательства знали. Я приходил в издательство… Ну, во-первых, мою аккуратность. Ну, скажем, в издательство «Мистецтво», или в «Наукову думку», ну, во все издательства. Говорили: «Часы проверяйте: Волошин пришел!». Вот так было. Я хотел вам показать эту сетку. Я говорю вам, сейчас другая технология. Да, сейчас же цифровые камеры, и сразу в компьютер. На первой полосе «Пролетарской правды» была напечатана фотография «Группа красноармейцев». Это было лето, в пилотках, в гимнастерках. А на пилотках звездочки, так же? И вот, тогда была мания искать свастики, фашистские знаки. И вот, эта сетка, она так «крестила», что ли, что если в лупу, вооруженным глазом смотреть – изображение свастики. Где полное, а где – половинка, все такое. Господи! Неужели и такое было? До чего дошло! Пришел я к следователю, а уже фотографии у него, из редакции взяли. Газета сегодняшняя, значит. И вот, мне вопрос задают: «Расскажите, как это получилось?». Я уже не помню, что он мне говорил. Я говорю: «Это техническое». Он мне говорит: «Вы мне об этом не говорите». Короче, я перед вами, во-первых. Вечером… А цинкография была при редакции, только во дворе. Редакция была на Ленина 19, это напротив Оперного театра. А во дворе – типография. И чтобы курьера не загружать, и вообще, я общался с рабочими цинкографии, я носил фотографии, которые в номере идут, которые еще не идут, надо ретушировать, все. Смотрю, в цинкографии какие-то новые люди в штатском, новые люди. Короче, они повторили этот снимок. Во-первых, убедились, что, чего я кисточкой даже не касался, потому что там нечего делать – звездочка как звездочка, понимаете? В основном, ретушь, это лица, понимаете, группы там какой-то. И на этом дело закончилось. Служил я на Дальнем Востоке. 1937 год. В 1938 там был конфликт с японцами у озера Хасан. Я участвовал в этом бою. У меня был даже значок, но пропал. Это вас по призыву, срочная служба? По призыву, да. Тогда на Дальнем Востоке была одна армия – Дальневосточная. После событий на Хасане, наших там полегло очень много, тогда информация была не так, как сейчас, более подробная, скрывали. Но я видел. А что это вообще было? С чего началось? Это японцы, видимо была проба нашей силы, или нашей техники, понимаете? Было очень выгодно японцам – они были наверху, в сопках, а мы – у подножья сопок. Они нас косили. Приказ был Сталина: «Границу не переходить». Потому что может возникнуть война. И это длилось, по-моему, 8 дней. Мехлис приезжал. А кто это? Это был начальник политуправления армии, Мехлис, еврей, между прочим. Когда события кончились на Хасане, так армию поделили надвое. Одна с центром в Хабаровске, там уже была газета, она выходила, «Тревога» называлась. А в другой части армии газеты не было. И вот, эта газета, хабаровская, печатала в каждом номере всякие объявления. В том числе, что нужен художник. И я написал туда. Вы еще в армии тогда были? Да. Второй год уже. А срок тогда какой был службы? Сколько служили тогда? Яков Волошин. Интервью 8 2 года. Второй год, я говорю. В том году я уже сапоги получил, а то были ботинки, обмотки. Вы знаете, что такое обмотки? Сейчас я вам покажу, расскажу. Значит, надеваете ботинок, и такая черная лента, вот такой ширины. Лента – два метра. И надо, когда ботинок надели, надо эту обмотку вот так вот, тут еще шнурочек такой, туда, и носить так. На второй год службы уже выдавали сапоги. Правда, не хромовые, а кирзовые, голенища кирзовые. Яков Давыдович, простите, вы можете еще немного подробнее рассказать о Хасане, потому что об этом очень мало кто знает теперь, так ведь? Да. Мало писали. А сейчас вообще забыли. А сейчас вообще забыли. Ну, там было конфликтов много, на Дальнем Востоке тогда. Значит, 1938 – Хасан, 1939 – Халхин-Гол. Это я говорю, большие такие конфликты. Это – Монголия. Но там я не участвовал. Наша армия не участвовала. А что подробней рассказать? С чего началось, собственно? В чем был конфликт? На границе вообще же, СССР же был закрыт, так? Железный занавес. И конфликты на японской границе были ежедневно, даже, можно сказать, ежечасно. Переходили пограничники, конфликты, бои были, такие, мелкие. Но об этом никто не писал тогда, понимаете? Вот это был Хасан, самый такой… Нет, потом был Халхин-Гол еще. А как же вот эти мелкие стычки перешли в такую войну серьезную? Какую войну, Отечественную? Нет, на Хасане? Ну, что армия понадобилась, целая армия? Трудно мне на этот вопрос ответить, понимаете? Понимаю. Вы тогда были в пехоте? Это не пехота. Я служил… Это называлось «Отдельная химическая рота». Вот там я служил. А вы какую-то школу прошли? Какую школу? Армия – это школа была. Ну, в армии какое-то обучение было? Тут же надо знать все это? Конечно. Но, между прочим, поскольку я в основном рисовал, то комиссар, а это было нужно очень, потому что нужна была наглядная агитация. Ведь в каждой части были «ленинские комнаты». Их надо было убрать, надо украсить лозунгами, плакатами, и все такое. И для комиссара я был находкой, понимаете? Я еще почему вам говорю, когда комиссар получил, ну, приказ, что ли, меня отпустить… Ага, я вам еще не сказал. Значит, в Хабаровске была газета, «Тревога» называлась… 1-я кассета, 2-я сторона. Вы говорили, что там было объявление, что там нужен художник. Да. А другая часть армии – с центром во Владивостоке. Там газеты не было. И вот, Мехлис приказал, чтобы была газета. Он же ведал политуправлением, пропагандой, наглядной агитацией. И вот, организовали газету. Назвали ее «На защиту Родины». И меня, значит, туда вызвали. А как они узнали? А я написал. Я же говорил, что газету «Тревогу» я получал. Ну, воинская часть получала. Я был в армии библиотекарем, почтальоном и художником. Так что для комиссара это была находка, понимаете? Тем более на Дальнем Востоке. Тогда там мало населения было вообще, любого пола, особенно женского. Тогда было такое движение, «Хетагуровское движение», не знаете? Было такое движение по имени Хетагурова. Но что это за движение? Клич был: «Женщин – на Дальний Восток!». Зачем? Яков Волошин. Интервью 9 Чтоб заселять. Очень много военнослужащих. Кончился срок службы, а жить? Пола нет второго, понимаете? Невесты? Да, невесты. И многие ехали девушки туда? Ехали, ехали, конечно. Это было такое движение. Может, вы не помните, не знаете, было такое движение: «Женщина – на трактор!». Паша Ангелина была такая на Донбассе. Она, между прочим, минчанка, по-моему. Да, минчанка, Паша Ангелина. Тоже, был клич: «Женщины – на трактор!». Конечно, в какой-то степени женщины пошли трактористами. А Паша Ангелина потом была Героем соцтруда, награды, все такое… Это была Хетагурова. Она сама из Хабаровска. Все газеты подхватили, понимаете. Организовалась газета «Защита Родины». Вот, меня перевели туда. Ну, комиссар не хотел отпускать, но это ему не помогло, понимаете. Он на меня: «Зачем ты написал?!». Я говорю: «Я не писал». Они в личном деле, наверно, посмотрели, что я из редакции был призван в армию». Это была военная газета? Военная, конечно. Это была газета 2-й Дальневосточной армии. Значит, 1-я была в Хабаровске, а 2-я была с центром во Владивостоке. Отслужил я там два года. Я еще был красноармеец. Вас перевели во Владивосток красноармейцем? Нет, редакция была не во Владивостоке, а был такой город Ворошилов-Уссурийский. Там была редакция. Был еще красноармеец. Но поскольку родители, они мне писали, что сложно жить. Это уже после голода, это же был 1938 год уже. Ну, тогда я решил остаться на год вольнонаемным, по контракту, в этой газете. И мне предложили еще две газеты. Я обслуживал три газеты. Но одна из них была не ежедневная. «Коммунар» называлась, помоему… Не помню. В общем, я там был три года, на Дальнем Востоке, после службы еще год. Вы тогда еще не были женаты? Вот, в промежутке, когда я демобилизовался, тут меня невеста ждала. Она тоже работница редакции, в отделе писем работала. И так я понял, и она, и ее сестры говорили: «Приезжай, Лилечка тебя ждет». А вы с ней встречались до армии? Встречался. В 1939 я приехал. Мы официально поженились. Я взял жену на Дальний Восток. Но там одна причина: зимы были очень холодные, вообще холодно, а вторая причина, очевидно, что она уже была беременная, и этот климат на нее влиял. Я ее отвез обратно в Киев и уехал опять. У меня было два месяца отпуска. На Дальнем Востоке давали отпуск два месяца. Одна дорога только 14 суток поездом. А природа там, конечно, красивая. Байкал… О! Вот так. В 1940 я приехал в Киев в декабре. Уже вернулись насовсем? Да, насовсем. В ноябре сын родился в 1940 году. Но я в «Пролетарскую правду» не пошел. А меня они обязаны были взять, поскольку я оттуда призывался. Но там был мой друг Юра Мещерский. И я думал, что если я поступлю, его уволят. Была газета такая Киевского военного округа, «Красная армия» называлась. Была такая газета. И я туда поступил начальником отдела иллюстраций. Полгода проработал, и началась война. Простите, если вы не против, до того, как вы начнете рассказывать о войне, немножко еще вернемся в ваше детство, хорошо? Да. В Умани. В доме, который вы снимали, только ваша семья жила? Да. А вы помните дом этот? Можете описать его? Яков Волошин. Интервью 10 Ну, я помню, одноэтажный, не очень благоустроенный. Сырость. Деревянный? Нет, внешне он не деревянный. Я только помню, что такие, металлические… ну это как деки, ставили у стен, чтобы сушить сырость, понимаете? Это я помню. А отопление печное было? Печное, конечно. А вода в доме была, водопровод? Да, вода была. А туалет во дворе? Не помню. По-моему, был. А сколько комнат было? 4 комнаты. И кухня, да? И кухня, да. А как комнаты распределялись? У вас с сестрой были отдельные комнаты? Называлась «детская». И спальня родителей? Да. Ну, и столовая. И столовая. Скажите, а мама носила парик после замужества, или у нее были свои волосы? Нет. Парик, никто даже не знал, что это такое, так мне кажется. В маленьком городке, Умань… Нет! Поймите, я вынуждена это выспрашивать, потому что в разных регионах по-разному это было. В Западной Украине вообще не представляли, как это можно, чтобы замужняя женщина без парика была. До сих пор рассказывают… Ну, это мы знаем… Я не обижаюсь. А на каком языке в семье вы разговаривали? С нами, в основном, на русском. А папа с мамой – на идиш. Вы иврит не знаете? Нет. А то, у меня была встреча на днях с армией Израиля, знаете, была встреча? Да, да. Там какой-то, я не помню его чин, подарил брелок для ключей. Так там что-то написано. Я в Хеседе был – никто не знает, к кому я обращался. Это же позор! Хесед. «Иди к этому!» - пошел к этому. «Идиш, говорит, знаю, а иврит не знаю». А там – иврит. Сейчас я вам покажу. В институте иудаики есть люди, которые знают иврит. Там даже есть совсем молодой мальчик из Умани, он знает. Я буду на днях на Пушкинской, у Монастырского… Там вы найдете, конечно. Да, да… Это был банкет в «Киевской Руси», это гостиница. Между прочим, я уже в альбом положил фотографию, которую сегодня получил, вот. Это наш, вы с ним беседовали, Нежинский. А это шеф, ну, как у нас министр, шеф полиции. Такой молодой? 42 года. А это кто-то из наших, это я… Это вы… А это – солдат. Какие они патриоты! В конце ужина, значит, гимн заиграли. Как они все встали! Я даже испугался. Как-то так, без всякой команды, все как один. Оказывается, можно и без головного убора честь отдавать. И так они стояли, пока гимн исполняли. Это, значит, в «Киевской Руси», а это в Хеседе, ну, тут все наши почему-то, такая группа. Вот я, вот это – Нежинский. Яков Волошин. Интервью 11 Вот это Нежинский? Да, он был в полной форме. Фуражка закрывает лицо. Его и не узнать. Да, солнце было потому что. Только это фотография современная. Какую-нибудь я у вас поклянчу. Я вам дам, у меня еще есть. Чудесно. У меня чего-чего, а фотографий очень много, потому что все фотографы газет, когда я работал, были в моем подчинении, были друзьями, товарищами. Выпивали, гуляли вместе. Анекдоты рассказывали. Так что у меня фотографий много, понимаете? Да может быть, не все вас интересуют. Даже, когда есть из чего выбрать, это так приятно. Конечно, да. Вот так жизнь прошла. Вы рассказали, что Йом-Кипур был для вас любимым праздником? Да. Для меня и для сестры моей. А родители постились, да? Конечно! Ходили в синагогу, ждали… Звезды? Звезды, да. Так было, между прочим, на этой встрече тоже. Это была суббота. Нам сказали собраться в 7 часов вечера. Ну, столы уже были накрыты, но спиртного не было. Только всякие воды: кока-кола, минеральная… Ну, и закуски всякие. И мы ждали, ждали до 8 часов, даже больше. Оказывается, надо было ждать, пока звезда появится, первая звезда, так? Да. А остальные праздники еврейские отмечали у вас дома, не помните? Как Песах отмечали, вы помните? Помню, да. Расскажите, пожалуйста. Но я слабо помню. Что помните. Ну, помню, что что-то прятать надо было… А как начиналась подготовка к Песах? Посуда пасхальная была? Была, была. Кошерная, это я помню. Кошерная посуда была, маца была. А где мацу брали? Сами пекли или как-то можно было купить? По-моему, где-то брали, не знаю. Как сейчас: мы идем в синагогу и покупаем. То есть Умань, это был еврейский городок, евреев много было? Вообще-то да, да. Даже улицы название было, ну вот, Спиноза. Он же еврей! Мы жили возле этой улицы Спинозы. Она и сейчас есть. И две синагоги были рядом. Это я помню. И так, гора – вниз, Инженерный переулок, там, где мы жили. Теперь я поняла, где это. Я сообразила, где это. Эту улицу Спинозы я знаю. Да?! Слышали? Я была там. В Умани были? Ааа… Меня взяли… Я тогда с вами знакома не была. Я отступал, мы отступали через Умань. В Софиевке переночевали, и дальше. И больше с тех пор я не был. Уже сколько мне говорили там: «Поедем, поедем…». «Киевской правды» редактор. На день Победы они всегда меня просят прийти. Премия, стол… Вот сейчас редактор говорил: «Поедем!». Я говорю: «Два раза звонил». Он: «Некогда, нет времени». И так я и не был с 1931 года. Яков Волошин. Интервью 12 Такая красивая! Тогда было, помню, 40 или 50 тысяч жителей всего. Но школу помню. Седьмая школа. В штабном переулке была. Яков Давыдович, вы говорили, две синагоги. Были еще синагоги, другие? Не знаю. Не знаете, да? По-моему, вот эти две и были. Одна была небольшая, другая была побольше, это я помню. Двухэтажная, что ли. Там же женщины наверху должны быть? Да. А вы уже не ходили с сестрой в хедер перед тем, как?.. Нет… А! Помню, я на дому учился. Был преподаватель по фамилии Учитель! Вот, он меня учил на идиш, или иврит. Я помню. Вы иврит знаете? Несколько слов на иврите помню, и все. И могу написать свою фамилию для интереса. Сейчас, забыл как. Так или так? Так, по-моему. А может, и не так. Вот это я помню. Больше ничего. К стыду и к сожалению. А сестра тоже с вами училась? Нет. Я недолго учился. Но в хедер я не ходил. Но был, хотел учиться. А мама, вы говорите, была не так религиозна, как папа? Нет, в праздники ходила в синагогу. Но отец – чаще. Это я помню. Потому что и не в праздники, а еще в какие-то дни, не знаю. В Шабат, наверно? То ли в субботу… И отец не курил? Вы сказали, что он вообще не курил? Нет, отец не курил. Уже после войны, ну, где-то, когда умер отец, в 1968, ну, где-то, когда я уже постарше был, на Новый год, говорят: «Ты какие куришь?». Я говорю: «Казбек». Сколько стоит? Я говорю: «30 копеек». – «В день?». Я говорю: «Да, в день. 30 копеек». «Вот я – не курю». Где эти деньги, которые я должен был истратить, если бы я курил? Вот это он мне часто говорил. Но не запрещал. А вы рано начали? А, да. Судя по портсигару… Кончил школу, я окончил школу в 16 лет. Не в 15, а в 16. Я должен был в 15. Я болел скарлатиной дважды. Это редкий случай. Вообще, болеют один раз в жизни. А я болел дважды и много пропустил. И поэтому я в каком-то классе два года был. Поэтому я окончил школу не в 1930 году, а в 1931. Я не курил. Но когда я кончил школу, я, значит, в семейном кругу говорил родителям: «Я хочу курить». Отец говорит: «Если ты не скрываешь, это вредно. Но если ты не скрываешь – кури». Вам 16 было, да? Да, 16 лет. А на фронте что курили? Вы себе не представляете! Лошадиный помет. Сушили и курили. Были перебои с табаком. О перебоях с хлебом я вам не говорю – тоже были. Но табак! Вы их легче переносили, да? Сухари, какие были, заплесневелые, зеленые. Особенно зимой. Эти снежные заносы… Мы вперед, а за нами службы не успевали эти, понимаете? Соли не было. Ничего не ели, дней 8-10 не ели. Как же вы передвигались? Чудом. Не было соли. Казалось бы! Врачи говорят, что соль вредна, да? А соли не было. Как трава. Суп наварят, а ничего не идет. Тушенка была – эта, слава Богу, выручала. Хоть что-то было, да? А что мама готовила на Пейсах, какие блюда? Вы помните что-нибудь? Нет, я не помню точно, но делала то, что полагается. Рыба… Струдели пекла, да? Яков Волошин. Интервью 13 Бульон с чем-то… Кихлами, да? Кихлем называется, да? Такие крупиночки? Такие… Клецки? Вроде клецок, да. Как-то они назывались, не знаю. А папа проводил седер дома? Да. И Хануку, я помню, отмечали. Это в день рождения мамы было. День рождения был не по числам, знаете, как сейчас, а по каким-то праздникам. Вот, в какой-то день Хануки у мамы был день рождения. Ну, это число, конечно, передвигалось. Вот, например, еврейский год в прошлом году был 17 числа. Это у меня записано, видите, я записал? Написано: «С ночной звездой…». А в этом году 26, кажется, да? В этом году я не знаю. У меня сын окончил Соломонов университет летом, и я уже не знаю. Каждый год у них отмечали, поэтому я всегда знала. А может, 26. Он в июне защитил диплом. Окончил, да? И теперь что? Работает. Ну, он работал еще во время учебы. С третьего курса работал. Утром учился, а с обеда работал. А как вы Хануку отмечали? Давали деньги, я помню. А каким образом, я не помню. Какое-то застолье было в семье? Да, конечно. Но какое – я не помню. Но деньги давали. Хануке гелд. А вы тогда играли в азартные игры, или тратили их на что-то для себя, не знаете? Я не помню. А Шабат, Субботу дома проводили? Мама зажигала свечки на Шабат? Отец же работал, наверно, в субботу, да? Нет, в субботу не работали. По-моему, зажигала… Не помню. Сколько лет прошло! Когда вы в школу пошли, сколько вам лет было? Семь, да? Вы раньше пошли? 7 или 8, я не помню. Одни говорят в 7, другие – в 8, по-разному. Ну, я не помню. Это русская школа была? Русская. Ну, если я окончил в 1931… В 16. И сидел два года в одном классе, значит – в 7. Помню, мне давали полкопейки, а у школы там стояла продавщица бубликов. Полкопейки стоил бублик. Тогда была такая монета. Полкопейки? Полкопейки. Копейку стоил бублик с маком, а полкопейки – без мака, или объемом меньше, как когда, я помню эту продавщицу, что у школы стояла. Яков Давыдович, а вы были октябренком, пионером в школе? Пионером был, комсомольцем не был. А в партию вступил в 1942 году, добровольно. Никто мне не советовал, не говорил. Я видел, что делается, сколько жизней зря и не зря… Ой, война! Но привыкаешь и к войне тоже. Адаптируешься. Вот, идем по улице, какая-то деревня… Идем втроем, впятером. Где-то снайпер раз! – одного из наших убил. Мы посмотрели и пошли дальше. Так адаптировались. Если бы психика не была такой подвижной, то, наверно, все с ума сходили? Или приказывали какую-то деревню взять. Идет батальон – там остался. То ест не остался, но… Идет второй, идет полк. Бои ужасные, а потом приказ: «Отставить!». А сколько таких обыденных случаев, как люди гибли! Вот, я один расскажу. Это не один случай, но это я один вам расскажу. Была снежная зима, 1943 год, по-моему. Был приказ двинуться в другое село, в деревню. Это было в России, под Орлом. Идем. Ночь, спать хочется. Яков Волошин. Интервью 14 Дороги нет, все заснежено. За что-то ухватиться надо. Вот, кто-то идет впереди – за хлястик шинели взялся и идешь с ним вот так. В ногу, в ногу! Или за хвост лошади. Это самое лучшее место было, понимаете? За хвост лошади. Это кавалерия была? Нет, это была артиллерия. Я был начальник связи дивизиона при артиллерии. А тяга была конная. Вот откуда у нас и «табак» был. Не табак, а курево. Мы еще соседям носили. Ведрами, я помню, носили. Были перебои. Да, вошли в деревню. В один дом, в хату. Вы закурить хотите – курите! Это когда жена была, покойная, так я выходил на балкон или куда. А сейчас… Дети, отдельно от вас? Сын в Москве живет, вообще. Сыну 62 года. Мне самому не верится, что моему сыну 62 года. А, нет, 63 будет в ноябре. А дочка в Киеве. Вот, это она звонила. Да, в одну хату – занято, в другую – занято. Занято, занято, занято… Дальше пошли. Два солдата в хате. Солома на полу, конечно. Комиссар, значит: «Вы из какой части?». Они что-то говорят. «Выходите!» - «Ой, дяденька! Холодно, куда мы пойдем?». Они, видно, только призваны, если называют командира «дяденька». В армии нет такого выражения – «дяденька». «Выходи!» - приказывает. «Не выходишь?» - раз, два! – «Выноси». Вынесли эти трупы, в сугроб бросили, и все. Ужас! Так спрашивается, в статистике, в отчете, куда они, кто их знает? Вот это называется… «Без вести пропавшие», да? Да. Я уже не говорю, раненые. Это не один случай был. Это я сам видел. Господи, какой ужас! Ну, конечно, комиссар был выпивший, как обычно. Две фляги у него всегда было водки. И у адъютанта еще две фляги. Вот так. Кто ему сделает замечание? Сделай замечание – и ты получишь пулю. Ко мне комбат подходил, или вызывал, когда бой идет: «Нет связи! Почему нет связи? Если через 10 минут не будет связи, расстреляю перед строем как изменника Родины». Это он мне говорит. Это был последний разговор с ним. Я ему объясняю. Вообще, во взводе у меня никогда не было столько людей, сколько положено по уставу. А положено во взводе, по-моему, 26 человек, взвод связи. А у меня было всегда 9, 11… Неполный комплект, понимаете? А когда бой идет? А что это за связь? Проволочная связь, вот она. Лошадь прошла – все, обрыв, конец света. Даже если человек пробежал, тоже может… Это же на какие расстояния тянулось! Километры! И чем? Чем? Когда отступаем, я же не имею времени смотать этот кабель. Я же оставляю его. А пополнения нет. И никто не хочет знать. Была одна радиостанция. Носили, носили ее и кинули – нет питания. Так что же это за «мебель» такая? Да, тяжелая же! Как называлась? Р… что-то там… Как же вы выкручивались? Вот так, одалживал, выпрашивал, менял, я уже не помню даже. (нрб) был бой за одну высоту. Это была станция Поныри, где-то под Орлом, что ли. Зимой. Эта высота только на карте осталась. Фактически уже высоты этой нет. Там все уже распахано: трупы, горы железа. Потому что она переходила то к нам, то к немцам. Она была господствующая, понимаете? Поэтому ее держали на этом участке. Мы были заинтересованы держать ее, а немцы были заинтересованы, чтоб они там были, понимаете? Она просматривалась. Понятно. Ночь. Нет связи с соседом справа. А по уставу связь сосед слева мне дает, а я – соседу справа даю, моими средствами. Значит, посылаю двух телефонистов, телефонный аппарат, ну и связь. Яков Волошин. Интервью 15 То есть, это прокладывалось участками? Да, да. Я объясняю комбату: «У меня нет людей. Столько-то раненых, двое убитых, трое отдыхают после ночи». – «Сам иди!», он мне говорит. Вот, я сам пошел. И в часть уже не вернулся. Ранили? Контужен. А немец в то время, у него появилась новая пушка под названием «Берта». Она очень мощная. Где-то там вблизи попало, а дальше я уже ничего не помню. Очутился я в медсанбате. Не слышу и говорить не могу. А медсанбат, это при вашем полку? Нет, это специальное медицинское учреждение. В полку санчасть только. Там (нрб) – и все. А тяжелораненые – уже в санбат. А длительное лечение – еще дальше, в тыл. Вот так меня и… Я лежал в медсанбате, в Тамбове, потом – Мичуринск… И так довезли до Уфы. Какое расстояние! Там, значит, я помню, в лесу, это бывший санаторий ЦК Башкирии. Ну, оборудован, конечно. Сейчас там госпиталь. И все врачи мне пишут: «Вас излечит только время. Лечения нет». Ну, там что-то давали. Аппетита никакого. Вот так я пролежал месяцев 6, в этом госпитале. Это был уже 1944 год. 1943 и на 1944. Ну, вот, в марте 1944 меня уже в госпитале не держат – домой. Я говорю: «Куда, домой? Ведь Киев еще у немцев». А у вас уже восстановилось? Ну так, немножко. Я заикался, жестикулировал, я помню. Ну, приехал в Киев. Квартира занята, наша бывшая. И кто там живет, думаете? – Военный прокурор Киевского военного округа. Могу я с ним бороться, доказывать, что я тут жил? Ну, тогда военкоматы хорошо работали. У них были сведения, кто не жил, а сейчас живет, сегодня, кто уже не вернется – тоже были откуда-то сведения. Короче, мне на Чеховском переулке дают две комнаты. Но там живет опять-таки чиновник большой – главный бухгалтер облисполкома. А жил он до войны в Боярке, и там он имеет собственный дом. Ну, я опять в военкомат. Говорю: «Как… 2-я кассета, 1-я сторона. Вы подали в суд? Нет, это военкомат подал в суд на выселение. Потому что, во-первых, он жил тут при немцах, значит, это тоже, элемент уже такой, неблагонадежный, имеет дом в Боярке. Ну, я так, наведывался, и сосед мне говорит: «Не волнуйтесь, он уже потихоньку выезжает». И так он выехал. Я в суд не ходил. И жил я на Чеховском переулке. А у вас во время войны была связь с родными? Жена ваша… Два года не знал. Не знали вообще? Они не знали, и я не знал, где они. А родители ваши эвакуировались вместе с вашей женой? Нет. Отдельно и в разное время. Жена с семьей была в Челябинской области, а родители были в Башкирии, что ли. Сын же тогда совсем маленький был? Жена рассказывала, ужас! Я уже не говорю о том, что бомбили состав не один раз. Это вопервых. Еды не было, воды не было. Из лужи она пила воду и кормила его. Бедствовали ужасно. Я уже не говорю о таких вещах, как пеленки, одежда… Ну, и когда там жили, тоже, особенно зимой. Печное отопление. Военкомат предлагает сани, лошадь, топор, пилу. Езжай сама. Городской человек, женщина может это делать? Нужно пилу взять и лошадь запрячь до того, как доехать до леса. Яков Волошин. Интервью 16 Мучались. А ваша жена была со своими родителями? Да. То есть не одна все-таки. Там еще были две сестры, так что было еще более-менее. Одна сестра работала в столовой. Она и тут была… Она окончила институт Микояна, был такой в Киеве. Он и есть. Пищевой промышленности. Вот, она его окончила, работала тут на фабрике Карла Маркса. Вот она, между прочим, одна из сестер жены, нам ночью сообщила, что война началась. Она была на третьей смене на фабрике Карла Маркса, и там, видимо, кто-то крутил радио. Тогда же забивали, и позвонили соседу, у него телефон был, он в горкоме партии работал. У нас телефона не было. И она сообщила, что началась война. Это было где-то 5 часов утра. Ну, в Киеве уже тоже зенитки стреляли. Соломенку бомбили, авиазавод бомбили, «Арсенал» бомбили. Они все знали, где, что находится. Простите, вы сказали, что вашу жену Лиля звали? Да. А как ее имя полное? По-еврейски она Лея. А так – Лиля Адольфовна. Тестя звали Адольф. А какая ее девичья фамилия? Сейчас скажу. Она очень редкая: Томбак. Какого она года рождения? Она 17-го. Киевлянка, да? Киевлянка. Родителей ее вы знали, да? Конечно, знал. Мы вместе жили, и не один год. Кем ее отец работал? Слесарем. А теща, домохозяйка? Да. Сестры были старше вашей жены? Обе старше. Одна, по-моему, 1909 года, а другая – 1912. Как их звали? Сейчас скажу. Которая 1909 года – Геня, Евгения Адольфовна, а та, что 1912 – Раиса Адольфовна. Они обе замужем были, да? Раиса была, а Геня нет. Девой была. Геня, это та, которая работала на кондитерской фабрике? Нет, это Рая работала. А Раину фамилию в замужестве вы не помните? Нет, не помню. А дети были у Раисы? Да, сын был, но он уже умер. Отец был грузин, между прочим. То есть муж Раи? Муж Раи, да. Но она вышла замуж перед войной, так что я его почти не знаю. У вас, конечно, была такая, обычная свадьба, да? Зарегистрировались в ЗАГС, и все? Даже не обычная, можно сказать, а никакая. Ленина 19 – редакция, представляете себе? Угол Владимирской и Ленина. Знаю. Яков Волошин. Интервью 17 А в 21 номере на Ленина ЗАГС был. А жили мы на Ленина 32. там два шара таких возле входа. Напротив Леонтовича. Вот там мы жили, Ленина 32. Там, где сейчас междугородние переговоры? Да, да. Вот это, в день войны, в первый день, ночью, утром я быстренько оделся, пошел в междугороднюю и звоню в редакцию. И мне говорят: «Немедленно приходи!». И я уже домой не возвращался. Нас тут же одели, казарменное положение. Привезли кровати, постельное белье и все такое. И мы месяц были на казарменном положении. Это в редакции еще? Уже в редакции, да. Я же был (нрб). Я вам рассказывал? А, я пропустил! Не рассказывали. Вы кончили «Пролетарской правдой». После демобилизации, в 1940 году я в «Пролетарскую правду не пошел», а пошел в газету «Красная армия». Она находилась возле Лавры, Цитадельная 10, там типография и редакция. Вот война меня и застала в этой газете. Но порохом запахло для нас, редакционных! Мы только молчали, мы не знали, что это такое. Запахло. Значит, война началась в июне, да? Да. Запахло войной зимой еще. Как? Зимой. Вдруг нам говорят: «В апреле будут большие учения». В апреле. К нам должен прибыть поезд с оборудованием, с типографией, с бумагой… Большие учения – это что значит? Это значит, что все-таки кто-то чувствовал, что война назревает. Хотя с немцами и был договор о ненападении. И туда шли эшелоны с мясом, хлеб. К немцам. Вот ответ на вопрос. Месяц, нет, меньше. Потому что штаб округа, а редакция должна была быть при штабе, так полагается. Потому что мы Киевского военного округа, мы должны быть при штабе. Штаб выехал в Тернополь. И мы, значит, уже с этим поездом – в Тернополь. Там были что-то дней 5, и обратно, в Киев. Потому что наши отступали. Яков Давыдович, к тому, что вы сказали, что вы как-то чувствовали или предполагали, то что это возможно, еще зимой, большинство говорит о том, что когда был заключен пакт Молотова-Риббентропа, все резко успокоились. Что раз есть этот договор… Я так предполагаю. Спокойными могли быть чисто гражданские. А мы все-таки были… Мы же были не войсковая часть, но все-таки военная газета. И публиковали все то, что относится к военным, понимаете? Она была скупая, конечно. Но вы уже могли предполагать, что это… Нет, все мы не могли. Такой пример. Вот я, лично. Допустим, вот три иллюстрации, видите? Четыре, пять, шесть. И где-то там на развороте там сколько-то. Вот такую в номере… Я, когда был начальником отдела иллюстраций. Номер, по макету, макет делают страниц, знаете об этом? Рисуется макет. Первая страница, скажем. Вы ее видите. Это секретарь, который дежурит по номеру, имеет материалы, располагает: вот тут фотографии, вот тут статья, тут стих, тут то-то… Вы понимаете? Так если я в среднем засылал в цинкографию 10 фотографий в обычный день, то вот, когда я вам говорю, «пахло» уже порохом, ну не порохом, тревожно было, я засылал 15-20 фотографий каждый день. А выходило, помещено было, меньше. А я спросил: «А зачем цинк тратить?». Цинк был дорогостоящий материал. Мне говорят: «Это на случай ученья, чтобы у нас был запас». Никто не знал точно. А сказать, что война будет, кто имел право это говорить? Но вы уже, во всяком случае… Чувствовали. Что-то не то – вот так. Что-то не то. Тревожно. Редактор иногда приходил с совещания из штаба округа нервный. Но нам ничего не высказывал. Он что-то знал, может быть, может, не столько, сколько выше знали, но все-таки он знал, он был полковой комиссар, три шпалы носил. Это же звание было! А нам еще меньше рассказывали. Яков Волошин. Интервью 18 Учения, учения, учения… Тогда говорили не «учения», «маневры». Тогда было выражение «маневры». Сейчас – «учения». Яков Давыдович, а когда Гитлер пришел к власти в Германии, в 1933 году, вы уже работали в редакции тогда? Да. Как вы все это восприняли, как вообще отношение тогда было к этому окружающих? Не могу вам ответить. Я же молод был. Что мы знали о политике? Ничего не знали. А по статьям как-то это?.. Нет, статьи обычные, городская газета. Обычные статьи. То есть это как-то прошло незаметно? Критиковали, как и последнее время, кого? Начальника ЖЭКа, дворника. Ну, а кого критиковать? Ясно. Только 1937 было, конечно… В редакции неспокойно было? Во-первых, редактор был по две недели, по месяцу, приходит редактор. Здесь его нет. Где? – Враг народа, враг народа, враг народа… А мы все говорим: «Да, да…». Это все равно, что критиковать какую-то книгу, не читая ее. Кто-то сказал. Все! Но сомнений тогда не было в правильности. Что «враг народа», что так оно и было? Никаких сомнений! Никаких. Очень сильная была вера в Сталина? Да. Дети приходили в редакцию, дети по 10 лет. Приносили обрывки, скажем, обоев: «Дяденька! Вот смотрите, если вот так посмотреть, борода Троцкого, пенсне Зиновьева…». Дети. Или: тогда тетради продавались, ученические тетради, скажем, с портретами писателей, было так модно. Обложка – тут портрет Пушкина. На другой тетради – портрет Горького, помните? Помню. Это рисованные портреты, не фотографии, а рисунки. Я знаю. Графические такие, черточками. Внизу под портретом две буквы: «СК». Это кто рисовал, видно, его подпись. Вот я тоже, для себя рисовал, так я в конце пишу дату, год и свои инициалы: «ЯВ». Тут – «СК». «Дяденька, знаете, что такое «СК»? – это «Смерть коммунизму». Дети! Еще один пример. Праздник 1 Мая надвигается. Украшают здания, Оперный театр, портреты вывешивают на окнах. Так же тогда было? Да, да. Так совсем недавно еще было. На окнах, а на окнах переплеты же там, вроде креста. Я вам уже подсказываю. Если в помещении свет горит, а эти портреты рисовались на полотне, так называемой «сухой кистью». Ну, есть такой способ рисования на полотне. Зажигается свет – Постышев висит вроде как на кресте. Тоже дети показывают: «Постышева повесили». Помните, когда был Постышев? Помню. То есть не помните, а знаете. Постышев был любимец детей вообще, если вы помните. Да, он же елку разрешил ставить. Елку, и вообще, он любимец. Я помню, что дети говорили: «Я учусь на три «П»: Павел Петрович Постышев». Это высшая отметка – «Три «П». Я это помню. Простите, а у вас в школе, в классе тоже такие дети были? Нет, конечно, нет! Это началось с 1935-36 года. Нарастало, нарастало. Нет, в 1930 году ничего такого не было. А голод 1932-33 года вы помните? Яков Волошин. Интервью 19 Помню, сейчас расскажу вам, что я помню. Помню, в кафе, столовых при входе получаешь ложку, вилку. При выходе это нужно все сдавать. Если забыл – иди на кухню, ищи. Чайные ложечки были все продырявленные, чтобы сахарин только размешивать. Это я помню, такие детали. Дальше. Колбаса, в основном, была конина. Красная, мокрая. Покупаешь фунт, там не фунт, 200 грамм, ничего нет, вода. Эта колбаса называлась «С уздечкой». Конечно, в селах было страшнее, чем, скажем, в Киеве. Трупов на улице я не видел, понимаете? А в селах было. Есть фотографии, есть документы, это факт. А причины никто не знает, и знать не будет! Так же, как всю правду о войне, нашей, мы всетаки называем ее «Отечественной», а не «Вторая мировая», тоже, всю правду знать никто никогда не будет. Не только, сколько погибло, а вообще, детали. Конечно. Ну, может, когда-нибудь откроют, когда наши правнуки вообще не будут знать, что была такая война. А кто же скажет, когда никого не будет? Сколько мы будем жить? Мне 88 лет. Так сколько мне жить осталось? Ну, я хочу до 90. это я себе дал такой обет. А до 100? Это сложно. Мы в прошлом месяце отмечали одного нашего полконика. Зарецкий, слышали такую фамилию? Да. Вот, он тут, сейчас я покажу. 95. Вот, видите, фотография. Это был в Хеседе банкет. Это я такой рисунок сделал. Вам непонятно будет, я объясню. Он держит флаг. Написано: «95». Ну, тут – цветы, а тут – танки. Он танкистом был. Один вот еще. А, тут детки мои, мои детки. Сын, дочь, внучка моя. А, дочь с сыном? Дочь с сыном. 49 лет. Ее муж, правнук, 16 лет и правнук 14 лет. Но они в Штатах. Это сын был там в гостях и прислал фотографию. Сын на вас удивительно похож! Да, да, похож. Но выше меня. Вот такая диаграмма вроде бы: я выше отца, а сын выше меня. Ну, вот все время так: дети выше. Сын намного выше, чем муж и я. Это те же, но немножко другие. Это бывшая жена сына, это она их вытянула. Это свекровь внучки, это ее муж, это один правнук, это другой правнук, выше отца. Это первая жена с сыном. Это я, сын, одна внучка, средняя. А это – младшая внучка. Это – Киев. Они 9 мая всегда приезжают, в день Победы. А это я с внучками. Это дочкины, да? Дочкины. Эта от первого мужа, а это от второго мужа. Красивые обе. Вот дочка моя. Это ее братик, а это я. Тут все. Это муж дочки. А это – муж средней внучки, украинец, украинец. (нрб) живут хорошо. 2-я кассета, 2-я сторона. Это фотография вашей семьи, 1930 годы? Да, да, да. Это мы переехали в Киев. Это 1931-32 год примерно. Отец… Это третий ряд, самый верхний? Да. Справа налево? Да, да. Отец, я, муж тети. Которой тети? Эээ… Забыл. У меня записано. Бузя, Хануся и Чарна. Яков Волошин. Интервью 20 Бузя? Да. Нет. Значит, я вам не назвал. Я просто забыл, как ее зовут. Это мамина сестра? Да, да, да. Это ее дочь. Это приемный сын Хануси. Они были бездетные и из какого-то местечка взяли сироту и воспитывали его. А как его звали? Моисей. Дальше, второй ряд. Абрам Гольдштейн, муж тети Чарны. А где тетя Чарна? Вот она. Рядом с ней? Рядом. Левее. Моя мама. Это тетя, я забыл, как звали. Это дядя Изя, это Хануся, его жена. Это дочь этой тети, Хайка. Это моя сестра. Это сын Чарны и Абрама. Как его звали? Миля. Это ценная фотография, почему нет… Это не оригинал. Это, видно, репродукция, поэтому нет даты. Нет, похоже на оригинал. Возьмете? Да, если вы дадите. Значит, мамина сестра, имени которой вы не помните, вторая слева сидит? Вот эта? Я вспомню. Я вам скажу. Значит, тут одна сестра, две, три. Чарна, Хануся и… Но это не Бузя, да? Бузя умерла до нашего переезда. Все. Вот это Сима… Мы еще немного недоговорили об Умани и Киеве, довоенной вашей жизни. Сегодня 20 сентября 2003 года. Продолжение интервью с Яковом Давыдовичем Волошиным. Яков Давыдович, я прослушала предыдущую нашу запись, осталось несколько вопросов о довоенной вашей жизни. Каким было материальное положение вашей семьи, когда вы жили в Умани, работал же один ваш папа, да? Да. Папа, один, да. Но, в общем, вы не бедно жили? Где-то средне так. Что я помню? Каждую неделю приезжала молочница из соседнего села, из-под Умани. Привозила молоко, сметану, творог… Вы не помните, ни голода, ни обмоток каких-то, ни лохмотьев? Нищету не помню. То есть нормальный какой-то уровень. Мог один работающий в семье обеспечить? Да. А после переезда в Киев как-то изменилось? Пока отец еще не перешел работать на гвоздильный завод? Или он сразу начал на нем работать? Мы тоже жили средне. Средне жили. А вот ближе к 1932-33 году стало, конечно, хуже. И продуктов было в Киеве уже меньше, очереди были. Это когда голод был, Голодомор? Да, да. А до этого вы не ощущали недостатка? Нет. Яков Давыдович, как вам кажется, до войны был антисемитизм? До войны? Да. Вам приходилось сталкиваться с проявлениями, или слышать о них? В школе, на улице? Яков Волошин. Интервью 21 Нет. И в школе – нет, и в редакции – нет. Я вам скажу, в редакцию «Пролетарская правда» после войны не вернулось 11 воинов-евреев. А сколько всего было людей в редакции? Можете себе представить, если 11 не вернулось, сколько было евреев в этой редакции? Значит, антисемитизма не было. Ну, бытовой, может, где-то и был, но… Но такого: не приняли на работу, в училище вы поступили? Не было. Наоборот, я хочу сказать. После войны, когда я поступил в 1963 году снова в «Киевскую правду», до войны я работал в этой же газете, но она называлась «Пролетарская правда», а в 1963 году так получилось, что я поступил снова в эту газету. Совершенно случайно. И так получилось, что моя трудовая деятельность началась в «Пролетарской правде», а вышел я на пенсию в «Киевской правде». Но это случайно. Это в какой-то степени интересно. Такова судьба. Так вот, в «Киевской правде» сотрудников довоенных было очень мало. И когда я несколько раз редакторам, а редактора были разные, недолго были редактора одни и те же, и когда я поднял вопрос: «Давайте сделаем мемориальную доску в редакции и напишем фамилии, кто не возвратился, потому что забывается, а я их еще помню, я и сейчас помню, всех 11, помню имя и отчество» - «Да, да, да…». И это «да» осталось на бумаге. Один год, второй год… А люди уходили из жизни. До сих пор в «Киевской правде» нет такой доски. А в «Правде Украины» есть, в «Радянськой Украине» тоже есть. Если так сравнить, понимаете? Да. Вот вам скрытый антисемитизм. И это понятно, почему: 11 евреев, двое русских… Да, двое. Это Каракатенко, был такой очеркист, способный, и еще один, я сейчас фамилии не помню, не могу вспомнить сейчас. Скажите, пожалуйста, а мама до войны, когда в Умани еще жили, а потом в Киеве, на голове носила какой-то платочек, косынку или… Да, платок носила, носила. Особенно, когда ходила в синагогу, носила. А о вашей сестре вы совсем ничего не говорили, кроме того, что она родилась, и ее звали Розалией. Она училась в той же школе, что вы? Да, но она раньше окончила. А потом где училась? Потом она училась в ФЗУ. Это фабрично-заводское училище. А где? В Умани. И работала на каком-то заводе. ФЗУ – это кадры для производства. Если ФЗУ, то она где-то в цеху работала, да? Я даже не помню. А замуж она вышла до войны? Да, до войны. Нет, нет, стойте. После войны. Нет, до войны, до войны. Да, до войны. До войны, потому что они с сыном, с племянником, вот я вам показывал. Он старше моего сына на год или на два. Так, примерно, как она старше меня. Такая же разница между детьми? Примерно такая же. А как звали мужа вашей сестры? Евсей Хананович Хананов. А где он работал? Он архитектором был. Это уже в Киеве? В Киеве, да. Он окончил, как это называется, архитектурный, строительный… Строительный, да. Раньше еще, до войны в художественном институте был архитектурный факультет. Где-т возле станции Шулявка, нет? Яков Волошин. Интервью 22 Недалеко, да, старый корпус был. Вы с сестрой, когда подросли, отошли от религии? Конечно, у меня своя семья уже была. Ну, естественно, вы же росли советскими детьми? Да, конечно. Она жила с родителями, а я перешел жить к родителям жены на Ленина 32. Я вам рассказывал? Да. Против Леонтовича. Там два шара. До сих пор они есть. Но они все утопают, потому что все время асфальтируют, понимаете? Да. И уже получаются полушары. Они уже хорошо утоплены. Яков Давыдович, когда вы учились в школе, я понимаю, у вас рисование было на первом месте? Да. А какие предметы вы еще любили? Не могу вам сказать. Я не очень был первый ученик, это честно. Я возился с собаками, а потом с голубями. У меня голуби были. А где вы держали голубей? В сарае. Это же маленький городок. У нас сарай был для дров. Было печное отопление. В этом сарае я устроил голубятню и держал голубей. У меня их было больше 20 штук. Ну, вообще, об истории голубей я могу рассказать такую хохму. Дома в Умани в основном двухэтажные. Небоскребов не было. И вот, хотелось, ну, не только я этим занимался, я вам сейчас расскажу. Заманивают чужих голубей, понимаете? Своих было мало. А сколько у вас было их вообще? Больше 20. Но голуби были не такие, как сейчас у меня. А были такие, которые летали. Там такая порода была – «николаевские», я помню. А почему «николаевские»? значит, если сверху на голубя смотреть, он белый весь, а два крыла – коричневые и с перепонкой. Получается буква «Н». Поэтому эта порода называлась «николаевские». Еще я забыл, еще какая-то порода. В общем, я брал пару голубей за пазуху и ходил по городу. Смотрю, гдето на крыше голубь стоит. Я уже был настолько натренирован, что я мог отличить, это голубка, или голубь, понимаете? Ну, по поведению. Потому что я смотрю, что если голубь, как увидит, воркует, а он один не воркует, значит, это голубка. И потом, по размеру можно было определить тоже. Он более такой, ну как мужчина. Тяжелее? Да, да. Ну, я смотрел, что тут голубка. Ага! Я, значит, за пазуху, выпускаю голубя на эту крышу. Голубь ее обрабатывает, обрабатывает и к моему дому, с крыши на крышу. Я бегу, бегу… Раз, есть! Он залетел в нашу голубятню, и голубка прилетела. И, то ли раньше голубка, то ли раньше он, не имеет значения… Все. Я, значит, в голубятню, беру эту голубку. Чтобы она привыкла, надо, чтобы 7 дней из крыла несколько перьев вырваны, из одного крыла, либо завязать ниткой. Я не помню сколько, 5 перьев, что ли. Тогда она не может так летать, и она привыкает к этому месту. Но это не все еще. Вечером скандал. Приходит мальчик с отцом… А как узнавали? Кто-то видел меня. Или знали, или кто-то пальцем показал. Приходят к моему отцу, меня вызывают и: «Где голубка?». Ну, я уже вижу, что оправдаться нельзя. Я уже отдаю голубку. Вот так. С голубем то же самое, если голубь, самец. Я голубку выпускал. Она летит, а он за ней. И такая же история была. А так не бывало, чтобы ваши голуби хотели, ну, вот вы выпустили, а он решил остаться здесь? Не бывало, потому что я их выпускал только вечером, причем под наблюдением. Я их так не оставлял. Я не знаю, по какой причине вечером. У меня была длинная палка, длинная, Яков Волошин. Интервью 23 метра три, наверно. На ней тряпка намотана. И я их гонял. Они летали в точку. Не видно было их, точка. И прилетали. Трагически кончилось тем, этот вечер я до сих пор помню, что летали очень хорошо. Знаете, в полете тоже есть, так сказать… Ну, кто понимает в голубях, он понимает, как голубь летает. Он не просто летает, он должен… Ну, не могу вам объяснить, я забыл уже. Вот, я их гонял, они летали в этот последний вечер. В точку тоже. Прилетели, я все закрыл. Утром иду их кормить – никого нет, а дверь закрыта в сарае, все закрыто. Оказывается, хорек забрался, потому что зимой мы брали дрова, и там были следы крови, перьев. Он их утащил. Всех, ни одного не осталось. И больше я их не держал. И с тех пор у меня любовь к голубям все-таки. Вот поэтому несколько лет, как мое хобби – голуби. Но поскольку нет условий, так у меня декоративные только, понимаете? А если бы была голубятня, но это очень сложно и рискованно. В городе это… Воруют, да, (нрб), есть случаи. Я знаком с голубоводами. Они рассказывают. Ну, кто имеет условия где-то в селе, дом собственный, чердак – замечательно! На чердаке держать голубей, лучше и не надо, понимаете? Там им и простор… Вот так. И это немножко меня отвлекало от учебы. Это я отвечаю на ваш вопрос, что я отличником, наверно, не был. Рисованию придавал значение. Это, видно, от дяди осталось. Дядя был художник. Я вам рассказывал? Да. Моисей, папин брат. Судьбы страшной… Трагически погиб, да. Вот никак не соберусь в библиотеку университета. Эту газету сфотографировать, или что… На процессе немцев, там, значит, фигурировала фамилия Моисей Волошин. Скажите, пожалуйста, вы рассказывали, насколько были политизированы дети в то время. Ну, попозже, когда вы уже работали в газете. А вы тоже таким были? Вообще-то да. Я, например, считал, что если враг народа, то это правда. Вот такая мысль была у меня. То есть это вдалбливали в вас чуть ли не с рождения? Ну, не вдалбливали, а… Постоянно давили. Шло, шло, да? Да. Вы говорили, вы были пионером? Какие-то пионерские нагрузки, пионерские дела у вас были? Ничего не было. В лагерях я бывал. Меня отпускали. Хотя я был очень молодой, но выезжал. Я уже не помню куда. Эти лагеря были не в Киеве, а где-то. То ли в Черкассах, я уже не помню. А в вашем классе были еще ученики евреи? Да, конечно. К ним не было предвзятого отношения? Не было. И со стороны учеников? Нет, абсолютно не было. И на войне не было, я не чувствовал. Не чувствовал. Вы говорили, что вы были пионером, а комсомольцем не были. Да. Как это вам удалось? Я не помню. То есть, это не было ваше осознанное решение? Нет, в армии была такая легкая агитация. Но что-то как-то не получалось у меня. Без всяких этих… Яков Волошин. Интервью 24 А когда вы поступили в художественное училище… В техникум. Да, это сейчас оно училище. В художественном техникуме, уже в Киеве тоже вам не приходилось сталкиваться с антисемитизмом? Нет, нет. Все препятствие было в отце, в том, что он был служащим? Ну, поэтому он пошел работать на завод. То есть, единственное, что могло бы в то время помешать вам поступить в техникум, не национальность? Нет, не национальность, а социальное положение. Социальное положение родителей. Понимаете, было рискованно. Может, и не нужно было это делать, понимаете? Но было рискованно. Но если отец рабочий, а еще комиссия аттестационная видела рисунки, понимаете, тогда было 100%, что ты поступишь. Вот так оно и получилось. Отец решил вам обеспечить эти 100%? Да. Он очень любил меня. Ваша редакция из Тернополя через месяц вернулась после начала войны, после отъезда в Тернополь снова вернулась, и вы продолжали работать? То есть это был уже конец июля? Сейчас скажу. 22 июля, это через месяц после начала войны, пришел приказ о сокращению штата редакции. Значит, я возглавлял отдел иллюстраций, был начальником отдела. Чин был – техник-интендант второго ранга. Ну, если перевести, это административная должность, а если перевести на командную, это лейтенант. Два кубика я носил, два кубика. Это вы в таком чине демобилизовались после… Нет, нет. Я имею в виду, после срочной службы? Или потом уже вам присвоили? И я попал под сокращение. Значит, в отделе был невоеннообязанный инвалид Абраша Резниченко, художник, был сержант Петя Денисов, а я был как командир. Ну, у меня было денежное довольствие большее, чем у них. Может, по этой причине я попал под сокращение. Я попал под сокращение. И меня направили в политуправление Киевского военного округа, в их распоряжение. Меня там принял какой-то командир. Спрашивает: «Вы комсомолец?». Я говорю: «Нет». «Член партии?». Я говорю: «Нет». «Ничем не могу вам помочь». И было у меня предписание: «В армейскую газету 12 армии», которая находится в районе Монастырища. Это, между прочим, под Уманью. Вот, я с другими, которые туда же направлялись, нам дали грузовую машину, шофера, там определили старшего, и мы туда поехали. Но мы туда не доехали, потому что нам навстречу, на восток шли беспрерывно войска, отступали. Причем войска такие изможденные, такие заросшие, такие грязные, без оружия. На лошади едет – лошадь без седла. Он не вооружен. Ну, и так далее. В общем, отступали. Мы тоже повернули и с ними отступали. Куда, мы и сами не знали. Никто не знал вообще. И отступали, очень было заметно, очень много скота вывозили. Коровы, овцы, свиньи… у нас в этом грузовике всегда было две свиньи. Потому что просили те, кто угонял их: «Заберите, потому что мы не… Она не дойдет, эта свинья». Ну, я это между прочим. И так мы докатились, примерно, до Запорожской области. Там в лесу расположились. Никто ничего не знает. Ходят большие чины, генералы. А тогда генералы, звание… ромб был, значит, кубики – средний комсостав, шпалы – старший комсостав, а генералы – это ромбы. И вот, помню, ходили какие-то, ну, то, что нас встречали опять-таки кто-то из больших начальников и говорили нам: «Вы медленно отступаете». А мы отступали в день по 40-50 километров. Это медленно? Яков Волошин. Интервью 25 Это медленно, спрашивается? Кто они? Или переодетые фашисты, или наши, которые перешли на их сторону? Никто ничего не знает. Не мог проверить. Медленно – значит быстрей. Быстрей было нам как-то так, потому что у нас была грузовая машина. А кто пешком? А кто ранен? А кто на костылях? Вот так докатились мы до какого-то леса в Запорожской области. Большой лес, и народу – уйма! И вот, ходили эти начальники большие, со шпалами и с ромбами и опрашивали, кто куда хочет пойти учиться. Учиться. Война – учиться? Ну, меня записали в связисты, я дал согласие. Ну, перечислили: сапер, кавалерист, артиллерист… Я говорю: «Связист». И нас отвели в сторону, мы там знакомились. И мы уже были в составе какой-то колонны, которая определена не то, что отступать, а по квалификации будущей, понимаете? (нрб). Вот, я учился, назывался «КУКС». Расшифровываю: «Курсы усовершенствования командного состава». То есть все были административного состава, в том числе и я, а после курсов нам присваивалось такое же звание, но со словом «командир», командный состав. А я был административный. И вот, под Новый год, это было в Сталинграде, мы еще в (нрб) знаменитых, под Новый год… Это в 1941 еще? Это 1942. У нас был выпуск. Это ускоренные курсы? Ускоренные. Даже можно сказать, не ускоренные, а галопом, потому что мы больше отступали, чем учились. Вот придем в какой-то город, пока, значит, найдем помещение, бывшую больницу или бывшую школу, пока найдем постельные принадлежности, кухню… 2-3 дня прошло: «Отставить, дальше!». Много людей было? На курсах? Нет, не так много. Человек, может, 60-70. опять отступаем, отступаем. Пешком или транспортом? Нет, уже кто на чем, понимаете? Вот, под Новый год выпуск. Всем присваивается звание «командир». И что носил, какие знаки, допустим, два кубика – лейтенант, три кубика – старший лейтенант, одну шпалу, шпалу уже – капитан, я уже не помню, две – майор. А знания неизвестно, какие он получил. Вот отсюда и результат, может, в какой-то степени сказался. Потому что, какой он майор, если он был техник-интендант? Он канцелярией занимался, а ему дают, скажем, батальоном командовать. Меня откомандировали в воинскую часть куда-то на Донбасс, я уже не помню, в село Калиновка. Ну, поехал я в эту воинскую часть, принял взвод связи. Человек 20 было. А полк был на формировании, значит немножко в тылу. Ну, через несколько дней – на фронт. Вот я и… сейчас… в 1942, видя, что там делается на фронте, вступил в Коммунистическую партию. Никто мне ничего не говорил. Я сам написал заявление. Из полит отдела приехали, прямо в окопах, вот как показывают в кино, прямо в окопе приняли меня в КПСС. Нет, тогда еще было ВКПб. А тогда это было по сокращенной программе, без кандидатского стажа? Не было тогда обязательного кандидатского стажа? Тогда кандидатский стаж был три или четыре месяца всего. Ну, он был такой, формальный. Понятно. Но, главное, что по длительности не такой. Формально был такой кандидатский стаж, 3-4 месяца. Это зависит уже от командования. Если оно представляет в члены КПСС, значит… Если нет никаких замечаний. А если уже убит, так тем более, посмертно, а как же? Убит – значит все. Вот, принял взвод и работал. В боях участвовал. Взвод был. Ну как, я вам уже говорил, материальной части почти не было. Кабеля очень мало, очень мало. А тем более, что мы отступали. Как только мы расположимся и весь кабель задействуем, как через несколько дней, через неделю, через Яков Волошин. Интервью 26 две, немец наступает, а мы отступаем. И все оставляем. Это же время надо! Вот так. Причем, проволочная связь. Я говорил. То есть это получается, что под любым обстрелом… Да, да. Обрывы, обрывы, обрывы… И отсюда и калеки, и погибшие. Потому что берет кабель, вот так, примерно, начало взял – пошел, пошел, пошел… Обрыв! Ну, есть у него там кусочки запасные. Соединил, заизолировал, пошел-пошел дальше с телефонной трубкой. Звонит – ага, связи еще нет. Пошел дальше. Пока все пройдет. Может, километрдва. А тут бой идет. Такие расстояния огромные? Ну, конечно! Всякие бывают. Бывает и поле открытое. Идешь по-пластунски, потому что… Бывает, что где-то там деревья, кабель на дерево вешали. Больше было на земле. На земле – это чепуха. Разрыв снаряда – и все, связи нет. Лошадь прошла, повозка прошла, танк прошел – связи нет, все, обрыв. А где взять столько людей? У меня никогда не было полного состава связистов. Я уже не говорю о грамотности и обо всем прочем. А связистов вам давали как-то обученных? Кто там знает, обучен он или нет? Он у телефона сидит, я ему детали рассказываю бегло. Что вот это – телефонный аппарат, вот это – список кода, ну, скажем, командир полка назывался, закодировано было. Немец знал, закодировано! Или пароль, скажем, был «Штык». Выдумка такая. И немец кричал, бывает, тишина такая: «Эй, рус! Пароль «Штык» сегодня?», понимаете? Или «Мушка», или снаряды привозили, так снаряды назывались «Игрушки», что ли? Я уже не помню. «Игрушки» привезли?». И кухня как-то называлась, тоже как-то зашифровано. Ну, это… Я хочу рассказать, чтобы немножко отдохнуть, немножко смешное. Потому что на фронте все было: и трагическое, и смешное тоже было. Вот, когда мы отступали, где-то в Запорожской области, ночью вошли в какойто лес на отдых. Мы входили, только рассвело. Это был июль-август. Нет, не июль. Август-сентябрь. Какое-то село. Смотрим – это не лес, это сад абрикосовый. А мы голодные. Будили, будили: «Давай, абрикосы!». И наелись абрикосов – вот так! Но, поскольку команды «Подъем!» еще не было, кто как лежал, так и ел. Прямо на шинель, на скатку, под голову пилотка, и все. Уже так наелись, что уже было лень вставать. Вот так, ногой, значит, по дереву ударишь, если абрикос близко упал, съедаешь его. Если подальше, лень встать. Чуть попозже слышим, кричат: «Кому сметану? Кому сметану?». Оказывается, неподалеку от этого совхозного сада, видимо, молокозавод был. 3-я кассета, 1-я сторона. И вот, слышу, кричат: «Кому сметану? Кому сметану?». Солдаты там несут такие поддоны, как полстола, и там сметана. Ну, никто не считался, что абрикосы и сметана не очень сочетаются. Поели мы этой сметаны, в котелок набрали и опять легли. Через некоторое время команда: «Встать! Выходи строиться!». Можете себе представить наше состояние? Вот такой эпизод был. Это при отступлении. А при наступлении тоже. Были времена затишья, были. Месяц, два – затишье. Мы молчим, немец молчит. Затишье. Ну, зимой нам выдавали 100 грамм. Каждый день? Каждый день, независимо от боевых действий, были или не было. Но это зимой. А летом давали только за боевые действия. То есть это перед боем или после? Это независимо. Это спирт или водка? Это водка. Я вам больше скажу. Я видел бочки, где написано: «Керосин». Но там не керосин сейчас. Но, видно, был керосин. Так можете себе представить, как в тылу могли эту бочку обезвредить, помыть ее внутри. И ничего, пили эту водку! И никто не болел. Тифа не было, понимаете. А предпосылки могли быть. Яков Волошин. Интервью 27 Не только тиф. Там же не только в домах спали, а и в землянках. И не потому: белье не меняли. То есть меняли раз в году. Нет, чаще. А какое белье! Только привезли, а оно уже требовало, чтобы его выстирать. А как решались бытовые вопросы? Ночлег, кормежка, стирка, прачечная, медицинское обслуживание? Медицинское – было. На уровне. То есть, это при каждой части была какая-то медчасть? Ну, при части, значит, при дивизии – медсанбат. У полка был чуть пониже, и врачи, и фельдшера пониже. А в небольших подразделениях были санчасти. То есть раненым первичную помощь могли оказать прямо на месте? Да. Были санитары, так называемые, которые оказывали или помощь, или после боя выносили раненых. Ходили по следам боя, кто еще шевелится… Но не всех, конечно, всех… Понятно. И в какой степени раненый. А что потом делали с ранеными? Ведь не все же потом могли вернуться в строй? Нет, конечно, нет. Тому, кто оставался инвалидом на всю жизнь… Ну, понятно. Но долечивались они где? Если серьезное ранение, то долечивали уже в госпиталях, в тылу. Вывозили? Конечно. Да, в поездах. Есть такой фильм, вы смотрели, наверно? Я знаю, что вы имеете в виду. Это там, где санитарный поезд. Да, да. Даже кур возили, для того, чтобы были яйца, чтобы можно было питать особо больных, понимаете? Эта песня «Люди в белых халатах» из этого фильма? Нет, там еще какая-то была. Вы помните этот фильм? Помню. Такие поезда возили в тыл, в том числе и меня. Сначала медсанбат, это было какое-то время, сколько, не помню. Нет, сначала санчасть, медсанбат, тоже, какое-то время. И тяжелобольных вывозили, потому что койка им нужна. Свежие раненые. Наверно, довозили совсем не всех. Всякое бывало. И не довозили. А с жильем как? Ну, понятно, если вы возле какого-то села, то, наверно… Какое жилье? Блиндаж – это как окоп вырытый, несколько слоев бревен как крыша, все. Лампада из этого… Если керосин есть, то керосиновая. Там, где-то в углу одна-две. Вот так и жили. А отопление, постели? Какое отопление? Всю зиму, вот я, например, всю зиму прожил в блиндаже. Немец, вот если идет бой, и немец чувствует, что он должен отступать, он обязательно в деревню зайдет, чтоб кров был, чтоб тепло было. Это зимой. А мы – нет. Опять в поле. Опять начинаем строить блиндажи, окопы рыть. Но тифа не было. А предпосылки были. Были. Даже не тиф, а простудные заболевания, воспаление легких? Не было! Ведь организм был так, как вам сказать, напряжен, что ли, понимаете. Все резервы, наверно, пошли в ход. Страшно. Да. Всю зиму мы в блиндаже. Ну, что вам еще сказать, простите, насчет вшей. Были. Но солдаты люди умные, нашли способ борьбы. Брали санитарные пакеты, ну, они были, в основном, в противогазе, там санитарный пакет. Там что? Вата, бинт, что-то еще такое. Марлевая салфетка? Яков Волошин. Интервью 28 Нет, не салфетки, а бинт. Оказывается, эти насекомые любят чистоту, как ни странно. И вот, сюда, сюда, и еще в одно место на ночь клали вату, особенно вату, ну, или марлю, понимаете? Утром встаешь – полно их там. И сжигали. Гениально. Вот такая выдумка была, но практическая! Да. Они на чистенькое бежали! Главное, что было! Вот, в хату, бывало, заходишь, там плита горит, и где хозяйка осталась, живет и над плитой вот так и они – ш-ш-ш-ш… Было. Но я не помню, чтобы кто-то болел тифом. В эвакуации, там… Ну, конечно, конечно. А насчет продовольствия, были перебои, конечно. Я вам рассказывал вчера. Да. А как вообще это было организовано? Как-то на месте готовили? Ну, как, кухня обязательно должна была быть в роте и выше. Кухня. А как ее оборудовали? Там же, в блиндаже? Нет. Кухня на колесах, на колесах. Это такой чан большой, один или два. Если две кухни, то две кухни. На колесах. Передвигалась она лошадьми, или цепляли ее или к трактору, или к танку. Так она передвигалась. И кухня получала продукты. В основном, что там, мясо, бывало, свинина и конина. Если молодой жеребенок, все облизывались, какое хорошее мясо, если оно хорошо приготовлено. Тоже, готовили разные люди. Хлеб тоже привозили. Но перебои тоже были. С хлебом были перебои, с солью и табаком. Табак или махорка. А были несколько девушек, они получали шоколад. А кто из них курил, меняли на махорку, на табак. От шоколада отказывались. Наверное, самая большая потребность, да? Табак? Да. Я же вам говорил, когда были перебои, так даже курили лошадиный помет. Нам повезло. У нас была лошадиная тяга, так что мы еще носили соседям. Вот я, например, менял два ведра этого набора за катушку кабеля, понимаете? Где-то был перебор в этом кабеле, а у меня не было его. Ну, я его не осматривал, конечно, или он целый, или он весь побитый, заизолированный. Это тоже имеет значение. Отсюда и качество связи. Если плохо заизолированный, так ток идет в землю. Вот зимой было хорошо. Я помню, я был на каком-то участке, мы обнаружили колючую проволоку, большие бобины высотой как эта комната, немецкие. Мы зимой этим пользовались. Колючую проволоку расстилаем, земля мерзлая, ток не проходит, хоть проволока неизолированная. Я хотела спросить… И все, полный отдых. И она же прочная. Но это редко бывало. Вот зимой было хорошо. Я помню, на каком-то участке мы обнаружили колючую проволоку. Большие бобины, высотой как эта комната, немецкие. Вот мы зимой этим пользовались. Колючую проволоку расстилаем, земля мерзлая, ток не проходит, хотя проволока не изолирована. И все, отдых, полный отдых. Она же прочная… Пусть слон пройдет – не порвет. Ну, это редко бывало, один или 2 раза… Да, 2 раза было, находили эту проволоку. А свое оборудование вы на себе носили, или у вас был какой-то транспорт? Ну, никакого оборудования не было. А катушки, они же все-таки большие. Летом – повозка, а зимой – сани, у меня во взводе было так. Лошадь меняли, потому что корма не было, они были изможденные. Лошади были, резерв был в полку. Значит, летом на повозке перевозили. Вот эту радиостанцию таскали, таскали, потом кинули ее – не Яков Волошин. Интервью 29 было питания, для чего она нужна… Как она называлась, РД 10, что ли… Только телефон, а это связь ненадежная. В обороне еще ничего, понимаете, и то, если авианалет, все рискованно, все побито будет. А если тишина, то ничего, в какой-то степени есть отдых. То есть, натянули, и какое-то время она?.. Да, да, бывало, бывало. Еще что бывало: я вам говорил, что водку выдавали зимой вообще, а летом – только за боевые действия. Ну, тоже солдаты – народ умный, ходили на хитрость. Подговаривали командира, ну, скажем, у меня был командир роты, это первый командир старше меня. Я командир взвода, а он – роты, выше. Ну, там, начальника штаба, лето, скука… Война, но скука. Давай это, чтобы завтра получить бочоночек, хоть небольшой, давай что-то сообразим. Вот идем на КП, командный пункт, через какое-то расстояние – немцы. Ну, рассматриваем – там тоже тишина, в бинокль смотрим. В бинокль или в стереотрубу командир смотрит – тишина. Ну, ладно, давай команду! И дает команду расчетам артиллерийским, скажем, 3 залпа шрапнелью – пли! И пошли туда шрапнелью. Или еще каким-то образом, я уже не помню, какие снаряды были, всякие. Ну, там, значит, смотрим, бегут туда-сюда немцы. Ну, и самое главное – надо же написать строевую записку выше, в полк дивизии. А дивизия уже дает продовольствие, и все – это в дивизии все. Значит, пишут там, писарю диктуем начальник штаба, ходит по блиндажу и диктует: «Пиши: рассеяна рота немцев, подбито 2 кухни», ну, и там еще что-то придумает. И эта строевая записка идет в полк, полк ее утверждает, потому что не утверждать нет оснований. Утверждать тоже нет оснований, но есть же подпись командира, понимаете. И идет в дивизию. Назавтра, смотрим, нам бочонок привозят небольшой. Ну, это тоже можно было воспользоваться этим керосином. И пили же, и не травились, да? Сейчас бы кто-то попробовал выпить керосина? Ну, сейчас… А у вас были в роте, в армии в общем, были какие-то политучения? На войне? Нет. А политрук, и все эти, чем они занимались? Чем занимались? Ну, были все-таки какие-то ЧП, понимаете, так что была разъяснительная работа, в основном. У кого-то ржавое ружье, винтовка, понимаете, или кто-то ушел с поста, или наоборот, не пришел. Так политрук такую разъяснительную работу, разъяснительную. А если какие-то сложные ЧП, так вызывали «тройку», трибунал… Это СМЕРШ? Ну, похоже, да. И стали разбирать, что и как, почему. И давали срок, 5 лет тюрьмы, например, но с отбыванием на фронте, понимаете. И по-моему, через какое-то время все забывают. То есть, это был как бы штрафной батальон? Нет, нет. Оставляли прямо?.. Там, где ты служил, да, где ты находишься, там и оставляли, на фронте. Или если через какое-то время вот этот подсудимый, будем так говорить, где-то выделился, то ли во время боя, то ли спас кого-то – сразу снимается этот приговор, понимаете. Вот и все. А потом вообще забывали. А какие-то расстрельные статьи бывали? Нет. Чтобы трибунал приговаривал к расстрелу, такого не было? Нет. Ну, может, где-то и бывало, а там, где я был – не было. А со штрафными батальонами вам приходилось воевать? Яков Волошин. Интервью 30 Нет. А в каких частях вы были? Я был… Ваш взвод был при пехоте, при артиллерии? Артиллерийский полк, а в полку – взвод связи. Да. Нет, обождите, я вам не так детально рассказал. Взвод связи был в этой дивизии, где я служил, в начале. Но поскольку он отступал с запада еще, так эта дивизия была потрепана. И полк артиллерийский остался на западе. Полка не было артиллерийского. Он должен был скоро прибыть. И вот, через какое-то время прибыл артиллерийский полк, значит, вооружение, прислуга и все прочее. Как ваша дивизия называлась? Сейчас. Я к тому времени уже перешел свою границу быть лейтенантом. На фронте, когда боевые действия, лейтенант имеет право быть не больше 6 месяцев, а дальше он должен быть повышен в звании. И вот меня повысили, старший лейтенант. А старший лейтенант командир взвода не может быть, предельное звание – лейтенант. Но я был какое-то время старший лейтенант, командир взвода. И вот, когда прибыл артиллерийский полк, меня перевели начальником артиллерийского дивизиона, это чуть выше взвода, уже в звании старшего лейтенанта, понимаете. Но вы тоже тогда связью продолжали заниматься? Да. Начальник связи артиллерийского дивизиона. Значит, у нас было несколько пушек, я уже не помню, какие, и прислуга к ним. Вы примерно можете вспомнить, как вы продвигались, начиная с 1942 года, когда вы пришли в полк? Куда, основные какие-то точки. Нет. Не помню, потому что это была не Украина, а Россия теперешняя, и мне эти села незнакомы совсем. Я только помню, что я в начале пришел в Сталинскую область, Донецкая сейчас. Там стояла воинская часть, где я начал. Но прошло какое-то время небольшое, и я – на фронт, понимаете. Там я уже не помню. А крупные какие-то пункты? Крупные я помню станцию Поныри, это Орловская область. От станции ничего не осталось, она была вся разбита. Она переходила то к нам, то к немцам, то к нам, то к немцам. Там был узел железной дороги. Ну, а дальше я населенные пункты не помню. Нет, не помню. Связь с семьей у вас была в это время? В это время уже была. В 1943… нет, еще не было. И вы не знали ни о жене, ни о родителях? Нет. И они не знали обо мне тоже ничего. Начфин приносил денежное довольствие, и я не получал, оно мне не нужно было. Вот это то, что аттестат называется? Аттестат, да. И вы даже не могли им… Я расписывался, что аттестат не получил, то есть, денежное довольствие не получил по причине незнания, где находится семья. И там накопилась вот такая куча, и все – начфину. А как я узнал, тогда приходил и отправлял. А как вы узнали? Это еще до госпиталя было, до контузии? Да. Я рассказываю, что я на фронте, что меня отправили из газеты «Красная армия», было сокращение штатов. Я писал в газету в свою «Красная армия», не часто, но писал. Писали письма, или репортажи? Письма, личные письма. И жена писала в «Красную армию», понимаете. И вот, не помню, когда, я получил письмо из редакции. Был такой Миша Нидзе, корреспондент. И он пишет: «Вот адрес твоей семьи, Яша, вот адрес твоей семьи, спешу, подобно не пишу. Вот Яков Волошин. Интервью 31 адрес твоей семьи: Челябинская область, город Миасс», и так далее. А когда я уже с семьей уже обнаружил ее… Это жена ваша? Жена и ее сестры, они вместе были. Да, да, вы говорили. А ваши родители отдельно были? Да. Жена мне прислала письмо из редакции, где этот Миша пишет жене, они были знакомы: «Лилечка, танцуй, твой Яша нашелся». Я уже знал. Тогда аттестаты пошли, стало им легче. Но что эти деньги тогда стоили. Я же помню, на станциях, мы же останавливались на каких-то станциях, когда меня в тыл везли. Так на перроне, скажем, дядька торгует махоркой, так у него вот такой высоты мешок махорки, и денег вот такой мешок. Что тогда деньги? Тем более, что военные едут в тыл, денег у всех полно, понимаете. Деньги были обесценены совершенно. Но почта тогда все-таки работала, да? Работала. Ну, почта – я имею в виду полевую. Полевая, да. Работала. Если кто-то адрес не изменил и жил, конечно, письма доходили, факт. Это письмо где-то было, потерялось, которое жене прислали, что Лилечка, танцуй, Яша нашелся. И когда вы были в госпитале, ваша семья уже знала? Знала. Жена приезжала с сыном, приезжала. Еще же война шла? Да. И можно было приехать? Ну, начальник госпиталя дал разрешение, чтобы они приехали, и дал им комнату, и они 2 недели жили. Да. И немножко у меня аппетит появился, совсем другое настроение. Ну, общались так… Вы тогда еще не говорили, да? Ой… Ну, по крайней мере, видели родных… Да. И сына видел. Я усы носил на фронте, потому что тут самое болезненное место. А брить – сами понимаете, чем брились: ножом… Ножом? Топором, оттачивали топор и топором брились. Но многие запускали поэтому бороды и усы, я – только усы. Где-то у меня была фотография, я, может быть, найду ее. Так сын говорил, это мне жена вроде как переводила: «Это не мой папа, это дядя колючий». И его целовал, так – колючий. Ну, каждый день, наверное, не было возможности бриться, все равно же щетина была. Ну, где там возможность… Чем брить? Ну, кипяток мог быть там: котелок на костер поставил – и кипяток есть. А бритвы? А мыло и прочее вам выдавали? Мыло? Мыло, зубную пасту. Выдавали. Как-то обеспечивали. Ну, что у меня в вещмешке было, вещмешок назывался. Ну, такой мешок, ну как мешок, и завязывался сверху, защитного цвета. Полотенце там, одно или 2, мыло, ну, если сухари были – так сухари, банка тушенки, если я ее не поел ее, ложка, вилка. Кстати, у меня была трофейная ложка-вилка, такая, одна. Так повернешь – вилка, а так повернешь – ложка, немецкая. А потом немецкий ранец появился, помню. Даже помню надпись на нем, Ганс Кофман написано было, чернилами или карандашом, Ганс Кофман, на ранце. Ранец Яков Волошин. Интервью 32 обычный, но верх был такой мех, то ли теленок, то ли жеребенок, мех, верх. Тоже потом где-то пропал. И вот когда вы выписались из госпиталя, вы один приехали? Один. Приехал один, и сразу в военкомат. И все эти перипетии с квартирой вы один выстояли? Да. Я объяснил, что в моей квартире на Ленина 32 живет военный прокурор Киевского округа. Ну, они сказали, когда придти, и дадут другой адрес. И они тоже с военным прокурором не очень-то могли тягаться? Кто же будет бороться с ним, тем более, власти еще никакой нету. Звание прокурор – и все. Ну, дали мне 2 комнаты на Чеховском переулке. Я пришел, говорю, что там живет. Они говорят – мы знаем. Он жил в Боярке до войны, ну и, видно, опять туда поехал. Это коммуналка была? Нет, это была 4 комнаты, одни соседи были, тоже при немцах жили. Но они, видимо, переехали не во время войны, а вообще там жили. Я так понимаю. Я уже не помню причин, а те 2 комнаты, которые мне дали, так он из Боярки во время оккупации переехал. А тогда, кто жил в оккупации, это было пятно сильное. Что он тут делал, никто не выяснял, но если жил в оккупации – значит, способствовал фашистам. Сам факт… Ну, так… Понятно. Скажите, пожалуйста, во время вашей фронтовой жизни много евреев вам встречалось? Солдат, офицеров, на фронте. Да, встречались. Много – я бы не сказал. Но были. Что значит – много? Нас, евреев, вообще мало. Я имею в виду, в пропорции. Встречались. Я даже одно время, у меня помощником командира взвода был еврей, Грач фамилия, я помню, а как звали – не помню. Он был помкомвзвода, а потом был ранен, и больше не возвращался. Взвод как постоянный не мог быть, одни и те же долго. Ранен, убит, ранен, убит. И пополнение… А пополнение как приходило? Вас отправляли на переформирование? Приходило очень плохо. Очень плохо, особенно, когда уже… С печи брали, вот я помню, рассказывали, из Орловской области, молодой хлопец запустил бороду и лежит на печи. Были такие отряды или команды, не знаю, что, ходили по хатам и определяли его возраст, и на фронт, на фронт. Ни обучения?... У меня были старики, понимаете, тоже, русские старики были, безграмотные. Или он притворялся, но писать он не мог. Телефонограмму ему передают, сосед или кто-то, он зовет другого, чтобы тот писал. Были такие случаи. Это пополнение приходило туда, где вы стояли, или вас отсылали периодически на переформирование? Нет, нет. Непосредственно. И вот это же подразделение полка, а полк – подразделение дивизии, понимаете. Взвод – это ячейка самая низшая уже. Никогда не был полный. По уставу, по-моему, 29 человек. Вы говорили, около 30. А было самое большее количество, было 13-15 человек, наполовину меньше. И бои идут. Идут бои, идут бои… Ваша семья приехала, когда вы уже получили квартиру? Да. Уже после конца войны? Они приехали в 1945 году, да, в 1945 году, где-то осенью. Уже День победы был, уже обнимались, целовались… Яков Волошин. Интервью 33 А как вы узнали о Дне победы? По радио. Там, между прочим, 8 мая отмечают. Черчилль выступал 8 мая, и фактически это 8 мая было, но стрелка перешла уже на 9е, ночью. Ночью было подписание Жуковым и… как его там, в ночь на 9е. Вот и решили 9го, понимаете, а на западе это было8го, так что там отмечают 8го. А какие у вас на фронте, вам же приходилось близко сталкиваться с немцами в бою? Да. Действительно было такое чувство ненависти к ним? Какие чувства вы испытывали к немцам? Как злой враг, мы же знали, мы же видели… Это кто не был, тот не видел, а мы же видели, что была деревня – и нет ее, нету. Только торчат дымоходы, которые не горели, а все деревянное горело. Для вас же это были не газетные статьи, а то, что вы видели своими глазами. Ну, конечно. И мы ведь газеты тоже получали. Но то, что видишь сам, не сравнить с чтением газетной статьи. Да. И мы видели, как из погребов выходили семьи с домашним скарбом, подушки, там, дети, грязные, оборванные. Мы же это все видели. И слышали, и ходили «За Родину, за Сталина!». Это никто у меня не отнимет! За Родину, за Сталина ходили в бой, это точно. Мы другого не знали, понимаете? И в это верили? Верили. Я спрашиваю потому, что некоторые говорят, что шли за родных, за родной город, за семью. И имя Сталина фигурировало очень формально. Ну, не знаю. Ну, у каждого своя жизнь и своя история. Я помню, приказ деревню взять – за Родину, за Сталина. Другое дело, какими средствами эту деревню нам удалось отбить… Да, какими жертвами. Потери большие. Яков Давидович, вы были вооружены? Наган был. Только наган? Ну, конечно, офицеру что положено еще? И был у меня этот, так называемый адъютант, положено было, он назывался связной. Если мне нужно кому-то что-то передать, возле меня всегда был Федя, это был мой связной. Я, кстати, в каком-то году, то ли в 1970м, я его нашел. Он сам из Курска, но после войны он почему-то очутился в Свердловске. Хороший парень был! Вот он связной был у меня. Что-то пойти куда-то, а там, по рассказам, снайпер где-то – он уже идет впереди. Или где-то заминировано, он тоже идет впереди, а я уже за ним. Как адъютант, но самого низшего пошиба, понимаете, связной. Если мне что-то нужно передать, я говорю: «Федя, пойди туда-то, скажи то-то и то-то, или возьми то-то и то-то». Так вот, я приехал к связному. Он где-то на окраине Свердловска жил. Конечно, я его не узнал, а меня он почти не узнал. Но я его не узнал по другой причине… 2 кассета, 2 сторона. Вы говорили, что он бороду отпустил. Да. Нашел я его. Он болел, во-первых, у него ампутирована нога была. Может, часто болел, вообще болел, а нога – тем более. У него даже протеза не было, деревянная культя была, вроде как, знаете, деревянная. Что трагически было – я у него был сегодня, и Яков Волошин. Интервью 34 назавтра он сказал – приходи, пообедаем. Я назавтра пришел, а он ночью умер. Какой парень был! Совсем же молодой был? Сколько раз он меня спасал! Ой… Пошел в гостиницу, собрал свои вещи и в тот же день уехал. А вы вообще после войны виделись со своими однополчанами? Еще я виделся с одним фронтовиком, но поскольку он живет не в Киеве, один раз виделся. Не помню, по какой причине, но он приезжал в Киев, и мы встретились. А, по-моему, то ли в Доме Офицеров, то ли в «Украине» какое-то торжество было, и там он был. И мы случайно в курилке друг друга узнали. Да. Приятно, но больно. Больно. А есть такие случаи, что до сих пор дружат, в Киеве я знаю, да. Тоже этот коллектив уменьшается, уменьшается с каждым годом, но дружат… Вспоминают, есть что вспомнить. Такая война, о… Причем, я же не был военным, кадровиком я не был, я же с гражданки. Как мне было тяжело, можете себе представить, эта связь, когда тебе пистолет к виску и говорит: «Я тебя расстреляю как изменника Родины», это что, приятно слышать? Это страшно. А я чувствовал, что он прав, ему связь нужна. Он командует боем, а я должен обеспечить связь. А как – это не его дело. И, наверное, еще приходилось как-то переламывать себя, потому что вы были не кадровым военным… Это не причина. Я имею в виду то, что их с детства приучали к слепому повиновению. А вы же уже были сложившейся личностью, и работа в редакции тоже… Ну, это во внимание не принималось. Но вам это еще, наверное, дополнительно психологически… Да, вообще да. Конечно, это да, вы правильно заметили. Ведь люди приходили разные. Вот ночью встаешь, телефонист, значит, я сплю, и телефонист тут спит, у телефона. Это ЧП, а нет свидетелей. Это я встал, чтобы проверить просто одного телефониста, через несколько метров другой сидит. Я бужу его: «Петя, чего ты спишь», так, по-хорошему. «Товарищ командир, а я не спал!». Я говорю: «Как же, я же видел, ты спишь». – «Я дремал». Вот ответ. А звонил ли телефон, я же не знаю. И ничего не сделаешь. Что же, на гаупвахту послать его, так у меня и так никого нет, и он этого не заслужил. Он просто устал, недоедал, мало ли какие причины. Плохую весточку из дому получил, что кто-то умер… Все причины. А будить другого как свидетеля я не буду, потому что я знаю, что он тоже устал, пусть спит. Как в песне «Соловьи, соловьи…». Ах, вообще, какие песни, какие песни военные, ай-ай-ай… А на фронте их пели? Нет. Некогда было. Во-первых, мы их не знали. Они здесь были? В тылу, понимаете. Кто-то, кто был в госпитале и вернулся опять в строй, может, он гдето что-то слышал. Но какие песни, правдивые. Я же это все себе представляю по фильмам. Как сидят солдаты после боя и поют «Соловьи, соловьи…». «Темная ночь». Это же картина точная, ты сидишь у детской кроватки, точно… «Тайком ты слезу утираешь…». Элла, может быть, это достаточно? Как скажете. Яков Давидович, давайте сегодня мы начнем с ваших наград, хорошо? Пожалуйста, перечислите их. И, если вспомнится, за что вы получили каждую и в каком году. Яков Волошин. Интервью 35 Конечно. Собственно говоря, я орден Красной Звезды получил за то, это мне стоила моя контузия и ранение. Это вот тогда, в 1943? Тогда я в часть уже не возвратился. Но, возможно, связь была уже налажена, я не знаю, понимаете. Но так как я уже в часть не возвратился, в госпитале лежал… Это был уже конец для меня, понимаете. Но, оказывается, они меня разыскивали, и представили к ордену Красной Звезды за этот подвиг. Значит, видимо, я каким-то образом помог дать связь, и так далее. Я приехал в Киев в 1944 году, я вам рассказывал. Меня в военкомат вызвали и сказали, что вы награждены орденом Красной Звезды за совершенный подвиг, и так далее. И мне этот орден вручил командующий Киевского военного округа маршал Гречко, тот, который потом был министром обороны Советского Союза. Это самая высшая награда боевая, да? Нет, самая высшая военная – это орден Красного Знамени. Но это орден, не медаль, так что она уже выше. А «Отечественной войны» - это к какому-то юбилею все инвалиды и участники войны были награждены, независимо. Еще к 55й годовщине Победы наш президент Кучма издал указ о награждении участников боевых действий орденом Богдана Хмельницкого. Это 2000 год, да? Президент Кучма издал Указ о награждении участников боевых действий орденом Богдана Хмельницкого. Это 2000 год? 55, 45, да 2000. Я вам сейчас его покажу. Да, наглядная иллюстрация. Проволочная связь, да. В отличие от проволочной связи ее хоть восстановить легко. Вот орден Богдана Хмельницкого. А все остальное – это медали юбилейные и так далее. Годовщина Победы. А вот эти ордена? Это не ордена. Это Жукова знак такой. Написано: «Мужество и любовь к отечеству». Это – «Участник боевых действий». Это – союз офицеров. А здесь все юбилейные. Вот это «100 лет Ленина», тоже, значит, награждали. Это – Победа, это 50 лет Победы. Это израильская. Ну, и так далее. Это – «Ветеран труда», это когда я на пенсию вышел. Ну, и так далее. Яков Давыдович, вы мне простите мою тупость, сверху это орден Отечественной войны? Да. Первой степени. Первой степени. Есть две степени. Значит, первая это вроде как… там частички золота есть, ну, не знаю. Ну, есть две степени. А орде Красной звезды – одна степень. А вот под ним, сразу под орденом Красной звезды, что это? Это годовщина, 25 лет Победы, это знак называется. Нагрудный. Да. А вот, во втором ряду? Так почему вы мне не показали, когда я… А вы мне просто скажите, вы же их узнаете по фотографиям. Это что, это «Союз офицеров», это просто знак, значок, понимаете? Это, голубой? Это – Жукова, тоже знак. К 100-летию, это все Москва выпускала. Это «50 лет освобождения Украины». Это голубой? Яков Волошин. Интервью 36 Да. Вот это? Это просто знак «Ветеран войны». «Ветеран войны», это круглая такая? «Участник боевых действий». И вот эта, вот, которая под «Красной звездой»? Это «25 лет победы в войне 1941-1945 годов». Спасибо большое. Теперь полная идентичность фотографий. После войны сразу платили за ордена. Разово? Каждый месяц. Не помню, сколько. Это зависит от ордена. За Ленина 50 рублей, я не помню. Ну, у меня есть, сохранилась чековая книжка. Там чековая книжка, приходил в сберкассу и выплачивали. А потом «по просьбе трудящихся», как у нас бывало, эту помощь, как оно называется, поощрение отменили. Трудящиеся просили. Так же как просили в свое время заем выпустить, потом второй. А потом не платить по нему. Да. А вы, когда приехали, тогда еще не устраивались на работу? Нет, я устроился. А куда? Газета называлась «Радянський селянин». Это газета ЦК партии для западных областей Украины. Присоединенных, да? Да, присоединенных. Ну, там же были бендеровцы, волнения, вот. Кто уезжал, кто приезжал на свое место жительства… В общем, была такая газета. На украинском она была? На украинском, да. Потом она закрылась. И на базе этой газеты была организована другая газета под названием «Колгоспне село». Это размером больше, форматом больше. Тоже, орган ЦК партии. Это уже была газета украинская, для всей Украины? Да. И она выходила, как я уже рассказывал, на двух языках. Эти ваши редакционные фотографии уже оттуда, из «Колгоспного села», да? Фотографию, которую вы мне давали, вы в редакции за столом? Ну, я не помню. Я сейчас скажу, 1950 год, это уже… Да, это уже «Колгоспне село». В 1960 году у меня был такой небольшой конфликт с редактором газеты. Был такой Николай Ищенко. И я чувствовал, что мне нужно уходить из газеты. Он сначала меня перевел постоянным не штатным, обещал, значит, определенную сумму, чтобы не было ущерба мне. Прошел месяц, второй. Я чувствовал, что это не так, как он обещал. Узнал я, что в «Киевской правде», моей родной газете, освободилось место художника. Я связался с редактором. Мы были знакомы. Он мне сказал: «Пожалуйста, приходи. Жду тебя». И вот, я в субботу уволился в «Колгоспном селе» и в понедельник пришел в «Киевскую правду». И работал до выхода не пенсию. И у меня так получилось, что моя трудовая деятельность началась в «Пролетарской правде!, то есть это та же «Киевская правда», и вышел на пенсию в «Киевской правде». То есть я там старейший журналист был. Да, с 16 лет! Можно представить… Кроме меня нет ни одного старейшего журналиста. Это уже точно. В каком году вы ушли на пенсию? Яков Волошин. Интервью 37 60 было в 75 году. Редактор не отпускал, как обычно бывает, пока не будет должный заместитель, не хуже, чем я, как он говорил. Так я еще год работал. В 76 я только вышел на пенсию. Ну, связи у меня с «Киевской правдой» очень хорошие. В праздники приглашают на встречу. В день Победы обязательно. Ну, премируют… Так что коллектив меня помнит и ценит. Я чувствую, что он ценит. Яков Давыдович, как вам кажется, после войны, ну, до войны вы говорили, что практически не было антисемитизма, а после войны он как-то стал появляться постепенно? Стало появляться в основном после «дела врачей». Это какой год? Январь 1953. Тогда стало проявляться сильно. Что ни день – в другой газете антисемитский какой-то, какая-то статья, про кого-то, вообще… То есть, это началось с врачей, а потом уже стало распространяться. Космополиты. Космополиты в 1948 были, да? Я не помню. Да, в 1948. Раньше космополиты были, а потом «дело врачей»? Да. Было вот это, одна и та же кампания. Когда началась борьба с космополитизмом, это же сказывалось в основном на людях интеллектуальных? Да, конечно. В первую очередь относилось, был такой антифашистский комитет еврейский, и главным был там Михоэлс, артист, которому устроили крушение, убийство. Это же устроили все. Да, грузовик сбил. Сейчас это все известно. А тогда как было? Тогда тоже было тревожно, но не так. То есть, вы уже чувствовали?.. Да, да. И такие писатели, как Фефер, не помню все фамилии. Вот недавно был юбилей, 50 лет, что ли, нет, 60, был юбилей закрытия, что ли, этого антифашистского комитета, в библиотеке… В «Подсолнухе»? Сейчас. В библиотеке возле стадиона «Динамо», она раньше называлась библиотека имени ВКП(б), а сейчас она называется библиотека при Верховном Совете. Да. Там было собрание, и отмечали годовщину антифашистского комитета. И это все были громкие процессы, да? Не закрытые. Нет, закрытые были. Закрытые, но информация о них попадала в прессу? Скупо, очень скупо. Расстрел, расстрел, расстрел, больше ничего. Всех же расстреляли. До войны в Киеве был еврейский театр стационарный, хороший. На Крещатике. Где-то в районе Пассажа, я уже не помню. И пользовался успехом. Тогда же его после войны реэвакуировали в Черновцы, якобы пока не отстроят здание, и там его благополучно закрыли в 1950 году. Какой театр? Еврейский киевский. Да? Ну, вот, я даже не знаю этого. Яков Волошин. Интервью 38 Я просто знаю, потому что у меня в Черновцах было интервью со скрипачкой этого театра, бывшей киевлянкой, которая с театром вместе приехала в Черновцы, и работала до закрытия. Ну, как в Киеве. В Киеве до войны было 2 русских театра: вот этот, который сейчас, имени Леси Украинки, но он был не имени Леси, как-то по-другому, и был еще театр Красной Армии, тоже на русском языке. Он был на Заньковецкой улице, это если Пассаж пройти до конца, и направо. Там аптека, там был театр Красной Армии. И тоже, когда уже Киев освободили, говорили, что для Киева достаточно один русский театр. И он обосновался в Крыму, по-моему. В Севастополе? В Симферополе. Вот так и остался там. Он сейчас имени Иванова, кажется. Но тоже, достаточно один русский театр. Вот так. И тогда же это длилось довольно долго, да, эти «дела космополитов»? Да. Это как-то отразилось на вашей жизни? Немножко. Пыталось отразиться, но я своевременно, так сказать, дал отбой этому. Сейчас скажу такой эпизод. Во время отступления я дважды случайно встречался с незнакомым мне человеком, военным. Когда отступали. Потом оказалось, что этот человек одно время был редактором газеты «Колгоспне село». Мы узнали друг друга, стали вспоминать, как мы встречались, случайно. И вот, когда было это «Дело врачей», и космополитов, я чувствовал, что… Заместитель редактора, один дядька, все время рассказывает какие-то прибаутки против меня. Что я, во-первых, не был на фронте, что я был в Ташкенте, отсидел там, и все такое прочее. Мне это дело надоело, а мне рассказывали друзья, которым я верю. Мне это надоело, и я рассказал редактору, что, как по-вашему, я был на войне или не был? Он смеется и говорит: «Так мы же встречались!». Он вызвал этого своего заместителя, в общем, был раздражен, и сказал: «Во-первых, я тебя перевожу завотделом, - это понижение, такое сильное понижение, - для начала, а там посмотрим. Если ты еще против, - он меня называл Якове, - если ты перед Волошиным еще будешь, будешь его терроризировать и рассказывать всякие прибаутки, то я тебя уволю в первый же день, если до меня дойдут такие слухи». Ну, и на этом конец был. Так что я чувствовал. Это был такой махровый антисемит, махровый. Но редактор порядочный какой человек! Да. По-другому он не мог никак, если мы дважды встречались. Вы знаете, могли в то время, мне кажется, и по-другому. Может быть. Это вообще был приличный человек, да. Так его в ЦК и не любили. Он редко бывал там. А в ЦК любили, когда часто посещают, и указания исполняют, и так далее. А Лия Адольфовна работала после войны? Нет. Двое детей? Как пошли дети, так она перестала работать. То есть, после свадьбы она уже не работала. Счастье, когда есть такая возможность. Ну, я работал много, и зарабатывал на семью. Но я много работал. Кроме газеты, я работал во всех издательствах, нештатно. То есть, постоянно, но нештатно. Мне давали задание, давали фотографии ретушировать, 10, 20, 30, срок давали, и я приносил и получал гонорар. Или обложки рисовал. Яков Давидович, вы же были на фронте, и вы были убежденным коммунистом? Да. А когда начались все эти процессы и дела, вы по-прежнему верили Сталину, верили, что без его ведома все это происходит? Ну, какое-то сомнение было, честно говоря. Яков Волошин. Интервью 39 Все же появилось, да? Да. Но, понимаете, с кем-то делиться, вот так открыто, не полагалось, понимаете? Опасно было? Ну, по всяким причинам. А так, в кругу друзей, конечно, и анекдоты были, и, конечно, выражали сомнение. Вот я помню, был такой анекдот ходячий: где-то в совещательной комнате суда заходит судья, хохочет, хохочет. В чем дело? Он говорит: «Только что я слышал такой анекдот, за который я дал 10 лет». Его спрашивают, что за анекдот. Он говорит: «Вызывали в райком партии слесаря, сантехника. Тот осмотрел, и говорит: «Тут нужно менять всю систему». Вот за это я дал 10 лет». Понимаете. И, видимо, среди ваших знакомых были люди, которых репрессировали, арестовывали. Был тогда дальний родственник Эпельбаум. Вы рассказывали. Были друзья. Художник был в газете. То, что связано со свастикой. Это у меня газета. А, у вас. Вот он, Володя, он работал в газете «Коммунист», она после войны стала называться «Радянська Україна”. Сейчас она называется, по-моему, „Демократична Україна”. Он работал в газете «Коммунист», тоже художником-ретушером. Вышла газета с каким-то снимком на последней странице, и то же самое, какие-то деревья, сад… А, это был дарницкий, какой-то завод в Дарнице. Это был летний сад при заводе. Значит, там клумбы, деревья, скамейки, рабочие отдыхали во время перерыва. И вот, был такой снимок. Его ретушировал Володя. И тоже находили, если газету вот так повернуть, так будет борода Троцкого, а если вот так – будет борода Бухарина, и так далее. Это же просто сумасшествие. И поскольку он поляк по национальности, то ему пришили дело «польский шпион». Ой, это же просто жизнь в сумасшедшем доме. Я об этом рассказал вот в этой газете, и как меня вызывали насчет свастик, фашистских знаков. И, видимо, читал его дядя, вот он, он все это подтвердил, звонил в редакцию «Киевских ведомостей», так. И спрашивал мой телефон, и хотел со мной связаться. Потом он мне позвонил. Мы договорились придти в редакцию «Киевских ведомостей». Мы пришли, я рассказал, и он все подтвердил. Он даже больше еще знал, как издевались над ним в тюрьме, над Володей, племянником. Володя погиб под Москвой. Видимо, какой-то процент заключенных выпускали на фронт. Да, в штрафбаты. Штрафбат или что, он под Москвой погиб. Это дядя рассказывал. Мы раньше часто друг другу звонили, а сейчас, знаете, время прошло, и я уже не помню. Вот это нас угощают водкой в редакции. А когда Сталин умер в марте 1953, уже после «Дела врачей», и процессов космополитов, чем для вас была его смерть? Я плакал. Я считал, что будет конец света, все же. Понимаете? И не только я. Да, да. Ну, что, сказать, что в ЦУМе была очередь за траурными повязками, очередь была. В разных местах. В Киеве. В общем, я же говорю, не только я, думали что… Никто не знал, что же это будет сейчас, без Сталина. Все-таки, понимаете. А уже потом, когда был ХХ съезд партии и Хрущев выступил с разоблачением Сталина, вы поверили в это? Да. Да, конечно. Это, видимо, не только я поверил, вообще общественность, а как же! Некоторые и сейчас не верят. Потому что оголить перед войной армию – это преступление. Он же оголили, поэтому же в начале войны столько жертв, столько пленных – миллионы пленных, миллионы. Потому что не было командного состава, всех уничтожили. Вот когда я, когда было в 1938 году Яков Волошин. Интервью 40 были под Хасаном, на озере Хасан, так бой идет, так, и в это же время, там командовал Блюхер такой, командующий. Старый гвардеец, и в гражданскую войну воевал. Арестовали его, тут же. Прямо во время боевых действий, да. И начальник штаба Штерн был такой, он принял обязанности командования Дальневосточной армией. Тоже потом расстреляли. 4 кассета, 1 сторона. А ваши родители вернулись в 1945 году в Киев? Родители, сестра? Сначала вернулись родители жены. Да, в 1945, наверное. Помню такую деталь: приехали родители, а на площади Победы был же базар, назывался Евбаз, вы знаете? Там все продавалось, от хлеба до одежды, мебель, все, что угодно. И мне теща говорит, что хочу белый хлеб! Я пошел, а мы жили на Чеховском, это близко. Я спустился, пошел и привез плетенку такую свежую, горячую, там его пекли, на Евбазе. 800 рублей она стоила, это я помню. Но это же тогда были сумасшедшие деньги, да? Как вам сказать. Не сумасшедшие, а обесцененные. А зарплата месячная средняя какая была? Просто, чтобы представить соотношение. Я не помню, обождите. Я же вам рассказывал, что когда в тыл санитарный поезд ехал, так на перроне продавали махорку. Махорки был вот такой мешочек, а денег – стопка. Это война была, а после войны? Это вы уже примерно о 1946 году рассказываете. После войны еще тоже. Еще тоже. Потом уже была девальвация, тогда это уже было приведено к какой-то единице, понимаете. Конечно, обесценены были. Еще я помню, в вагоне я был, лежал на 3й полке. Уже домой ехал. А за столиком в вагоне в карты играли, тоже воины, кто домой, кто куда. Я помню, вот такая куча денег была в банке. Обесценены были совершенно. Ваша дочка родилась как раз в это голодное время? Нет, 1946й год был не очень голодный. А 1947й, вроде бы тогда голод был? В Киеве не было? Не помню. То, что были очереди, это само собой, это точно. Ну, это по-моему, всю нашу жизнь они были. Утром, скажем, если где-то дают муку, надо вставать ночью в очередь, и записаться в список, записать на ладони номер, чтобы не забыть. Это было за маслом… А ваши родители тоже вернулись? Да, чуть позже. По-моему, где-то в начале 1946. А их квартира была свободна? У них не было проблем с поселением? Нет, не было проблем. Была свободна. И сестра ваша с ними же? Да, она все время жила с ними, до замужества. А после? А после – отдельно. После возвращения ваши родители как-то еще придерживались еврейских традиций? То есть, праздники… Наверное, слабо придерживались. Я точно вам не могу сказать, я уже не жил с ними, понимаете. Я не помню. Ну, а в вашей семье этого, естественно, не было и не могло быть, да? Нет. Во-первых, тесть – москвич, из такой интеллигентной, хоть он и слесарем работал, но, видимо, у него были родители более такие интеллигентные. Я даже не знаю, какая профессия у них была. Ну, во-первых, можете даже на фотографии посмотреть, какая у него прическа, да, он же был пожилой, лет 70, по-моему, было ему, когда он выдавал дочь свою. Так что там вообще о синагоге… Ну, так, понаслышке: вот, вы знаете, в субботу Яков Волошин. Интервью 41 будет, например, Ханука. Вот стали вспоминать, что надо кушать, главное было кушать, понимаете. Что надо кушать, как купить, что купить, все такое прочее. А у нас, например, мацы не было. Я еще забыла вас спросить, когда вы рассказывали о войне, о Бабьем Яре вы знали во время войны? Нет, о Бабьем Яре мы не знали. Об этом тогда не сообщали? Нет. После войны, так были какие-то рассказы очевидцев, свидетелей, что был расстрел. Но в какой степени, понимаете… Тогда говорили о том, что это был расстрел, в основном, евреев, или просто советских людей? Да. Это да, да. А ваши дети. Я понимаю, что они пошли в школу. Как они учились? Они не испытывали антисемитизма? Нет. В то время… А при поступлении? Тоже нет. Но они оба учились не в Украине? Сын почему-то учился в Воронеже. Я не могу вам сказать, почему. Но это не было вызвано тем, что в Украине был сильнее антисемитизм, чем в России? Я хочу сказать, что в России тоже не меньше, чем в Украине. Но почему-то многие уезжали в Россию, в Прибалтику поступать. Не знаю. Но я только помню, что он окончил Воронежский институт, а почему – не помню. А дочка – этот, индустриальный техникум в Киеве, поступила. Сдала экзамены и поступила. Советские праздники вы отмечали в семье? Советские – конечно. Я понимаю, у вас было много друзей. Это были ваши семейные друзья? Не только семейные. Кто к вам приходил на праздники, на дни рождения? Ну, приходили друзья-фотографы, друзья-художники. Ну, и у нас, слава Б-гу, было очень много: тети, дяди… Родня? Родня, понимаете. У нас, бывало, собирались, Новый Год, скажем, или 1 мая, человек 40. Это все было на Чеховском переулке. У нас была одна комната около 40м, а другая – поменьше. У нас фотографии были, но вы не обращали внимания. Да, человек 40 собиралось. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что друзей не выбираешь, они как-то сами возникают. Для вас имела значение их национальность? Нет. То есть, тогда это вообще как-то… В редакции вообще, в любой редакции, мне так кажется, я не ошибаюсь, работали люди любой национальности. Ну, будем говорить так: украинец и еврей. Работали. Например, редактор газеты ЦК КПУ «Правда Украины», это центральная газета на русском языке. Был редактор одно время Трескунов, еврей, Лев Израилевич. Ответственный секретарь был Каган, но у него псевдоним был, когда писал очерки или что – Ган. Ну, псевдоним, ну, и так далее. Выпускающим был Фрунгертс, один, Ларин, еврей – два. Это центральная газета, партийная газета. Так и в этой газете «Коммунист», то же самое. Вы много времени проводили с детьми, занимались ими? Или, в основном, вы работали, а… Яков Волошин. Интервью 42 Я вам скажу честно, что я очень мало уделял, потому что я очень много работал. В основном, детьми жена занималась ваша? Да. Я приходил с работы не ровно в 6, конечно, а позже. Поел, жена – спать, а я за стол, и работать. Это уже не редакционная работа, а такая, халтура. То, что вы в других редакциях брали, да? Да. Да. Главное было, ну, то, что качественно делать – это само собой, но приносить работу вовремя. Если вовремя не принес – все, до свидания, и больше ты работы не получишь. Ну, вам это знакомо, конечно, потому что все же имеет график выхода. То ли журнал, книга, газета. А ежедневная газета – тем более. Что еще? 1 мая мы работали, 7 ноября мы работали, потому что газета выходила. Кто ее читал, скажем, 2 мая, я не знаю, и 8 ноября кто читал, я не знаю, но выходила. Я же помню. Редакцию «Киевская правда» возьмем, последнюю. Она находилась Крещатик 8, это рядом с ломбардом. Там, во дворе? Нет, с улицы. С улицы. Типография – на Ленина была, Ленина 19. Снимки обязательно должны быть, снимки из Москвы, трибуна Мавзолея, и еще какие-то снимки. Приходили они, ну сейчас это, когда-то называлось бильд-аппарат, бильд. Это по телеграфу приходили снимки. Очень ужасного качества. Я только хотела спросить, какого же качества они приходили? Ужасного качества, нерезкие, всякие изъяны там, то есть, нужно было много поработать. Работы вам хватало… Это же правительство, понимаете. И это все кончалось где-то в 12-час ночи. Уже в редакции никого нет, я один заканчиваю. Редактор, скажем, где-то там на банкете, на именинах, звонит мне: «Яша, ну, как дела? Ты скоро сдаешь?». – «Скоро». И вот я по Крещатику, ну, скажем, 1 мая, не мог пройти, столько было там людей, гуляние. Так я ходил… а мне нужно было на Ленина отнести фотографию, потому что курьер уже ушел, а шофер редакционный, тоже его уже нету, так я понимался по Трехсвятительской, ну, и по Костельной… нет, даже не так. По Трехсвятительской, мимо Богдана Хмельницкого, и по Владимирской относить фотографии. Вы понимаете, когда я приходил домой? Вот так. То есть, досуга у вас практически не было? Ну, почему, был досуг. Досуг даже мог быть совершенно неожиданно, в будний рабочий день, понимаете, тихо. Вот бывают дни такие, тихие. Вот, допустим, все ждут, скажем, в Москве или в Киеве, какое-то заседание, политбюро или что-то такое. Ну, офоициальный материал. Размер, РАТАУ, сейчас называется УНИАН или… Ну, РАТАУ, радио и телеграфное агенство Украины. РАТАУ сообщает, примерно будет 4 полосы. Занчит, если газета не выйдет на 6 полосах или 8, так это норма. Значит, уже напряжения такого нет сегодня, понимаете. Ну, вот, созваниваемся с фотографами других газет, у кого есть автомашина, у кого нет. Хлопцы, давайте, поехали на пляж! Едем. В Киеве, где сейчас, помоему, Вознесенка… Массив этот. Воскресенка? Да, Воскресенка. Там назывался «шоферской пляж». Туда собирались все на машинах, ну и пляж, все такое, с выпивкой. Тогда же можно было выпивать и водителям тоже. Нет, и водителям можно было, не запрещалось. Запрещалось курить во время езды, а пить можно было. Вот так по дурости, да. А отпуск как вы проводили? Как? Отпуск? С детьми всегда, да? Пока они были маленькие? Не всегда. Одно время каждый год ездили в Евпаторию. Дети болели часто ангиной, гланды у них были, как у еврейских детей, говорят. В Киеве был такой детский врач Сегалов, слышали? Сама была, мама меня к нему водила. Яков Волошин. Интервью 43 Да? Он жил возле Оперного театра, в маленьком доме. Где сейчас аптека. Да. А потом переехал на Большую Житомирскую, там, где кооператив врачей. Но это уже последние годы. В Киеве было 2 врача: Уманский и Сегалов. Но мы почему-то выбрали Сегалова. Вот както пришли к нему первый раз. Он осмотрел сына, сначала сына, дочки еще не было, да. «Надо ехать в Евпаторию. Там, знаете, степной и морской климат, воздух, надо обязательно поехать». А потом? – жена спрашивает. «А потом – каждый год». Он был такой, с юмором, да? Ну, вот. Или, бывало, ребенок больной, ангина очередная, вызываем на дом его. Он приходит, осматривает, сразу идет к окну, открывает форточку или окно: «Что вы без воздуха сидите? Пусть дышит ребенок. Чем вы его кормите?». Ну, жена говорит: манную кашу. «Манную кашу оденьте своей маме на голову!». Он такой грубоватый был. Вот, мы ездили каждый год. А потом, когда я был, было такое положение одно время, персональный пенсионер, слышали? Да. Я был персональный пенсионер республиканского значения. Значит, мне была положена бесплатная путевка каждый год в любой санаторий. Я бывал в таких санаториях, что сейчас только мечтать. Ну, сейчас они, может, не такого пошиба. Скажем, в Ессентуках, «Украина» был замечательный санаторий, в Сочи «Украина» тоже. В Ялте, ну, я уже не помню. Ну, сейчас это вообще нереально практически для большинства. Да. Вот. Это было связано с вашим ранением? Нет, это было связано с занимаемой должностью. Я был так называемый номенклатурный работник, завотделом газеты ЦК – значит, это номенклатурный работник. А пенсия была такая же, предел – 120 рублей. И не выше? И не выше. А это, какие-то льготы: путевка, поликлиника на Пушкинской была. ЦЛК? Да. Что еще… Ну, еще какие-то льготы. У меня эти документы еще есть, хранятся. И дети в поликлинике тоже были, дети до 18 лет обслуживались. Ну, и жена, конечно. И вы тогда один ездили? Жене не давали путевку? Нет, я ездил с женой, но я покупал. А жили мы вместе. Были мы несколько раз в Литве или Латвии, нет, Литва, по-моему. Друски… Друскенинкай? Да, что-то в этом роде. Санаторий «Белорусь» назывался, тоже хороший, ЦК тоже. Яков Давидович, когда начались отъезды евреев в Израиль, в 1970х годах, первые волны. Тогда же было, осуждали… О, это я знаю. У вас в редакции были такие собрания? Нет, в редакции не было. Но были в семье, так сказать. Значит, первый из нашей мешпухи уехал племянник, вот который не пишет, я вам рассказывал. Он, жена, с сыном. Да, с сыном. Отец жены его работал в какой-то строительной организации, в «Мостострое», был такой Баренбойм, Герой соцтруда. Он получил звание за успешное восстановление моста после войны. И был же понтонный мост, временный. И он там работал. Ну, на руководящей должности. Так он рассказывал, его смешали с грязью, когда узнали, что не он, а его дочь и мой племянник собираются уезжать в Америку. А он не ехал с ними? Он потом уехал. Но тогда ему надо было разрешение давать дочери на отъезд? Яков Волошин. Интервью 44 Разрешение, и уволили с работы, в общем… Он рассказывал, я уже сейчас деталей не помню… Было, было. И все смотрели на них, как… предатели – это не то слово еще! Мягко, да? Да. Я помню, я провожал племянника, потому что они ехали по расписанию до Ужгорода, кажется, а там – в Австрию, в каком-то городе, видно, пункт такой. Ну, все уже знали такие детали, что нужно брать с собой водку, причем, не поллитровые, а меньшие, чекушки, чтобы носильщикам давать, там, еще кому-то… Это я помню, племянник ходил по городу и покупал эти маленькие, малой емкости, вот… Да, уехали они… А как вы относились к отъезжающим? Я понимаю, что «предатели» - это было официальное отношение. Я относился отрицательно, честно говоря. А почему? Я считал, и сейчас считаю еще, что мира в Израиле никогда не будет. Вот у меня такое мнение, как обывателя, понимаете. Ну, я кое-что знаю, может, более подробно. Это вопервых. Язык не знаю, к стыду, я стыжусь, что я не знаю язык. Идиш не знаю. Ну, в такое время мы жили… Я уже об иврите не говорю. Поэтому никакого желания не было. Для себя вы это начисто отвергли? Да. А как вы относились к тем, кто уезжал? Вы считали их предателями? Нет, я так не считал. Это официальное было?.. Ну, это очень резкое и необоснованное обвинение. Я так не считал. Каждый выбирает себе, как ему удобно. Вот племянник уехал, там никого не было. Вот они приезжали несколько лет назад, когда их родители еще не уезжали, они приезжали, кажется, один или 2 раза. Они рассказывали, что очень бедствовали. На помойках собирали матрасы, подушки. Очень бедствовали. Ну, а потом уже, конечно, он архитектор, и Инна, жена его, тоже архитектор. Устроились на хорошей работе. Ну, со мной связи нет. Не хочет – не надо. Ваш сын женился, для вас имела значение национальность вашей невестки? Нет. Вообще говоря, нет. И дочь, вот, вышла за украинца. Вы относились к ним, просто, как к людям, не было предвзятого отношения? Нет. Тем более, что я мужа дочери хорошо знаю по школе. Они вместе учились на Чеховском. Они почти однолетки, да, по-моему, однолетки, да. Глущенко фамилия. Вопервых, я его знал, и знал, что он из хорошей семьи, ну, и… Потом он уехал, до женитьбы еще он уехал… Это у него вторая жена, так же как у дочки второй муж, этот Глущенко. На БАМе был, на строительстве. За длинным рублем ездил. Так что национальность не имела никакого значения. Вашу невестку, жену вашего сына, как зовут? Ирина… Александровна. А девичью фамилию вы помните? Нет. Даже не знаю. Я только знаю, что ее отец был когда-то в Харбине в посольстве был кем-то там. Когда были у нас отношения с Китаем более или менее. Это я знаю. И там, в Москве, видно, с того времени, есть такая картина на шелке, написанная китайцем. Там, что-то я помню, тигр лежит, что-то такое. Она тоже из хорошей семьи. У сына это 3я жена. Одна, значит, эта, он в хороших отношениях, которая уехала в Америку и свою дочку вызвала. Вы видели фотографию. Потом он женился на балерине Большого Театра. Не знаю, какого она ранга, но балерина. Приезжала сюда, устраивали какую-то вроде свадьбу. Ну, и не ужились. Одна из причин, он говорил, что я прихожу – а она на работе, я ухожу, а она еще спит. Вот. Театр. Яков Волошин. Интервью 45 Ну да, это же другой режим, вечерняя жизнь. Другой режим. Да. Это одна из причин, подробностей я не знаю. Так он женился в 3й раз. Ну, женщина приличная. Кем работает Ирина Александровна? Она работала, сейчас уже не работает, в каком-то издательстве в Москве. Да. Яков Давидович, когда началась перестройка, как вы к этому отнеслись? То есть, всю жизнь, я понимаю, нас кормили обещаниями счастливой жизни. Вы это восприняли как одно из них, или более серьезно? Отрицательно. А почему? А потому что развал Союза – это… А до развала? Когда было разрешено частное предпринимательство, «железный занавес» упал… «Железный занавес» - тоже отрицательное явление. Когда можно было уже свободно переписываться, ездить в гости, это для вас имело значение? Конечно, просто такое моральное, конечно. То есть, как-то вроде свобода появилась? Да, конечно. И тогда же стало возможно читать книги, за которые раньше сажали… Ну, а как же, Солженицына и… У меня есть полное собрание его, да. Ну, и забивать перестали, это же тоже имело значение. Когда-то ночью надо было настраиваться, Би-БиСи, Голос Америки. А сейчас совсем не нужно. То, что они передают, наши то же самое передают. Да, и наши газеты пишут. В основном, то же самое. Ну, тогда же это был источник информации. И глушилки… Да, я помню. Был ряд выступлений Аллилуевой, в общем и в целом, живем в стране чудес, так можно сказать… Это да. Так что, в общем, кроме развала Союза, конечного итога… Конечно, это отрицательно. И я так думаю, что Украина к России присоединится, через какое-то время. Экономический союз уже сделали… Ну, это еще не все. У нас в Украине, если так грубо говорить, основной прыщ – это Западная Украина. Понимаете. Там идеология совсем другая. Это естественно. Они… Они меньше были при советской власти, жили неплохо. Я знаю, мне рассказывали, когда уже, после войны, скажем, мне рассказывали художники, коллеги, которые во Львове жили и в других городах, в Тернополе, скажем, в Черновцах – жили неплохо. Для них, конечно, приход советской власти, присоединение было ломкой, даже для тех, кто вначале встретил с радостью. Они вообще думали, что в 1939 году присоединили, или, как говорят, братскую руку помощи подали, я же помню, в Киев они приезжали. По городу, по одежде их можно было определить. У всех – длинные пальто с поясами, я помню. А вообще, люди рассказывали, которые там освобождали их, фотографы, которые были там из армии, что их дурили там. За облигации покупали кожу, одежду хорошую, костюмы шили. За облигации. Они не знали, что это такое. Они, наоборот, думали, что поедем, значит, в Киев, и купим гастроном, купим фабрику. У них же совсем другая психология. Яков Волошин. Интервью 46 Абсолютно другая. Ведь говорили, что Львов – это Париж в миниатюре. И это не было… Я так себе представляю, что это, наверное, было так. И черновчане говорят, что Черновцы – это маленький Париж. Ну, Черновцы, может быть, не так. Там же центр – Львов, гнездо всего этого антисемитизма, в общем, они против всего. Вы знаете, я бы не сказала, что там антисемитизм есть. Я просто 2 года работала в этих регионах западных. По сравнению с их ненавистью к «москалям» антисемитизм гдето далеко-далеко и крохотный. То есть, к евреям они привыкли. Там же поколениями семьи жили рядом, и они привыкли – это свое, родное. А вот москалей, які принесли радянську владу... це недобре, говорят. Интересно. А вы из тех краев? Нет, просто я по этой же программе Центропа 2 года работала в западных регионах – Ужгород, Черновцы, вот эти. Интервью там брала. Как практика была у вас? Нет, работа. Это же по всей Украине работа, в принципе, не только здесь. У нас украинское бюро, есть российское. По бывшему Союзу это Украина, Россия, Эстония была, сейчас уже отпала. И вот сейчас в Белоруссии пытаются что-то сделать. А Молдавия не входит? Молдавия пока нет. Они собираются расширяться, но пока в основном у них страны Центральной Европы: Италия, Венгрия, Югославия…Сейчас пока что центральная. Ну, вот западники, западные евреи говорят, что их любили, а вот москалей – нет, не любили, независимо от того, евреи они или нет. Как вам кажется, когда Украина все же стала независимой, после развала Союза, как-то на еврейской жизни это отразилось? Ну, конечно, отразилось в положительном смысле, конечно. Но поздно. На каждом заседании на Неманской есть такой, наш это, фронтовик, он преподает на Пушкинской идиш, как он, Тульчинский, Тольчинский. Так он агитирует, каждый раз на собраниях, на последнем он не был почему-то, записывайтесь в кружок на идиш. Он идиш хорошо знает, стихи читает на идиш. Но его многие высмеивают, потому что – ну, куда мне учиться на идиш! А у нас все в таком возрасте, ну, кто моложе немножко. 1920й год у нас почти все, 1920й. Фронтовики так и есть, 1920й, 1923й от силы. Ну, я 1915го. Это несколько человек есть такие, за 80. А средний возраст 80 лет, так куда же учить язык? Для молодежи… Хорошо, но это поздно. Хорошо, что все же уже есть. Для молодежи это… Ну. Молодежь сейчас не очень… Вот моя дочь… А внучка вообще, даже подступиться нельзя, ей что-нибудь сказать. Она украинским еле-еле овладела, в институте все на украинском, а школу кончала русскую. Понимаете, как ей сложно. Да, конечно, сложно. Вы в Союзе фронтовиков Украины. Какие у вас проводятся мероприятия? Ну, на Неманской собрания союза 2 раза в месяц, 1й и 3й четверг. При ЖЭКе есть совет ветеранов, в микрорайоне есть совет, называется «Турбота». Это как по-русски? Забота? Забота. Да. Такой, несколько комнат, оборудованы. Вот все это, эти три заведения. Вот так иногда звонят, городской совет, какие-то вопросы. Слабо, слабо… Вообще, если так посмотреть объективно… Трудности есть, конечно. Финансовые, все. Любое мероприятие требует финансов, как-никак. Пригласить лектора, артиста, понимаете… А финансов нету. И такое впечатление, что мы вообще никому не нужны. О нас вспоминают в День Победы, накануне Дня Победы, в День Победы, все поют песни, цветы дарят, все такое. Яков Волошин. Интервью 47 Все, 10го уже забыли. Хесед, спасибо, более или менее. Помогают, заботятся. Натан Ильич вообще молодец. Вы знакомы с ним? Да. Он по-английски как говорит! Я убедился недавно, вот когда были израильтяне, воины, они же посещали и Хесед тоже. А они не по линии Хеседа приехали? К фронтовикам, да? Нет, они приехали не к фронтовикам. Где-то «Век» писал… Мне Редько дал эту газету. У меня есть, да. Они приехали по приглашению, по-моему, Рабиновича. Вот так мне кажется. Всеукраинский Еврейский Конгресс. Они посетили синагогу Бродского и мемориал Бабий Яр, Менору, памятник, и потом Хесед. Это было воскресенье, 7 числа, 7 сентября. А ваш Союз фронтовиков ежегодно, вы говорили, посещает Бабий Яр в годовщину, День Скорби? Да, ежегодно мы посещаем Менору, а через несколько дней почему-то памятник. 29го, да, к памятнику? 4 кассета, 2 сторона Хесед вообще заботится о ветеранах? Да. Ну, не только о ветеранах. Я знаю, что вообще… Каждый месяц мы получаем посылки. Продовольственные. Но это не только ветераны. Пенсионеры вообще. Пенсионеры, инвалиды, да. Вот такая посылка, не очень, но без нее бы было еще хуже. Там бутылка масла подсолнечного, сахар, мука. Какие-то консервы, макароны. Да, я в общем знаю, потому что я маминой подруге получаю каждый раз, отношу. А вы участвуете в еврейских праздниках, которые Хесед устраивает? Например? Ну, вот Пурим, не проводятся такие, Песах… В этом году приглашали, у кого день рождения в июне, скажем, приглашали. Ну, там такой небогатый стол, выступали артисты, самодеятельность. А праздники – я не знаю. Может, кого-то приглашают, а я не был. Не бывал, не знаю. Вы еврейскую прессу читаете? Да. Я читаю «Век», «Возрождение» и «Киевские вести», нет, «Еврейские вести». Спасибо, все. Пожалуйста.