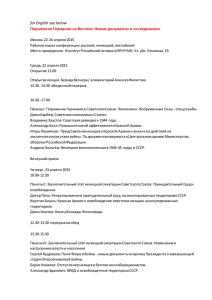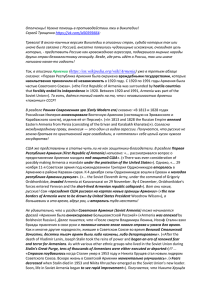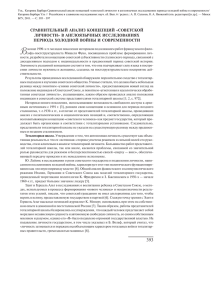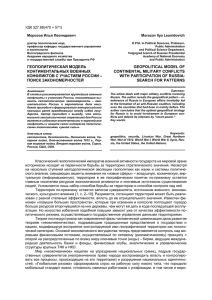dissvuzefovichNG - - санкт
реклама
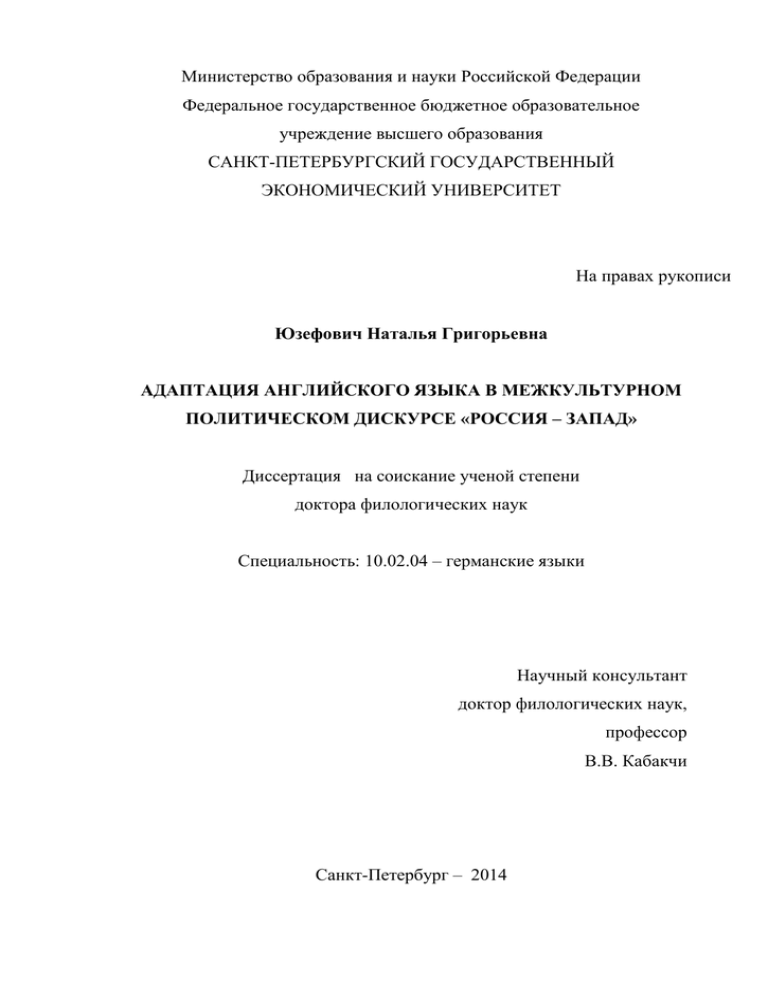
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
На правах рукописи
Юзефович Наталья Григорьевна
АДАПТАЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖКУЛЬТУРНОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ «РОССИЯ – ЗАПАД»
Диссертация на соискание ученой степени
доктора филологических наук
Специальность: 10.02.04 – германские языки
Научный консультант
доктор филологических наук,
профессор
В.В. Кабакчи
Санкт-Петербург – 2014
2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение ...................................................................................................................... 5
Глава 1 Теоретические основы исследования адаптации английского языка
в межкультурном политическом дискурсе ....................................................... 28
1.1 Лингвокультурное пространство английского языка ...................................... 28
1.2 Концептуальная система и актуализация идеологизированного концепта. ..40
1.3 Межкультурный политический дискурс и его вербальное пространство .... 51
1.3.1 Политический дискурс как социолингвистический феномен ..................... 51
1.3.2. Вербальное пространство политического дискурса.. ................................. .67
1.3.2.1 Политическая терминология ........................................................................ 67
1.3.2.2. Эвфемизация политического лексикона .................................................... 77
1.4 Языковые особенности российского политического дискурса ...................... 88
1.5 Языковая личность в англоязычном политическом дискурсе .................... 104
1.5.1 Языковые контакты и билингвизм ............................................................. 104
1.5.2 Речевая деятельность и тезаурус языковой личности ............................. 111
1.5.3. Модификация идентичности: интерлингвокультурная языковая личность
................................................................................................................................... 122
Выводы по первой главе ...................................................................................... 131
Глава 2 Политический лексикон российской действительности в англоязычном коммуникативном пространстве ............................................................... 133
2.1. Вербальная актуализация инолингвокультурного субстрата в англоязычной
речевой практике ..................................................................................................... 133
2.1.1 Основные способы образования вторичной лингвокультурной номинации
................................................................................................................................... 133
2.1.2
Психолингвистический
механизм
вербальной
актуализации
инолингвокультурного субстрата ......................................................................... 145
2.2 Комплексные стратегии актуализации ксенонима в англоязычной речевой
практике ................................................................................................................... 156
2.3 Советизмы в лингвокультурном пространстве английского языка .......... 177
3
2.4 Инолингвокультурная первичная номинация – этимон................................ 193
2.5
Концептуально-семантическая
и
прагмалингвистическая
адаптация
в межкультурном политическом дискурсе «Россия – Запад» ............................ 211
2.5.1 Идеологические варианты «эвфемизм :: дисфемизм» ............................... 211
2.5.2 Прагматические варианты «свой»/«чужой» ................................................ 226
2.6 Аббревиация как прагматическая адаптация» ............................................ 245
Выводы по второй главе ...................................................................................... 258
Глава 3 Актуализация идеологизированного субстрата в англоязычных
интерлингвокультурных произведениях ......................................................... 260
3.1 Обоснование отбора эмпирического материала ........................................... 260
3.2 Интерлингвокультурное произведение как особый тип текста .................. 265
3.3
Актуализация идеологизированного инолингвокультурного субстрата в ан-
глийском (родном) языке........................................................................................ 276
3.3.1. Историография: макроистория ................................................................... 276
3.3.2. Историография: микроистория ................................................................... 295
3.3.3. Научный дискурс...................................................................................... …306
3.4
Актуализация идеологизированного субстрата родной лингвокультуры
в «чужом» коммуникативном пространстве ....................................................... 311
3.4.1. Беллетристика ............................................................................................... 311
3.4.2. Мемуары........................................................................................................ 322
Выводы по третьей главе .................................................................................... 326
Глава 4 Актуализация идеологизированного субстрата российской действительности в лексикографической практике.................................................... 328
4.1
Основные подходы к составлению словарей ........................................ 328
4.1.1 Отечественная лексикография ................................................................... 328
4.1.2 Зарубежная англоязычная лексикография ............................................... 340
4.2 Актуализация российской идентичности в словарях ................................... 345
4.2.1
Идеологизированный
субстрат
российской
действительности
в отечественных словарях ...................................................................................... 345
4
4.2.2 Идеологизированный субстрат российской действительности в англоязычных словарях ............................................................................................................ 352
4.3 Кодификация вторичной инолингвокультурной номинации в англоязычных
словарях .................................................................................................................... 359
4.3.1 Классификация кодифицированных ксенонимов .................................... 365
4.3.1.2 Политические универсалии ....................................................................... 365
4.3.1.3 Прецедентные ксенонимы ......................................................................... 375
4.3.1.4 Специальные и специализированные ксенонимы .................................. 388
4.4 Интерлингвокультурный двуязычный словарь политического лексикона:
системный подход ................................................................................................... 395
Выводы по четвертой главе ................................................................................ 408
Заключение ............................................................................................................ 410
Список использованной литературы .................................................................... 413
Список словарей ...................................................................................................... 457
Список источников эмпирического материала .................................................... 466
Список сокращений словарей и справочных изданий ........................................ 473
Список сокращений источников эмпирического материала .............................. 477
Список сокращений и источников СМИ ............................................................. 481
Список новостных сайтов и блогов ....................................................................... 483
Приложение Материалы к словарю .................................................................. Том 2
5
ВВЕДЕНИЕ
Настоящее диссертационное исследование посвящено изучению лексических
средств английского языка, используемых в функции актуализации идеологизированных феноменов российской действительности периода XIX–XXI вв. в различных социально-исторических контекстах.
Механизм исследуемых процессов обусловлен динамическим характером английского языка как адаптивной и самонастраивающейся системы, реагирующей
на модификацию лингвокультурного пространства, социальной и информационной среды в соответствии с коммуникативными потребностями социума, в частности, потребностью выражения инолингвокультурного лексикона. Адаптация
английского для реализации функции передачи российского политического лексикона обусловлена также изменением политических направлений российской
действительности, нестабильностью политической ситуации, которая отражается
в картине политического мира и фиксируется в языковой картине мира.
Глобализация современной коммуникативной среды, где английский язык выступает основным средством межкультурного общения многих лингвокультур, предопределяет глобализацию языка: формируется глобальный английский. Модификация
лингвокультурного пространства английского языка означает расширение его
функций, специфика которых проявляется в двух направлениях.
Во-первых, глобальный английский адаптируется в соответствии с коммуникативными потребностями транснациональных объединений, предопределяя выдвижение на первый план принципа максимальной доступности. В руководстве
для переводчиков European Commission. Directorate-General for Translation English
Style Guide подчеркивается, что термин Style в данном случае означает «языковой
стиль» организации, in-house usage, ведущим средством общения определен британский английский. Принцип доступности, обоснованный в этом документе, исключает использование идиоматики, культурно-специфической лексики, при этом
кодифицируются орфография, синтаксис и понятийное содержание терминов.
Язык документов должен быть понятен всем странам-участникам: clear and read-
6
er-friendly English; clear, simple, and accessible as possible [ЕС]. Перечисленные
требования позволяют говорить о культурной нейтрализации британского английского в функции средства общения транснациональной организации.
Во-вторых, разнообразные лингвокультуры все чаще обращаются к английскому языку для выражения своей национальной идентичности, инолингвокультурной относительно языка общения, Именно английский язык дает им возможность быть «услышанными» в глобальном мультикультурном мире. Коммуникативная потребность социума обусловливает лингвокультурную адаптацию глобального английского: образуются новые ассоциативные связи и номинации, варьируется семантическая структура отдельных слов, отражая асимметричность
картин мира контактирующих лингвокультур. Лексико-семантическая адаптация
языка предопределена концептуальной деривацией, когнитивным процессом
осмысления новых концептов в иной лингвокультурной среде.
Под адаптацией английского языка в настоящем исследовании понимаются
лексико-семантические модификации, обусловленные внутренними и внешними
предпосылками: вариативностью языка, изменчивостью социально-политических
отношений внутри глобального пространства, нестабильностью политической ситуации описываемой инолингвокультуры и также антропоцентризмом языковых
явлений, отражающих результат концептуализации действительности индивидом.
Адаптация языка как средства актуализации субстрата российской действительности в англоязычном межкультурном дискурсе осложняется взаимодействием идеологически несовпадающих политических систем, что предопределяет образование идеологически обусловленных синонимов и варьирование семантики
кодифицированных средств языка. Следует отметить и пересмотр понятийной и
оценочной составляющих политических концептов российской действительности,
отражающий идеологические установки власти, например, меняется подход к
оценке эпохи застоя: российские политики предлагают называть его «периодом
стабильности».
Вышесказанное позволяет утверждать, что политический дискурс выступает
ведущей сферой общения в современном мире: именно политика регулирует
7
структуру государственной власти, влияя на жизнедеятельность общества, экономику, социальную жизнь, образование (воспитание патриотизма) и пр. Политика
оказывает идеологическое воздействие на социум, способствуя созданию общественного мнения, отвечающего интересам власти и формированию ментальности
человека. Международный экономический саммит (Санкт-Петербург, 2013 г.)
освещался зарубежной прессой, главным образом, в политическом контексте,
учитывая позицию России по регулированию проблем в Сирии; участие в Олимпийских играх (Сочи, 2014 г.) определялось не только спортивными достижениями, но и межгосударственными политическими отношениями, внутренней политикой принимающей стороны; позиция России в решении украинского вопроса
повлияла на многие сферы: экономическую, финансовую и туристическую (рост
курса доллара и евро), научную (в Донецке планировалось проведение X Международной летней научной школы по когнитивной лингвистике), информационную
(увольнение по собственному желанию ведущей канала “Russia Today”), культуры
(отказ от гастролей в России некоторых музыкальных групп).
Увеличивается объем антироссийских публикаций в западных СМИ и антизападных в российских СМИ, при этом «социологи фиксируют всплеск национального патриотизма»: «государство разворачивает мощную пропагандистскую
кампанию в поддержку патриотизма и особой русской идентичности» [194, с. 7].
Практически неограниченное влияние политического дискурса на социум позволяет предположить, что в определенной социально-исторической ситуации идеологизированность актуализируется в словах общего языкового фонда, формально
несвязанных с политикой. Предметы одежды и музыка выступают символами
власти или политического протеста; идеологизированность объективируется,
например, в предисловии популярной в советский период «Книги о вкусной и
здоровой пищи» [302, с. 182].
Изучение лексических средств выражения идеологизированности в настоящей работе проводится на основе англоязычного материала разных жанров, где
российская действительность представлена сквозь призму английского языка,
языка западного мира, что и обусловило формулировку межкультурный полити-
8
ческий дискурс «Россия – Запад». В настоящем исследовании политический дискурс понимается в широком смысле как идеологизированная сфера, где пересекаются массово-информационный, художественный, научный, научно-популярный,
историографический и пр. дискурсы [376, c. 25–32; 242, с. 44], в которых отражается воздействие институционального политического дискурса на социум, на мировоззрение отдельного человека.
«Межкультурность» политического дискурса в глобальном коммуникативном пространстве означает многообразие участвующих в общении лингвокультур, каждая из которых имеет свой «голос» при описании российской действительности, при этом средством общения выступает глобальный английский язык.
Представленная работа выполнена в русле разрабатываемого междисциплинарного направления политическая интерлингвокультурология, исследующего
политический дискурс на основе интерлингвокультурного подхода; термин «интерлингвокультура» образован соединением «интер+» (между) и термина «лингвокультура» (lingua/languaculture) [428; 396].
Опираясь на отдельные положения «интерлингвокультурологии» (научная
школа проф. В.В. Кабакчи) и «политической лингвистики» (научная школа проф.
А.П. Чудинова), политическая интерлингвокультурология обладает при этом
определенной спецификой, отличающей ее от указанных направлений.
Одной из основных задач политической интерлингвокультурологии выступает исследование механизма адаптации глобального английского для вербализации
идеологизированного субстрата, под которым понимаются идеологически обусловленные ассоциации, оценочные коннотации, присущие политической лексике
и/или потенциально заложенные в словах общего фонда и актуализируемые в
определенной коммуникативной ситуации.
В представленном исследовании изучается механизм адаптации английского
языка в межкультурном политическом дискурсе при актуализации идеологизированного субстрата российской действительности. В данном случае формируется
интерлингвокультурное коммуникативное пространство, где глобальный английский выступает средством общения носителей разных языков с разнообразными
9
идеологическими воззрениями и ментальностью, что, несомненно, влияет на восприятие информации, ее концептуализацию и последующий выбор средств актуализации идеологизированного субстрата инолингвокультуры.
Концепция политической интерлингвокультурологии возникла при изучении
межкультурного политического дискурса, в котором российская действительность, т.е. инолингвокультура (ино- относительно языка-общения), объективирована сквозь призму западной политической картины мира и английского языка.
Это объясняется, главным образом, тем, что знание русского языка (родного) и
английского языка (иностранного) позволяет более полно описать, насколько точно и адекватно передается наша действительность средствами другого языка.
Основной задачей политической лингвистики является изучение официального институционального дискурса, под которым понимается «совокупность дискурсивных практик, идентифицирующих участников политического дискурса как
таковых или формирующих конкретную тематику политической коммуникации»
[29, с. 245–246]: речи политиков, президентские обращения, аналитические статьи
[401; 223; 313; 366; 272].
В отличие от политической лингвистики политическая интерлингвокультурология исследует, главным образом, неофициальный политический дискурс, что
представляется весьма актуальным, поскольку в реальной жизни «средний» читатель или слушатель не проявляет особого интереса к политике, не доверяет политическим деятелям. Большее воздействие на него оказывают историографические
произведения, беллетристика, путевые заметки, публицистика, восприятию познавательной информации которых сопутствуют эстетические функции. Следует
отметить, что в англоязычных произведениях данных жанров значительное внимание уделяется осмыслению идентичности россиянина, актуализируемой номинациями Russian (national) identity, Russianness, Russian political identity.
Создавая политическую картину мира другой лингвокультуры посредством
английского языка, автор обращается к многочисленной мультикультурной англоязычной аудитории, участвуя, таким образом, в глобальном политическом
дискурсе. При этом формируется интерлингвокультурная картина мира, объекти-
10
вируемая в лексике в результате концептуальной, семантической и прагматической адаптации, которая обусловлена идеологической позицией индивида, его
картиной мира, стереотипами. Формирование номинации инолингвокультурного
феномена представляет собой двусторонний акт: в процессе концептуальной
адаптации выделяется понятийная сущность и оценочность соответствующего явления, что предопределяет выбор вербальных средств.
Антропоцентрическая парадигма научного исследования предопределяет
значимость учета «человеческого фактора»: именно языковой личности отводится
ведущая роль при концептуализации действительности и выборе средств вербализации. Исследуя языковую адаптивность, следует учитывать, что при этом актуализируется не только прагматическая относительность номинации, в структуре
которой формируются новые компоненты, вербализирующие концепты инолингвокультуры, но и происходит определенное воздействие на идентичность языковой личности, участвующей в глобальном дискурсе.
Таким образом, интерлингвокультурный подход и материал исследования
предопределяют соединение двух направлений в политическую интерлингвокультурологию, изучающую способы вербализации картины политического мира,
специфику объективации инолингвокультурной идентичности в публицистическом, художественном, медийном и пр. межкультурном политическом контексте.
Интерлингвокультурный подход способствует поиску ответов на ряд вопросов о специфике глобального английского языка: конструируется ли в данном
случае глобальная концептосфера как концептуальная картина мультикультурного мира? Какие процессы происходят в контактирующих концептуальных системах при межкультурном общении, и как это проявляется при формировании инокультурной номинации? Каково воздействие на идентичность участников общения, которым отводится ведущая роль при формировании инолингвокультурного
обозначения? В настоящем исследовании предпринимается попытка осветить перечисленные проблемы, что определяет методологию исследования и выбор эмпирического материала.
11
Актуальность работы обусловлена, во-первых, потребностью всестороннего
изучения глобального английского языка в межкультурном политическом дискурсе, в частности, ориентированном на описание картины российского политического мира, отличающейся нестабильностью, переосмыслением концептов и, соответственно, модификацией языковой картины мира.
Во-вторых, необходимостью всестороннего анализа глобального английского
языка как средства межкультурного общения, что возможно только на основе
междисциплинарного когнитивно-дискурсивного подхода в рамках антропоцентричной парадигмы, способствующей исследованию различных уровней английского языка в их структурно-функциональной целостности
В-третьих, потребностью выявить внутренний механизм языковой адаптации
и факторов, влияющих на формы образования и функционирования инолингвокультурного политического лексикона в английском языке, что дает возможность
предотвратить возможный коммуникативный сбой и обеспечить эффективность
межкультурного политического дискурса.
В-четвертых, необходимостью соединения интерлингвокультурного подхода
и методов политической лингвистики при исследовании англоязычных текстов о
политической сфере российской действительности, что позволит осмыслить политические концепты отечественного политического дискурса с точки зрения
«чужого менталитета» в картине политического мира англоязычного социума.
Данный подход способствует выделению и описанию способов вербальной актуализации российского политического лексикона английского языка, выявлению
причин семантической аберрации и способов разрешения неоднозначности.
Основой данного исследования является следующая гипотеза: формирующееся межкультурное коммуникативное пространство в условиях глобализации обусловливает изменение статуса английского языка: возникает глобальный английский язык, основное средство межкультурного общения, одной из функций которого является выражение инолингвокультурной идентичности. Ведущей сферой
общения при этом выступает межкультурный политический дискурс, в котором
модифицируется картина политического мира и постепенно формируется интер-
12
лингвокультурная картина мира, актуализируемая вторичными лингвокультурными номинациями.
Теоретические проблемы настоящего исследования включают:
- разработку аппарата политической интерлингвокультурологии,
- описание механизма адаптации глобального английского языка как средства актуализации инолингвокультурной идентичности в межкультурном политическом дискурсе,
- исследование механизма создания вторичной лингвокультурной номинации, актуализирующей идеологизированный субстрат инолингвокультуры средствами английского языка,
- разработку модели двуязычного интерлингвокультурного словаря нового
типа, включающего терминологический аппарат политического дискурса и идеологизированную лексику, актуальную в современном политическом дискурсе.
Объектом исследования выступает англоязычный межкультурный политический дискурс, отражающий российскую действительность XX–XXI веков в разнообразных исторических контекстах.
Предметом работы является механизм лексической, семантической и прагматической адаптации английского языка для реализации функции актуализации
идеологизированного субстрата российской действительности в межкультурном
политическом дискурсе.
Цель исследования заключается в комплексном научном описании механизма адаптации английского языка в функции актуализации идеологизированного
субстрата российской действительности периода XIX–XXI веков в различных социально-исторических
контекстах,
учитывая
концептуальный,
лексико-
семантический и прагматический уровни.
Реализация поставленной цели требует решения следующих задач:
1. Сформулировать понятийный аппарат научного направления «политическая интерлингвокультурология», принимая во внимание необходимость унификации терминологии в контексте глобального общения.
13
2. Охарактеризовать изменение лингвокультурного пространства английского языка в эпоху глобализации, предопределяющее формирование глобального
английского.
3. Проанализировать способы вербализации средствами английского языка
политического лексикона и идеологизированной лексики, отражающей российскую политическую действительность, выделяя причины модификации концептуальной системы и языковой картины мира в политическом дискурсе.
4. Описать концептуальную деривацию как основу механизма адаптации английского языка при вербализации инолингвокультурного субстрата.
5. Выделить основные причины модификации лексико-семантических и
прагматических характеристик вторичной лингвокультурной номинации, предопределяющие семантическую неоднозначность, и определить возможные способы ее разрешения в политическом дискурсе.
6. Исследовать функционирование и уровень адаптации русскокультурных
политических ксенонимов в современном английском языке и классифицировать
их по степени адаптации в системе языка.
7. Проанализировать специфику речемыслительной деятельности авторабилингва при актуализации инолингвокультурного субстрата в процессе продуцирования англоязычного текста, одной из задач которого выступает передача
русскокультурной идентичности.
8. Описать типологию англоязычного текста, функционирующего в межкультурном политическом дискурсе, принимая во внимание специфику жанра, целевую аудиторию и способы актуализации инолингвокультурного субстрата.
9. Исследовать воздействие англоязычного межкультурного политического
дискурса на языковую личность-билингва, его идентичность и картину мира.
10. Проанализировать отечественные и зарубежные лексикографические
подходы к составлению словаря, отвечающего коммуникативным потребностям
пользователя XXI века.
14
11. Описать модель электронного русско-английского интерлингвокультурного словаря политического лексикона, соответствующего современным коммуникативным потребностям пользователя.
12. Обобщить проанализированный корпус примеров иллюстративного материала в виде приложения «Материалы к словарю».
Личный вклад автора в разработку теоретических положений, выводов и методов диссертации заключается
- в формулировании гипотезы, постановке цели, выборе объекта и предмета
исследования, в определении совокупности взаимосвязанных задач и методов их
решения, в отборе эмпирического материала;
- в определении понятийного аппарата междисциплинарного направления
«политическая интерлингвокультурология», в частности, интерлингвокультурная
картина мира, интерлингвокультурная
личность, прецедентная информация
инолингвокультуры, инолингвокультурная первичная номинация – этимон, вторичная лингвокультурная концептуализация, идеологизированный инолингвокультурный субстрат;
- в выявлении способов разрешения идеологически обусловленной неоднозначности в глобальном коммуникативном пространстве;
- в разработке модели интерлингвокультурного словаря политического лексикона, способствующего упорядочению вербального пространства межкультурного политического дискурса.
Научная новизна работы состоит в том, что впервые проводится комплексный анализ вербальных средств межкультурного политического дискурса, в центре внимания которого описание российской политической действительности через призму Запада («Россия – Запад»). В исследовании обосновывается необходимость нового междисциплинарного направления: политической интерлингвокультурологии, что предопределено интерлингвокультурным подходом и сферой
исследования. Анализ функционирования вербальных средств передачи российского политического лексикона и идеологизированного субстрата в лингвокультурном пространстве английского языка позволяет описать механизм языковой
15
адаптации на разных уровнях, специфику концептуальной асимметрии, результатом которой выступает идеологически обусловленная семантическая аберрация,
предопределенная как идеологическими расхождениями, так и спецификой языковых картин мира контактирующих лингвокультур.
Теоретическая значимость работы заключается в комплексном научном
описании вербальных средств диалога «Россия – Запад», составной части глобального межкультурного политического дискурса, в формировании понятийного
аппарата политической интерлингвокультурологии и разработке методологических основ интерлингвокультурного политического словаря нового типа.
Полученные научные результаты способствуют дальнейшему углублению
теоретической разработки языковых проблем в сфере политики, в том числе, сопоставительных и контрастивных направлений. Экстраполяция представленных
научных данных на другие жанры и сферы глобального дискурса содействует
дальнейшему развитию общей интерлингвокультурологии, политической лингвистики и политической интерлингвокультурологии.
Степень научной разработанности темы: в отечественной и зарубежной
политической лингвистике исследованы вопросы формирования политического
дискурса и его лексикона: А.Н. Баранов, Р. Водак, С.Г. Катаева, Т.Б. Крючкова,
П.Б. Паршин, Е.И. Шейгал, Т. ван Дейк. Учеными обоснованы методологические
основы политической метафорологии: А.В. Будаев, А.П. Чудинов, Р. Андерсон.
Много внимания уделено сопоставительному анализу национальных политических дискурсов (американского и русского, британского и американского):
Е.Р. Левенкова, О.А. Леонтович, Е.К. Павлова, Д.В. Шапочкин.
Отечественными и зарубежными русистами изучены лингвистические и социолингвистические характеристики языка советской эпохи: А.Д. Дуличенко,
И. Земцов, Н.А. Купина, И.Ф. Протченко, А.М. Селищев, П. Серио.
До настоящего времени политическая лингвистика обращалась, главным образом, к исследованию политического институционального и медийного дискурсов: Р. Андерсон, Г. Лассвелл, А.П. Чудинов. На данный момент в недостаточной
степени исследовано отражение политического воздействия на такие дискурсы,
16
как историографический, художественный, научный и т.п., которые также используются в качестве «инструмента власти» [223, с. 176]. Одной из причин выступает традиционное понимание политического дискурса исключительно в узком смысле: (речи политиков, обращения президента, интервью).
Научная школа интерлингвокультурологии исследует проблемы вторичной
культурной ориентации языка, обращенного в область иноязычной культуры на
материале текстов, авторы которых владеют английским как родным или вторым.
Английский язык рассматривается как специализированная разновидность языка,
язык вторичной культурной ориентации, нацеленный на описание русской культуры (В.В. Кабакчи, Е.В. Белоглазова). Важным положением интерлингвокультурологии выступает концепция формирования ксенонима, т.е. номинации вторичной культурной ориентации, коррелирующей с обозначением в исходном языке;
внутренняя форма термина «ксеноним» выделяет инолингвокультурность слова.
Современные лексикографические исследования отдают приоритет моделированию лингвострановедческих словарей культуры, в частности, британской,
американской и т.п.; следует отметить исследования Т.В. Евсюковой, О.Н. Иванищевой, М.И. Колесниковой.
Разрабатываемые отечественными учеными модели двуязычных политических словарей ориентированы, главным образом, на кодификацию вариантов перевода на русский язык западной терминологии. Очень интересной и своевременной представляется концепция гармонизации политической терминологии при
переводе американских терминов Е.К. Павловой. Современные отечественные
словари пересмотрели и перерабатывают ряд толкований универсальной политической терминологии, однако, как известно, коннотативные модификации, определенная семантическая аберрация, под которой понимается искажение смысла,
актуализируются непосредственно в речевой деятельности индивида в конкретной социально-исторической ситуации.
Многие отечественные и зарубежные ученые неоднократно обращали внимание на влияние идеологических воззрений индивида на его речевую деятельность, что отражается в концептуальной вариативности и способствует семанти-
17
ческой аберрации таких политических терминов, как capitalism, class, democracy,
freedom, human, liberty: Т.Б. Крючкова, Н.А. Купина, Г. Лассвелл, Г.В. Чернов,
В. Клемперер, Дж. Оруэлл.
Использование данных терминов в новом социально-историческом контексте
(managed democracy, crony capitalism, mafia capitalism, nomenklatura capitalism)
предопределяет потребность изучения специфики их актуализации в глобальном
коммуникативном пространстве и необходимость создания двуязычного словаря
политического лексикона, отвечающего интересам пользователя XXI в.
Моделирование современного политического словаря требует учета достижений отечественных и зарубежных лексикографов и лингвистов. Исследование
концептуальных проблем перевода политической лексики, обоснование новых
подходов к интерлингвальным словарям представлено в работах таких зарубежных ученых, как A. Вежбицка, Х.-П. Кроманн, Р.Р.K. Хартман, M. Хайм.
Разнообразные научные направления изучения воздействия глобализации на
английский язык, главным образом, направлены на анализ формирования территориальных вариантов: A. Гупта, B.B. Качру, а также на изучение изменения статуса носителя английского языка и проблемы лингводидактики: Дж. Дженкинс,
Т. Макартур, Р. Маккрум, Д. Нортрап, A. Пакир, Х.Г. Виддоусон.
Исследуемый в работе эмпирический материал обозначен как «интерлингвокультурные произведения», что позволяет объединить в одну группу англоязычную литературу разного рода. Зарубежные ученые изучают, главным образом,
постколониальные произведения, названные B.B. Качру «контактные литературы» (Contact Literatures), авторы которых отличаются «транскультурной креативностью (transcultural creativity). П. Скотт вводит термины «транслингвальные литературы» (Translingual Literatures) и «транслингвизм» (translingualism) также
применительно только к речевой деятельности авторов из бывших колоний.
В русистике много внимания уделяется изучению русскоязычной этнической
литературы, которая представлена русскоязычной казахской прозой и публицистикой (Р.О. Туксаитова), литературным осетинским русскоязычием (И.С. Хугаев), якутской русскоязычной литературой (Ж.В. Бурцева), поликультурными тек-
18
стами (А.В. Подобрий). А.Б. Туманова называет языковую картину мира писателя-билингва контаминированной, поскольку она сформирована при взаимовлиянии русского и казахского языков. Ученые анализируют специфику речевой деятельности авторов подобных произведений, в частности, билингвальную личность
публициста (М.Б. Амалбекова) или национального русскоязычного писателя
(У.М. Бахтикиреева).
Вышеназванные фундаментальные исследования, посвященные изучению
актуализации взаимовлияния различных языков в литературных произведениях
разных жанров, способствуют формированию подхода к изучению интерлингвокультурных текстов, под которыми понимаются англоязычные произведения, актуализирующие инолингвокультурный субстрат. При этом следует особо подчеркнуть, что «ино-» означает относительно языка общения, данная литература
включает прозу, мемуары и публицистику наших современников, американских
авторов русского происхождения, называемых зарубежными литературоведами и
лингвистами Russian American writers (O. Грушина, Г. Штейнгарт, Н. Тумаркин).
Анализ актуализации идеологизированного субстрата российской действительности в историографии, документальной прозе, мемуарах, путевых заметках,
беллетристике, созданных носителями английского, русского, немецкого и других
языков, позволит наиболее полно и системно описать механизм языковой адаптации при выражении инолингвокультурной идентичности.
Как представляется, системное описание механизма языковой адаптации в
условиях глобализации возможно только при изучении значительного пласта разнообразного материала в когнитивно-дискурсивной парадигме на основе интерлингвокультурного подхода.
Методологической основой данного исследования выступает антропоцентризм, согласно которому язык изучается как речевая деятельность, определяемая
коммуникативными потребностями социума, опираясь при этом на следующие
современные представления
19
1) о языке как о сложной адаптивной самонастраивающейся системе, функционирование элементов которой обусловлено взаимодействием с внешней средой, сферой общения (И.В. Арнольд, Г.П. Мельников);
2) о взаимосвязи языка с ментальностью и культурой (В. фон Гумбольдт,
В.И. Карасик, Ю.С. Степанов);
3) о языковой картине мира как объективации различными лексическими
средствами концептуальной картины мира (Н.Н. Болдырев, Е.С. Кубрякова).
Теоретическую основу диссертации составляют положения
лингвистики о языке как целостной системе, характеризуемой взаимосвязью
языка, мышления и культуры (Ю.Д. Апресян, Л. Вайсгербер, В.В. Воробьев,
В. фон Гумбольдт, В.И. Карасик, Ю.С. Степанов),
когнитивистики о взаимозависимости концептуальной системы и языка
(Н.Н. Болдырев, В.З. Демьянков, Е.С. Кубрякова, R. Langacker и др.);
контактологии о закономерностях языкового варьирования (У. Вайнрах,
А.И. Домашнев, Л.Б. Копчук, В.В. Кабакчи, Ю.А. Жлуктенко, А.Д. Швейцер);
об асимметричности языкового знака (С. Карцевский);
о функциональном дуализме языка (В. В. Кабакчи);
психолингвистики о механизме внутренней речи и речевой деятельности
(Л.С. Выготский, Н. И. Жинкин, А.А. Леонтьев, А.А. Залевская);
лингвокультурологии о языковой личности и прецедентности (Д.Б. Гудков,
Ю.Н. Караулов, В.И. Карасик, В. В. Красных);
теории перевода о переводе как интерпретативной деятельности и вторичном
семиозисе (Т.А. Казакова, Д. Селескович и М. Ледерер);
политической лингвистики о политическом дискурсе как совокупности разнообразных языковых средств выражения смысла (Т.Б. Крючкова, А.П. Чудинов,
Е.И. Шейгал и др.) и специфике языка советской эпохи (Т. Купина);
лексикографии о словаре нового типа, соответствующего потребностям
пользователя (Ю.Д. Апресян, В.Г. Гак, В.В. Кабакчи, Р.Р.К. Хартман).
Интерлингвокультурный подход для решения поставленных задач означает
необходимость выделения точек соприкосновения и различий на концептуальном,
20
лексико-семантическом и прагматическом уровне контактирующих лингвокультур, влияющих на англоязычные вербальные средства актуализации идеологизированного субстрата и способы разрешения идеологически обусловленной неоднозначности. Данный подход требует использования совокупности общенаучных
и лингвистических методов:
общенаучные методы сочетают гипотетико-дедуктивный и индуктивный методы для обобщения эмпирического материала и формирования гипотезы, ее
уточнения и выделения типологических характеристик анализируемых текстов с
последующими выводами;
лингвистические методы включают метод сплошной выборки при анализе
словарей; сопоставительно-контрастивный и дефиниционный анализ словарных
толкований в моноязычных словарях русского и английского языка, контекстный
и стилистический анализ для описания функционирования номинации в дискурсе
и ее модификации; метод концептуального анализа для выявления вербальных
репрезентантов концепта, понятийной и оценочной составляющих концептов и
концептуальных различий контактирующих лингвокультур;
метод опосредованного наблюдения и экстраполяции (В.В. Кабакчи);
метод статистической обработки данных для определения ксенонимической
плотности; в ряде случаев привлекаются данные диахронического словарного
толкования и функционирования в текстах из изданий разных лет, что позволяет
выделить социально-исторические обусловленные контексты.
Эмпирический материал включает англоязычные речевые произведения
разных жанров, где российская действительность представлена
1) как инолингвокультура (авторы-билингвы, первый язык английский);
2) как родная лингвокультура (авторы – билингвы, родной язык – русский).
Исследуются следующие жанры: политологические исследования, историография, журналистика, документальная и художественная проза, мемуары, газетные и журнальные статьи (печатные и электронные), рецензии книг и т.п. Тексты,
созданные на английском языке носителями английского языка, изучаются в сопо-
21
ставлении с текстами, созданными на английском как втором /иностранном языке,
в том числе носителями русского языка.
Для исследования концептуальной системы и языковой картины политического мира привлекались англоязычные толковые и специальные словари, справочные
издания и глоссарии энциклопедических и политологических изданий. Базовыми
словарями дефиниционного анализа являются академические словари и словари,
основанные на данных корпусной лингвистики, учитывающие частотность единицы в современном языке. Для сопоставительного анализа привлекались современные русско-английские словари, моноязычные толковые словари русского языка и
специализированные отечественные справочные издания.
Положения, выносимые на защиту:
1. Объективной закономерностью глобализации мирового сообщества является изменение лингвокультурного пространства английского языка, способствующее объединению национальных политических дискурсов в межкультурный политический дискурс. Англоязычная актуализация представления о российской
действительности в межкультурном дискурсе реализуется в контексте разнообразных национальных дискурсов, объединенных единым средством вербального
общения сквозь призму западного мировосприятия («Россия – Запад»).
2. В идеологизированном субстрате аккумулируется русскокультурная национально-обусловленная специфика, которая выделяется при «столкновении» картин политического мира контактирующих лингвокультур. Вербальная актуализация данного субстрата предопределяет адаптацию английского языка, обусловленную концептуальной деривацией данного субстрата в контексте другой концептуальной системы.
3. Результатом процесса концептуальной деривации выступает ксеноним, т.е.
вторичная лингвокультурная номинация, выраженная средствами английского
языка. Механизм формирования ксенонима включает: 1) концептуальную объективацию исходного идеологизированного субстрата; 2) вторичную лингвокультурную концептуализацию, под которой понимается когнитивная обработка инолингвокультурного явления и реконструкция его специфических характеристик в
22
новом контексте; 3) выбор вербальных средств актуализации субстрата. Процесс
номинации инолингвокультурного субстрата, таким образом, включает этапы: от
этимона → к концепту этимона → ко вторичной лингвокультурной концептуализации → ко вторичной лингвокультурной номинации.
4. Формирование вторичной лингвокультурной номинации посредством английского языка является результатом речемыслительной деятельности индивида,
которая включает этап «внутреннего кодового переключения» для осмысления
инолингвокультурного субстрата, сопровождаемый «внутренним переводом» для
передачи субстрата. Процесс «внутреннего перевода» в определенной степени
аналогичен переводческой деятельности, но реализуется в условиях создания
аутентичного текста. Жанр и целевая аудитория продуцируемого текста обусловливают способы вербализации инолингвокультурного субстрата, включающие
переводческие трансформации, номинации прецедентных феноменов и явлений
других лингвокультур и создание ситуативного контекста.
5. Семантическая, концептуальная и прагматическая вариативность номинаций, актуализирующих идеологизированный субстрат российской действительности, отражается в идеологически обусловленной семантической аберрации и обусловлена рядом факторов. Наиболее существенными параметрами выступают политические взаимоотношения России с Западом, модификация национального
российского политического дискурса и его лексикона, отражение которого средствами английского языка обусловлено вариативностью языка как самонастраивающейся адаптивной системы и переосмыслением русскокультурных феноменов
в западной концептуальной системе.
6. Ряд советизмов, адаптированных в лексико-семантической системе английского языка, функционирует как языковые универсалии, отличаясь, как правило, концептуальным, семантическим и прагматическим варьированием, в отличие от своих коррелятов-этимонов, многие из которых в современном русском
языке являются историзмами.
7. В англоязычном межкультурном политическом дискурсе формируются
особые номинации, которые актуализируют концепты инолингвокультуры, сфор-
23
мированные непосредственно в «чужой» концептуальной системе, т.е. представляют собой первичные русскокультурные концепты, репрезентируемые в «чужой»
языковой картине мира. Образуемая при этом лексическая единица является «первичной инолингвокультурной номинацией-этимоном», которая актуализирует
инолиггвокультурный субстрат российской действительности. В большинстве
случаев при этом выявляется пейоративная составляющая, которая отражает восприятие России западным миром. В отличие от ксенонима, коррелирующего со
своим этимоном в русском языке, данная номинация коррелирует в русскоязычном дискурсе со своим переводным вариантом. Первичная инолингвокульутрная
номинация-этимон и переводной вариант, как правило, отличаются концептуальной асимметрией, при этом перевод маркирован графически.
8. Англоязычное интерлингвокультурное произведение представляет собой
текст, основной задачей которого является создание мира инолингвокультуры
(ино – относительно языка общения) непосредственно на английском языке, который при этом адаптируется, приобретая новые качества для передачи инолингвокультурной идентичности, ее субстрата через призму западного мировосприятия и
англоязычной картины мира. Адекватность передачи идеологизированного субстрата требует интерлингвокультурного видения мира, позволяющего автору сопоставить инолингвокультуру с родной, выделить точки соприкосновения и расхождения, при пересечении которых выявляется инолингвокультурный субстрат.
9. Классификация политических ксенонимов на основе их кодификации позволяет выделить политические универсалии, актуализирующие идеологизированный субстрат разнообразных культур, прецедентные политические ксенонимы,
обращение к которым не требует дополнительных средств актуализации значения,
и специальные /специализированные ксенонимы, функционирующие в специальной литературе, включая советологические и политологические исследования.
10. Расхождение концептуальных систем контактирующих лингвокультур
предопределяет развитие идеологически обусловленной семантической аберрации. Эффективности межкультурного политического дискурса способствует интерлингвокультурный политический словарь, описывающий политические кон-
24
цепты контактирующих лингвокультур, с комментарием и текстовыми фрагментами, иллюстрирующими основные словоупотребления политических номинаций
и способы разрешения неоднозначности.
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается
объемом проанализированного англоязычного материала: 120 произведений разных жанров (средний объем одного – 350 с., большинство изданий периода 1990–
2010 гг.); публикациями СМИ (около 2000 статей, 2000–2013 гг.); англоязычными
словарными и справочными изданиями, в том числе основанными на корпусной
лингвистике (82). Для сопоставительного анализа привлекались дву- и моноязычные отечественные словари и справочные издания, в том числе основанные на
корпусной лингвистике (42).
Соответствие паспорту специальности: область диссертационного исследования соответствует специальности 10.02.04. Паспорта научных специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ и выполнено согласно следующим пунктам: лексика и внеязыковая действительность, развитие и пополнение
словарного состава, методы исследования лексических единиц, проблемы классификации лексических единиц, выявление особенностей восприятия, употребления, типичных лингвокультурных ошибок и особенностей использования в разных языковых общностях; проблемы передачи различных языковых явлений в
разных языках, в переводах с германских языков на родной и обратно; проблемы
классификации лексических единиц.
Практическая значимость исследования заключается в том, что в академической среде оно может быть использовано для модернизации теоретических курсов
по лексикологии, лингвистике текста, теории и практики перевода, политической
лингвистике, функциональной стилистике, и в практике преподавания данных
курсов; для научного исследования других сфер глобального английского языка и
подготовки научных публикаций. Отдельные результаты исследования представлены в учебных пособиях по английскому языку для лингвистов и студентов
направления «Связи с общественностью» и применяются в практике преподава-
25
ния разработанных автором курсов «Вариативность в языке и речи» и «Функциональная стилистика» и на занятиях по культуре речевого общения.
В теории и практике межкультурного общения результаты исследования могут быть использованы для снятия идеологического барьера, способствуя гармонизации политического взаимопонимания и стабильности политических отношений, минимизации риска «диалога на разных языках».
Приложение «Материалы к словарю» представляет практический интерес
для лингвистов, лексикографов, переводчиков, магистрантов и аспирантов; контактологическая модель описания лексикона учитывает разные идеологические
воззрения, понимание которых необходимо для эффективного политического
диалога. Предлагаемая модель может быть использована при составлении словаря
других сфер глобального дискурса или политического словаря другой группы
языков.
Апробация теоретических положений и результатов исследования: основные положения и выводы диссертационного исследования представлялись в
докладах на зарубежных конференциях (Киев, Одесса), международных и всероссийских конференциях (Москва, Санкт-Петербург, Тамбов, Пермь, Иваново, Волгоград) и отражены в 66 публикациях. Опубликовано три монографии (общим
объемом 32.68 п.л.), 19 научных работ в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (15 статей и 4 тезиса общим объемом 7.9.п.л.), статьи в
научных журналах и сборниках, в материалах международных конференций и
учебно-методические работы. Общий объем публикаций составляет 88.53 п.л.
Структура и объем диссертации. Работа включает введение, четыре главы,
разделѐнные на разделы и сопровождаемые выводами, заключение, список использованной литературы (514 источников) и словарей (124 источника), список
источников эмпирического материала (120), список сокращений словарей и источников эмпирического материала, список используемых периодических изданий и сокращений, список новостных сайтов и блогов. Объем основного текста
412 страниц в компьютерном наборе. Общий объем диссертации с приложением
596 страниц в компьютерном наборе. Список использованной литературы вклю-
26
чает 514 работ на русском и иностранном языках. Приложение «Материалы к
словарю» (Том 2) включает словарные дефиниции политических ксенонимов и
иллюстративный материал.
Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, раскрывается
суть проблемы в соответствии с интерлингвокультурным подходом, выделены
объект и предмет исследования, цели и задачи работы, методологическая основа и
теоретическая база, определены новизна, теоретическая и практическая значимость, описан материал исследования и методы, сформулированы положения,
выносимые на защиту. Приведены данные об апробации исследования.
В первой главе «Теоретические основы исследования адаптации английского языка в межкультурном политическом дискурсе» описаны методологические
основания исследования адаптации английского языка в межкультурном политическом дискурсе. Выявлены и обобщены основные предпосылки расширения
лингвокультурного пространства английского языка, способствующие его глобализации. Обоснованы определения ключевых терминов и понятий исследования
(языковая) картина мира, лингвокультура, межкультурный политический дискурс, вторичная лингвокультурная концептуализация, интерлингвокультурная
языковая личность, профессиональный билингвизм; выделена концептуальная деривация как основа механизма адаптации английского языка в межкультурном
политическом дискурсе. Описано вербальное пространство формирующегося
межкультурного политического дискурса, включающего как политические универсалии, так и идеологизированные инолингвокультурные номинации национльных дискурсов. Выявлены и описаны процессы, характерные для языковой специфики политического дискурса советского и постсоветского периодов.
Во второй главе «Политический лексикон российской действительности в
англоязычном коммуникативном пространстве» анализируются способы вербальной актуализации инолингвокультурного субстрата (формирование вторичной
лингвокультурной номинации), выявлен и описан психолингвистический механизм вербальной актуализации субстрата инолингвокультуры. Определены комплексные стратегии актуализации ксенонима в речевой деятельности, обосновано
27
понятие «первичная инолингвокультурная номинация – этимон». Выявлена и
описана специфика функционирования ксенонимов-советизмов в лингвокультурном пространстве англоязычного политического дискурса. В главе обосновано
положение о концептуальной уникальности российского политического лексикона, которая обусловливает его лексио-семантические характеристики, что требует
актуализации при передаче средствами английского языка.
В третьей главе «Актуализация идеологизированного субстрата в англоязычных интерлингвокультурных произведениях» анализируются особенности
актуализации политического лексикона в текстах разных жанров, выделяется вторичная лингвокультурная концептуализация, предопределяющая вариативность
вербальных средств. Выявлены жанры, в которых идеологизированный субстрат
инолингвокультуры репрезентируется наиболее полно, что подтверждается его
ксенонимической плотностью (количеством вербальных репрезентантов).
В четвертой главе «Адаптация английского языка в лексикографической
практике» представлен обзор различных подходов к составлению словарей в отечественной и зарубежной лексикографии, что необходимо для обоснования модели словаря нового типа. Исследованы способы кодификации идеологизированного субстрата российской действительности в зарубежных и отечественных словарях. На основе проведенного анализа выведена классификация кодифицированных ксенонимов (универсалии, прецедентные, специальные и специализированные). В главе обоснована авторская модель электронного словаря политической
ксенонимической лексики.
В заключении приводятся основные результаты работы и намечены перспективы дальнейшего исследования.
Приложение «Материалы к словарю» составлено на основе исследуемого
корпуса данных и включает основные дефиниции наиболее частотных обозначений и иллюстративные текстовые фрагменты.
28
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АДАПТАЦИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖКУЛЬТУРНОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
1.1. Лингвокультурное пространство английского языка
Истоки адаптивных возможностей английского языка определяются не только внутренними законами языковой системы и экстралингвистическими факторами; основные предпосылки заложены в истории формирования национального английского языка и английского как официального языка колоний британской империи, впоследствии стран-членов Британского содружества.
«Биография» национального английского языка отражает «внешнюю» (outer
history) и «внутреннюю» (inner history) историю образования мультилингвокультурной нации [462, с. 10]. «Внешняя история» – это языковые контакты (латинские, греческие, кельтские, и пр.), отличающиеся динамичностью и воздействующие на формирующуюся нацию и ее язык. Самые значимые изменения произошли в нормандский период: уничтожена англосаксонская аристократия, в качестве официального языка закреплен французский. Влияние римлян на англосаксов отразилось, главным образом в лексиконе, который хранит «культурную память» в названиях товаров, терминов ремесла, военного дела, государственного и
общественного устройства [54, с. 34]. Языковые контакты способствовали качественным и количественным изменениям: обогащению заимствованными синонимами и расширению словарного состава системы языка [394, с. 116].
«Внутренняя история» отражает лингвистические закономерности (асимметричный дуализм языкового знака, адаптивные качества). Отечественный ученый
В.Д. Аракин подчеркивал значимость исторического развития для внутренних законов развития языка, выделяя как один из важнейших «закон постепенного перехода языка от одного качества к другому», при котором медленно появляются
элементы нового качества, в то время как «элементы старого качества медленно
отмирают» [15, с. 11].
29
Британия как империя формировалась в период XVII–XIX вв., который известен как эпоха колониальной экспансии в Африке, Австралии и Океании
[Chronology]. Распространению английского языка практически на всех континентах способствовала языковая политика, т.е. действия государства, класса, партии,
направленные на функциональное перераспределение языков «для выделения новых или сохранения употребляющихся языковых норм, являющихся частью общей политики и соответствующих их целям» [ССТ, с. 265].
Стремление британской империи к расширению своих владений и сохранению власти предопределило в качестве основной задачи языковой политики закрепление английского как языка власти и элиты. В исследованиях по истории
языка отмечается, что геополитическая ситуация и образ жизни существенно влияли на развитие и изменение языка власти. Изначально нормативным считался
только британский английский, но в XIX веке его роль стала постепенно меняться
с развитием устной и письменной форм английского языка США (Standard
American English) [417], что, однако, признавали далеко не все лингвисты. В частности, Г. Менкен утверждал, что американизмы «засоряют» английский язык
[460, с. 10–11]. Вторая половина XIX века знаменуется формированием австралийской нации и языка Австралии [440; 497, с. 98–105].
Объективным подтверждением расширения лингвокультурного пространства
английского языка является кодификация его территориальных вариантов, каждый из которых функционирует как основное вербальное средство, например
США [Dict.Am.Br.Aus] или Австралии [GemAus] и пр.
Во всех колониях английский язык вынужден был адаптироваться для реализации местных коммуникативных потребностей, функционируя, главным образом, как язык элиты, при этом, «соперничая» с местными языками. Постепенно,
вследствие контактов с местными языками в колониях Африки и Океании, английский язык менялся качественно: параллельно кодифицированной форме образовались своеобразные локальные варианты, «контактный язык». «Пиджин»
возникает при отсутствии «иных способов межэтнического общения» и отличается «минимумом функций» [CCT, с. 164], ограниченным лексиконом с контамини-
30
рованными англоязычными элементами и отсутствием носителей языка. Если пиджин передавался от поколения к поколению, то появлялись носители данного
варианта и формировался креольский язык. Например, родной язык для одной
трети населения Суринама, сранан, образован «из пиджина на английской основе» [CCT, с. 99].
После первой мировой войны усилились кампании по освобождению от британского правления, и ряд колоний и протекторатов получил статус доминионов в
Британском содружестве наций, позднее некоторые страны вышли из состава Содружества, британская империя постепенно распалась. Следует отметить, что
геополитические изменения начала ХХ века практически не отразились на функциях английского: получившие политическую независимость страны не отказались от языка колонизаторов, признавая его одним из официальных или вторым
государственным языком.
Данное положение сохраняется в Индии и Сингапуре и в XXI веке, английский, выполняя официальную функцию второго государственного языка, постепенно адаптируется к местным условиям, «локализуется», отражая в той или иной
степени национальную специфику. Такое развитие языка, по мнению ряда известных ученых, позволяет говорить о формировании языковых вариантов в регионе
Южная Азия (Индия, Бангладеш, Пакистан, Шри-Ланка, Непал и Бутан), известных под собирательным названием «южно-азиатский английский язык» (South
Asian English). Несмотря на «молодость»: ему менее 200 лет, по мнению Д. Кристала, это наиболее «оформившийся вариант языка» [419, с. 47].
Упрочение английского языка как средства общения в ряде бывших колоний
кажется парадоксальным, однако оно предопределено многоязычием ряда государств. Так, в Нигерии 500 языков, поэтому единственным разумным решением
было использование колониального языка, адаптирующегося к изменившимся
условиям, что проявилось, в частности, в использовании элементов этнических
языков [419, с. 145].
В Индии, по данным зарубежных ученых, закреплено 15 официальных языков в различных регионах; на хинди (национальном языке) говорит только 30%
31
населения. Развитие торговли, потребность в общении на межгосударственном
уровне способствовали выделению английского языка как основного средства
общения внутри государства. Английский язык при этом также подвергался воздействию различных языков Индии, что отражено в заимствованиях колониального периода (более 900): bungalow, dinghy, guru, mogul, nirvana, thug, yoga и др.
Значимость английского языка в современной Индии подтверждается следующими фактами: из семи ежедневных газет четыре англоязычные, именно на английском языке издается больше всего книг, Индия занимает третье место после
США и Великобритании по выпуску англоязычной литературы [497, с. 117].
Данная ситуация предопределена исторически: торговые отношения региона
и Великобритании начались в XVII в., что в немалой степени способствовало
языковым контактам. В период британского господства the Radj (1765–1947) согласно языковой политике в административной системе и сфере образования использовался только английский, высокому статусу которого способствовали основанные в 1857 г. университеты в Бомбее, Калькутте и Мадрасе, где преподавание велось исключительно на английском языке.
Английский язык в Индии колониального периода был языком администрации, обучения и общения высшего класса и средством удержания власти, что способствовало социальному разделению общества. Все административные посты
занимали англичане, должности более низкого ранга отдавались англоговорящим
выпускникам индийских университетов, постепенно формировался англоговорящий средний класс, поддерживающий власть. В 1835 году государственный деятель Т. Макколи предложил создать новый социальный класс: «класс индусов по
крови и цвету кожи, но англичан по менталитету, морали и интеллекту». (“А class
of persons Indian in blood and colour, but English in taste, in opinion, in morals and in
intellect”) [497, с. 118].
Политическая ситуация в стране была беспокойной, протесты населения против языковой политики вылились в столкновения между сторонниками английского, хинди и местных языков. В 1960-х годах была принята «доктрина трех язы-
32
ков»: статус официального языка закрепили за хинди, а «дополнительного»
(“associate”) официального – за английским.
Лингвокультурное пространство английского языка постепенно расширяется:
появляются колонии Британии в Юго-Восточной Азии: Малайская Федерация
(1787 г.), Гонконг (1842 г.), Новые территории (1898 г.), увеличиваются языковые
контакты, при этом, в отличие от южно-азиатского региона, в Юго-Восточной
Азии не оформился единый вариант английского языка типа “South-East Asian
English”. По мнению Д. Кристала, это объясняется как особенностями политической истории Сингапура и Малайзии, так и специфичными социолингвистическими характеристиками Гонконга и Папуа – Новая Гвинея [419, с. 57]. Колонизация способствовала увеличению языковых контактов и упрочению статуса английского языка, что, в свою очередь, обусловливало его адаптацию для эффективной реализации коммуникативных потребностей в каждом регионе. Английский язык сегодня включает множество заимствований из контактирующих языков, отражающих различные периоды колонизации.
В ХХ веке, в отличие от предшествующих двух столетий, в лингвокультурном пространстве английского языка закрепляются страны, где он не имеет официального статуса, что обосновано в концепции «новых английских» (New/World
Englishes) Б. Качру. Он выделил «нормо-определяющие» регионы (normproviding), включающие два круга, где английский язык имеет статус официального: «внутренний» (родной/первый язык) и «внешний» (второй язык). Третий
или «внешний круг» (английский как иностранный) объединяет «нормозависимые» (norm-dependent) страны [445; 446].
Достоинство
его идеи
заключается
в тезисе о признании нормо-
определяющей роли внешнего круга. В ряде работ последователей Б. Качру эта
теория подчас толкуется излишне прямолинейно, но сам ученый подчеркивает,
что следует различать уровни владения языком и не приписывать новый вариант
английского языка, если для этого нет достаточных оснований.
Следует отметить, что данная концепция, учитывая историческое развитие и
географическое положение, не отражает социолингвистическую ситуацию. Функ-
33
ционирование английского языка в странах, где он не имеет статуса официального или второго, ограничено определенными сферами. Адаптация английского
языка в таком социально-историческом контексте проявляется как локализация,
при этом формируется «глокальный язык», обеспечивающий только внутрикультурные коммуникативные потребности [473]. Как отмечают некоторые исследователи, знание «локальных региональных английских» релевантно для общения
постколониальных стран друг с другом, однако не оеспечивает реализацию общения с другими социумами [463].
В современных условиях вторичная функция языка реализуется в ситуациях
английский как иностранный язык (EFL/ English as a Foreign Language) и английский для специальных целей (ESP/ English for Special Purposes). «Межкультурность», полицентричность и глобализация английского языка отражают
следующие термины: глобальный английский – global English: Д. Кристал [418;
419], М. Тоолан [500]; международный – English as an International Language
(EIL): H. Виддоусон [511; 512], M. Модиано [463]; лингва франка – English as a
lingua franca: Дж. Дженкинс [443; 444], В. Зайдлхофер [491]; язык мирового общения – World English: Т. Макартур [457].
Национальный язык (ENL /English as a Native Language) реализует первичную функцию, равно как и официальный («второй государственный»): английский как второй (ESL/English as a Second Language) [248, с. 112].
Вторичная функция, обусловленная динамичностью языковых контактов и
адаптивностью языковой системы, «отвечающей» на возникающие коммуникативные потребности, является посреднической. Она реализуется в международных организациях, официально закрепивших языки мирового общения: в ООН
шесть языков, в Совете Европы более 20 (на данный момент), а для экономии
средств и времени выделены три рабочих языка (английский, французский и
немецкий). Стандартом определен английский язык Великобритании и Ирландии
(British usage); при этом язык документов должен быть максимально доступен
всем (clear and reader-friendly English). Среди стран-участников представители
разноязычных государств, в том числе и носители английского языка, которые
34
длительное время работают в мультикультурных организациях, что влияет на их
языковую компетенцию. В целях единообразия кодифицируются семантический,
синтаксический, орфографический, пунктуационный и стилистический уровни
языка [ЕС]. Следует подчеркнуть, что, несмотря на то, что в Совете Европы приоритет отдан английскому Великобритании, он функционирует не как язык британской нации, но как единое вербальное средство общения в официальном профессиональном дискурсе мультилингвального пространства.
Вывод о вторичной функции языка обоснован В.В. Кабакчи, который подчеркивает, что реализации данной функции способствует функциональный дуализм английского языка [157; 161; 162]. Выйдя за пределы своих регионов, отмечает Н.Б. Мечковская, современные международные языки «становятся глобальными, образуя так называемый «клуб мировых языков», который иногда «отождествляют с официальными и рабочими языками ООН» [248, с. 113].
В целях обеспечения безопасности английский язык закреплен как официальный в сфере управления воздушного движения; развитие экономических связей потребовало определенной унификации терминологии в банковском деле, где
также основным средством межгосударственного общения является английский
язык, равно как и в транснациональных компаниях. Английский язык – это язык
науки [417, с. 233; 408], международных конференций; при этом для большинства
пользователей языка в перечисленных сферах он не является родным.
Таким образом, выделяя основные геополитические предпосылки глобализации английского языка, следует, в первую очередь, отметить его распространение
на разных континентах, во-вторых, закрепление в качестве языка власти и элиты
практически во всех колониях, что в определенной степени сохраняется и после
распада колониальной системы.
Третьей предпосылкой послужил распад социалистической системы в конце
ХХ века, уничтоживший оппозицию «капитализм :: социализм». Данный факт отразился на языковой политике стран бывшего социалистического лагеря и ряда
союзных республик. Русский язык, долгое время выполнявший функцию языка
международного общения, потерял свое приоритетное значение, поскольку статус
35
«сверхдержавы» закрепился только за одной страной – США. Уничтожение советской гегемонии в восточной Европе и ряде бывших советских республик обусловило отказ от русского языка как средства межгосударственного общения, и
приоритет получил английский язык [469, с. 141–145].
В-четвертых, выделяются и технологические причины: одной из важнейших
предпосылок глобализации английского языка было создание компьютерных технологий в США и формирование «всемирной паутины», что способствовало распространению американской культуры на всех континентах.
В-пятых, посредством английского языка ученые любой страны представляют свои научные достижения огромной аудитории, обмениваются опытом и т.п.
В-шестых, распространению английского языка в современном мире в немалой степени помогает его статусный имидж, маркирующий престиж (особенно
среди молодежи) как в бывших колониях в качестве второго языка [431; 432; 476,
с. 315], так и в Китае, России, Японии и пр. Этот фактор вызывает озабоченность
политиков и всех, кто считает, что язык американской музыки, киноиндустрии и
пр. передает только чуждые ценности.
Следует отметить, что распространение американского образа жизни, ценностей и пр. началось достаточно давно: на языковой ситуации в Европе отразились
итоги первой и второй мировых войн, обусловившие замену господства французского и немецкого языков американизацией [458, с. 193–196; 477]. Отсюда следует, что глобальная англизация, проникающая во все сферы жизни сегодня, не является результатом исключительно глобализации, феномена современности.
Английский язык «вышел за рамки» своей культуры:
его «территория»
включает не только географические регионы, но и практически все значимые
сферы, способствуя, в том числе и сохранению других лингвокультур, каким бы
странным данное утверждение не казалось на первый взгляд.
В определенной мере сложившуюся ситуацию можно сопоставить с периодом холодной войны, когда под эгидой ЦРУ проводилась антикоммунистическая
кампания в виде «культурных войн». Используя популярные в то время милитаристские клише, можно сказать, что шла «борьба за сердца и умы людей», и «на
36
переднем фронте» войны был английский язык во всех своих вариациях. В рамках
кампании создавались культурные программы для радио и телевидения, в Европе
распространяли книги на английском языке, создавали “America Houses” (сравните с «Домом Дружбы» в СССР); американской культурной колонизации способствовала и экономическая: открытие заводов по производству кока-колы в Европе, которые противники назвали “coca-colonization” [458, с. 221–223].
Сегодня английский язык используется как средство самовыражения представителями различных этничностей не только бывших колоний (английский как
второй язык), но и стран, где он является иностранным. В государствах Азии и
Европы, в России для экспатриантов и туристов издаются разнообразные англоязычные издания, написанные как носителями английского языка (на родном языке), так и на втором/иностранном языке (носителями китайского, вьетнамского,
русского и др. языков). Такого рода издания в России, точнее в СССР, известны
давно, но издаваемая на европейских языках литература АПН отличалась идеологизированностью и носила исключительно пропагандистский характер
Все больше признания с последнего десятилетия ХХ века получают англоязычные произведения, написанные иммигрантами китайского, японского, русского, чешского и т.п. происхождения, отмеченные престижными книжными
премиями. Возможно, одна из причин такой популярности в том, что они дают
возможность громадной англоязычной читательской аудитории погрузиться в мир
этнических и национальных лингвокультур. Английский язык при этом становится средством описания инолингвокультурной идентичности, ино- относительно
языка общения. Названные выше сферы применения английского языка требуют
достаточно высокого уровня языковой компетенции, что доступно далеко не
всем. Поскольку общение, например, в бытовой сфере, возможно и посредством
упрощенного языка, поэтому, начиная с ХIХ века создаются разнообразные лингвопроекты, например, вспомогательные искусственные языки (волапюк и эсперанто) [135], которые благодаря доступности усвоения, как предполагалось, станут посредниками межкультурного общения, но на практике это не подтвердилось. Так, международный упрощенный язык Бейсик-инглиш/Бейсик (Basic
37
English/British American Scientific International Commercial), созданный Ч. Огденом и И. Ричардсом в 1930-х гг., включает 850 лексем, «не получил широкого
распространения» [ССТ, с. 29]. Основной причиной провала Бейсика была его неспособность заменить живой язык: как отмечает Т.П. Третьякова, при попытке
перевести новости на Бейсик Инглиш сотрудник Би-би-си «обнаружил, что задача
невыполнима, так как интерпретация может получаться иной» [337, с. 301].
В 1995 году появляется новый упрощенный вариант Globish, включающий
1500 слов, при этом г-на Неррьер, предложивший это название, признает, что
«глобиш – не язык, а лишь практичный инструмент с ограниченной областью
применения. На нем не будет литературных произведений, он создается не для того, чтобы передавать культурное наследие» [цит.по 26].
Ограниченность лексикона и упрощенная грамматика способствуют реализации только основных коммуникативных потребностей, поэтому ни Бейсик, ни
Глобиш не обеспечивают полноценное общение.
Сегодня, как показывает практика, приоритет английского языка неоспорим;
это основной вербальный код глобального общения, и данный феномен обусловил
выдвижение новых концепций относительно вариантов языка, носителей языка и
«права собственности на язык» [510; 511], нередко носящих политизированный
характер. Следует подчеркнуть, что известные в научном лингвистическом мире
ученые-носители английского языка не заявляют о своем исключительном праве
на язык. Как показано выше, английский язык за долгую историю своего формирования постоянно адаптировался, заимствуя из других языков необходимые для
общения элементы, и всегда был открыт для инноваций.
Д. Кристал подчеркивает, что «никто не обладает монополией на английский
язык: многие страны первоначально использовали его в качестве средства межэтнического общения, однако постепенно он видоизменялся и становился родным
для населения. Возможно, мы являемся свидетелями возникновения первых признаков «английской языковой семьи» [202, с. 6]. Ученый предполагает, что появится «международный разговорный стандарт: World Standard Spoken English
(WSSE) [418, с. 136; 419, с. 185].
38
Попытку выделить распространенные формы и структуры «международного
английского» предпринимают австрийские ученые на материале корпуса устных
текстов VOICE (The Vienna-Oxford International Corpus of English), авторы которых европейские неносители английского языка. Задача, которую решает Б. Зайдлхофер [491] представляется крайне сложной, поскольку устная речь более вариативна и менее стандартизирована, чем письменная.
Многие зарубежные ученые признают, что использование английского языка
как средства общения в глобальном мире позволяет выразить и неанглийскую
культуру, особенно в письменной речи. Естественно, что при этом английский
язык адаптируется, учитывая коммуникативные потребности, и такой английский
Дж. Дженкинс предложила назвать ELF (English as а Lingua Franca), подчеркивая
посредническую функцию языка как средства общения между странами «второго» и «третьего круга» (английский как второй или иностранный) [443, с. 10].
Позднее она отметила, что ELF включает общение и с носителями английского
языка, но это признают далеко не все [444, с. 33–34].
Интересно отметить, что глобализация английского языка, первоначально
вызывающая, главным образом, негативную реакцию (вестернизация общества
или американизация, реже европеизация), оказывает и определенное положительное воздействие на другие языки. Как показывает практика, законы и запреты на
использование англицизмов успеха не имеют, и, вероятно, именно благодаря глобанглизации разные страны стали предпринимать практические действия для
поднятия престижа родного языка, своей культуры, используя для этого как английский язык, так и родной. Появляются новые каналы, вещающие на разных
языках, например, на английском и немецком (Германия), на французском и английском (Франция). Программы Российского новостного телеканала RT на английском языке транслируются в США, Европе и Азии. Становится разноязычной
всемирная паутина, формируются сайты на китайском [421, с. 11] и на португальском языках [430, с. 43]. «Оживают» мертвые языки, еженедельно звучат новостные программы на латинском языке немецкого Radio Bremen и финского радио
39
YLE Radio 1, которое слушают более чем в 80 странах; по данным Google запросов на латинском больше, чем на эсперанто [Economist July 27, 2013, с. 48].
Динамичность формирования системы английского языка в ходе исторического развития, увеличение языковых контактов и открытость инновациям, влияющим на количественное и качественное изменение языка, подтверждают его
адаптивные возможности, способствуя реализации функции общения глобального
сообщества. Языковая глобализация, как реальность нашего времени, представляет собой неизбежный процесс, неоднозначность которого обусловлена тем, что
английский для некоторых является исключительно языком американской политики и образа жизни США, именно это и вызывает определенный протест. Существует и другое мнение: глобальный английский способствует расширению межкультурных контактов, в том числе реализации задачи языковой политики Эстонии и Грузии, заключающейся в «освобождении от русификации». Английский
язык стал лингва франка науки, благодаря которому укрепляются научные контакты, появляется возможность узнать о научных достижениях и поделиться своим опытом. Английский язык становится «голосом» этнических и национальных
идентичностей, которые обращаются к нему как средству самовыражения, при
этом, адаптируясь для реализации данной коммуникативной потребности, язык
постепенно меняется.
Таким образом, расширение лингвокультурного пространства английского
предопределено всем его историческим развитием. В современном английском
языке культурная память сохраняется в лексиконе, его адаптивные возможности
позволяют достаточно адекватно выражать инолингвокультурные феномены. Перечисленные факторы представляются релевантными для выделения английского
языка как основного средства коммуникации, поскольку многоязычие глобального мира препятствует эффективности межкультурного общения. Суммируя вышесказанное, следует отметить, что лингвокультурное пространство английского
языка охватывает все континенты, что обусловлено социально-политическими
процессами, развитием межгосударственных связей, миграцией населения. Английский язык сегодня выступает наиболее эффективным вербальным средством
40
межкультурного общения в разнообразных сферах социальной практики. В межкультурной информационной среде пересекаются различные лингвокультуры, что
требует адаптации английского языка как средства общения глобального мирового сообщества; язык «принимает» новые языковые элементы, постепенно номинации инолингвокультурных феноменов асиммилируются и становятся частью
его лексико-семантической системы, в контексте которой они варьируются, образуя новые ассоциации. Формирование глобального лингвокультурного пространства английского языка позволяет утверждать, что при этом глобализуется и английский язык. Термин «глобальный английский язык» является своего рода
«зонтиковым», обозначая вербальное средство общения многих лингвокультур в
разнообразных дискурсах межкультурного информационного пространства. Глобальный английский язык объединяет региональные, территориальные и прочие
разновидности, выполняя функции в соответствии с коммуникативными потребностями социума, ведущими из которых являются функция общения в транснациональных организациях и функция выражения инолингвокультурной идентичности, реализации которых способствуют адаптивные возможности языка.
1.2 Концептуальная система и актуализация идеологизированного
концепта
Взаимосвязь картины мира как ментальной сферы и объективирующей ее
языковой картины мира в современных научных направлениях является общепризнанным фактом, однако единства в толковании основных терминов («картина
мира», «концептосфера», «концептуальная система» и «концепт») на данный момент не выработано. Вероятно, это объясняется разнообразием научных подходов
к трактовке понятия и тем, что изучение концепта как ментальной единицы возможно только при его вербальной актуализации в языковой картине мира.
Исследование механизма адаптации языка как единого средства общения
различных культур предопределяет необходимость описания специфики концептуальной системы и ее влияния на семантику лексических средств; тот факт, что
41
при межкультурном общении взаимодействуют не только разные языки, но и разные концептуальные системы, несомненно, отражается на процессе формирования инолингвокультурного концепта и репрезентирующей его номинации.
По мнению ряда исследователей, термин «картина мира» заимствован лингвистикой из физики, где в конце XIX в. была сформирована концепция физической научной картины мира (Г. Герц, М. Планк) [246, с. 17–18]. Лингвистическое
понятие «картина мира» обосновано в работах В. фон Гумбольдта о языке как о
созидающем феномене (Erzeugung), позволяющем познать своеобразие народа:
«Человек живет с предметами так, как их преподносит ему язык. Посредством того же самого акта, в силу которого он сплетает язык вокруг себя, он вплетает себя
в него; и каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг,
откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг
другого языка» [117, с. 80]. Утверждение, что «мы переносим на иностранный
язык свое собственное миропонимание» [117, с. 81], подтверждается практикой
межкультурного общения: многие проблемы речевой деятельности, в частности,
продуцирования речи и понимания, обусловлены интерференцией родного языка,
родной культуры, взаимозависимостью языка и его нации.
В концепции Л. Вайсгербера, развивающего идеи В. фон Гумбольдта, подчеркивается значимость языка для формирования национального менталитета:
язык передает всем носителям общее мировидение, «которое во многом отличается от мировидения других языков» [65, с. 104]. Ученый приходит к выводу,
что язык фиксирует все изменения в социуме, и носители языка вкладывают него
«свой опыт, все, что кажется им важным», причем представление о том или ином
явлении люди получают в детстве по мере усвоения своего языка» [65, с. 113].
Познание картины мира представляет собой сложный процесс, и ее изучают
ученые в русле философского, лингвострановедческого, лингвистического, психолингвистического и когнитивного направлений: А. Вежбицка [70; 71], Т.И. Воронцова [95; 96], Н.В. Уфимцева [348; 349], Е.М. Верещагин [74; 75],
Г.В. Колшанский [186],
Г.Д. Томахин [336].
Г.Г. Почепцов [285], С.Г. Тер-Минасова [333; 334],
42
В лингвистических научных направлениях подчеркивается, что одной из основных характеристик картины мира, как совокупности знаний о действительности «в общественном (а также групповом, индивидуальном) сознании» [282, с. 4],
является ее упорядоченность. Не менее важным качеством выступает антропоцентричность: картина мира – это синтетическое панорамное представление «о
конкретной действительности и о месте каждого конкретного человека (выделено мной – Н.Ю.) в ней» [358, с. 54]. В культурологических исследованиях выделяется такое качество картины мира, как «национальность», что закреплено непосредственно в термине «этническая картина мира», под которой понимается «система мыслей и представлений людей определенного этноса» [Словарь МКК,
с. 77]. В ряде работ понятия «картина мира» и «модель мира» трактуются как синонимы [347, с. 3]; культурно-историческая модель мира создается «единичным
или коллективным субъектом» при интерпретации действительности» [89, с. 9].
Картину мира данного социума ученые представляют также как менталитет,
под которым В.В. Колесов понимает картину «мира в ее ценностных ориентирах»,
которая не зависит от экономических и политических условий, и создает этноментальное пространство народа на данной территории его существования» [185,
с. 11]. В определении выделяется статичность ментальности как наивной картины
мира, ее независимость от политических условий, что представляется несколько
спорным, принимая во внимание реальность, увеличение миграции и, соответственно, изменение условий жизни, несомненно, влияющих на ментальность, но
закрепление этих изменений в виде целостной картины требует времени.
Для настоящего исследования важным представляется взаимообусловленность менталитета и картины мира. Так, Е.В. Иванова подчеркивает, что «менталитет можно исследовать на основе характеристик картины мира, прежде всего по
той ее части, которая имеет материальное воплощение» [155, с. 47]. Ученый считает, что «видение мира – это и есть менталитет, в образах, в представлениях, т.е.
в картине мире, в поступках людей, в различных сферах культуры менталитет
проявляется, о нем можно судить на основе их анализа» [155, с. 46].
43
Значимым положением для концепции данного исследования выступает вывод П.С. Гуревича о взаимосвязи ментальности с идеологией, мотивирующих образ действий. При этом, в отличие от ментальности, «идеология как совокупность
форм мышления и ценностных представлений более аналитична», в то время как
на ментальность «влияют традиция, культура, социальные структуры, бессознательное, вся среда обитания» [118, c. 241]. Отсюда следует, что менталитет,
определяя «механизмы восприятия и понимания представителя конкретной этнической или социальной группы» [287, c. 23], всегда «привязан» к конкретной этничности. В таком случае говорят именно об этническом менталитете или ментальности: о «немецком / французском /советском и пр. менталитете (в научных
исследованиях термины «менталитет» и «ментальность» нередко используется
как синонимы). Важно отметить, что менталитет не поддается быстрому изменению, новые условия жизни не означают мгновенного переосмысления ценностей.
Яркой иллюстрацией вышесказанного являются события на Украине, при
освещении которых в медиа используется термин «советский менталитет». Так, в
статье «Трудно быть Путиным» отмечается, что «многие инстинкты и народа, и
власти, остались чисто советскими (выделено мной – Н.Ю.). При возникновении
острой ситуации ни власть, ни население не анализируют истоки кризиса, а прибегают к привычному обезболивающему средству: «ответить клеветникам России». Все громче звучат безответственные речи о восстановлении советской империи. Но проблема в том, что значительная часть населения все еще советская
по менталитету воспринимает эти призывы вполне серьезно» [193, с. 9]
Вышеприведенные положения представляются крайне важными для исследования лингвистических особенностей межкультурного общения, поскольку, вопервых, изучение языковых феноменов возможно только при условии понимания,
какую идеологию и картины чьего мира они выражают, т.е. изучение языка «в чистом виде» в данном случае невозможно. Во-вторых, именно при контакте разных
лингвокультур выделяются качества, которые представляются очевидными в контексте родной картины мира, через призму своей ментальности и идеологии:
именно менталитет «как бы заставляет человека видеть одно и не замечать дру-
44
гое», подчеркивают З.Д. Попова и И.А. Стернин [282, с. 9]. Данный вывод подтверждает О.А. Леонтович, акцентируя внимание на том, что в менталитете «изначально заложена потенциальная возможность быть противопоставленным менталитету другой группы» [228, с.104].
Исследование отражения картины мира и менталитета в языке требует когнитивного подхода, основы которого разработаны Д.С. Лихачевым, опирающимся на положения С.А. Аскольдова-Алексеева (1928) о концепте. Метафорически
описывая совокупность концептов как мозаику, ученый вводит термин «концептосфера», т.е. все концептуальные потенции, открываемые «в словарном запасе
отдельного человека, как и всего языка в целом»; и, отмечая при этом, что
потенции концепта «тем шире и богаче, чем шире и богаче культурный опыт человека [232, с. 3–5]. Под потенциями концепта ученый понимает «индивидуальные коннотации и личный опыт», отмечая их влияние на «концептосферу». [232,
с. 8]. Он подчеркивает взаимосвязь концептосферы и языка: богатство «концептуального мира, концептуальной сферы, носителями которой является язык человека и его нации» определяет во многом богатство языка; при этом концептосфера
«трудно поддается сокращению, и только в тех случаях, когда пропадает культурная память в широком смысле этого слова» [232, с. 9]. Основные положения концепции ученого подтверждаются исследованиями концептов на материале русского, английского и других языков, а также при сопоставительном изучении
концептуальных систем различных лингвокультур [70; 95; 192].
В отличие от зарубежной лингвистики, где термин concept трактуется как
«понятие», в отечественной науке термин «концепт» получил иное толкование,
что делает практически невозможным его адекватный перевод на английский
язык. Основные подходы к изучению концепта как ментальной единицы представлены психолингвистическим (А.А. Залевская), когнитивным (Н.Н. Болдырев,
Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова и И.А. Стернин) и лингвокультурологическим
направлениями (С.Г. Воркачев, В.И. Карасик).
Концепт, по мнению большинства ученых, отличается невербальной природой, поэтому он не «поддается» прямому наблюдению. Е.С. Кубрякова определя-
45
ет концепт как единицу «ментальных или психических ресурсов нашего сознания
и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека»
[210, с. 90]. Ментальность концепта обосновывает также В.Б. Кашкин, отмечая,
что «человек мыслит концептами», в которых «концентрируется и кристаллизуется языковой и когнитивный опыт человека» [179, с. 45]. Ученый подчеркивает, что
«концепты сходны у всех пользователей одного языка», при этом совокупность
концептов образует национальную концептосферу [179, с. 45].
В лингвокультурологии, в отличие от других направлений, в качестве обязательной характеристики выделена аксиологическая составляющая; как утверждают В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин, «центром концепта всегда является ценность,
поскольку концепт служит исследованию культуры, а в основе культуры лежит
именно ценностный принцип» [172, с. 77].
Концепт, по образному определению Ю.С. Степанова, представляет собой
«сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека;… концепты переживаются» [326, с. 40–41].
Объединяет названные подходы описание концепта как ментальной единицы,
совокупность которых образует концептуальную систему человека, в которой
«постоянно зарождаются – притом непременно в актах взаимодействия с окружающим нас и онтологически существующим в виде объективной данности миром –
новые СМЫСЛЫ» [215, с. 70]. Иначе говоря, концептуальную систему отличает
динамичность, обусловленная свойством отражения изменений в окружающем
мире. Именно постоянный процесс образования новых смыслов предопределяет
потребность в исследовании воздействия на концептуальную систему формирующегося глобального мультикультурного пространства. Жизненная практика,
способствуя познанию действительности, требует пересмотра концептов и актуализирующих их номинаций: «человечеству никогда не угрожает опасность невозможности познания окружающего мира», подчеркивает И.К. Архипов [20, c.12].
В отличие от понимания концепта как особой единицы, которая не всегда
актуализирована словом, в ряде работ обосновывается несколько иной подход, в
частности, А.П. Бабушкин подчеркивает, что концепт всегда представлен на вер-
46
бальном уровне: «Мы понимаем концепт как дискретную единицу коллективного
сознания, которая хранится в национальной памяти носителей языка в вербально
обозначенном виде» [25, с. 52].
Несмотря на различные подходы, неоднозначные выводы, общепризнанным
является тезис о невозможности прямого наблюдения концепта. Как утверждает
А.А. Залевская, «мы смотрим на один и тот же объект с разных позиций, а это
означает, что каждый из нас видит лишь часть картины, которую, по меньшей мере, неосторожно (а иногда и опасно) принимать за картину в целом» [146, с. 37].
Соотношение концепта и его вербального репрезентанта анализируется практически всеми учеными, по мнению В.В. Колесова, содержательные формы воплощения концепта «заключены в границах словесного знака, который может
быть представлен в виде имени, выражающего обобщенный признак» [184, c. 15–
16]. Представляется, что именно взаимозависимость концептуальной системы и
национального языка предопределяет одну из основных сложностей реализации
коммуникативных потребностей при использовании языка одной нации для
описания феноменов другой. Логично предположить, что глобализации языка
сопутствует
модификация
индивидуальной
концептосферы,
неизбежно
отражаемая в языковой картине мира, которая всегда «национальна», как отмечают О.А. Корнилов [192] и Е.С. Кубрякова [211], подчеркивая ее «привязку к языку
и «преломление через языковые формы» [208, с. 142]. Аналогичные выводы сделаны Н.Б. Мечковской: «То, что «знает» язык, – общедоступно и общеизвестно;
это семантический фундамент человеческого сознания» [247, с. 32].
В зарубежной лингвистике взаимосвязь языка и культуры, их неразрывное
единство М. Агар называет languaculture [396, c. 265], основываясь на термине
linguaculture П. Фридриха [428, c. 295–312]. Изменение первого компонента
lingua- на langua- обусловлено тем, что при этом связь языка и культуры становится наиболее очевидной. Именно langua- точно указывает на «язык» (language),
поскольку термин language используется гораздо чаще, чем lingua (“I modified it
to langua to bring it in line with the more commonly used language”) [396, c. 265].
47
Концепция М. Агара фактически отсылает нас к метафоре круга В. фон Гумбольдта: «Культура стирает круг вокруг языка, который обычно очерчивают люди. Можно овладеть грамматикой и лексикой, но без познания культуры общение
невозможно»: “Culture erases the circle around language that people usually draw.
You can master grammar and the dictionary, but without culture you won‟t communicate” [396, c. 29]. Отсюда следует вывод, что лингвокультура есть картина мира
данного социума в языковом выражении, своего рода соединение картины мира и
языковой картины мира; и данный термин маркирует их неразрывную связь.
Изменение языка всегда предопределено неязыковыми факторами, что обусловливает вариативность языковой картины мира, отображающей «бесконечное
разнообразие условий, в которых добывались человеком знания о мире, природные условия существования народа, его общественный уклад, исторические судьбы», утверждает В.С. Григорьева [112, c. 238].
Вариативность слова представляет собой феномен, присущий практически
любой номинации, как отмечают многие отечественные ученые: И. В. Арнольд
[16; 17; 402], В.В. Виноградов [78], В.А. Звегинцев [48; 149], М.В. Никитин [258],
В.М. Солнце [321], Т.Г. Винокур [81] и др. Данная способность слова обусловлена
«законом асимметричного дуализма» С.О. Карцевского [176]. Асимметрия плана
содержания и плана выражения, по мнению В.П. Конецкой, выступает как результат и необходимое условие эволюционного развития лексики [190].
Специфика национальной языковой картины мира обусловлена, главным образом, мировидением данного народа, его ментальностью; при этом вариативность лексикона предопределена модификацией национальной концептосферы,
также отличающейся национальными особенностями. Утверждение В.А. Масловой, что «концептуальные картины мира у разных людей одинаковы, ибо человеческое мышление едино» [241, с. 65] представляется несколько категоричным. Законы человеческого мышления, действительно, универсальны, но ассоциативные
связи неизменно социумно и/или индивидуально зависимы, что подтверждается
разнообразием номинаций универсальных концептов, вариативностью семантики
репрезентантов концептов, потерявших свою актуальность в новом контексте.
48
В трудах известного отечественного исследователя русской языковой картины мира А.Д. Шмелева постоянно подчеркивается взаимосвязь языка и образа
мышления. Так, в работе « Русская языковая модель мира. Материалы к словарю»
ученый отмечает, что «носитель языка начинает видеть мир под углом зрения,
подсказанным его родным языком, и сживается с концептуализацией мира, характерной для соответствующей культуры. В этом смысле слова, заключающие в себе лингвоспецифичные концепты, одновременно «отражают» и «формируют» образ мышления носителей языка» [378, с. 12]. А.Д. Шмелев иллюстрирует свои
рассуждения о том, что «стоит» за словами воля и мир, цитатами из произведений
писателей и историков. Воля означало «чужое», неустроенное пространство, которое противопоставлено миру, «образцу гармонии и порядка»; сельская община
так и называлась – мир. «Общинная жизнь строго регламентирована, и любое отклонение от принятого распорядка воспринимается болезненно, как «непорядок».
Покинуть этот регламентированный распорядок и значит «вырваться на волю»
[378, с. 71]. Выделяя основополагающие характеристики слова «свобода», ученый
подчеркивает, что «свобода ассоциируется с жизнью в городе. Свобода означает
мое право делать то, что мне представляется желательным, но это мое право ограничивается правами других людей, а воля вообще никак не связана с понятием
права» [378, с. 72].
Вышеприведенные выводы представляются крайне важными для межкультурного политического дискурса: именно специфика ментальности, национального мировидения предопределяет сложность адекватной передачи на другой язык
номинаций ценностей. Тесная связь слов воля и свобода с пространственной беспредельностью России отражена в русском национальном характере, в «географии русской души» (выражение Н.А. Бердяева) [378, с. 69], что делает практически невозможным найти эквивалентные номинации в английском языке.
Изменение социально-исторической ситуации, значит, и условий жизнедеятельности отражается в концептуальной системе и, соответственно, в языке, но
происходит это не сиюминутно. Так, одним из ключевых концептов советского
общества выступает ОКТЯБРЬ, его понятийная составляющая была известна
49
всем: история СССР изучалась в школе, история КПСС – в вузах. Социумно значимые советские концепты, как правило, отличались идеологизированностью, а
вербализующие их номинации положительной оценочностью и номинативной
плотностью (термин В.И. Карасика), которая отражает неравномерную концептуализацию «различных фрагментов действительности», вербально актуализируемую детальными и множественными однословными наименованиями [169, с.
111]. Ученый подчеркивает, что при этом «между лексическими и фразеологическими выражениями соответствующих концептов устанавливаются различные системные отношения уточнения, сходства и различия, в то время как другие явления обозначаются общим недифференцированным знаком» [169, с. 111].
Номинативная плотность названного концепта подтверждается его коммуникативную значимость: Великая Октябрьская социалистическая революция, Великий Октябрь, Октябрь, День 7 ноября (красный день календаря). В сознании
гражданина СССР в перечисленных обозначениях актуализировались понятийные элементы «революционный праздник», «патриотизм», «Родина» и дополнительные слои «выходной день», «демонстрация», «флаги», «транспаранты» и пр.,
включая индивидуальные ассоциативные связи. В современном российском обществе релевантность данного концепта неоднозначна: для одних он не потерял
своей актуальности, невзирая на то, что день 7 ноября более не является национальным праздником, для других – это один из фактов истории, оценка которого
(положительная или пейоративная) индивидуальна, концепт не отличается ценностными качествами в контексте национальной картины мира. Идеологизированности концепта способствовало использование одного из репрезентирующих
его терминов для обозначения имени детской организации Октябрята, образования топонимов: в советский период в честь революции были переименованы некоторые города и поселки Октябрьск (Куйбышевская область РСФСР), г. Октябрьск (Казахстан), остров Октябрьской революции и т.п. Значимость современного национального праздника, отмечаемого 4 ноября, вызывает сомнение, в
коллективном сознании на данный момент не выявлена его лингвокультурная
специфика.
50
В качестве ярких примеров модификации культурных смыслов выступает
лингвокультурный концепт НОРД-ОСТ, сформированный после трагических событий во время представления мюзикла «Норд-Ост». Аналогичным примером
служит концепт 9/11, обусловленный террористическим актом 11 сентября 2001
года
в
Нью-Йорке.
Изменение
концептуального
содержания
культурно-
специфичного концепта ОКТЯБРЬ, знакового для советского народа, и формирование лингвокультурных концептов НОРД-ОСТ и 9/11, представляют собой результат концептуальной деривации, под которой понимается переосмысление, переконструирование концепта под влиянием изменившихся условий жизнедеятельности социума.
Как подчеркивается когнитивистами, в частности, Л.В. Бабиной, именно
концептуальная деривация обусловливает «внутреннее развитие концептуальной
системы» и представляет собой «когнитивный процесс, обеспечивающий появление новой структуры знания в концептуальной системе человека» [22, c. 86]. Ярким примером концептуальной деривации, как общеизвестно, является метафора.
Вербализация результатов процесса концептуальной деривации обусловлена билатеральностью слова как феномена языка, отличающегося двусторонним характером [258, с. 115], что наиболее ярко проявляются при выходе «за пределы своего круга», при переориентации данного языка на инокультурное описание.
Таким образом, описав основные характеристики (национальной) картины
мира, концептосферы и языковой картины мира, их тесную взаимозависимость,
логично утверждать, что модификация языковой картины обусловлена концептуальной деривацией. Следует подчеркнуть, что результатом когнитивного осмысления концепта чужой лингвокультуры в процессе вторичной лингвокультурной
концептуализации является актуализация, т.е. образование лексической единицы.
Под вторичной лингвокультурной концептуализацией понимается когнитивный
процесс переосмысления инокультурного концепта в новой концептуальной системе, что предопределяет формирование новых ассоциативных связей, а в ряде
случаев модификацию оценочности и понятийной составляющей. Вербальной актуализацией вторичной культурной концептуализации является формирование
51
«вторичной лингвокультурной номинации», исследуемой в интерлингвокультурологии, научной школе В.В. Кабакчи [160, c. 79].
Суммируя вышесказанное, представляется необходимым, подчеркнуть, что,
во-первых, вслед за П. Фридрихом и М. Агаром термин «лингвокультура» понимается как единство языка и культуры. Утверждение «язык идентифицирует культуру», дает основание предположить, что адаптация английского языка для реализации коммуникативных потребностей глобального социума способствует его
превращению в средство идентификации разнообразных лингвокультур.
Вторым значимым выводом из вышеизложенного представляется следующий: ментальный уровень, уровень осмысления концепта, предшествует объективации инолингвокультурного концепта средствами другого языка. Выделение понятийной составляющей, основных культурных смыслов, оценочности в процессе
вторичной лингвокультурной концептуализации влияет на выбор языковых
средств. Таким образом, осмысление концепта и его вербальная актуализация
представляют собой неразрывное единство, реализуясь непосредственно в процессе речевой деятельности.
1.3 Межкультурный политический дискурс и его вербальное пространство
1.3.1 Политический дискурс как социолингвистический феномен
Одна из важных потребностей человека в формирующемся глобальном социуме заключается в желании «быть услышанным», что предопределяет обращение
представителей различных лингвокультур к английскому языку, наиболее на данный момент коммуникативно активному средству, способному идентифицировать
инолингвокультуру на вербальном уровне.
Процесс адаптации английского языка для реализации данной функции
осложняется рядом факторов: во-первых, лингвокультурным многообразием глобального коммуникативного пространства, поскольку национальное своеобразие
каждой страны требует своих форм вербального выражения. Во-вторых, непо-
52
средственно спецификой сферы общения, определяющей формат речевой деятельности и выбор языковых средств.
Учитывая исторический опыт развития мирового сообщества, наибольшие
сложности адаптации языка возникают в политической коммуникации, особенно
в новом коммуникативном пространстве – глобальном, где пересекаются различные идеологии, мировоззрения и т.п. Главная политическая задача заключается в
сохранении лидерства своей страны, в упрочении ее статуса на мировой арене. В
транснациональных организациях приоритетным принципом выступает достижение равноправности всех участников при обсуждении и решении международных
политических проблем. В соответствии с когнитивно-дискурсивным подходом
сфера коммуникации обозначается как «дискурс», который выделяется по специализации: политический дискурс, экономический, педагогический и т.п. Терминологическое обозначение понятия «политический дискурс» требует, во-первых,
определения термина «дискурс», во-вторых, описания специфики коммуникативной среды его реализации.
В современных научных направлениях трактовка термина «дискурс» неоднозначна, что предопределено различными подходами зарубежной лингвистики, откуда заимствован термин (discourse). Дискурс, по мнению П. Серио, представляет
собой лингвокультурный феномен, продукт речевой деятельности (высказывание
или текст), идеологически или социально обусловленная речь («феминистский»
/«административный» дискурс); направления анализа дискурса включают изучение элемента «в языке» и «в речи» и «лингвистическое исследование условий
производства текста» [314, c. 16–27]. Зарубежные ученые, например, Д. Кроненфелд, выделяют в качестве значимого параметр «ориентация дискурса на определенную целевую аудиторию»: «Лингвистические параметры коммуникации всегда основаны на разделенных пресуппозициях, разделенных знаниях»:
“Linguistic communication always rests on a shared presupposition of shared
knowledge and experience; no sentence ever contains all the information needed for its
communicative interpretation” [452, с. 74].
53
Практически все направления исследования дискурса в отечественной лингвистике также подчеркивают его лингвокультурную обусловленность: дискурс
понимается как «совокупность вербальных форм практики и организации и
оформления содержания коммуникации представителей определенной лингвокультурной общности» [290, с. 34]. Согласно лингвокогнитивному подходу дискурс означает вербализуемую речемыслительную деятельность, единство процесса и результата, обладающую как собственно лингвистическим, так и экстралингвистическим планами, отмечает В.В. Красных [201, с. 53]. В лингвокультурологии
дискурс трактуется как коммуникативная институциональная (официальная) деятельность политиков. Несмотря на различные подходы к толкованию дискурса,
отечественные ученые выявляют общие для всех типов дискурса характеристики:
историческую изменчивость, определенную шаблонность и клишированность.
Из вышесказанного выделяются два наиболее значимых для политического
дискурса параметра: во-первых, дискурс актуализируется непосредственно в речевой деятельности индивида, т.е. представляет собой социально-исторический
контекст; это – «речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их
сознания (когнитивных процессах)» [19, c. 136].
Во-вторых, дискурс является языковой формой, посредством которой языковая личность репрезентирует мир; это – «упорядоченное и систематизированное
особым образом использование языка, за которым стоит идеологически и исторически обусловленная ментальность» [362, с. 54–55].
Формирование определения понятия «политический дискурс» осложняется
разными трактовками: в узком или в широком смысле. В соответствии с традиционным подходом (в узком смысле) под политическим дискурсом понимается
речевая деятельность (коммуникативная практика) представителей власти, политических деятелей, основной целью которых является борьба за власть и/или сохранение власти. Иначе говоря, в политическом дискурсе реализуется идеологизированная социальная практика, эффективности вербальных средств которой сопутствуют и невербальные средства (символы, атрибутика, музыка и пр.), опреде-
54
ляемые социально-историческим контекстом данного общества и национальной
идентичностью. Таким образом, политический дискурс отличается национальной
спецификой, при этом его отличает динамичность: реагируя на социальные изменения, он вынужден адаптироваться в условиях новой социально-исторической
ситуации в соответствии с задачами политики своего государства, что, предопределяет адаптацию вербальных средств его реализации.
Задачи политической коммуникации, по мнению А.П. Чудинова, включают
«пропаганду тех или иных идей, эмоциональное воздействие на граждан страны и
побуждение их к политическим действиям», формирование «общественного согласия, принятия и обоснования социально-политических решений в условиях
множественности точек зрения в обществе [368, с. 9–10].
Реализуется институциональный политический дискурс в таких коммуникативных ситуациях как митинги, предвыборная агитация, парламентские дебаты и
т.п., наиболее значимые жанры включают публичные выступления политиков,
депутатов, указы, законы, постановления и т.п. Важным параметром политического дискурса выступают тематические направления, определяющие его содержание. Одни вопросы актуальны в данной ситуации, «другие оказываются фоном
политической коммуникации; например, «взаимоотношение бизнеса и власти» и
«коррупция». Первое понятие актуально, скорее, для современного этапа развития
российского общества, а второе относится к числу категорий, которые можно было бы назвать культурными константами (в духе Ю.С. Степанова)» [32, с. 4].
Социальная зависимость политического дискурса обусловлена «человеческим фактором»: именно в данной сфере коммуникации «говорящий не является
абсолютным хозяином высказывания, так как сам в процессе речевой деятельности зависит от целого ряда экстралингвистических факторов, условий протекания
речи и предшествующего контекста» [182, с. 13–14].
Процесс глобализации информационного пространства, свидетелями чего мы
являемся, значительно влияет на сферу политического общения, предопределяя
появление нового типа дискурса, специфика которого в том, что он объединяет
национальные политические дискурсы многих стран. Данный тип дискурса, фор-
55
мирующийся в условиях глобального коммуникативного пространства, в настоящем исследовании обозначен как межкультурный политический дискурс, развивающийся в двух направлениях.
Во-первых, выделяется политический дискурс как совокупность национальных политических дискурсов. Он реализуется в международных и транснациональных объединениях, страны-участники которых представляют разнообразные
лингвокультуры. Во-вторых, выявляется дискурс, в контексте которого реализуется коммуникативная потребность быть понятыми, выразить идентичность доступным для большинства языком.
Специфика формирования первого направления определяется тем, что в отличие от практики ХХ века, большую часть которого политическое воздействие
на мировое сообщество определялось «сверхдержавами», представленными США
и СССР, или в оппозиции «страны Запада – социалистический блок», сегодня в
политическое регулирование вовлечены практически все государства. На основе
принципов равноправного взаимодействия сформированы Европейский Союз,
Союз Европы, укрепились позиции международных организаций ООН и ЮНЕСКО, военно-политического блока НАТО; выделяются политические функции
Европейского парламента, Международного трибунала, Интерпола. Роль межгосударственных объединений в глобальном коммуникативном пространстве, несомненно, весьма значима. Вербальным средством общения в большинстве случаев
выступает английский язык, который при этом вынужден адаптироваться, учитывая коммуникативные потребности каждого участника и принцип приоритета
равноправности стран при обсуждении политических проблем глобального уровня. В данном социально-историческом контексте английский язык в определенной степени подвергается культурной нейтрализации, лишаясь своей исконной
культурной «привязки», и превращается в «общий» язык. Политические структуры требуют своего терминологического аппарата, отражающего социальноисторические изменения и коммуникативные потребности стран-участников, что
предопределяет выдвижение на первый план задачи упорядочения и кодификации
лексикона, гармонизации терминов [267].
56
Систематизация политической лексики в целях ее адекватного восприятия
всеми участниками, в свою очередь, способствует реализации принципа равноправного взаимодействия разнообразных национально-политических дискурсов в
условиях глобализации, как реальности ХХI века. Следует отметить, что данная
задача представляет собой стратегическую цель транснациональных организаций,
реализация которой требует значительных усилий и времени. Положительным качеством глобализации в условиях политической нестабильности выступают тенденции к образованию «единого взаимосвязанного мира», в котором реализуется
творческий диалог цивилизаций, предоставляющий «возможность сосуществования и взаимодействия в глобальном пространстве» различных национальнополитических дискурсов для решения глобальных проблем времени: религиозных, геополитических, моральных и пр., отмечает И.А. Василенко [69, с. 17].
Организация «творческого диалога» в немалой мере осложняется тем, что, на
первый взгляд, аналогичные слова нередко актуализируют разные смыслы в различных национально-политических дискурсах. Политическая специфика свойственна, например, титулам: традиционное обозначение руководителя корпорации или высшего учебного заведения в США President практически совпадает по
форме с индонезийским титулом Presiden, которое, однако, используется исключительно как номинация высшего руководства страны (the president of the country)
[499]. Соответственно, гармонизация терминологии в дискурсе транснациональных объединений требует принимать во внимание возможность неправильного
толкования какого-либо слова, обусловленного родной лингвокультурой участника. Таким образом, на первый план требующих незамедлительного решения задач
выдвигается выработка доступного всем странам-участникам вербального кода.
Как следует из вышеизложенного, специфичность межкультурного политического дискурса определяется, во-первых, тем, что в нем пересекаются институциональные политические дискурсы разных лингвокультур.
Во-вторых, в контексте национальных дискурсов выявляется личностный
уровень, отражающий результат политического воздействия на этническую идентичность, которая вынужденно преобразуется в ситуации глобализации. Потреб-
57
ность сохранить свою национальную специфику и выразить ее лингвокультурные
особенности предопределяет обращение к английскому языку как средству сохранения идентичности, инокультурной относительно языка общения. Функционируя
в качестве средства инонационального выражения, английский язык неизбежно
адаптируется, при этом, в отличие от языка общения в международных структурах, он «приобретает» маркеры культуры, инолингвокультуры. Следует подчеркнуть, что, как показывает практика межкультурного общения, предпочтение отдается не локальным вариантам английского языка, а коммуникативно активным,
в чатсности, языку Великобритании или США, что предопределено их.
В-третьих, спецификой межкультурного политического дискурса выступает
его регулятивная функция в организации жизнедеятельности мультикультурного
мира, при этом он пересекается с научным, юридическим, медийным, рекламным,
религиозным, педагогическим, художественным и др. дискурсами [376, с. 24–32].
Доминантное воздействие политического дискурса на другие сферы коммуникации подтверждается, например, событиями на Украине, повлиявшими на
жизнедеятельность мирового сообщества: «новость о том, что Россия может ввести войска в Украину, обвалила российский фондовый рынок» [193, с. 9]. В западных СМИ обострилась антироссийская кампания, а антизападная – в российских и т.п. Игнорирование мультикультурности политического дискурса в условиях глобализации может привести к непониманию и конфликтам. Отсюда следует, что важнейшей целью межкультурного общения является формирование картины глобального политического мира и адекватных средств ее выражения в языке. Решение данной проблемы обусловливает выработку единых идеологических
основ политических концептов и вербальную актуализацию их соответствующими средствами английского языка. Попытку реализации данных задач предпринимает политическая глобалистика, относительно новое научное направление,
определяющее «искусство политики в диалоге цивилизаций» как «искусство прорыва в ценностное измерение «другой» культуры» [69, с. 20].
Как было отмечено выше, традиционно политический дискурс трактуется в
узком смысле как институциональный, участники которого политики, представи-
58
тели власти и т.п. Следует подчеркнуть, что понимание политического дискурса в
широком смысле, все более подтверждается социально-исторической практикой,
так, общепризнанным политическим дискурсом считается медийный. Основа такого широкого понимания, как представляется, обусловлена кодифицированным
толкованием ключевого термина – «политика». Так, в «Новой философской энциклопедии» выделяются такие задачи политики как регулирование управления и
власти в обществе в целом и в различных группах, определение отношений «между социальными группами, функционирование и развитие политических институтов и организаций, поведение и деятельность людей под углом зрения отношений
власти. Кроме того, она включает в себя совокупность политических идеалов,
идеологий, доктрин и морально-этических ценностей, политические ориентации и установки человека, его пристрастия и опыт (выделено мной – Н.Ю.)»
[310]. Отсюда следует, что ценности социума, мировоззрение индивида, формируемые институциональным политическим дискурсом, влияют на образ жизни
человека, его поведение и пр., что позволяет говорить о «выходе» политического
дискурса в сферу общения каждого члена общества.
Политический дискурс в широком смысле трактуется и зарубежными учеными. Обосновывая данный подход, К. Шэфнер опирается на статью “Beckham‟s
foot becomes Blair‟s bone of contention”, где описана основная политическая проблема, волновавшая правительство в тот период. Под вопросом была ожидаемая
победа Великобритании в чемпионате Европы из-за травмы Д. Бекхэма. Статья,
опубликованная на первой странице, начиналась так: “Forget the Middle East. And
who cares about next week‟s Budget? The one issue that had Tony Blair and his ministers on tenterhooks at yesterday‟s Cabinet meeting – together with the rest of the country – was David Beckham‟s foot” [Times April 12, 2004 цит.по 486, с. 118].
Вышеприведенный пример представляет собой только один из множества;
победа в международных спортивных состязаниях всегда выступает маркером
политического статуса страны; политизированность спорта была одной из ключевых тем отечественных и зарубежных СМИ в период Олимпийских игр в Сочи.
59
В отечественной лингвистике наиболее полно обосновано толкование политического дискурса в широком смысле Е.И. Шейгал: «Разговоры о политике (в
самых разных ракурсах – бытовом, художественном, публицистическом и пр.)
…будучи многократно умноженными, вносят вклад в формирование политического сознания, в создание общественного мнения, что в итоге может повлиять на
ход политического процесса. Поэтому нам представляется логичным исходить из
широкого понимания политической коммуникации и включать в нее любые речевые образования, субъект, адресат или содержание которых относится к сфере
политики» [376, с. 23]. Следует подчеркнуть, что отдельные задачи институционального политического дискурса соответствуют и задачам массового политического дискурса. Как отмечено выше, в институциональном политическом дискурсе формируется определенное мнение «в общественном сознании» [337, с. 299],
необходимое для побуждения человека «к политическим действиям» [368, с. 10].
Решению данных задач, несомненно, способствует и массовый политический
дискурс, который представлен такими жанрами как историография, публицистика, мемуары, беллетристика и т.п. Важным качеством перечисленных произведений является их доступность для восприятия; простому человеку бывает сложно в
ряде случаев осмыслить политические речи и лозунги.
В словесных произведениях такого типа социально-исторический контекст
отображен как макроистория или микроистория. В макроисторических описаниях
политическое воздействие на социум и индивида представлено посредством описания политической активности деятеля, чью позицию читатель понимает не
только по его поступкам, цитатам и пр., но по состоянию жизнедеятельности общества в данный политический период. В произведениях, отражающих «микроисторию», раскрывается воздействие идеологии на жизнь и мировоззрение «маленького человека», a “little person”, в терминологии Ш. Фицпатрик, известного
западного ученого: повседневность – это «повседневные взаимодействия, в той
или иной степени включающие участие государства» [354, с. 9].
Признавая, что такое широкое понимание политического дискурса не является общепринятым, представляется целесообразным выделить и такой аргумент в
60
пользу данного подхода, как литературная деятельность Дж. Оруэла. Сторонники
трактовки политического дискурса исключительно в узком смысле, как сферы сугубо специального общения, ссылаются на его произведения. Британский писатель Дж. Оруэлл считал себя политическим писателем и утверждал, что именно
политика была основным мотивом его творчества, реализованного в
художе-
ственной форме (to fuse political purpose and artistic purpose) в анти-утопии Animal
farm [472, с. 6], известной в русском переводе как «Скотный двор». Характеристики политического языка, сформулированные писателем в 1946 г. в очерке
Politics and the English Language, не потеряли актуальности и сегодня [471].
Обобщая выводы «за» и «против», и, учитывая политизированность практических аспектов жизнедеятельности социума, в настоящем исследовании принимается за основу трактовка термина «политический дискурс» в широком смысле.
Массовый политический дискурс отражает коммуникативную практику писателя
и журналиста, историка и переводчика, каждого человека, мировоззрение которого формируется под воздействием институционального дискурса, отражаясь в
ценностях и образе жизни.
В качестве главного весомого аргумента обратимся к «Плану Путина», отражающему основные аспекты жизнедеятельности общества, как внешнеполитические, так и внутренние. Политическая программа В.В. Путина включает следующие направления: «агропромышленный комплекс, безопасность страны, борьба с
коррупцией, бюджет государства, выборы, глобальная конкуренция, гражданское
общество, доступное жилье, здоровье нации, идеология Единой России, модернизация
страны,
национальные
проекты,
образование и
качество
жизни»
[http://politike.ru/]. Как следует из положений данного документа, все перечисленные аспекты организации социума регулируются политическими структурами,
что подтверждает релевантность толкования понятия «политический дискурс» в
широком смысле.
Таким образом, представляется логичным утверждать, что в контексте межкультурного политического дискурса реализуется не только общение на офици-
61
альном уровне, т.е. институциональный политический дискурс, но и дискурс в
широком смысле, в том числе на личностном, индивидуальном уровне.
Общепринято считать, что политический дискурс вседа характеризуется
идеологизированностью: автор любого речевого произведения, как политик, так и
журналист или писатель, влияет на интерпретацию мира слушателем/читателем.
Приоритет формирования научного направления, изучающего непосредственно политическую коммуникацию, принадлежит зарубежным ученым. Выделение идеологизированности в качестве доминантной характеристики политического дискурса обусловлено тем, что политическая идеология способствует решению политических задач системной организации жизнедеятельности любого общества в соответствии с намерениями власти в лице политических деятелей или
индивидов, отличающихся социальным превосходством. Власть может быть
представлена и конкретной языковой личностью, статус которой позволяет контролировать ситуацию, посредством своей идеологии воздействовать на формирование общественного сознания, интерпретацию мира [504].
В энциклопедическом справочнике представлено два значения термина
ideology: первое нейтрально (совокупность взглядов индивида или группы индивидов), второе соответствует понятию «политическая идеология»:
“ideology: two different ways, (1) to refer to the beliefs that individuals or groups
have about the world, and (2) from a Marxist-influenced perspective, to refer to the system of commonsense assumptions that we have about the world which hide authority
and treat it as natural” [Sociolinguistics, с. 216].
Пейоративность термина «идеология», под которым понимается именно «политическая идеология», отмечается многими учеными. Как подчеркивает Н. Фэйрклау, «идеологии отражают те сферы социума, которые регулируют отношения
власти» (“Ideologies are representations of aspects of the world which contribute to establishing and maintaining relations of power”) [426, с. 9].
В отечественной науке в общем виде идеология определяется аналогично
процитированному выше описанию (1): «совокупность идей и взглядов, которые
отражают в теоретической, художественно-образной и систематизированной
62
форме отношение людей к действительности и служат закреплению или изменению соответствующих общественных отношений» [75, с. 29]. Данная дефиниция
практически нейтральна и не обладает политизированностью.
В контексте политического дискурса идеология специфицируется именно как
политическая идеология: система теорий и концепций, штампов и идеалов о характере и назначении государства и его политическом курсе, претендующая на
выражение интересов определенных социально-политических сил и побуждающая людей к активным действиям» [Политология 1998, с. 42]. В данном определении актуализируется негативная оценочность термина, регулируя отношения
власти и народа, политическая идеология не всегда действительно учитывает интересы простого человека. Выделяя взаимосвязь политики и идеологии, Ю.А. Сорокин отмечает, что «политический дискурс есть разновидность – видовая –
идеологического дискурса. Различие в том, что политический дискурс эксплицитно прагматичен, а идеологический – имплицитно прагматичен» [322, с. 265].
В национальном политическом дискурсе идеология определяется государством, использующим ее в политических целях для получения и сохранения власти. Политическая идеология отражает такую систему ценностей, такой внешний
мир, который способствует влиянию на мировосприятие индивида, формируя его
менталитет. Национальный менталитет и язык представляют собой взаимосвязанные сущности: менталитет формируется в результате воздействия на человека
всей совокупности семиотических систем, политического строя и его идеологии,
национальной культуры. В свою очередь, мировоззрение личности влияет на восприятие и понимание информации, формулируемой согласно «существующим в
сознании моделей отображения стереотипной ситуации» [85, с. 126].
По мнению многих исследователей, идеология в политическом дискурсе не
может быть нейтральной, неизменно способствуя регулированию отношений в
обществе, она влияет на ментальность индивида, учитывая интересы правящей
партии и т.п. [Сoncepts, с. 40–41]. Важным качеством идеологии является ценностная составляющая: «главным концептуальным оружием» консерватизма «выступает ссылка на традицию», а либерализма – свобода личности, индивидуализм
63
[ОПЛ, с. 84; с. 98]. Следует подчеркнуть, что идеологизация жизнедеятельности
социума характерна для любого классового государства; власть всегда нуждается
в идеологии для закрепления своих институтов и достижения своих целей, включая формирование соответствующих стереотипов восприятия «своей» власти и
«чуждой». Закрепившись в общественном сознании, в мировоззрении индивида
идеология как система взглядов меняется очень медленно.
Данное утверждение доказывается практикой исторического развития Германии: объединение ГДР и ФРГ не способствовало формированию единого коммуникативного пространства, целостной картины политического мира, что подтверждается лексикой. Так, сферы влияния советской идеологии на концептуальную систему мира Восточной Германии наиболее очевидны именно сегодня. Актуализация вербальными средствами концептов, сформированных под влиянием
советской идеологии, потребовала адаптации немецкого языка как вербального
средства социалистической идеологии, что предопределило разделение языка на
«немецкий язык ФРГ» и «немецкий язык ГДР». Как подчеркивают отечественные
ученые А.И. Домашнев и Л.Б. Копчук, «национальное в языке необходимо отличать от так называемых территориальных или региональных вариантов, так сказать, от определенных совокупностей местных особенностей» [130, с. 14].
Язык ГДР, функционировавший в «советской зоне», приобрел определенные
«местные особенности», в частности, советизмы, вербально актуализирующие
политические концепты социализма. В результате идеологически обусловленной
концептуальной деривации менялось понятийное содержание ряда политических
терминов и лексики в соответствии с задачей создания новой картины мира; причем ГДР-специфичная лексика на данный момент полностью из употребления не
вышла, многие номинации сохраняются как историзмы. В энциклопедическом издании Lexikon des Alltags der DDR зафиксированы политические термины, репрезентирующие концепты марксистско-ленинской идеологии, образованные под
влиянием советской идеологии и русского языка: Agitprop, Fünfjahrplan,
Generalsekretär, Subbotnik и лозунги молодежных организаций, например, Für
Frieden und Sozialismus – Seid Bereit!, а также номинации идеологизированных
64
концептов повседневной жизни: магазин советской продукции Natascha-Laden
[Lexikon, с. 232]. Как и в СССР, идеологизировалась система воспитания и обучения: в обязательную программу школ ГДР входили такие произведения как роман
М. Шолохова о коллективизации Neuland unterm Pflug [Lexikon, c. 242], повесть
А. Гайдара Timur und sein Trupp, при этом отмечается популярность тимуровского
движения Timurhilfe [Lexikon, c. 346].
На примере идеологизированности языка ГДР становится понятно, насколько
эффективно было воздействие советской идеологии на общественное сознание,
национальную идентичность и образ жизни стран социалистического блока.
Советский менталитет и сегодня определяет мировоззрение многих людей в
нашей стране. Идеологическому воздействию способствуют разнообразные семиотические системы: музыка, ритуалы, одежда, реклама, но, как представляется,
ведущая роль при этом отводится языковым средствам, которые влияют на ментальность, стереотипы и ценности отдельного индивида и общества в целом.
Идеологизированное воздействие на социум реализуется в медиадискурсе, в том
числе в аналитических статьях и политической журналистике [128, с. 190–197].
Неоднозначность политического дискурса и его роль в воздействии на социум обусловливают формирование различных направлений его изучения. На основе политологической филологии, науке о соотношении дискурса «с такими концептами, как «власть», «воздействие» и «авторитет» в связи с языковыми особенностями поведения говорящих и интерпретации их речи», формируются политологическое литературоведение и политологическая лингвистика [124, с. 118]. Как
отмечает Т.П. Третьякова, наиболее интенсивно развивается именно политологическая филология [337, с. 20]. Макроструктура политического дискурса, в частности, мотивация сюжетов, мотивов и жанров исследуется политологическим литературоведением; «политологическая лингвистика занимается микроуровнем, ее
предметом являются: а) синтактика, семантика и прагматика политических дискурсов, б) инсценировка и модели интерпретации этих дискурсов» [124, с. 118].
Следует подчеркнуть, что отечественный опыт исследования политического
дискурса относительно непродолжительный, что объясняется идеологическими
65
ограничениями советской эпохи, в то время как зарубежная политическая лингвистика развивается с последних десятилетий прошлого века: Р. Андерсон [401],
Т. Ван Дейк [504; 505], П. Кап [411], Р. Водак [85], Г. Лассвелл [223].
Лингвисты и политологи последовательно отмечают, что в эпохи социальных
потрясений, при режимах тоталитарного типа влияние политики как на общество
в целом, так и на язык, неизбежно адаптирующийся для реализации задач власти,
проявляется наиболее ярко. Так, выделяют дискурс Великой французской революции [298], советский политический язык [217; 219] или «деревянный язык»
[313; 314], язык Третьего Рейха [450].
Разнообразие подходов к исследованию политического дискурса, как представляется, предопределено его влиянием на социум, специфическими характеристиками семиотического и семантического пространства. Исследование языковых
средств, используемых политической идеологией с целью воздействия на мировоззрение и поведение человека в обществе, исследуется учеными разных направлений. Лингвистический и социолингвистический анализ данных процессов представлен в трудах отечественных и зарубежных лингвистов, политологов и писателей В.А. Аврорина [2; 3], В.М. Алпатова [11], Ю.Д. Дешериева [125], В.М. Жирмунского [140], С. Ору [265], Т.П. Третьяковой [338; 339; 502], А.Д. Шмелева
[378; 379], Р. Андерсона [401], В. Клемперера [450], А. Монтгомери [464],
Дж. Оруэлла [471; 472], M. Пеи [474], Э. Рэнд [479; 480], А. Вежбицка [513] и др.
Следует отметить, что аналогичные выводы о зависимости языка от социальных потрясений, были сформулированы и советскими учеными, исследующими
взаимодействие русского языка и общества, несмотря на то, что в СССР изучение
языковых характеристик советского периода ограничивала советская идеология,
определяющая в качестве истинно научного только марксистско-ленинский подход. Особого уважения и признания заслуживает научная деятельность А.М. Селищева, который, невзирая на идеологизацию науки в нашей стране в 1930-ые годы, представил глубокий лингвистический анализ «языка революционной эпохи»
[308]. К сожалению, ученый также подвергся гонениям: «В начале февраля 1934 г.
его арестовали … и осудили на пять лет лагерей. Находился он в Карлаге» [259,
66
с. 17]. Снова в опале А.М. Селищев оказался даже после своей смерти, в конце
1940-х гг., в период идеологической кампании в языкознании «задержавшееся изза войны издание учебника старославянского языка вновь было отложено, уже по
идейным причинам» [259, с. 20].
«Идеологические запреты» были сняты только в постсоветское время, что
сделало возможным формирование направления «политическая лингвистика» и в
отечественной науке. Научная школа политической лингвистики, основанная в
Екатеринбурге, известна и признана не только в отечественной науке, но и за рубежом, что подтверждается международными конференциями, изданием журнала
«Политическая лингвистика», многочисленными публикациями фундаментальных и учебно-методических трудов [58; 60; 31; 369]. Ученые исследуют разнообразный эмпирический материал, учитывая идеологические установки общества,
политическую ситуацию, личность автора (его интенции, политические взгляды и
личностные качеств) и личность читателя/слушателя и т.п. [29; 57; 366: 367].
Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что в условиях глобализации информационного пространства, закономерным представляется формирование межкультурного политического дискурса, который реализуется в межгосударственных организациях, объединяя национальные политические дискурсы.
Своего рода объединяющим фактором при этом является язык общения, английский, использование которого для удовлетворения коммуникативных потребностей мультикультурного мира неизбежно предопределяет определенную адаптацию. Спецификой политического дискурса, как межкультурного, так и национального является идеологизированность, обусловленная картиной политического
мира. Соответственно, одной из основных задач межкультурного политического
дискурса выступает формирование такой картины политического мира, которая
способствует взаимопониманию стран-участников, предотвращает конфликты.
67
1.3.2 Вербальное пространство политического дискурса
1.3.2.1 Политическая терминология
Формирование вербального пространства политического дискурса с целью
соответствующего идеологического воздействия на социум является одной из основных задач национально-языковой политики. Как было отмечено выше, главной характеристикой политического дискурса является идеологизированность
всех его средств: описывая социальные условия или отношения, идеологию партии, мировоззрение политика и т.п. всегда имеют в виду конкретное общество, и
по выбору единицы номинации можно определить идеологические воззрения того, кто стоит за высказыванием.
Лексико-семантические характеристики политического дискурса, по мнению
многих исследователей, настолько идеологически специфичны, что предопределяют введение термина «язык политики» или «политический язык». В данном
случае речь идет не о национальном варианте, а о профессиональном подъязыке,
равно как говорят «язык науки», «язык бизнеса» и пр. [376; 367; 368].
Специфика национально-языковой политики определяется во многом историческим периодом, что неоднократно подчеркивали отечественные ученые
Л.П. Калакуцкая [165], Т.Б. Крючкова [205; 206], В.В. Кусков [221], Н.А. Купина
[217; 220], Г.Я. Солганик [320], И.К. Белодед [37].
Значимость влияния общества на язык подтверждают и многие зарубежные
ученые: К. Аллан [399], Д. Болинджер [410], Ст. Чейз [414], М. Холбороу [439],
Д. Лейт [453], И.В. Протченко [289], Т. ван Дейк [504; 505] и др.
Как общеизвестно, ядро вербального семиотического пространства образует
политическая терминология, выделение характеристик которой опирается на типологические свойства термина, обоснованные в фундаментальных трудах
Д.С. Лотте [233], Т.Л. Канделаки [155], В.П. Даниленко [120], С.Г. Бережана
[41], М.Н. Володиной [86; 87], В.М. Лейчика [224; 225; 226]. Сложность принятия
унифицированного толкования понятия «термин» обусловлена тесной связью
68
термина как компонента терминосистемы и слова как компонента лексикосемантической системы национального языка.
В рамках нормативного подхода, разработанного Д.С. Лотте и его последователями, выделяется номинативная функция термина, его понятийность, независимость от контекста и однозначность: Д.С. Лотте [233, с. 38–39], А.В. Суперанская
[330]. Термин, в отличие от нетермина, «фиксирует результаты познания» в специальных областях как элемент «научного аппарата теорий и концепций, описывающих эти области знания и деятельности» [225, с. 135]. Данные характеристики актуализируются в пределах его терминосистемы, под которой понимается
«структурированная совокупность терминов, специфичных лишь для данной
предметной области, выражающая только еѐ понятия» [1, с. 262]. Г.О. Винокур
подчеркивает взаимосвязь термина и нетермина: «Термины – это не особые слова,
а только слова в особой функции» [80, с. 5]; данное положение подтверждается и
в работах других ученых [196, с. 41]. Термин, как и любое слово, обладает способностью адаптироваться к контексту, к ситуации общения и отличается «двойным модусом существования» [1, с. 265]. Термин может потерять качество понятийности, а слово общего языка, напротив, приобрести [120].
В современных отечественных исследованиях на основе когнитивнодискурсивного подхода обоснована когнитивно-информационная природа термина [154]. Термин обеспечивает эффективность «профессионально-научного (специального) общения» [86, с. 20]. Его определяющей характеристикой, по мнению
Е.И. Головановой, является ориентирующая функция: он соотносится «с соответствующими единицами сознания, которые нельзя рассматривать в отрыве от деятельности. Каждая система терминов представляет собой когнитивно-логическую
модель той или иной области человеческого знания» [108, с. 186 –187].
Адаптация любого языка к удовлетворению коммуникативных потребностей,
например, в условиях формирования междисциплинарных научных направлений,
в том числе в контексте глобализации общения, проявляется в тенденции «к интернационализации лексики современных литературных языков» [41, с. 51]. Способствуя сближению наук, интернационализация в то же время обусловливает и
69
развитие многозначности, т.к. термин одной дисциплины в контексте другой актуализирует новое значение, что может создавать препятствие коммуникации.
Особым качеством термина, отличающим его от слов общего языка, по мнению ряда ученых, считается стилистическая нейтральность: [56, с. 37; 493, с. 58–
59]. Противоположную точку зрения обосновывает Р.Г. Пиотровский, утверждая,
что термин контекстуально маркирован [275, с. 33].
Из вышесказанного следует, что основные качества термина, обусловленные
его когнитивно-информационной природой, следующие: 1) понятийность;
2) взаимосвязь со словом общего языка;
3) тенденция к интернационализации;
4) контекстуальная маркированность.
При этом однозначность представляется идеализированным и практически
сложно реализуемым свойством термина.
Данные характеристики в полной мере соответствуют и политическому термину, который, в отличие от терминов других терминосистем, всегда прагматически маркирован, поскольку его главной спецификой, в отличие от термина других
терминосистем, выступает идеологизированность.
Ядро вербального семиотического пространства политического дискурса
формируется политическими терминами, которые также называют идеологемами, т.е. номинациями, отличающимися особой релевантностью в политическом
дискурсе «в языке представителей разных социальных групп» [271, с. 64]. Говоря
о политическом дискурсе в формирующемся глобальном коммуникативном пространстве, следует уточнить, что сегодня речь идет о разных лингвокультурных
социумах. Следуя когнитивно-дискурсивной парадигме, Н.А. Купина сформулировала дефиницию понятия «идеологема», понимая под термином такую номинацию, которая непосредственно связана «с политическим денотатом (социализм,
оппозиционный)» или «получила устойчивое идеологические приращение, фиксируемое нормативными толковыми словарями (шатание, разъяснительная работа)» [218, с. 90]. Идеологема объективируется политическим термином или политической/политизированной лексикой.
70
Политическая терминология эксплицирует средствами языка политическую
картину мира, которая, как и научная картина мира в целом, «постоянно совершенствуется (изменяется, детализируется, расширяется), стремясь стать тождественной отражаемому миру» [192, с. 73], что проявляется как в национальной,
так и в индивидуальной концептуальной системе. Когнитивно-информационная
природа политической терминологии, сила ее воздействия на социум и на индивида заключается в том, что она «представляет собой особый «канал» для создания в массовом сознании соответствующей картины мира» [87, с. 190].
В национальном политическом дискурсе концептуальное содержание термина определяется идеологией власти данного социума. Так, в советский период
толкование политических интернационализмов революция, империализм, демократия зависело от того, относились ли они к марксистско-ленинской или буржуазной концепции, что позволяет рассматривать их как понятийные омонимы [271,
с. 65]. По мнению В. Шмидта, подобные языковые знаки обладают общим семантическим компонентом, а значит, характеризуются идеологически связанной многозначностью
(Ideologiegebundenheit) [487;
488].
Его
позицию
разделяет
Т.Б. Крючкова, подчеркивая, что «значения идеологизированного слова не являются позиционно обусловленными», а «различные идеологизированные значения
слова бывают «приписаны» к определенным группам носителей языка в зависимости от идеологических взглядов последних» [206, с. 100, с. 102].
В подобных ситуациях сложно разграничить омонимию и полисемию, контекстуальную вариативность. Единственным объективным доказательством может служить лексикографическое описание; например, в ХХ веке англоязычные
словари зафиксировали идеологически обусловленную полисемию таких политических терминов, как bourgeoisie, revolution и т.п.
Одна из основных сложностей лексикографического описания политического
термина обусловлена модификацией идеологии данного социума, что предопределяет концептуальное варьирование, соответственно, понимание термина требует учета социальных условиях его функционирования, временного периода.
Идеологически обусловленная оценочность «формируется и функционирует
71
только в хронологических рамках определенных социальных отношений и отражающей их идеологической системы» [106, с. 80]. Термин state может объективировать концепт STATE, однако в западной и в социалистической идеологии, эквивалентные, на первый взгляд, номинации концепта («государство» и state) различаются понятийно [436].
Таким образом, изменение социально-исторического контекста предопределяет концептуальную деривацию политического термина, которая отражается в
вариативности его семантики, что делает практически невозможной абсолютную
стандартизацию политической терминосистемы. Поскольку идеология посредством языковой политики стремится сформировать положительный имидж своей
лингвокультуры и негативные стереотипы другой, коннотативное значение политического термина становится взаимосвязанным с денотативным. Употребление
слова нейтральной или положительной оценочности в контексте пейоративного
характера способствует закреплению в нем устойчивых негативных ассоциаций.
Отсюда следует, что вариативность концептуального наполнения политического термина в ряде случаев способствует его деградации. Например, термин
«идеология» (ideologie) был введен французским философом Дестютом де Траси
(Destutt de Tracy) более 200 лет назад для обозначения новой науки, изучающей
идеи [505, с. 728–729]. При этом термин не обладал идеологически обусловленной
оценочностью, однако постепенно в общественном сознании закрепилось негативное восприятие. Пейоративность термин «идеология» в современном социуме
объясняется, по мнению ученых, во-первых, тем, что К. Маркс и Ф. Энгельса использовали его в значении «ложное сознание». Во-вторых, тем, что его противопоставляют понятию «объективное знание». В ХХ веке идеология связывали с
политикой именно правящего класса, что также способствовало деградации термина [505, с. 728–729].
Из вышесказанного следует, что политический термин отличает нестабильность концептуального наполнения, отражаемая в дефиниции термина, что обусловлено как природой лексической единицы с присущей ей способностью к варьированию, «размытости семантики» [180], так и изменчивостью социально-
72
исторического контекста, намерениями говорящего. Политический термин, таким
образом, отличает концептуальная (понятийная) и семантическая неопределенность (неоднозначность), что подтверждается примерами функционирования политической терминологии в различных контекстах. Так, комментируя семантическую неоднозначность терминов democracy, socialism, freedom, patriotic, realistic,
justice, Дж. Оруэлл подчеркивал, что каждый из них может выражать разные значения, причем попыткам сформулировать общепринятое толкование оказывают
сопротивление все стороны: “The words democracy, socialism, freedom, patriotic,
realistic, justice have each of them several different meanings which cannot be
reconciled with one another. In the case of a word like democracy, not only is there no
agreed definition, but the attempt to make one is resisted from all sides” [471, с. 353].
В данном случае, по сути, актуализируется семантическая аберрация, которая
в значительной степени затрудняет эффективность межкультурного политического дискурса. Перечисленные термины, обладающие положительной оценочностью по определению, могут быть использованы применительно к абсолютно разным национальным дискурсам, что требует введения каких-либо дополнительных средств номинации, поскольку термины, по сути, детерминизируются.
В контексте глобального межкультурного политического дискурса, в который вовлечены разные национальные дискурсы, концептуальная и понятийная
неоднозначность значительно препятствуют общению. Важно помнить, что вариативность политического термина объясняется как особенностями контактирующих идеологий, менталитетов и т.п., так и прагматическими интенциями индивида, который может стремиться к точности передачи информации и объективности,
или, напротив, к ее искажению. Как подчеркивает Р.А. Будагов, все определяется
мировоззренческим критерием «в зависимости от чего и определение термина то
стремится к объективности его значения, то, напротив, удаляется от него, что
неизбежно, а иногда и преднамеренно искажает, извращает содержание самого
понятия» [55, с. 17]. Ученый подкрепляет свой вывод примером использования
термина liberte, на что обратил внимание еще в 1748 г. Монтескье. Слово liberte
для одних означало «обыкновение носить длинную бороду», для других – «опре-
73
деленную форму государственного управления»; сторонники «республиканского
государства» связывали это понятие именно с республиканским государством, а
сторонники монархии – с монархией» [55, c. 17].
Как следует из приведенного выше толкования понятия «межкультурный политический дискурс», он образуется пересечением разнообразных национальных
политических дискурсов, при этом вербальное пространство каждого из них
включает определенные инолингвокультурные элементы, требующие своего выражения в английском языке. Соответственно, англоязычные издания разного рода, ориентируясь на глобальную аудиторию, вынуждены вводить лексические
средства, актуализирующие понятийность и оценочность используемого политического термина и лексики, чтобы предотвратить неоднозначность.
Так, одной из наиболее злободневных политических проблем является территориальная, и, поднимая этот вопрос на пресс-конференции, премьер-министр
Японии Нода, заявил, что «Такесима принадлежит Японии». Президент Южной
Кореи, в ответном выступлении подчеркнул, что «Докдо, несомненно, является
территорией Южной Кореи». В статье англоязычной японской газеты The Daily
Yomiuri название территории Takeshima (термин, принятый в Японии), не требует
пояснений, но при цитировании Президента Южной Кореи редакция внесла уточняющий комментарий, чтобы избежать непонимания: “Prime Minister Yoshihiko
Noda: There‟s no doubt that Takeshima is Japan‟s inherent territory, historically and
under international law. President Lee Myung Bak: Dokdo (South Korea‟s name for
Takeshima) is indeed our territory and is a place worth staking our lives to defend” [DY
Aug. 26, 2012, с. 3].
Аналогичная ситуация наблюдается и при освещении территориальных проблем между Японией и Китаем; так, описывая акции протеста в Китае, журналист
использует известное в Японии название островов: the Senkaku islands. Цитируя
антияпонские лозунги на плакатах, он вынужден дать разъяснение номинации: the
Diaoyu islands, что соответствует японскому обозначению the Senkaku islands:
“Diaoyu: Hundreds of protesters took to the streets of an eastern Chinese city to demonstrate against Japan‟s claims to the Senkaku islands… They carried banners with slo-
74
gans including “Japanese get out of the Diaoyu Islands,” the report said. The small, uninhabited islands located in the East China Sea are known in China as Diaoyu” [DY
Aug. 26, 2012, с. 1].
Объяснения подобного рода, возможно и не требуются японскому читателю,
однако, они, несомненно, необходимы для англоязычного читателя в контексте
глобального информационного пространства.
Следует отметить, что при описании территориального вопроса России и
Японии в японской газете приводится только термин японского национального
политического дискурса (the northern territories), а термин, принятый в российском
политическом дискурсе – «Курилы», передается описательно (the four islands
claimed by Japan): “Japan in its dispute with Russia over the northern territories of
Hokkaido: When then Russian President D. Medvedev visited Kunashiri – one of the
four islands claimed by Japan…” [DY Aug. 26, 2012].
Подобная вариативность предопределена целевой аудиторией прессы, которая функционирует, главным образом, в японском англоговорящем социуме и адресована экспатриантам и англоговорящему читателю-японцу, бизнесмену, туристу. Отсюда следует, что, наименование «спорного острова» согласно терминологии русскоязычного политического дискурса в данной ситуации нерелевантно.
Вербальное пространство межкультурного политического дискурса образуют
также исторические термины национальных политических дискурсов, или номинации, сохранившие свою форму, но отличающиеся новым концептуальным
наполнением, что требует иных средств семантизации, при транслитерации на английский язык. Так, в прошлом столетии китайское слово nongmin передавали соответствием peasant(s), что следует делать и сегодня в исторических текстах, но в
современном контексте необходимо актуализировать понятийное изменение, обусловленное новой экономической ситуацией: nongmin (farmer) [436].
В межкультурном диалоге нередко встречаются примеры описания какоголибо национального дискурса в сопоставлении с другими, что затрудняет выделение узкой сферы общения в чистом виде и подтверждает межкультурность современного политического дискурса в глобальном социуме. Так, «выступление в
75
церкви» российской панк-группы Pussy Riot известно в западном мире именно как
политический протест и, рассказывая о его последствиях, американский журналист проводит параллели с другими ситуациями, в которых музыкальный дискурс
пересекается с политическим. Он приводит примеры из британской музыкальной
жизни, напоминает об убийстве панк музыкантами сикхов в США, о панкпротестах в юго-восточной Азии:
“Singing about the cozy relationship between the Putin government and the
church, the band‟s trial drew the word‟s attention. Suddenly the five-minute performance and its participants became the barometer on free speech in Putin‟s Russia.
…the inherent energy of punk can be harnessed through distorted chords to build a vehicle for political messages. Be they the Sex Pistols setting England on fire during the
Queen‟s silver jubilee in 1977 with “Anarchy in the U.K.”, Bikini Kill harnessing feminist ideals to create furious protest music in the „90s” [LAT Aug. 27, 2012, с. 10].
Анализируя информацию, представленную в статью, очевидно, чтов ней пересекаются национальные политические дискурсы России, Великобритании и
США, актуализируемые в сфере музыки: “a vehicle for political messages; free
speech in Putin‟s Russia; Sex Pistols with “Anarchy in the U.K.”, feminist furious protest music”. Как представляется, цитируемая статья является убедительным примером идеологизации музыкальной сферы.
Выделяя специфику межкультурного дискурса, следует отметить, его социальную обусловленность: он отражает одну из закономерностей современного социума, заключающуюся в формировании глобального коммуникативного пространства. Мультикультурность политического дискурса, несомненно, осложняет
эффективность общения, выдвигая задачу определенной стандартизации вербальных средств, понимание которых доступно каждому.
Другой объективной сложностью коммуникации в эпоху глобализации выступает практически неограниченное увеличение объема информации, что выдвигает принцип языковой экономии в качестве одного из ведущих коммуникативных принципов. Реализации названного принципа способствуют сокращения
разного рода, реализующие прагматическую адаптацию языка; при этом краткий
76
вариант соответствует структуре полного [120, с. 43]: OECD = Organization for
Economic Cooperation and Development.
Терминологические сокращения свойственны всем терминологическим системам; спецификой политического сокращения, однако, является то, что аббревиатуре свойственна и функция маскировки идеологической оценочности полного
варианта. Важно при этом отметить, что в англоязычном дискурсе, в отличие от
русскоязычного, большое внимание уделяется созданию такой номинации, которая актуализирует положительные коннотации обозначаемого понятия. Одним из
способов достижения такого эффекта выступает акроним, омонимичный положительному слову общеупотребительной сферы, что влияет и на семантику термина.
Так, обозначение тяжелой болезни, известное сегодня под акронимом AIDS
/Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome), совпадает по форме со словом положительной окраски aids, что способствовало предотвращению распространения
гомофобии в 1980-х гг. в США. Первое терминологическое обозначение этого заболевания включало словосочетание «имеющее отношение к гомосексуалистам»
(gay-related immunodeficiency/GRID), что вызвало в Калифорнии волну погромов
тех районов, где жили и творили художники и музыканты, поскольку гомосексуализм связывали именно с богемой [400].
Изменение данного термина было обусловлено не только тем, что заболевание, как выяснилось, не связано с гомосексуализмом, но и необходимостью воздействовать на ментальность американцев, чтобы избежать погромов в дальнейшем. Акроним положительной коннотации AIDS (=Acquired Immune Deficiency
Syndrome) вызывает, в первую очередь, ассоциации со словом «помощь» (aids) и,
что немаловажно, не имплицирует чувство страха.
Вышеизложенные примеры также подтверждают значимое воздействие политического дискурса на различные сферы жизни, при этом в англоязычном дискурсе особое внимание уделяется созданию положительной оценочности лексической
единицы. Позитивная, или напротив, негативная репрезентация идеологизированного субстрата в речевой деятельности влияет на мировоззрение и поведение человека. Отсюда следует, что при межкультурных контактах процесс языковой
77
адаптации для актуализации политического концепта осложняется картинами политического мира участников общения.
Таким образом, идеологизированность выступает основной спецификой политического лексикона и терминологии. Эффективности межкультурного политического дискурса, объединяющего национальные политические дискурсы многих
лингвокультур, несомненно, способствует адаптация языка общения для адекватного отражения действительности языковыми средствами.
1.3.2.2 Эвфемизация политического лексикона
Особый сегмент в вербальном пространстве политического дискурса образуют политические эвфемизмы и дисфемизмы, объективирующие идеологически
обусловленное воздействие на мировосприятие индивида в соответствии с установкой власти.
Эвфемизмы представляют собой один из способов «непрямой коммуникации» [122, с. 190] и актуализируются в разнообразных дискурсах. В лингвистике
принято следующее определение эвфемизмов: это такие косвенные номинации,
которые смягчают негативные оценочные коннотации лексического значения
[СЛТ, с. 321; 178, с. 3; 38]. Эвфемизмы, как и сокращения, выступают в качестве
одного из источников синонимии [402, с. 207].
В политическом дискурсе, в отличие от других сфер коммуникации, эвфемизмы, точнее политические эвфемизмы, отличает, по мнению Е.И. Шейгал, референциальное манипулирование, под которым понимается искажение «образа
денотата/референта в процессе обозначения действительности» [376, с. 173]. Ученые подчеркивают, что именно политические эвфемизмы выступают одним из
ведущих средств политической риторики: политического манипулирования, интенциональная основа которого заключается в некритическом восприятии «информации адресатом» [121, с. 12].
Основные языковые средства манипулирования в целом универсальны и характерны практически для любого национально-политического дискурса, в меж-
78
культурном политическом дискурсе при использовании одного языка общения
для передачи эвфемизмов национальных дискурсов, нередко выявляется дисбаланс, обусловленный концептуальной деривацией, которая актуализируется на
вербальном уровне.
Выделяя наиболее важные характеристики данной группы лексических единиц, во-первых, следует особо подчеркнуть, что основой формирования мелиоративных обозначений негативных феноменов выступают когнитивные процессы, в
частности, концептуальная деривация, в результате которой концепты подвергаются переосмыслению, их соотносят с другими денотатами, способствуя аксиологическому варьированию. Концептуализация, подчеркивает Р.В. Лэнекер, характерна для «любого аспекта человеческого опыта, включая понимание природного,
лингвистического, социального и культурного контекстов» [237, с. 15]. В исследованиях по когнитивной лингвистике подчеркивается, что в парадигме когнитивного подхода концептуальная деривация представлена семантической эвфемизацией («модель изменения определенного концептуального содержания») или
формальной, не влияющей на концептуальное содержание [50, с. 5; с. 6]. Отсюда
следует, что при реконструкции концептов переформируется картина политического мира, искажающая в той или иной степени действительность.
Во-вторых, вариативность семантической структуры номинации, ее лексического значения обусловлена концептуальной деривацией, влияющей на положительные коннотации, которые «стираются», превращаясь в отдельных случаях в
свою противоположность. Подмена денотатов при формировании политического
эвфемизма способствует актуализации именно того аспекта информации, который
необходим для достижения пропагандистского эффекта в соответствии с целями
политического деятеля, автора или редакции. Этот феномен характерен для любой идеологии, поэтому в политическом лексиконе эвфемизмы занимают одно из
ведущих мест, подчеркивают отечественные ученые [206] и зарубежные лингвисты: «Выбор слова – это идеологическое действие говорящего: миротворцы
(peacekeepers) или армии (armies) [439, c. 30].
79
Уровень когнитивной компетенции влияет на восприятие информации и на
актуализацию информации или дезинформации, именно языковая личность выбирает средство вербального обозначения, модифицируя его в соответствии с
коммуникативными целями. Как подчеркивает Р. Лэнекер, «семантика основывается на способности человека описывать, «толковать» (construe) одну и ту же ситуацию по-разному. Значения языковых выражений представляют собой функцию
как от вызываемого в сознании концептуального содержания (content), так и от
толкования (construal), которое накладывается на это содержание» [237, с. 15].
Понимание механизма формирования смыслов как определенных концептуальных схем и моделей интерпретации информации, позволяет политикам, журналистам при вербализации «включать» («задействовать») необходимые аксиологические характеристики актуализируемых концептов. Политические эвфемизмы, таким образом, формируются в процессе преднамеренного варьирования концептуального содержания и, как результат этого, оценочной составляющей идеологически и социально значимых понятий и явлений.
В-третьих, эвфемизмы отличаются «исторической привязкой», они проявляют свои камуфлирующие свойства в рамках определенного социальнополитического и экономического периода [502]. «Новые эвфемизмы появляются
практически ежедневно, при этом они нередко оказываются окказионализмами»,
словом на один день. Другие остаются надолго», как объясняет Х. Росон. “Euphemisms are in a constant state of flux. New ones are created almost daily. Many of them
prove to be nonce terms – one day wonders that are never repeated. Of those that are
ratified through reuse as true euphemisms, some may last for generation, even centuries” [481, с. 4]. Как показывает практика общения, подчеркивает лингвист, «плохое значение или негативные ассоциации слова вытесняют хорошее значение».
“In the field of language, on the same principle, “bad” meanings or associations of
words tend to drive competing “good” meanings out of circulation”. Слова coition,
copulation, intercourse означали когда-то coming together, coupling, communication;
использование их в качестве эвфемизмов вытеснило исходные значения и доминанта в современном английском – это sex» [481, c. 4].
80
В-четвертых, эвфемизмы и дисфемизмы отличаются нестабильностью, как и
термины, они могут «потерять» свой особый статус и перейти в состав общеязыкового фонда, первоначально фиксируясь в специальных словарях, например, A
Dictionary of Euphemisms and Other Doubletalk [Dict.Doubletalk], Safire‟s Political
Dictionary [Safire‟s Pol.Dict]. Частотные номинации кодифицируются в толковых
словарях, что подтверждает вариативность их статуса в системе: из феномена речи они превращаются в феномен языка; при этом наблюдается определенное
«стирание» оценочности, «оживление» которой требует дополнительных средств.
В речевой практике формируются новые номинации, скрывающие нежелательные
или актуализирующие желательные аксиологические характеристики, что говорит
о динамичности языковой системы, постоянном обновлении ее состава.
Так, одним из универсальных примеров оппозиции «эвфемизм :: дисфемизм», характерным для практически любого национально-политического дискурса, выступает agent :: spy («агент :: шпион»), причем в специализированных
словарях один концепт объективируется через другой:
“agent: а spy who is on your side, an operative, or source of information. The desirable attributes of an agent, as viewed by the CIA, were summarized in a cable, sent to
Congo in 1960, when plans were being made to assassinate Prime Minister Patrice Lumumba. The cable commended a particular agent: “He is indeed aware of the precepts
of right and wrong, but he is given an assignment which may be morally wrong in the
eyes of the world, but necessary because his case officer ordered him to carry it out,
then it is right, and he will dutifully undertake appropriate action for its execution without pangs of conscience. In a word, he can rationalize all actions. (Senate Intelligence
Committee report on American assassination plot against foreign leaders, 11/75)”
[Dict.Doubletalk, c. 16–17].
Вышеприведенный фрагмент реконструирует концепт AGENT, репрезентируемый словом agent в дискурсе ЦРУ, где положительно оцениваются не универсальные моральные принципы (may be morally wrong in the eyes of the world), но
выполнение приказов, которым необходимо подчиняться без каких-либо угрызений совести (without pangs of conscience).
81
Выбор иллюстративного примера в словаре определяется политикой издательства, которая, как правило, соответствует национальной политике, так идеологически обусловленный пример в статье spy, актуализируя пейоративность лексемы, способствует и негативной стереотипизации российской политики (spied for
Moscow): “spy: 1. a person whose job is to find out secret information about another
country organization; 2. someone who spies for a country or organization tries to find
out secret information. He spied for Moscow while serving as a senior officer in British
intelligence” [BBC Dict, c. 1093].
Соответственно, картина политического мира, формируемая политиками, отражает не столько человеческие ценности, сколько политические амбиции, скрытые за косвенными номинациями, политическими эвфемизмами, импликации которых, как правило, сложно понять читателю. Л.П. Крысин, анализируя политический лексикон русских СМИ, отмечает, что манипулятивность эвфемизмов в политике носит «камуфлирующий» характер [203], что свойственно политическому
лексикону любой лингвокультуры. «Вуалирование» негативных коннотаций косвенными номинациями создает искаженную (относительно реальности) картину
мира, способствуя реализации установок власти и формированию требуемой картины политического мира. Политики и журналисты пытаются приукрасить негативные события своей лингвокультуры, реалии своей партии, своего политического течения, описывая оппозицию (чужие) или инолингвокультуру прямыми номинациями.
Подчеркивание чужих недостатков – один из ведущих приемов идеологического воздействия, способствующий созданию и закреплению соответствующего
стереотипа. Это проявляется при описании иной концепции, и сопоставление политических лексических номинаций одного и того же события в изданиях разных
направлений выявляет идеологически обусловленные варианты: политический
эвфемизм :: дисфемизм (прямая номинация).
Особым проявлением эвфемии считается использование неоскорбительных
вербальных средств, politically correct, как принято говорить в зарубежной политике и политической лингвистике с 1980–90х гг.: “politically correct (1980s) adj ~
82
not offensive language or behaviour, esp. to people who have often been affected by
discrimination (=unfair treatment)” [MED, c. 1090].
Данное понятие существовало уже достаточно давно, само словосочетание
politically correct, по данным К. Аллана и K. Бѐрриджа, впервые было использовано еще в 1793 г., но актуальным в американском политическом дискурсе стало с
конца 1960-х [399, c. 91].
Политкорректность связывают нередко со всем плохим, что есть на Западе,
где также много критики в развитии «коллективизма» в ущерб «индивидуальности». Известный переводчик П.Р. Палажченко объясняет это так: «У нас политкорректностью называют все, что нам не нравится в американском обществе.
Быть политически корректным – значит быть просто внимательным к общественному использованию тех или иных языковых средств. Конечно, некоторые перехлесты с политической корректностью в США есть. Но я не думаю, что это такая
же смирительная рубашка для американцев, как наш советский тоталитаризм. Политкорректность – это просто баланс между недопустимостью оскорблять какието слои населения и необходимостью говорить открыто. Но они сами видят эту
опасность: чрезмерная корректность может привести к нарушению главного
условия существования демократического общества – возможности вскрывать
противоречия» [270].
В работах М.Ю. Палажченко различаются политически корректные номинации и так называемые «псевдополиткорректные»: «Когда американцы говорят,
что их военные попадают в цель (service a target), следует понимать, что на самом
деле они в очередной раз сбрасывают бомбы или направляют ракеты на иракские
города» [269, с. 82].
Представляется логичным подход зарубежных исследователей, в котором
разграничены политические эвфемизмы, политически корректные номинации и
«даблспик»: Д. Лайт [453], Дж. Еспозито [425], Ф. Катамбы [448, с. 186–187] и
В. Лутц [456]. Встречаются, однако, исследования, где все политические эвфемизмы соотносятся с политкорректными, с чем сложно согласиться. В данной ситуации следует прислушаться к П.Р. Палажченко, официальному переводчику вы-
83
сокопоставленных лиц: «В качестве общего принципа политической корректности
можно сказать так: нужно избегать любых слов и высказываний, которые могут
задеть …меньшинство (за исключением явно экстремистских) – политическое,
расовое, сексуальное» [Несист.Словарь, с. 219].
Убедительной иллюстрацией высказанного П.Р. Палажченко мнения выступают действия редакции ВВС в ответ на ситуацию, вызвавшую массу негодования. Известный гость программы ВВС был вынужден извиниться за «шутливое
Paki» (сказанное об участнике индийского происхождения): “The BBC rushed out
a statement from Forsyth saying „in no way‟ was the use of abusive words condoned.
The use of racially offensive language is never either funny or acceptable,‟ it read.
„Whilst I accept that we live in a world of extraordinary political correctness, we should
keep things in perspective‟” [Metro Oct. 09, 2009, с. 9].
Таким образом, политкорректность – это тактика избегания оскорбительных
имен этнических групп, субкультур и пр. номинаций, не унижая чувства человека,
не принижая никакие социальные группы [439].
Синонимичен терминам «политический эвфемизм» и «даблспик» термин
spin: «не то, чтобы ложь, но как бы и не совсем правда», что подразумевает перефразирование прямых негативных номинаций: “L-word” (lie) заменяется на
misspoke, misstated, stretched the truth [459, c. 130–131]. В словаре не всегда отмечена оценочность лексемы, но в политическом дискурсе коннотации неизбежно
актуализируются в соответствии с коммуникативными интенциями, определяемыми языковой личностью, диктатурой власти и т.п. Одного и того же человека в
контексте описания международного терроризма в идеологически антагонистических источниках репрезентируют как а liberator, а freedom-fighter или а holy
warrior.
В словаре The Official Politically Correct Dictionary & Handbook представлены
примеры модификации аксиологической составляющей пейоративных феноменов: новый концепт репрезентируется соответствующей мелиоративной номинацией, заменяющей прямое обозначение пейоративной окраски. В словосочетании
good-neighbor policy определение good-neighbor скрывает истинный смысл вер-
84
бально репрезентируемого политического концепта INVASION: good-neighbor
policy = invading a neighboring country. Положительная оценочность словосочетаний air support (вместо bombing) и aggressive defense (= getting rid of people, especially leaders of foreign countries, and especially by murder) эксплицируется словами
support и defense [Beard PC].
Политические эвфемизмы или «даблспик»» представляют собой неотъемлемый компонент любого политического дискурса. В целом, примеры вуалирования
негативных идеологизированных явлений в разных лингвокультурах аналогичны.
Общая стратегия формирования политического эвфемизма, как отмечено выше,
выделение «положительности». Так, «сокращение кадров и закрытие предприятий» может быть названо оптимизация или модернизация или социальное планирование, «ухудшение финансового положения пенсионеров» – пенсионная реформа, французский политический дискурс в данной ситуации ничем не отличается от отечественного: Plan social (redundancy plan resulting from factory closures):
job losses, not to be confused with organisation of social life, bars, clubs etc.
Modernisation de l‟action publique (modernisation of public action): eliminating
public-sector inefficiencies, elsewhere known as budget cuts.
Nécessité d‟équilibrer financièrement les retraites (Need to balance pension
funds): reform looms again [French doublespeak // Economist Jan. 12, 2013].
Вышеприведенные примеры решения социальных проблем в определенном
смысле подтверждают межкультурность политического дискурса в глобальном
коммуникативном пространстве. Политические эвфемизмы «обновляются» практически постоянно, поскольку при частотном использовании они реализуются как
дисфемизмы, поэтому политики и чиновники изобретают новые номинации.
Например, концепт INVALID представлен лексическими единицами cripple и
invalid аксиологически пейоративными, заменившая их косвенная номинация
handicapped постепенно утратила смягченность коннотативной окраски, и было
образовано слово disabled, которое заменили на people with disabilities, в последующих
публикациях предпочтение отдали номинациям people with physical
disabilities или impaired people.
85
Вербализация концепта POOR (о социальной группе) постоянно модифицируется: «нейтральность», завуалированность номинации стирается, и каждое последующее обозначение выделяет другой аспект, на первый взгляд, не отличающийся пейоративностью, которая, однако, сохраняется на глубинно-когнитивном
уровне: disadvantaged underprivileged underclass low income [Safire PolDict
2008, c. 186].
Аксиологичность универсального концепта MURDER пейоративна, но его
значимость для политического дискурса требует постоянного обновления эвфемистических перифраз: termination with extreme prejudice; alter the health of; kill =
render nonviable; arbitrarily deprive of life; neutralize [Beard РС].
В зарубежной лингвистике используется также термин code word – синоним
терминов «политический эвфемизм» и «даблспик» – лексическая единица с «закодированной», скрытой информацией: particular phrases, innocuous in themselves,
transmit hidden meanings [Safire‟s Pol.Dict., c. 133].
Язык кода популярен в шпионаже/разведке, позволяя смещать акценты, при
этом часть его становится общедоступной, он используется в литературе:
“Robert was sent to the Farm, the CIA training ground for Secret Service agents.
The jargon taught at the Farm was a language unto itself. The phrase to demote maximally means to purge by killing. So does the word terminate. If you‟re asked to „fumigate‟ an office, you won‟t be looking for termites, you‟ll be looking for listening devices. „Ladies‟ is a euphemism for females sent to compromise the opposition. A „legend‟
is a biography of a spy that is faked to provide him with a cover. „Going private‟ means
„leaving the service‟. There‟s the term measles. If a target dies of measles, it means he
was murdered so efficiently that death appeared to be accidental or due to natural causes. Some of you will be operated „naked‟. Don‟t rush to take off your clothes; it means
that you‟re alone and without any assistance” [Doomsday, c. 109–110].
В вышеприведенном примере вербальные коды графически маркированы
курсивом/кавычками и эксплицированы дефинициями, позволяющими понять
тайный язык, делая его доступным читателю. Как следует из данного фрагмента,
грань между кодом криминального дискурса и политического достаточно подвиж-
86
на. Способствуют смещению акцентов и формированию иного концепта в речевой
деятельности такие средства как перифраз и генерализация – популярные способы
образования непрямых номинаций.
В институциональном политическом дискурсе, в отличие от массового политического дискурса, истинные значения скрываются, что обусловлено задачами
сохранения или достижения власти. Так, прямая номинация the war on militant
Islam недопустима в политической риторике, поскольку война с религией, даже
воинствующей, неизбежно вызовет волну недовольства многих слоев населения.
Соответственно, политики говорят о войне с терроризмом, war on terror: двусмысленность данной фразы скрыта от массового читателя. На первый взгляд,
«война с терроризмом» соответствует интересам социума, способствует регулированию его жизни, что особенно очевидно после крупных террористических актов. Далеко не каждый человек осознает при этом, что «война» в любом случае
означает гибель мирных граждан.
Справедливости ради следует подчеркнуть, что в данном случае генерализация, способствуя созданию нового концепта, несет определенное положительное
воздействие: стереотип «ислам – это терроризм» закрепился в обществе, но не все
представители ислама террористы. Есть другие религиозные направления, традиционное одеяние которых похоже на исламское, что неоднократно провоцировало
нападения и убийства. Доказательство этому недавние события в США, когда во
время религиозной церемонии были убиты сикхи, традиционное одеяние которых
похоже на одеяние мусульман.
В межкультурном политическом дискурсе эвфемистические номинации, характерные для какого-либо национального дискурса, могут быть выражены дисфемизмами, что, возможно, объясняется авторским отношением к описываемым
событиям, несогласием с политическими действиями власти данной страны, а
также необходимостью реализации принципа доступности информации при ориентации на массовую читательскую аудиторию.
Так, в британском еженедельнике, в статье о событиях в Китае используется
официальный эвфемизм invited guests, эксплицируемый политическим
дисфе-
87
мизмом dissidents: Under pressure from foreign television networks, the government
has reversed its ban on live broadcasts by the foreign media from Tiananmen Square,
the city‟s most sensitive site. But is insisting on limited hours and no invited guests –
i.e. no dissidents [Economist July 19, 2008, c. 56].
Эвфемизации способствуют сокращения: варьирование формы формально
актуализирует новое понятие, скрывая истину: special area (= special area for the
poor). «Плохие слова не такие плохие при сокращении» (Bad words are not so bad
when abbreviated) [481, с. 8]. Инициальные сокращения кажутся не очень опасными и более вежливыми (seem less dangerous or impolite): KIA (killed in action), big C
(cancer); эллипсис переносит прямое значение фразы на элемент, напрямую не
указывая на референт (transfers the meaning of the phrase onto another word not directly associated with the avoidable subject), способствуя камуфляжу: action (military
action), intercourse (sexual intercourse), remains (mortal remains) [506, c. 773].
Суммируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что одним из важных секторов вербального пространства политического дискурса, являются политические
эвфемизмы, расплывчатость которых выступает эффективным вербальным средством формирования такой национально-политической картины мира, которая соответствует задачам политики власти. Сущность эвфемизмов наиболее ярко проявляется при языковых контактах лингвокультур, отличающихся несовпадающими идеологическими воззрениями.
В отличие от эвфемизмов, предназначение дисфемизмов в раскрытии истинного концептуального содержания какого-либо феномена, отсюда следует, что
используемый в контексте одного национально-политического дискурса эвфемизм превращается в дисфемизм в контексте другого.
Суммируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что вербальное пространство политического дискурса включает в качестве ядра политические термины,
которые представлены как однословными номинациями, так и словосочетаниями,
что предопределяет образование политических сокращений для реализации принципа экономии. Политический лексикон представляет собой подвижную сферу,
элементы которой переходят в состав общеязыкового фонда, теряя свою термино-
88
логическую понятийность. Вариативность семантики политического лексикона
обусловлена, в первую очередь, концептуальной деривацией, в процессе которой
актуализируются новые смыслы, требующие отражения на вербальном уровне.
Отсюда следует, что язык как единое средство общения в межкультурном
политическом дискурсе, соединяющем различные национальные дискурсы, неизбежно адаптируется, реализуя функцию отражения специфики контактирующих
дискурсов, точнее картин политического мира. Формирование средств номинации
в межкультурном политическом дискурсе основано на концептуальной деривации, в процессе которой инолингвокультурный концепт подвергается реконцептуализации сквозь призму другой концептуальной системы, данный процесс
назван в исследовании вторичной культурной концептуализацией. Следует особо
подчеркнуть, что концептуальная асимметрия политического лексикона проявляется и в национальном контексте: представители различных партий, слоев населения, используя одинаковые лексические единицы, вкладывают в одну и ту же
«форму» другое «содержание», т.е. наполняют ее разными концептуальными
смыслами, что приводят к коммуникативному дисбалансу. Соответственно, в
межкультурном политическом дискурсе коммуникативный дисбаланс усиливается вследствие разных политических картин мира контактирующих лингвокультур.
«Прозрачность» общения в политическом дискурсе обеспечивается актуализацией концептуальной вариативности и/или оценочности в лексических средствах, что, в свою очередь, требует адаптации языка коммуникации для реализации функции межкультурного общения.
1.4 Языковые особенности российского политического дискурса
Исследование специфики передачи средствами английского языка российского политического лексикона невозможно без выделения характеристик источника его формирования; поэтому задачей данного параграфа является обобщение
основных закономерностей политического русского языка периода XIX–XXI веков. Как отмечает Е.С. Яковлева, «апелляция к каким-либо данным истории и
89
культуры носителей языка при описании современного словоупотребления становится необходимой и даже неизбежной, если исследователь изучает слова, соотносящиеся с «мировоззренческими концептами» (выражение Н.Д. Арутюновой)»
[393, c. 12]. Анализ терминологии и лексики сферы «политика» возвращает нас в
прошлое, «оживляя» «культурную память», заключенную в слове.
Российский политический дискурс сформирован, как общеизвестно, политическими течениями XIX века, в частности, Великой французской революцией и
немецкой идеологией марксизма, позднее переосмысленными под влиянием советской идеологии, и реформирующимися после 1991 года (распад СССР). Основные политические концепты представлены политическими и философскими
универсалиями, которые актуализированы во всех развитых лингвокультурах:
КЛАСС/CLASS, ДЕМОКРАТИЯ/DEMOCRACY, КОММУНИЗМ/ COMMUNISM,
АРМИЯ/ARMY. Этимологической основой репрезентирующих концепты терминов являются латинские и греческие источники, что объясняет значительное количество универсалий в языке политики: класс, демократия, коммунизм, армия и
class, democracy, communism, army. Сопоставление тождественных по форме терминов, функционирующих в разных идеологиях, показывает, что они отличаются
идеологически обусловленной концептуальной асимметрией, поскольку каждый
термин подвергается концептуальной деривации в условиях конкретного социума
и исторического контекста. Результатом данного процесса нередко выступает
идеологически обусловленная аберрация, что отмечалось в трудах ученых [204;
499], филологов [450] и писателей [471; 472].
Вербальное пространство российского политического дискурса включает как
узкоспециальные номинации (термины), так и политическую и/или политизированную лексику, отражающую разные периоды его формирования, главным образом, начиная с XIX века, периода интенсивной «европеизации». Россия перенимала европейские традиции и политические идеалы равенства, братства и свободы
Великой французской революции, заложившей начало идеологии как одному из
средств формирования государства [298]. Таким образом, французский язык выступал донором, способствующим появлению слов латинского или греческого
90
происхождения в русском языке: коммуна: «Парижская коммуна» (первая пролетарская революция), экспроприация и т.п. Идеологизировались так называемые
«социальные слова»: антагонизм (спор), непримиримая борьба [СИС, c. 42]; коммуна, Парижская коммуна, первая пролетарская революция, коллектив лиц, объединившихся для совместной жизни [СИС, c. 246]; пролетариат (наемные рабочие), передовой и революционный класс буржуазного общества [СИС, c. 412];
экспроприация, национализация частнокапиталистической собственности в результате социалистической революции [СИС 1988, c. 589] и др. Из французского
языка заимствованы термины агрессивный <фр. agressif <лaт [СИС, с. 16], солидарность <фр.solidarité [СИС, c. 474]; блок <фр. bloc объединение государств
[СИС, c. 85], но омоним английского происхождения к политике отношения не
имеет: блок – часть подъемного механизма [<англ. bloc, c. 85].
Практика террора Французской революции (1793–94) повлияла и на советскую идеологию: казни (чистки) выступали как «меры по оздоровлению общества», идеологизировалась военная терминология. Сравните: трибунал <лат.
tribunal чрезвычайный суд, революционный трибунал французской буржуазной
революции и в первые годы Советской власти; военный трибунал [СИС, c. 518].
Во второй половине XIX века большое влияние на развитие политической
мысли оказала идеология марксизма, из немецкого языка заимствованы термины
диктат <Diktat [СИС, c. 168], блицкриг <Blitzkrieg [СИС, c. 85] и пр. Идеологизировались прилагательные: слово красные закрепилось как обозначение представителей революционного крыла, а белые – реакционного, так формировались политические концепты отечественной идеологии. После революции 1917 года концепт КРАСНЫЙ был переосмыслен и актуализировал понятие «революционная
деятельность большевиков». Концептуальная деривация в дискурсивной практике
способствовала расширению его концептуального содержания: посредством метонимического переноса политическое прилагательное «красный» было субстантивировано и кодифицировано в значении «военный в Красной Армии». Аналогичные процессы характерны и для концепта БЕЛЫЙ: (1) «контрреволюционный,
против Советской власти» и (2) «военный в Белой Армии». Прагматическая адап-
91
тация для реализации принципа экономии способствовала сокращению производных словосочетаний с названными компонентами: гвардеец Красной Армии –
красногвардеец, белый эмигрант – белоэмигрант.
Перелом 1917 года привел к созданию новой цивилизации – коммунистической, центром которой стала Россия, позднее, Советский Союз, и такой резкий
переход потребовал идеологизации всех сфер жизни: культура и искусство, образование и наука и пр. практически превратились в атрибуты пропагандистской
кампании по воспитанию «нового советского человека», противостоящего влиянию буржуазной идеологии. Распространению коммунистической идеологии в
России способствовал менталитет русского народа: людям, привыкшим «к гнету и
несправедливости, демократия представлялась чем-то определенным и простым,
она должна принести великие блага» [40, с. 191]. В исторических и культурологических исследованиях обосновывается закономерность тоталитаризма в России:
«Многие явления истории русской культуры многовековой давности прямо или
косвенно предвосхищают тоталитаризм… Здесь и феномен русской общины, и
русское самодержавие, и многомерное явление крепостничества в России, и фанатизм революционеров-террористов, и борьба с инакомыслием, и традиции общинного коллективизма, с его
патриархальным «мы» в противопоставлении
«враждебному «они» [189, с. 34].
Таким образом, советская политическая картина мира периода ее становления объективировалась универсальными политическими концептами, а также и
специальными идеологизированными концептами, модифицированными в соответствии с социалистической идеологией, в том числе национальными политическими концептами. Концептуальная система данного периода представляет собой
совокупность ментальных представлений о власти, ее идеологии, способствующей регулированию жизнедеятельности общества на основе идей русского Просвещения, немецкой марксистской идеологии и Французской революции, обобщенных В.И. Лениным. Вербальная репрезентация концептуальной системы
представлена в партийных документах, художественной литературе, публицистике; кодифицирована в лексикографических изданиях разного рода, материалах
92
партийных съездов, учебниках по истории партии периода конец XIX в. – начало
ХХ в.
Официально советский период российской истории начинается с победы революции 1917 г. и заканчивается образованием СНГ (декабрь 1991 года). Хронологически он включает следующие этапы, каждый из которых отражен в той или
иной степени в лексиконе: 1) первая мировая война и гражданская война;
2) становление социалистической экономики;
3) вторая мировая война; 4) восстановление страны;
5) начало холодной войны, период сталинизма;
6) оттепель, построение первой фазы коммунизма – социализма;
7) коммунистическое строительство; 8) перестройка и распад СССР.
Национально-языковая политика в СССР в 1920-е–1930-е гг. осуществлялась
как языковое строительство: развитие языков национальных меньшинств, создание их письменности и ликвидация безграмотности, в школах ввели изучение
русского языка, что способствовало не только русификации, но и развитию билингвизма. Следует отметить, что отдельные советизмы, вошедшие в языки народов бывших союзных республик, характерны и для современной публицистики,
например, Казахстана [341].
Формирование нового мировоззрения обусловило отказ от номинаций царской России, особенно в сфере власти и администрации: «министерство» – комиссариат, «полиция» – милиция. Идеологизировались и топонимы: исторические
названия городов и улиц заменялись именами революционных деятелей: г. Куйбышев, г. Ворошиловград, улица имени Ленина. Революционизировались личные
имена:
Ким
<К(оммунистический)
и(нтернационал)
м(олодежи),
Рэм
<Р(еволюция) э(лектрификация)м(ир). Политические лозунги способствовали
формированию у людей потребности объединяться для защиты Родины: враг
народа, СССР окружен лагерем империализма и т.п.
Советский политический лексикон, как и политическая лексика в целом, отличается оценочностью и модальностью; описание терминологического аппарата,
какой-либо идеологической концепции всегда включало такие оценочные эпите-
93
ты как научный, марксистский, что имплицировало правильный и, соответственно, характеризовалось положительным прагматическим компонентом. Естественно, что номинации, употребляемые для обозначения буржуазных концепций, эксплицитно маркированные как ненаучный, антимарксистский, буржуазный имплицировали «ложный, неправильный», эксплицировали негативные аксиологические составляющие.
Лексическим показателем значимости феномена выступает его номинативная
плотность, как было отмечено ранее. Следует уточнить вышеприведенное определение номинативной плотности применительно к политическому дискурсу: в языке советской политики, за исключением ряда терминов и номенклатурных обозначений, множество лексических единиц представлены не одним словом, а словосочетаниями. Одним из ярких примеров является номинативная плотность имени В.И. Сталина, концептуальная деривация которого способствовала формированию ряда метафорических обозначений: отец (всех народов), старший брат,
горный орел. Оценочные характеристики метафоры выражали идеологические
воззрения говорящего; так вышеперечисленным номинациям позитивной аксиологичности противостояли метафоры, популярные в Гулаге и среди диссидентов.
Например, неофициальные эпитеты Сталина: лучший «друг» (всегда в кавычках!)
заключенных и лучший друг (без кавычек) чекистов [Gulag Handbook, с. 428]. Политическая метафора выступала сильнейшим средством борьбы с идейными врагами [30], что очевидно и в современном дискурсе.
Сталинские репрессии описывались пропагандой как борьба против врагов,
формированию советской ментальности способствовала эвфемизация. Задача
подчинения народа реализовывалась концептом ВРАГ: внутренние и внешние
враги, борьбе с которыми способствовали так называемые Московские процессы,
организованные по разнарядке. Тайная полиция (НКВД, ГПУ) действовала по указанию о борьбе с врагами народа, что означало арест; террор осуществлялся подавлением национального сопротивления: массовых казней, чисток. Публично о
терроре не говорилось, в учебниках истории КПСС не упоминалось ни о красном
терроре, ни о голоде, ни о Гулаге и пр. Воздействие пропаганды способствовало
94
тому, что сталинские репрессии воспринимались частью населения как объективная необходимость для борьбы с внутренними и внешними врагами; свобода слова
рассматривалось как диссидентство, инакомыслие, что считалось преступлением
против народа.
Концепт МИР создавал имидж миролюбивого государства и актуализировался в языковой картине мира в политизированных словосочетаниях с компонентом
«мир»: миролюбивый, борьба за мир, борец за мир, мирная политика, мирные люди, что подчеркивало неагрессивный характер внешней политики государства.
С другой стороны формировался концепт ОБОРОНА: Мы – мирные люди, но
наш бронепоезд стоит на запасном пути; (лозунг) Готов к труду и обороне.
Словосочетания типа «военно-патриотическое воспитание» способствовали мелиорации значения лексической единицы военный при ее сочетаемости с номинацией патриотический.
Как общеизвестно, отражением и закреплением политической картины мира,
объективным критерием фиксации значения лексической единицы является лексикографическая практика, и в советский период словари и справочные издания
закрепляли идеологически оценочные толкования в духе марксизма-ленинизма,
воздействуя на ментальность советского народа.
Следует подчеркнуть, что советская идеология оказывала значимое воздействие и на политику стран социалистического лагеря, партийная структура и институты власти в которых соответствовали советской модели; советская терминология закреплялась в языках этих стран.
Политические концепты, иначе говоря, ментальные конструкты картины политического мира последовательно связаны и взаимно обусловлены. Политические концепты советского периода представляют собой единое целое: когнитивную матрицу «Советская идеология», составные элементы которой
фреймы
народ и интеллигенция, самодержавие и революция, революция и контрреволюция
репрезентированы в языковой картине русского языка советского периода – лексиконе марксизма-ленинизма, который был официальным вербальным средством
выражения и оценки всех событий и явлений.
95
Следует признать, что идеологизация влияла практически на все сферы жизнедеятельности советского социума, в частности, на кулинарный дискурс, на первый взгляд, далекий от политики. Так, анализируя вербальный уровень «Книги о
вкусной и здоровой пище», Н.Б. Руженцева пришла к выводу о том, что в идеологизированность актуализируется в предисловии, «корпусе продуктов питания и
корпусе рецептов» и в визуальном ряде, отражающим «предпочтения сталинской
эпохи» [302, с. 181]. Ученый подчеркивает, что «основным концептом «Книги»
является ИЗОБИЛИЕ, восходящий к известному высказыванию Сталина «Жить
стало лучше, жить стало веселее» [302, с. 182].
Серьезное внимание уделялось идеологизации школы, которая как государственное учреждение, обязана была не только давать знания, но «воспитывать нового человека, активного участника строительства коммунизма». Ключевые концепты системы воспитания и образования масс формировались идеологий и актуализировались в лозунгах и призывах, агитационной работой в массах (агитпоезд,
агитки и т.п.): Пролетарии всех стран, соединяйтесь! (объединение народных
масс); Каждому – по труду; Уничтожим эксплуатацию человека человеком
(справедливость); Мы строим светлое будущее (коммунизм). Объективация концепта ТРУД словом «труд» отличается не только мелиоративностью, но и эмоциональностью (коммунистический труд, трудиться по-коммунистически, бригада
коммунистического труда).
В советской идеологии модифицировалась не только понятийная составляющая политических концептов, но и аксиологическая: термины философии марксизма на новой почве постепенно переосмысливались, объективируя иные, чем на
Западе ассоциативные связи и смыслы, подвергаясь концептуальной деривации в
концептосфере политического мира российской лингвокультуры. Например, в советской идеологии концепт ПРОЛЕТАРИАТ отличался положительной оценочностью и эмоциональностью: единственный класс способный воплотить мечту и
построить светлое будущее. В государстве, строящем «светлое будущее», все
сложности действительности являются результатом ошибок в работе государства
(«система виновата»). Негативные явления деятельности самого государственного
96
аппарата (злоупотребления, коррупция) в массовом сознании воспринимаются как
измена. Ключевые концепты советской идеологии: РЕВОЛЮЦИЯ – единственно
возможный путь достижения идеалов (земля и воля), ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА; ПАТРИОТИЗМ (который противопоставлялся космополитизму) и
КОММУНИЗМ. Концепт КОММУНИЗМ ассоциировался с «изобилием и благоденствием в братском единстве и без государственной власти», что абсолютно соответствовало русской ментальности, истоки которой – община или «коммуна».
Советский авторитаризм был выражением и продолжением политики, направленной на индустриализацию страны, и в этом отношении отвечал исторической
необходимости. Эту новую форму организации политической власти, сложившуюся в нашей стране в 1930-е гг., часто называют тоталитаризмом, явлением исключительно XX-го века. Для того чтобы возник и существовал тоталитаризм,
нужен был не только вождь, но и масса индивидов, обладающих верой в абсолютную власть над собой и другими людьми: «Мы покоряем пространство и
время, мы – молодые хозяева земли!».
Глобальные изменения концептосферы, как правило, характерны для критических периодов, революций, крушений и пр., что влияет на вариативность языковой картины мира, фиксируемой в словарях. Изменение ментальности требует
более длительного времени, что подтверждается исторической практикой советского и постсоветского периодов. Движущими причинами смены парадигм российской культуры выступают социокультурные противоречия между социальными явлениями и их оценкой разными, часто взаимоисключающими мировоззренческими позициями.
Динамичность информационного пространства русского языка, модификации
концептов, реализуемые в различных дискурсах его составляющих, предопределены не только вариативностью картины мира, но и появлением всемирной паутины, в то время как в советский период картина политического мира в нашей
стране формировалась, главным образом, партией и правительством. «Железный
занавес» препятствовал контактам с другими нациями; средства массовой информации и пропаганды формировали концепт ВРАГ: империалистические враги,
97
враги социализма, гонка вооружений в Америке (с целью нападения на СССР) и
пр. Собственные мысли в советский период не приветствовались (диссидентство), все должно было соответствовать официальной идеологии, степень воздействия которой настолько велика, что ощущается и сегодня.
Волна «разоблачений» советской идеологии после распада СССР вызвала
неоднозначное отношение населения, что очевидно и сегодня; и отечественные
ученые пытаются объективно проанализировать опыт прошлого с позиций современности. Фундаментальные исследования языковых, идеологических и социолингвистических особенностей данного периода, отражение их в лексикографических источниках вне марксистско-ленинского подхода стали возможны только в постсоветское время. Наиболее значимые работы включают социолингвистическое изучение советской прессы И.П. Лысаковой [235; 236], труды Н.А. Купиной «Тоталитарный язык: Словарь и речевые реакции» [217], А.Д. Дуличенко
«Русский язык конца ХХ столетия» [134], В.Г. Костомарова «Языковой вкус эпохи» [195], С.Г. Кара-Мурзы «Истмат и проблема восток – запад» [167] и «Манипуляция сознанием» [168], В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной «Толковый словарь
языка Совдепии» [Совдепия 1998; Совдепия 2005], Е. Пискуна «Термидор
в
СССР…» [276] и др.
В современных исследованиях концепт ЯЗЫК СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ нередко репрезентируется пейоративными номинациями тоталитарный язык, новояз,
деревянный язык и т.п., многие из которых позаимствованы из зарубежной политической лингвистики, исследующей советский политический дискурс на протяжении нескольких десятилетий. Работы советологов стали доступны российскому
читателю относительно недавно: П. Серио. «Деревянный язык, язык другого и
свой язык. Поиски настоящей речи в социалистической Европе 1980-х гг.» [313].
R. Anderson. The Casual Power of Metaphor: Cueing Democratic Identities in Russia
and Beyond [401], Г. Лассвелл «Стиль в языке политики» [223] и др.
Распад СССР отразился как на изменении геополитической ситуации, так и
на самоидентификации народа. Современное российское общество не представляет собой ментальный монолит; поколения, родившиеся после 1980-х гг., особенно
98
в 2000-х гг., читают другие книги, поэтому пословицы, цитаты и пр., традиционно
цитируемые в научных исследованиях как прецедентные, им уже непонятны. Русский язык настоящего тысячелетия представляет собой весьма неоднородное явление. Языковые характеристики политического дискурса находятся в постоянной
динамике, при этом появляются не только новообразования, но и реактивируются
отдельные советизмы, поскольку восстанавливаются и феномены, которые они
обозначают.
Как утверждает Г. Гусейнов, «политический язык на памяти одного поколения за четверть века трижды менялся. Сначала был позднесоветский политический язык, затем наступило время языка перестройки, следом язык обогатился достоянием постсоветской эпохи. Сейчас мы выходим из этой фазы, и важно понять,
как ее анализировать и понимать» [119]. Основными процессами, характерными
для языка политики постсоветского периода являются следующие:
1) переход в группу историзмов номинаций, репрезентирующих советские
структуры, организации и значимые советские феномены экономического плана:
бригада Коммунистического труда, партком, съезд КПСС, Генеральный секретарь, колхоз, совхоз, пятилетка;
2) формирование номинаций для обозначения феноменов, отражающих современную структуру государства, власти, партии и пр.: союзная республика
независимое государство, Единая Россия, силовики, теневики;
3) заимствование политических концептов, обозначаемых лексическими заимствованиями: брифинг, импичмент, инаугурация, саммит;
4) восстановление ряда историзмов-номинаций царской России: губернатор,
департамент, Дума, мэр, мэрия, собрание;
5) восстановление социальных сословий и соответствующих номинаций:
атаман, казачество, купечество;
6) переосмысление концепта ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и соответствующих номинаций: налоговая полиция, полиция, судебный
пристав, суд присяжных;
99
7) «восстановление» понятийной составляющей концептов-универсалий модификация семантики их репрезентантов в словаре: либерализм,
благотвори-
тельность, филантропия;
8) нивелирование оценочности «свойственный капитализму» при обозначении социальных пороков: проституция, наркомания;
9) восстановление или создание на заимствованной основе номинаций феноменов сферы экономики в контексте современного политического периода: акционер, бизнесмен, предприниматель, коммерсант;
10) восстановление ряда историзмов для номинации образовательных структур: гимназия, колледж, лицей, магистр;
11) заимствование концептов в результате расширения межкультурных контактов и открытости российского общества и, соответственно, их номинаций
(праймериз, грин-карта);
12) заимствование концептов, на первый взгляд, аналогичных отечественным, но отличающихся от них аксиологическной составляющей, что предопределяет образование функционально-прагматических синонимов: толерантность и
терпимость, имидж и образ;
13) деидеологизация культовых политических имен, советизмов: памятник
Ленину Вовчик [Совдепия 2005, с. 67], бригада (Коммунистического труда
бригада (организованная криминальная группа);
14) модификация эвфемизмов и дисфемизмов: «блат, взятка» = откат;
«сделать оргвыводы» (Б.Н. Ельцин) = уволить; «неработающий» = безработный; «сокращение социальных расходов» = оптимизация бюджетной сети;
«монетаризация льгот» = ухудшение материального положения;
15) восстановление советских традиций, возврат к которым обусловлен ностальгическими тенденциями, обнищанием большой части населения, увеличением социального расслоения и социальной потребностью: ГТО (Указ Путина 2014
г.), тимуровцы (с 2004 г в Клинском районе, с 2009 г. Всероссийское детскоюношеское и молодежное тимуровское движение «Тимуровцы информационного
общества»); пионерская / комсомольская молодежные организации;
100
16) так называемая «демократизация языка», обусловленная криминализацией общества: переход жаргонизмов в литературный язык (беспредел, крыша).
По мнению Л. Виссон, современный политический язык российского дискурса отличается «пересечением регистров, объединяя язык советской эпохи с новыми тенденциями, в частности, увеличением заимствований и распространением
криминального жаргона»: The mixing of registers (is) produced by the persistence of
Soviet-era language and the introduction of new influences, such as borrowings and
criminal and marketing slang [507].
Многие концепты политического дискурса были переосмыслены, что отразилось на семантике репрезентирующих их терминов. Этимологически восходящие
к греческим или латинским корням термины потеряли коммунистическую идеологизированность. Например, концепт ЛИБЕРАЛИЗМ, репрезентируемый термином
«либерализм», в советском языке политики был пейоративен. В современном политическом дискурсе дефиниция данного термина тождественна толкованию,
принятому в международной практике:
«Либерализм: «общественно-политическое течение, в центре внимания –
понятие свободы человека от социально-политических форм контроля со стороны
государства» [СРЯ ХХ 2001, c. 356].
Модифицированы и производные, в частности, термин «либерал» в советский период означал: «1. сторонник либерализма, 2. вольнодумец, 3. человек,
склонный к излишней снисходительности, занимающийся попустительством»
[СИС, c. 277]. В современном дискурсе «либерал» – это «сторонник политики либерализации общественных отношений, свободомыслящий человек (возвращение
в актив) [СРЯ ХХ 2001, с. 415].
Нейтрализация оценочности характерна и для термина «консерватизм»: в советский период, в первую очередь, актуализировалось значение «противостоящий
нововведениям». Современное словоупотребление, кодифицированное в словаре,
выделяет «приверженность к традициям, устоявшимся, надежно зарекомендовавшим себя» [СРЯ ХХ 2001, с. 375].
101
Переосмысление концепта ПРИВАТИЗАЦИЯ подтверждается кодификацией
репрезентирующей его номинации в современных словарях, отражающих реалии
нашей реальности. В русском языке советского периода дефиниция маркировала
номинацию как «буржуазное» явление, имплицируя негативную оценочность:
«приватизация < лат privatus частный; в буржуазных странах передача (продажа) принадлежащих государству предприятий, средств транспорта, жилых зданий
и т.п. в частную собственность» [СИС, c. 408].
Сравните с современным толкованием: «приватизация – это «передача государственного/муниципального
имущества
в
собственность
отдельных
лиц/коллективов за плату или безвозмездно» [СРЯ ХХ 2001, c. 622–623].
Влияние политического дискурса 1990-х годов на экономическую ситуацию
отражено в следующих номинациях, которые актуализируют экономические новшества политики власти данного периода: рыночная экономика, либерализация
(цен), индексация, приватизация, ваучеризация, «шоковая терапия, «теневая экономика».
Политическая ситуация начала XXI в., по мнению М.Н. Володиной, отражается в таких номинациях как глобализация, терроризм, коррупция («оборотни в
погонах»), олигархия, «теневая политика», конвертирование денег во власть,
бизнес-элита, «урезанная демократия» и пр., подтверждающими, что «социальная коммуникация осуществляется в языковой системе, ограниченной определенными культурно-историческими рамками» [88, c. 295]. Она называет подобные
термины «когнитивно-коммуникативными концептуальными моделями», подчеркивая, что они «представляют собой «языковой отпечаток» ментальной картины,
существующей в сознании людей, относящихся к одной социально-исторической
общности» [87, c. 190].
Результатом криминализации общества, по мнению С.Г. Воркачева, является
не только реанимация диалектных слов, что подтверждается активизацией пейоративной номинации быдло в значении народ, но и распад национальной системы
ценностей, и рост агрессивности [91].
102
Вариативность ценностной составляющей современного политического лексикона предопределена социально-исторической ситуацией. Так, «культ личности» советских вождей в период перестройки и постсоветский менялся вплоть до
полной противоположности: «свергались» памятники Ленину, Дзержинскому, переименовывались улицы и города, что официально называлось «восстановлением
исторических названий» и пр. Уничтожают памятники Ленину и в странах бывшего социалистического блока. Политические клише, прославляющие «вождя
мирового пролетариата», сменили дисфемизмы. Так, выходец из семьи репрессированных, Эрдэнийн Бат-Уул, мэр города Улан-Батор, назвал Ленина «убийцей»
[Огонек. – 2012. – № 42, с. 29].
Разрушение ценностей, политическая и экономическая неустойчивость закрепляются политиками, представителями власти в языковой картине мира, где
актуализируются «идеологические фантомы», под которыми понимаются «слова
и словосочетания с размытым значением и стереотипной позитивной или негативной коннотацией: цивилизованные страны, политика реформ, демократия, независимые СМИ, общечеловеческие ценности, новое мышление [317, c. 38].
Детерминизация политической терминологии, переход ее в другую сферу нередко осложнен «коллективной идеологической памятью». В дискурсе постсоветской России, как отмечает Н.А. Купина, «слово агент активно употребляется в
официально-деловой экономической сфере, а именно в текстах документов, отвечающих жанру гражданско-правового договора». При этом «в обыденном языковом сознании со словом агент до настоящего времени прочно связан идеологически насыщенный смысл «шпион, секретный наемный сотрудник, ставленник иностранного государства, из корысти действующий в интересах врага» [220].
Использование таких номинаций, как амбициозный, агрессивный, карьера и
пр. в современной отечественной прессе, публицистике, медиатекстах не актуализирует негативную оценочность, кодифицированную в советских словарях, однако в современных словарных изданиях это не отражено. По мнению А.Д. Шмелева последние два десятилетия отличаются стихийными изменениями в языке, актуализирующими «меняющуюся систему ценностей в языковой картине мира (и
103
не принимаются теми, кто не принимает этих изменений), тогда как целенаправленно изменить языковую концептуализацию мира удается далеко не всегда».
[379, с. 185].
Следует уточнить, что для обыденного языкового сознания молодого поколения не характерна такая коллективная идеологическая память, у них другие
ценности, они читают иные книги, смотрят другие фильмы. Если в советское время образование довольно длительный период было стабильным, то сегодня, когда
неоднократно изменялось содержание школьных программ по литературе, истории, разница между фоновыми знаниями поколений становится очевидной. Поколения разделены не только разным социальным опытом, но и разной «идеологической памятью», что препятствует эффективной коммуникации даже в пределах
одной лингвокультуры. Обращение к другому языку как средству актуализации
российского политического дискурса еще в большей степени осложняет общение.
Проблема заключается не столько в вербализации каких-либо феноменов средствами другого языка, сколько концептуальной системой данной лингвокультуры,
влияющей на семантическое содержание вербальной номинации. Именно языковая личностью определяет выбор слова, воздействуя тем самым на актуализацию
смысла высказывания (текста) и его оценочность.
С другой стороны, усиление расслоения общества, экономические проблемы,
сложная политическая ситуация в мире представляются части населения, в том
числе и молодежи, как результат смены политического курса. В прессе все чаще
появляются статьи о «советизации» современного политического дискурса: «Несмотря на тектонические сдвиги, происшедшие в российском обществе за последние 20 лет, многие инстинкты и народа, и власти, остались чисто советскими. На
самые трудные вопросы труднее всего отвечать самому В. Путину. Трудно не
только потому, что ситуация имеет многочисленные международные аспекты и
возможные финансовые последствия. Трудно еще и потому, что инициированная
самой властью патриотическая и державная политика стала доминирующей. Все
громче звучат безответственные речи о восстановлении советской империи. Но
104
проблема в том, что значительная часть населения (все еще советская по менталитету) воспринимает эти призывы вполне серьезно» [193, с. 9].
Обобщая вышесказанное, представляется важным подчеркнуть, что лексикон
современного политического дискурса в целом, как и политическая терминология
в частности, представляет собой очень неоднородное явление, отражая не только
позицию власти, но и в большей или меньшей степени точку зрения населения.
Повсеместная идеологизация всех сфер жизнедеятельности, характерная для советского периода, постепенно заменяется криминализацией общества, что предопределяет изменение политической оценки советского периода, который не
только старшему поколению, но и молодежи стал представляться обществом демократии и равных возможностей.
Несмотря на кодификацию изменения понятийного содержания отдельных
лексических единиц современными толковыми словарями, культурная память сохраняет идеологизированную оценочность таких номинаций как агрессивный,
бизнес и пр. Осмысление политического лексикона представителями различных
социальных групп или поколений нередко актуализирует разные смыслы, предопределяя семантическую аберрацию в речевой практике. Следует особо подчеркнуть, что процесс концептуального переосмысления слов абстрактной семантики, слов, воспринимаемых в советском дискурсе пейоративно, требует длительного периода времени, и закрепление модифицированных толкований в словаре,
отражающем наивную языковую картину мира, не означает одновременного отражения новых понятий в ментальности народа, что препятствует эффективности
политического дискурса.
1.5. Языковая личность в англоязычном политическом дискурсе
1.5.1 Языковые контакты и билингвизм
Обращение к английскому языку как основному средству общения в глобальном коммуникативном пространстве формально означает, что речевая дея-
105
тельность в данном случае является монолингвальной, но мультикультурной:
участники представляют разные лингвокультуры, причем среди них не обязательно присутствуют носители английского языка. Изменяющиеся социальноисторические условия в эпоху глобализация в определенной степени обусловлены
подвижностью населения, миграция которого обусловлена политическими явлениями («жертвы Холокоста», политические беженцы), экономическими (привлечение к деятельности в транснациональных корпорациях), и/или социальными
(программы «соединения семьи»).
Расширение политических, деловых и пр. контактов, несомненно, способствует и взаимодействию языков, предопределяя развитие билингвизма: уровень
формирования второго языка определяется коммуникативными потребностями
данного индивида. Глобализация обусловила и привычный подход к толкованию
понятия «двуязычия», традиционно воспринимаемого как овладение двумя языками с детства.
В отечественной лингвистике под двуязычием, в соответствии с определением Л.В. Щербы, понималось «два вида сосуществования двух языков в индивиде»
[381, c.47]. Ученый выделял два типа двуязычия в зависимости от способа изучения: в ситуации овладения языком от иностранных гувернанток, «оба языка образуют две отдельные системы ассоциаций, не имеющие между собой контакта»,
развиваются «две автономные области в мышлении» [381, c.47]. В ситуации обучения переводческим методом формируется смешанное двуязычие «два какихнибудь языка образуют в уме лишь одну систему ассоциаций» [381, с.48].
В зарубежной лингвистике взаимодействие языков обозначается термином
«языковые контакты», «предложенным Андре Мартине и введенным «в широкое
употребление Уриэлем Вайнрайхом» [357, c. 61]. По определению Э. Хаугена,
языковые контакты представляют собой «поочередное использование двух или
более языков одними и теми же лицами», которых называют носителями двух
или более языков, или д в у я з ы ч н ы м и носителями» [357, c. 61]. Следует подчеркнуть, что и отечественные, и зарубежные ученые признают языковые контакты одним из главных факторов языковой эволюции. Естественным результатом
106
таких контактов является двуязычие и/или многоязычие. Преодоление «языковых
границ» возможно «благодаря посредству многоязычных носителей», утверждает
У. Вайнрайх, подчеркивая при этом, что «случаи поразительного единообразия в
области культуры в условиях пестрого разнообразия языков служат доказательством того, что общение может преодолевать и действительно преодолевает языковые границы» [64, c. 25].
В зарубежной лингвистике билингвизм, в первую очередь, соотносили с переводческой деятельностью, которая, по мнению Ж. Мунэна, представляет собой
вид языкового контакта и одновременно явление билингвизма [253, с. 36–41].
Данная точка зрения аналогична и толкованию перевода современными отечественными учеными; в частности, Н.К. Гарбовский рассматривает перевод как
ситуацию «двуязычной коммуникации, в основе которой лежит билингвизм, т.е.
способность переводчика использовать в коммуникации два языка. Переводчик,
как и всякий билингв в ситуации коммуникации на одном из двух языков, также
испытывает на себе воздействие системы другого языка» [101, c. 315].
В современных подходах к изучению взаимодействия языков термины билингвизм или двуязычие используют в широком смысле: «допускается, что двуязычие имеет место всякий раз, когда человек переключается с одного языкового
кода на другой» [301, c. 10]. В.Ю. Розенцвейг, анализируя различные подходы к
двуязычию, пришел к выводу, что Л.В. Щерба выделил «лишь два крайних случая
разновидностей многоязычия» [301, c. 12].
Исследования языковых контактов и двуязычия представлены также в трудах
отечественных ученых В.Ю. Розенцвейга [301] и Ю.А. Жлуктенко [141], чьи выводы аналогичны выводам зарубежных научных школ. Так, одним из неизбежных
проявлений контакта двух языковых систем в процессе речевой деятельности выступает интерференция [510, с. 11], под которой понимаются «случаи отклонения
от норм данного языка», появляющиеся в речи двуязычных носителей в результате их знакомства с двумя или несколькими языками» [357, c. 62].
Интерференция на лексическом уровне «обусловлена несовпадениями в отношениях между означающими, означаемыми и знаками в разных языках. Часто
107
можно наблюдать различия ассоциативных полей лексики, несовпадения лексической сочетаемости и многое другое» [101, c. 316]. Интерференцию первоначально
в большей степени считали негативным явлением и стремились ее преодолеть:
«Разные люди с различным успехом преодолевают тенденцию к интерференции –
как автоматически, так и сознательными усилиями» [64, c. 27].
В соответствии с современными подходами к толкованию билингвизма в
широком смысле, негативное отношение к интерференции постепенно меняется:
например, лексические заимствования признаны одним из процессов обогащения
языка. Отсюда следует, что позитивным качеством лексической и/или семантической интерференции в ряде случаев выступает процесс формирования новых
внутрикультурных номинаций, путем заимствования новых инолингвокультурных единиц, появляющихся в процессе языковых контактов, способствующих реализации коммуникативных потребностей индивида XXI века.
Как следует из вышеизложенного, осмысление понятия «билингвизм» требует междисциплинарного подхода: соединения лингвистического, социолингвистического и психолингвистического направлений, а также лингводидактики. В
широком смысле толкование билингвизма отражено в специализированных словарях, фиксирующих терминологическое значение разнообразных типов двуязычия. Так, в Словаре социолингвистических терминов под билингвизмом (двуязычием) понимается «владение, наряду со своим родным языком, еще одним
языком в пределах, обеспечивающих общение с представителями другого этноса
в одной или более сферах коммуникации, а также практика использования двух
языков в одном языковом сообществе». Учитывая уровень языковой компетенции, выделяют сбалансированный (равноценный билингвизм) и несбалансированный; по социальной роли и функциональной равноправности двух языков – симметричный и асимметричный билингвизм; по преобладающим речевым навыкам
и видам речевой деятельности – пассивный и активный билингвизм [ССТ, с. 31].
Идеальный тип билингвизма, обеспечивающий эффективность общения – это
сбалансированный координативный билингвизм, который требует постоянного
контакта и языковой практики, и свойственен дипломатам, официальным пере-
108
водчикам первых лиц, журналистам-корреспондентам в зарубежных странах, переводчикам международных организаций и т.п. В определении термина «сбалансированный билингвизм», приведенном в лингвистическом словаре The Concise
Oxford Dictionary of Linguistics, выделено важнейшее качество – «контроль»: индивиды, способные в равной степени контролировать (выделено мной – Н.Ю.)
каждый язык: “Having an effectively equal control of two native languages; qualified
as full, true, ideal, or balanced bilinguals” [Linguistics, с. 38]. При ограниченных
контактах распространен доминантный билингвизм, преобладанием языковой
компетенции одного из языков, или один из них используется чаще: “Dominant
bilingualism, the language which a person has greater proficiency of or uses more
often” [Bilingualism, с. 700].
Следует подчеркнуть, что эффективное межкультурное общение обеспечивается таким видом билингвизма, который отличается усвоением второго языка на
уровне, приближенном к первому, и навыком контроля над переключением кодов
в речевой деятельности. В данном случае, как правило, речь идет о переводческом
билингвизме, т.е. употреблении «индивидуумом (группой людей) двух языков в
ходе их профессиональной деятельности в зависимости от конкретной коммуникативной ситуации» [261, с. 142].
Как представляется, именно способность контролировать использование
каждого языка, в отличие от учебного билингвизма, в котором наблюдается автоматическое переключение кодов, выделяет переводчиков как профессионалов,
способных максимально эффективно обеспечить коммуникативные потребности
настоящего тысячелетия.
Принимая во внимание практику международного сотрудничества в разных
профессиональных дискурсах, в том числе, участие в международных конференциях, публикации трудов в международных журналах, где основным средством
общения выступает английский язык, развитие билингвизма выступает одним из
важных проявлений глобализации.
Следует подчеркнуть, что в ситуациях профессионального общения на английском языке у билингвов-специалистов какой-либо сферы (но не профессио-
109
нальных переводчиков!) формируется профессиональный билингвизм, который
отличает специалистов той или иной области, как носителей, так и неносителей
английского языка.
Основываясь на приведенных выше определениях переводческого и сбалансированного билингвизма, предлагается следующее толкование данного понятия:
под профессиональным билингвизмом понимается такой уровень владения двумя (и более) языками, который позволяет языковой личности контролировать использование каждого языка, продуцировать словесные произведения и эффективно участвовать в речевой деятельности в межкультурном профессиональном общении [385]. Профессиональный билингвизм, с одной стороны, включает компоненты переводческого билингвизма, необходимые для передачи субстрата своей
культуры средствами другого языка; с другой стороны, он отличает специалиста –
профессионала высокого уровня. Именно глубокое знание какой-либо сферы деятельности позволяет специалистам-билингвам активно участвовать в глобальном
дискурсе без посредника-переводчика. Профессиональный билингвизм выступает
одним из результатов глобализации XXI века, он характерен для речевой деятельности историков, политологов, биологов, физиков, социологов и т.п., способствуя эффективному англоязычному межкультурному профессиональному дискурсу. Профессиональная речевая деятельность осуществляется индивидом, который в межкультурном общении реализуется как билингвальная языковая личность, способствуя эффективности межкультурных контактов.
Важной характеристикой билингва является его тезаурус, под которым понимается «способ организации словаря (в широком смысле) в лексиконе человека», и способ организации знаний о мире, инкорпорирующий все интеллектуальное и эмоциональное богатство реципиента» [355, с. 76], представленные в концепции
И.И. Халеевой как «тезаурус-I» и «тезаурус-II». Тезаурус-I означает
«способ формирования языкового сознания, восходящего к языковой картине мира, и тем самым напрямую связанный с ассоциативно-вербальной сетью языка»
[355, с. 76]. Тезаурус-II «соотносится собственно со знаниями о мире, не всегда
находящими непосредственную корреляцию в словарном фонде, формирующими
110
когнитивное сознание и тем самым общую картину мира на уровне концептуальной системы, как системы пресуппозиций и импликаций» [355, с. 76].
Тезаурус билингва отличается от тезауруса монолингва: «При определенных
социокультурных условиях у двуязычных носителей происходит нечто вроде слияния словарных запасов двух языков в единый фонд лексических инноваций», отмечает У. Вайнрайх [64, c.42]. Причем такое слияние может происходить неосознанно, что, как правило, характерно для билингвизма, не актуализируемого в
профессиональной деятельности.
Важно подчеркнуть также, что сбалансированный билингвизм (равноправное
владение двумя языками) отличает относительно небольшую группу профессионалов высокого уровня, поскольку при этом требуется постоянное погружение в
языковую среду каждого языка и соответствующая речевая деятельность. Доминантное воздействие первого языка закреплено на подсознательном уровне, поэтому в практике международных организаций (например, ООН) синхронный перевод, как правило, осуществляется на родной язык. Как отмечает Л. Виссон, известный переводчик-синхронист, автор ряда работ по переводу, в том числе авторизованных, она не училась в российской школе, что влияет на ее письменную
речь на русском языке, уровень которого достаточен для использования в «практических целях» (for practical purposes) [508, c. 74].
Из вышеизложенного следует, что тип билингвизма определяется по уровню
языковой компетенции и коммуникативной активности, т.е. регулярное использование «двух языков в разных сферах деятельности и жизненных ситуациях, чем
активнее общение на каждом из них, тем выше интенсивность билингвизма»,
подчеркивает Г.Н. Чиршева [365]. Языковая компетенция включает не только
языковой уровень (тезаурус-I), но и уровень когнитивного сознания (тезаурус-II);
причем оба тезауруса, по мнению И.И. Халеевой, субъективированы, поскольку
опосредуются языковой личностью [355, с. 76].
Важными качествами билингвизма выступают его динамичность, многообразие форм проявления и зависимость от социально-исторического контекста, в
111
частности, в условиях глобализации коммуникативного пространства, двуязычие,
неизбежно адаптируется к новым условиям.
Как справедливо подчеркивает С.Г. Николаев, «отношение к билингвальному
поведению в обществе будет также претерпевать известные изменения в зависимости от развития мирового сообщества и от расширения наших представлений о
билингвальных способностях индивида. При этом несомненным остается следующее: число билингвов в мире постоянно растет, а значит, билингвизм будет характерной особенностью человека общественного на протяжении всей истории
его существования, включая и грядущие века» [260, с. 95].
Таким образом, в современных научных направлениях понятие «билингвизм» трактуется в широком смысле, что не предполагает высокий уровень языковой компетенции и коммуникативной активности в каждом виде двуязычия.
Уровень владения двумя языками соотносится с уровнем языкового и когнитивного сознания (тезаурусы I и II); профессиональный билингв отличается умением
контролировать использование обоих языков в различных ситуациях общения и
коммуникативной активностью, используя оба языка в своей речевой практике.
1.5.2 Речевая деятельность и тезаурус языковой личности
Научный мир обратился к исследованию понятия «языковая личность» в парадигме антропоцентричного подхода, следуя концепции Ю.Н. Караулова, его
модели трех уровней: вербально-семантического, лингвокогнитивного и мотивационно-прагматического. В статье «Русская языковая личность и задачи ее изучения» языковая личность представлена как «совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью» [173, с. 3].
В отечественной науке изучение языковой личности находится в центре внимания ряда научных направлений, отличающихся своими подходами к выделе-
112
нию типологических характеристик личности. Практически все ученые признают,
что языковая личность может реализоваться только в дискурсе, влияющем на ее
формирование, ментальность, выбор лингвистических и прочих средств коммуникации, что и предопределяет разнообразные подходы к ее изучению.
Языковая личность может быть представлена реальной личностью, в таком
случае она «трактуется как индивидуальное использование языковых средств»,
языковая личность автора [113, с. 16]. Языковая личность может быть также
представлена «как теоретически выводимый в опоре на лингвистические процедуры конструкт, как культурно специфический когнитивно-дискурсивный инвариант, реализуемый в различных дискурсивных условиях разнообразными вариантами» [113, с. 16–17].
Для настоящего исследования значимы оба подхода: анализ языковых
средств, используемых авторами-билингвами при продуцировании англоязычного
текста, цель которого – актуализация субстрата неанглоязычной лингвокультуры,
дает возможность сделать вывод о том, какая языковая личность наиболее эффективно способствует межкультурному общению.
Выявлению многоаспектных (междисциплинарных) связей феномена «языковая личность» способствует антропоцентризм исследования с опорой на когнитивно-матричный анализ, под которым понимается система приемов, направленных на всестороннее исследование многоаспектного знания, «которое не является
ни стереотипным, ни иерархически организованным. Его цель – выявить и свести
воедино в виде когнитивной матрицы различные когнитивные контексты, в рамках которых та или иная языковая единица может получить необходимое осмысление» [48, с. 27]. Отсюда следует, что исследование способов передачи инолингвокультурного субстрата требует изучения разных уровней номинации в их взаимосвязанном единстве.
Матричный подход позволяет представить культуру как языковую матрицу,
т.е. систему «норм, установлений и способов порождения культурных смыслов в
коммуникативной практике» [171, с. 4]; развивая это положение, логично утверждать, что языковая личность в идеале является конструктом родной лингвокуль-
113
туры: ее ценностей, языковой нормы и концептуальной системы. Высказанное
мнение подтверждается М.М. Полюжиным, который выделяет «вербальносемантический уровень, предполагающий наличие знаний и навыков адекватного
владения языком» и дискурсный, подчеркивая, что «дискурсные способности когнитивного уровня отвечают за адекватное отображение в дискурсе реального или
гипотетического мира», и влияние языковой картины мира, системы представлений и ценностей [280, с. 441–442]. Данная концепция, в целом, соответствует подходу к трактовке языковой личности Ю.Н. Караулова.
Исследуя систему концептов личности, актуализуемую в дискурсе, как
утверждает В.И. Карасик, «мы приходим к характеристикам человека в языке и
дискурсивным моделям реализации концептов, анализируя дискурс, мы определяем концепты и типы личностей, проявляющиеся в этом дискурсе» [170, c. 5–6]. В
дискурсивной парадигме языковая личность понимается как «совокупность знаний и умений, которыми располагает человек для участия в дискурсе» [297, c. 67].
Каждая языковая личность характеризуется особым ценностным миром, словесные выражения которого определяют семантику общения, что подтверждает в
своем исследовании Н.А. Сидорова [315]. Важной характеристикой языковой
личности является языковое сознание, включающее аксиологическое сознание как
языковое, так и неязыковое, изучение объективации которых в научном и обиходном дискурсах позволило В.П. Синячкину сделать вывод об их тесной взаимосвязи [316].
Следует особо подчеркнуть, что собственное знание о мире человека, его
ментальность развиваются в соответствии с идеологией своего общества, что
неизбежно проявляется в его речевой деятельности, «в каждый момент» которой
индивид «выступает одновременно в трех ипостасях: как языковая личность, речевая личность и коммуникативная личность» [199, c. 50–51].
В современных условиях глобализации возрастает роль переводчика, что
предопределяет потребность в изучении языковой способности, которая, по мнению Т.Г. Пшѐнкиной, является главным системообразующим фактором перевода,
речемыслительным процессом языковой личности [293; 294]. Переводчик облада-
114
ет способностью понимать тексты, учитывая «изменения в результате обширных
заимствований и иных социальных процессов в условиях глоб-англизации (sic)»
[63, c. 3]. Многоаспектная структура языковой личности переводчика, утверждают С.А. Моисеева и Е.А. Огнева, позволяет ей реализоваться в разнообразных когнитивных контекстах глобального англоязычного дискурса, объединяющего контактирующие лингвокультуры в матрицу, в пространстве которой происходит
взаимовлияние языков, адаптация языка-посредника, модификация языковой личности-участника коммуникации [252],
Изучение фундаментальных трудов отечественных и зарубежных ученых по
формированию билингвизма и бикультуризма в условиях глобализации, а также
выводы, сделанные на основе анализа речевой деятельности билингва, репрезентированной в эмпирическом материале разных жанров, позволяет сделать следующие выводы. В ситуации межкультурного общения языковая личность приобретает новые качества, не теряя при этом связи с родной культурой, что позволяет
говорить о таком конструкте языковой личности, как «билингв-участник межкультурного общения». Тезаурус такой личности включает «культурный фонд» национальной лингвокультуры, мировой культуры и инолингвокультурные номинации, соответственно, при этом формируется и межкультурный фонд, образуемый
базовыми единицами лингвокультур, участвующих в общении.
Глобальная дискурсивная матрица, в которой реализуется речевая деятельность билингва-участника межкультурного общения, соединяет различные лингвокультуры, каждая из которых, в свою очередь, также выступает матрицей,
представляя профессиональные дискурсы – политический, экономический, юридический, медицинский и т.п.
В глобальном информационном пространстве, как было отмечено выше,
определяющее воздействие оказывает политический дискурс, матричный формат
которого способствует пересечению в нем разнообразных взаимосвязанных дискурсов. Соответственно, в политическом межкультурном дискурсе актуализируются не только политические концепты контактирующих лингвокультур, но и
концепты, формально несвязанные с политикой, однако приобретающие идеоло-
115
гизированность в определенной социально-исторической ситуации. Контактирующие концепты могут модифицироваться стихийно (экстралингвистические
условия) или преднамеренно с целью языкового манипулирования (национальноязыковая политика), а также осознанно или бессознательно под влиянием языковой личности. В межкультурном общении осмысливаются асимметричные концепты, поскольку «картина мира одной национальной языковой личности не будет конгруэнтной другой инофонной картине мира», как подчеркивает И.И. Халеева [355, с. 64]. В ситуации межкультурного общения билингв должен понимать
представителя другой лингвокультуры и уметь объяснить инокультурную специфику [355, с. 64].
Тезаурус языковой личности-участника межкультурного политического дискурса включает не только политическую лексику и терминологию, но и такие феномены, актуализирующие идеологизированный субстрат, как «прецедентные
тексты». Под прецедентными текстами, в концепции Ю.Н. Караулова понимаются
значимые в познавательном и эмоциональном отношениях тексты сверхличностного характера (известные и широкому окружению личности), к которым данная
языковая личность «обращается» неоднократно [174, с. 216].
«Неоднократное обращение» к тексту представляется важным качеством,
при этом, как представляется в данном контексте, «обращение» следует понимать
не только как включение соответствующего текста непосредственно в речевую
деятельность индивида, но и как «обращение» других индивидов в данном культурно-языковом сообществе.
Основы теории прецедентности заложены в фундаментальных исследованиях
национально-культурной специфики языковых единиц и языковой картины мира.
Например, в трудах Ю.С. Степанова «Константы. Словарь русской культуры.
Опыт исследования» [326] и «Словарь концептов» [325], В.Н. Телия «Русская
фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты» [322], Д.Б. Гудкова «Прецедентное имя и проблемы прецедентности»
[115], Г.Г. Слышкина «От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе» [318], В.В. Красных «Свой» среди «чу-
116
жих»: миф или реальность?» [199]. В.И. Карасика «Языковые ключи» [170] и др.
Обобщение системного исследования феномена представлено в коллективной
монографии «Прецедентное высказывание и прецедентное имя как символы прецедентных феноменов» [147].
Среди прецедентных феноменов различают универсальные и национальные
[116, с. 105]; основными источниками прецедентных феноменов родной лингвокультуры являются фольклор и обучающая литература, как отмечено в первом
лингвокультурологическом словаре коллектива авторов «Русское культурное
пространство» [РКП]. Ученые выделяют и такие прецедентные феномены нашей
лингвокультуры, истоки которых в зарубежных сказках, т.е. национальный фонд
включает и феномены мировой культуры, своего рода культурные универсалии.
Отечественные ученые исследуют актуализацию прецедентных феноменов
разного рода на разнообразном эмпирическом материале. Э.В. Будаев и А.П. Чудинов выявили специфику прецедентности в научных текстах [59], Е.А. Нахимова проанализировала данный вопрос в контексте массовой коммуникации [255;
256], Т.Н. Тимофеева изучала экономический дискурс [335], О.А. Ворожцова
проанализировала дискурс президентских выборов [93] и др.
Исследователи подчеркивают значимость прецедентности в концептосфере
родной лингвокультуры: «Формируя концепт, прецедентный текст непременно
должен быть вписан в контекст прочих ценностей данной культуры, обретя с ними ассоциативную связь» [318, с. 63].
В межкультурном общении без переводчика, как и в межъязыковом посредничестве, важной задачей является передача культурных смыслов прецедентных
феноменов родной лингвокультуры, что требует ответа на вопрос, как актуализируются прецедентные номинации родной лингвокультуры иноязычными средствами? Представляется логичным предположить, что, воплощаясь в форму другого языка, культурные смыслы прецедентных номинаций, особенно политической сферы, варьируются, что предопределяется не только и не столько средствами вербализации, сколько «чужой» концептуальной системой, языковой картиной мира, а также индивидуальной концептуальной системой языковой лично-
117
сти – участника политического дискурса. Эффективность речевого взаимодействия определяется степенью общности знаний, в том числе фоновых знаний, которые выступают «основой для успешного общения» [СЛТ, с. 498]. В «Словаре
социолингвистических терминов» приведена следующая обобщающая дефиниция: «фоновые знания, обоюдное знание участниками коммуникативного акта
реалий материальной жизни, ситуативных и коннотативных реалий, стоящих за
обозначающими их языковыми знаками, необходимое для адекватной и полной
интерпретации порождаемых высказываний» [СЛТ, с. 234].
Выделяя особую роль фоновых знаний «в межкультурной коммуникации,
когда участники коммуникативного акта являются носителями разных родных
языков и представителями разных культур» [СЛТ, с. 234], авторы иллюстрируют
дефиницию примером, оценочность которого не соответствует исходному, актуализируемому в британском социуме: «Напр., фраза Анна покупала одежду в
магазине «Маркс энд Спенсер» не дает большинству российских читателей никакого представления об имущественном положении Анны, поскольку они не знают, что «Маркс энд Спенсер» – это относительно дешевый магазин в Лондоне,
т.е. не обладают соответствующими фоновыми знаниями» [СЛТ, с. 234].
Следует подчеркнуть, что приведенный пример, на первый взгляд, может показаться иллюстрацией бытового дискурса, однако брэндовая одежда, как и магазины, где их продают, выступают одним из маркеров социального статуса индивида, принадлежности к соответствующему классу. В британском (и не только)
социуме популярность сети магазинов Marks and Spencer среди среднего класса
подтверждается дефиницией в англоязычном культурологическом словаре, где
подчеркивается качество одежды и доступная стоимость: Marks and Spencer, a
large British store that sells mainly clothes and food. Marks and Spencer clothes are
sold at reasonable prices (выделено мною – Н. Ю.) but are of very good quality
[Longman Culture, р. 833]. Примером сети дешевых магазинов является Woolworth’s, a large store in many US and British towns that sells many different types of
good at low price” (выделено мной – Н. Ю.) [Longman Culture, с. 1537].
118
Приведенные примеры говорит о том, что социумные коннотации прецедентных номинаций инолингвокультуры преломляются через призму другой, при
этом могут подвергаться аберрации. Естественно, что понятие «дешевый» определяется не только представлениями общества, но и индивидом, однако словарь
призван представлять типичное для данного общества толкование, коллективное
знание, предотвращая коммуникативный сбой.
Как отмечается в трудах многих отечественных ученых, одной из ведущих
функций общения является обмен и передача информации, под которой в традиционном языкознании, как отмечает Н.Ф. Алефиренко, «понимают любые сведения о фактах, событиях, процессах, содержащиеся в семантике единиц языка и
речи» [10, с. 167]. М.Н. Володина конкретизирует определение термина «информация» в когнитивно-дискурсивной парадигме: информация включает сведения,
которые являются «объектом хранения, передачи, преобразования» [86, с. 16].
Следует особо подчеркнуть, что информация является обязательным компонентом дискурса: «Любая дискурсивная деятельность облигаторно связана с ИНФОРМАЦИЕЙ (sic) – ее передачей от одного лица / коллектива другому лицу /
коллективу, ее запросом, ее обработкой и переработкой отдельной личностью или
коллективом говорящих и т.п.» [214, с. 6].
Речевое взаимодействие представляет собой двусторонний акт, который, как
отмечает Е.В. Клюев, неизменно ориентирован «на передачу или получение информации, другое дело, что информация, «перекачиваемая» подобным образом
время от времени не опознается как таковая» [181, c. 6].
Вышесказанное позволяет выделить понятие «прецедентная информация»,
под которым понимаются наиболее релевантные и значимые для эффективного
общения сведения, объективируемые в именах, текстах и т.п. данного лингвокультурного социума. Данный термин образован по аналогии с термином «фоновая информация» В.С. Виноградова: часть фоновых знаний, которая характеризует «социокультурные сведения характерные лишь для определенной нации или
национальности, освоенные массой их представителей и отраженные в языке
данной национальной общности» [79, с. 37]. Фоновая информация может быть
119
долговременной – это основа «национальной духовной культуры» и кратковременной, «которая быстро входит в употребление, но так же быстро забывается и
именно поэтому не находит отражения в словарях» [79, с. 43]. Термин «долговременная фоновая информация» соотносится с термином Д.Б. Гудкова «прецедентные феномены», под которыми понимаются «коллективные инвариантные
представления» национального уровня прецедентности» [116, с. 105–106].
В качестве «зонтикового термина» в рамках настоящего исследования вводится термин прецедентная информация инолингвокультуры, под которым понимаются актуальные и релевантные в период коммуникации сведения о феноменах
инолингвокультуры, которые актуализируются номинациями деятелей, событий,
текстов артефактов и стереотипов данной инолингвокультуры. Важным качеством прецедентной информации инолингвокультуры выступает осмысление ассоциативных связей, коннотаций и смыслов в преломлении через призму другого
мира, что может препятствовать эффективному межкультурному общению [389].
В процессе осмысления инолингвокультурной прецедентной информации в
концептуальной системе англоязычного мира, т.е. при вторичной лингвокультурной концептуализации, инолингвокультурные концепты нередко модифицируются, что, в свою очередь, предопределяет вариативность семантики вербальных репрезентантов концепта, образование новых номинаций, формирование стереотипов, влияющих на восприятие инолингвокультуры, ее ценностей [391].
Следует подчеркнуть значимость критериев актуальность и релевантность:
коммуникативно важные и частотные в межкультурном общении сведения могут
быть темпоральными, характерными для определенного периода. Динамичность
прецедентной информации проявляется в лексических инновациях, варьировании
семантики, образовании новых ассоциативных связей, отражающих социальные и
политические изменения в обществе.
Прецедентная информация инолингвокультуры изначально национально
специфична, но, осваиваясь в межкультурном коммуникативном пространстве,
она может в той или иной мере «выйти за пределы своего круга» и приобрести
универсальную значимость для мирового сообщества. Так, Библия выступает ис-
120
точником христианского учения для представителей различных лингвокультур,
которые, однако, нередко расходятся в толковании значимых положений. Универсальная прецедентная информация формируется в межкультурной речевой деятельности, динамичность ее составляющих определяется знаковостью каких-либо
номинаций в соответствующем социально-историческом контексте. Англоязычные культурологические словари включают антропонимы, топонимы, названия
литературных произведений, значимых событий, которые известны образованному индивиду. Непосредственно в речевой деятельности языковая личность может
их не использовать, но адекватно воспринимает информацию, заключенную в
данных лексических единицах при «встрече» с ними в текстах и пр. Например,
Doctor Zhivago, Mao Zedong (Chairman Mao), Tiannamen Square, the Great Wall of
China, Hiroshima, the Louvre, the Coliseum, the Nutcracker, Tschaikovsky [Longman
Culture]. В англоязычном социуме балет русского композитора П.И. Чайковского
«Щелкунчик» считается традиционным рождественским представлением, и люди
нередко воспринимают The Nutcracker как часть своей культуры.
В русскоязычном социуме известны прецедентные феномены Лувр, Шекспир, Хиросима, Титаник, обращение к которым в речевой деятельности не требует
объяснения, следует уточнить, однако, что восприятие прецедентной информации
определяется образованностью языковой личности.
Значимой прецедентной информацией обладает имя собственное в контексте
родной национальной картины мира, актуализируя как идентифицирующую
функцию, так и характеризующую, обретая значимые коннотации и дополнительные смыслы, определенный символизм. Прецедентные инолингвокультурные
имена включают онимы разного рода: имена собственные известных политиков,
деятелей культуры, топонимы, эргонимы, названия литературных произведений и
т.п. В новом коммуникативном пространстве, которым является концептосфера
англоязычного мира, ряд онимов формирует новые ассоциации и смыслы, что отражается на аксиологической характеристике номинации.
При сопоставлении имен политических деятелей китайской культуры в английском языке с их этимонами выявляется концептуальная асимметрия. Так, в
121
лингвокультурологическом словаре при описании заслуг Дэн Сяопина в развитии
экономики отмечается и его роль в жестоком разгоне демонстрации на площади
Тяньанмен: Den Xiaoping is known for starting the important changes that helped
China to develop its economy and industry. Deng was criticized for making the army
fight against political protesters in Tiananmen Square in 1989 [Longman Culture,
с. 343]. В перекрестной ссылке даны не только детали, но и эксплицитно выражена негативная оценка событий в восприятии мировой общественности (many
people were shocked): Tiannamen Square: Beijing, China. In 1989, thousands of students were involved in protests there, the Chinese Army was ordered to stop the protests
by attacking the students. These events were shown on television all over the world, and
many people were shocked by them [Longman Culture, с. 1408].
Китайские энциклопедии [Baike baidu 2010] и медиа Китая, в том числе китайская англоязычная пресса, об этих событиях не вспоминают, что говорит о
модификации аксиологических характеристик. Другой пример – передача имени
известного китайского философа: по-английски это Confucius, в редких случаях
Kung Chiu, Kung Fu-tse или Confucius the Sage [Longman Culture, с. 1408]. В то
время как в китайской лингвокультуре используется несколько вариантов, каждый из которых прецедентен: Kong Fuzi, Kong Zi, Zhongni, Zhisheng Xianshi, Kong
Shengren, Wenxuanwang, Kong Laoer, Daoqiu [392]. Передача номинаций, актуализирующих идеологизированный субстрат лингвокультуры, обусловлена их исторической, культурной, политической и т.п. значимостью на глобальном уровне;
однако, символизируя инолингвокультуру в новой среде, они могут получить новые смыслы и ассоциации, в том числе и пейоративные, способствуя негативной
стереотипизации.
Из вышесказанного следует, что формирование тезауруса билингва в процессе межкультурного общения определяется не только концептуальной системой и
языковой картиной мира родной лингвокультуры, но и теми, в контакте с которыми реализуется речевая деятельность индивида. Особой значимостью в межкультурном контексте обладает прецедентная информация, актуализируемая в
номинациях социумно-значимых феноменов. Аксиологичность номинаций, акту-
122
ализирующих прецедентную информацию инолингвокультуры, может преломляться при восприятии ее в различных лингвокультурных обществах. Языковая
личность, участвующая в межкультурном общении, должна уметь выделять возможные проблемы восприятия и предотвращать их.
1.5.3. Модификация идентичности: интерлингвокультурная
языковая личность
Выдвижение английского языка на роль основного средства общения глобального коммуникативного пространства обусловило не только потребность
трактовки новых типов билингвизма, но и изучения воздействия меняющихся социально-исторических условий на идентичность. Данная задача выдвигается как
одна из основных в различных научных направлениях, что подчеркивает необходимость междисциплинарного подхода.
Определение английского языка как глобального в определенной степени
противоречит лингвокультурологическому подходу, в частности, тезису «дух
языка есть дух народа», при этом возникает логичный вопрос, что происходит с
идентичностью пользователей данного языка в глобальном контексте. Эта проблема, несомненно, представляет интерес и для лингвистического исследования,
поскольку идентичность личности отражается в языковых средствах, используемых в речевой деятельности. Зарубежные ученые уделяют серьезное внимание
исследованию воздействия билингвизма на языковую личность, подчеркивая
неоднозначность результатов этого процесса. Так, П.С. Адлер утверждает, что в
условиях соединения разнообразных социальных, политических, экономических и
образовательных связей формируется новая личность, обозначаемая разнообразными номинациями: international (международная), intercultural (межкультурная),
transcultural (транскультурная) и multicultural (мультикультурная). Особым качеством такой личности является «выход» за пределы родной лингвокультуры, который способствует формированию нового мировоззрения, обусловленного совокупностью социальных, политических, экономических и образовательных аспек-
123
тов жизнедеятельности в современных условиях: “A new type of person whose
orientation and view of the world transcends his or her indigenous culture is developing
from the complex of social, political, economic, and educational interactions of our
time. The various conceptions of an „international‟, „transcultural‟, „multicultural‟, or
„intercultural‟ individual have each been used with varying degrees of explanatory or
descriptive utility. …they all attempt to define someone whose horizons extend significantly beyond his or her own culture” [395, с. 227].
В условиях межкультурного дискурса, языковая личность неизбежно подвергается воздействию различных лингвокультур, что предопределяет ее модификацию. Выводы о формировании новой идентичности обосновываются многими зарубежными исследователями, которые выделяют, например, «бикультурную»
(bicultural) [406] или мультикультурную (multicultural) личность [455]. Ученые
отмечают, что «единство идентичностей» наблюдается не всегда, подтверждая
данный вывод «индексом интеграции бикультурной идентичности» (Bicultural
Identity Integration) [407]. Неоднозначность данного феномена предопределяет
разницу в подходах и, соответственно, в выводах, отрицая мультикультурность
идентичности как комплексного явления, исследователи подчеркивают, что владение несколькими языками позволяет «сформировать несколько культурных
идентичностей» (several cultural identities) [415; 494].
Отечественные исследователи также приходят к выводу об изменении языковой личности в определенных условиях, например, этому способствует социализация в новой инолингвокультурной среде. Миграция населения предопределяет
лингвокультурные контакты разных этничностей по месту проживания или на работе, что также способствует формированию «гибридной культурной идентичности» [309]. Модификация личности наблюдается и под воздействием языков, которыми владеет индивид. Так, анализируя результаты ассоциативного эксперимента,
М.В. Завьялова пришла к выводу о том, что билингвизм представляет собой
«сложный механизм с особыми взаимосвязями элементов», закрепляющими пережитый опыт [142, c. 65].
124
Исследование системы мышления монолингвов и билингвов позволяет
Г.Н. Чиршевой утверждать, что «мышление билингва становится понятийно богаче», при этом билингвы обладают дополнительными ресурсами «потенциальной
вариативности, выявляющиеся в их речи» [365]. Трансформация этнокультурной
идентичности в условиях глобализации обусловлена тем, что личность «не может
базировать себя только на специфически этнических способах жизнедеятельности
и специфическом этническом языке, но являет себя как совокупность всего спектра культурных явлений, как часть множественной идентичности, где этническое
своеобразие языка сосуществует с языком всемирного общения» [319].
Опираясь на выводы зарубежных и отечественных ученых, а также опыт речевой деятельности реальных языковых личностей, в частности, деятельности переводчика и билингва-участника межкультурного общения в профессиональной
среде, представляется логичным говорить о конструкте, своего рода когнитивнодискурсивном инварианте «языковая личность-посредник межкультурного общения», который в работе назван «интерлингвокультурная языковая личность». Это
билингв-профессионал, обладающий знанием контактирующих лингвокультур,
навыками вербального кодирования и перекодирования, в том числе переводческими навыками, отличающийся интерлингвокультурной концептуальной системой, объективируемой в соответствующем тезаурусе, языковой картине мира. Закономерность модификации идентичности коммуникативно активной языковой
личности обусловлена его деятельностью, в контексте которой он заменяет прежние привычные оппозиции новыми, постоянно изменяясь и расширяя при этом
«сферы сознательного опыта» [238, с. 103].
Идея о закономерности формирования понятия «интерлингвокультурная
языковая личность» как посредника межкультурного дискурса возникла при изучении теоретических работ по когнитивной лингвистике, лингвоконцептологии,
анализу эмпирического материала и подтверждается личным опытом деятельности гида-переводчика. Основным посредником межккультурного общения в глобальном мире традиционно выступает переводчик, однако, учитывая все большую
значимость англоязычной профессиональной коммуникации в глобальном мире,
125
роль билингва-специалиста в данной ситуации ворастает. Межкультурное профессиональное общение в любой сфере, как правило, осуществляется на английском языке, который может быть родным для кого-либо из участников, или вторым/иностранным, при этом носители английского языка могут и не быть участниками такого дискурса. В данном случае в речевой деятельности языковой личности «связываются» две и более лингвокультуры, что предопределяет формирование интерлингвокультурной языковой личности. Постоянный контакт такого
индивида с другими лингвокультурами неизбежно влияет на него, способствуя
формированию интерлингвокультурной личности [385]. Речевая деятельность
такой личности обеспечивается высоким уровнем билингвизма, что позволяет
продуцировать тексты, в которых объективируется «чужая» этническая идентичность; глубина и точность описания действительности определяется во многом
коммуникативными потребностями, целевой интенцией и индивидуальной концептуальной системой автора; при этом фактически одновременно актуализируются две языковые личности: автора и переводчика.
Данный вывод опирается на концепцию И.И. Халеевой об интеркультуре, которую она называет «третьим измерением переводчика», особым качеством, умением. Ученый объясняет это измерение как навыки переключения «с родной
культуры (и языка, разумеется) на инофонную», при этом понимая, чувствуя «в
инофонной культуре иные миры», осознавая «родную культуру через призму
инофонной» [356, c. 13].
Термин «интерлингвокультура» представляется более логичным, поскольку,
во-первых, имеются в виду не только профессиональные переводчики, но и те билингвы, чья профессиональная деятельность, в том числе научная, актуализируется в глобальном дискурсе. Во-вторых, в условиях глобализма постепенно формируется и новая лингвокультура, в данном случае в круг одного языкапосредника «втягиваются» разнообразные контактирующие лингвокультуры.
Процесс образования глобальной культуры происходит в новом коммуникативном пространстве, значимая часть которого представляет виртуальный мир, в той
или иной степени отражающий действительность и влияющий на коммуникатив-
126
ные потребности социума и языковой личности, которая постепенно приобретает
мультикультурные характеристики.
В отличие от языковой личности, в чьи функции не входит участие в межкультурном общении, интерлингвокультурная языковая личность отличается особыми качествами. С одной стороны, она тесно связана с родной культурой, ее
идеологией, политической культурой и т.п., что отражается в концептуальной системе личности; с другой стороны, на индивидуальную концептуальную систему
воздействует контакт со второй лингвокультурой, влияя на изменение идентичности. Языковая личность подсознательно воспринимает концепты другой культуры
через призму своей национальной и индивидуальной концептуальной системы:
языковые структуры отражают структуру сознания, которая формируется в соответствии со своей культурой. Обобщая опыт своего народа с детства, индивид постепенно усваивает национальную языковую картину мира, при этом она динамична и реагирует на изменения окружающей действительности.
Для участника межкультурного общения особенно важно научиться понимать концептосферу инолингвокультуры, в системе, объективирующей видение
мира, т.е в языковой картине мира. Соответственно, интерлингвокультурная личность, посредник межкультурного общения, умеет контролировать не только вербальные коды, но и выявить концептуальную асимметрию, предотвращая коммуникативный сбой.
Исследование значительного корпуса эмпирического материала позволяет
сформулировать обобщающие положения о реализации адаптивной способности
языка служить средством вторичной лингвокультурной идентификации, принимая
во внимание тот факт, что объективация реальности зависит от языковой личности, формирующей номинацию. В данном случае инолингвокультурные концепты
подвергаются вторичной лингвокультурной концептуализации и репрезентируются в новом семиотическом пространстве соответствующим обозначением, аккумулирующим не только описываемую концептосферу, но и концептуальную систему
принимающего языка, а также, что немаловажно, индивидуальную концептуальную систему автора. В каждой лексической единице «отражен» посредник обще-
127
ния – интерлингвокультурная личность; это индивид, способный проникнуть в
план содержания другой лингвокультуры и познать образ мышления ее представителей, чему способствует семантика как средство «выхода на индивидуальную
картину мира» другой лингвокультуры [144, с. 231–232].
Вербальный код культуры, как было отмечено выше, представляет собой ее
языковую матрицу, систему установленных норм, определяющих культурные
смыслы, актуализируемые в речевой деятельности, в дискурсе. Переориентируясь на другой лингвокультурный контекст, культурные смыслы возникают в ситуации своего рода пересечения языковых матриц контактирующих лингвокультур.
Поскольку основная задача посредника объективировать средствами языка общения «чужую», относительно данного языка, культуру, эффективная коммуникация
предопределяет формирование интерлингвокультурной матрицы, совмещающей
языковые нормы и ценности.
Иначе говоря, тезаурус посредника межкультурного общения формируется
языковой личностью осознанно именно как интерлингвокультурный, что способствует эффективной речевой деятельности, требующей понимания представителя «чужой» лингвокультуры и умения объяснить эту лингвокультуру соответствующими вербальными средствами.
В интерлингвокультурном тезаурусе отражается интерлингвокультурная картина мира, объективируемая соответствующим лексиконом, где одна семантическая система актуализируется через призму другой. Образование данного тезауруса представляет собой сложный процесс, требующий целенаправленных усилий
непосредственно языковой личности на осознание специфики контактирующих
лингвокультур, их сходства и различия, совпадения и расхождения оценочности,
закодированной в семантике номинации, репрезентантирующей «свою» концептуальную систему, что особенно важно в политическом дискурсе. Соответственно, и когнитивный уровень отражает интерлингвокультурную концептуальную
систему, включающую концепты контактирующих картин мира в их соположении
относительно друг друга, что позволяет выделить универсальное и специфичное,
точки соприкосновения и зоны расхождения; и в результате вторичной культур-
128
ной концептуализации образуется соответствующая лексическая единица. Особым компонентом тезауруса интерлингвокультурной личности являются вербальные средства разрешения возможной неоднозначности при вербализации лакунарных концептов в контексте данных лингвокультур. Билингв-профессионал
«видит» слова иначе, чем монолингв, как правило, иначе и чем билингвнепрофессионал, что подтверждают научные исследования. Ученые подчеркивают, что писатели-билингвы бывших союзных республик, которые пишут на русском языке, отличаются особым видением «русского языкового пространства»,
при котором вырабатывается особая русскоязычная метасемантика и метаграмматика [278].
Значимость интерлингвокультурной картины мира для участников межкультурного общения подтверждается рядом исследований: так, концептуальная
асимметрия абстрактных концептов ЧЕСТНОСТЬ и ПРАВДА, значимых в политическом дискурсе, актуализируются в ситуации медицинского дискурса. Д. Дохан и M. Левинтова изучали причины коммуникативных сбоев медицинского перевода в американских больницах в ситуации «врач (американец) – пациент (русский)». Они пришли к выводу, что практика данного общения характеризуется
особенностями менталитета, что наиболее ярко проявляется, если посредниками
общения являются непрофессионалы. Эмигранты из России, в том числе из стран
СССР, нередко прибегают к помощи родственников, которые считают, что «правдой можно манипулировать во благо» и не переводят диагноз «рак», что в ментальности американских врачей воспринималось как «ложь». Профессиональным
переводчикам и русским врачам-билингвам пришлось приложить немало усилий,
чтобы убедить американских врачей не настаивать на максимально точном переводе при общении с пациентами-эмигрантами из России, учитывая сложившиеся
ментальные стереотипы: “Cancer could be seen as a “death sentence” in the émigré
community. Telling patients, especially elderly patients, that they have cancer […]
could even diminish their willingness or ability to survive. […] Anticipating this kind
of dilemma, interpreters often tried to make the disclosure “softer” or to inform physicians “about the culture differences” [423].
129
Коммуникативный сбой в общении может произойти при несовпадении оценочности контактирующих концептов и, соответственно, номинаций их репрезентирующих.
Следующий пример иллюстрирует понятийность и оценочность концепта
ЭЛИТА, воспринимаемого в российском сознании как «олигархи, политическая
элита, номенклатурная элита». Оценочная составляющая «престижность», на первый взгляд, является положительной, но в данном случае имплицируется также
пейоративность «только для избранных», что иллюстрируется следующим примером реального общения. Преподаватель-англичанин (профессиональный переводчик с русского) предлагает студентам следующий вариант перевода предложения
He sent his son to Rugby School – «Он послал своего сына в элитный (выделено
мною – Н.Ю.) интернат». В двуязычном англо-русском словаре зафиксировано
однозначное соответствие: boarding school = интернат, только сопоставление
различных текстовых фрагментов педагогического дискурса (описание проблем
образования в России, учебных заведений и т.п.) позволяет переводчику осознать
несовпадение оценочности сопоставляемых концептов.
В языковой картине мира российской лингвокультуры «школа-интернат» с
элитарностью не ассоциируется, учебные заведения типа балетные, спортивные и
пр. школы-интернаты, скорее назовут балетная /спортивная школа. Учебное заведение типа интернат не престижны, скорее, наоборот, в отличие от англоязычного мира, где элитные учебные заведения public schools, как правило,
boarding schools:
Rugby School: public school (= expensive private school)
[Longman Culture, с. 1180]; boarding school: a school at which pupils live as well as
study. Most British public schools are boarding schools [Longman Culture, с. 129].
В словаре Lingvo слово интернат используется при переводе следующих
номинаций: rest home – интернат для престарелых и инвалидов; asylum – интернат
для инвалидов; приют; богадельня; deaf-and-dumb asylum – интернат для глухонемых. В русскоязычной лингвокультуре подобные номинации вызывают, как правило, негативные эмоции, поэтому переводить название престижного учебного
заведения как интернат, даже элитный, не следует.
130
Вышеприведенный пример иллюстрирует, во-первых, разницу коннотаций,
выявляемую в ситуации межкультурного общения, требующей интерлингвокультурного осмысления контекста (недаром в международных организациях принята
практика перевода на родной язык). Во-вторых, он подтверждает, что тезаурус
первого языка, картина мира родного языка зафиксированы на уровне подсознания и оказывают определенное «давление» на когнитивное сознание индивида, в
том числе и профессионального билингва.
Практически общепризнано, что картина мира культурно обусловлена и влияет на индивидуальную концептуальную систему носителя языка; интерлингвокультурная картина мира формируется концептами, которые ассоциативно связаны, по крайней мере, с двумя контактирующими лингвокультурами. Какая из
концептуальных систем станет доминантной при объективизации концепта в речевой деятельности с полной уверенностью утверждать нельзя: можно предположить, что одним из решающих факторов является комбинация языков, например,
«английский (родной) + русский (иностранный/второй)». Следует подчеркнуть,
что в ряде случаев язык, родной с детства, не сохраняется, например, при эмиграции, когда индивид все реже обращается к «языку матери» непосредственно в речевой деятельности и социализируется в новой коммуникативной среде.
Именно интерлингвокультурная языковая личность способна проникнуть в
«мир другого языка»,
формируя такую инокультурную номинацию, которая
адекватно объективирует соответствующий концепт. В контексте интерлингвокультурного «видения» языковая личность осознает концептуальные связи, а также актуализируемые лексической единицей смыслы и модификацию оценочности
в каждой контактирующей лингвокультуре. Индивид предвидит возможную концептуальную, семантическую и прагматическую неоднозначность, идеологически
обусловленную вариативность в процессе речевой деятельности и предвосхищает
возможный коммуникативный сбой адекватными вербальными средствами.
131
ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ
Последнее десятилетие ХХ века отражает динамику развития мирового сообщества: глобализация всех сфер жизнедеятельности, развитие информационных
технологий, распад СССР и социалистического блока – все эти феномены обусловили формирование глобального коммуникативного пространства. Одной из основных проблем, препятствующих межкультурному общению, выступает многоязычие землян, что и способствовало выдвижению английского языка на роль ведущего мирового языка. Предпосылки глобализации английского языка обусловлены его историческим развитием, его открытостью и готовностью адаптироваться, удовлетворяя коммуникативные интенции современного человека.
Глобальный английский язык объединяет все территориальные и функциональные разновидности, способствуя общению многих этничностей. Популярную
фразу «английский не принадлежит никому» не следует понимать буквально;
принимая новые инолингвокультурные элементы, английский язык ограничен
нормой языковой системы; в противном случае он не сможет реализовать функцию межкультурного посредничества.
Глобальное информационное англоязычное пространство включает различные коммуникативные сферы, наиболее значимой из которых является политическая, которая отличается пересечением национальных политических дискурсов
многих лингвокультур, предопределяя формирование межкультурного политического дискурса. Картина политического мира отличается изменчивостью, что
обусловлено не только национально-языковой политикой лингвокультурного сообщества, но и взаимодействием с другими дискурсами, социально-историческим
контекстом и непосредственно индивидом. Нестабильность условий жизни возвращает людей мысленно в прошлое, которое на расстоянии кажется прекрасным.
Восстанавливаются забытые политические и социальные ритуалы, феномены, а
вместе с ними и объективирующие их номинации.
Глобализация коммуникативного пространства не означает единой идеологической среды. Несмотря на то, что взаимоотношения лингвокультур не опреде-
132
ляются более противостоянием «социалистического лагеря» и «капиталистического», идеологические противоречия все еще актуальны. Оппозиция «Россия –
Запад» в контексте межкультурного дискурса выявляет концептуальную асимметрию картин политического мира, отражаемую на вербальном уровне, что препятствует эффективному межкультурному общению.
Лексико-семантическая адаптация английского языка, нацеленная на объективацию идеологизированного субстрата, предопределена концептуальной деривацией, которая в ситуации межкультурного общения актуализируется как вторичная лингвокультурная концептуализация, под которой понимается процесс
осмысления и переосмысления в концептуальной системе англоязычного мира
феноменов российской действительности. Номинация, актуализирующая идеологизированный субстрат (культуроспецифичный концентрат глубинного уровня)
или концепт, неразрывно связана с ментальным уровнем; через слово мы «подступаем» к концепту, осмыслив который, выбираем адекватные средства вербализации.
Межкультурный профессиональный дискурс способствует интенсификации
языковых контактов, а значит, и увеличению числа билингвов. При этом развивается профессиональный билингвизм, который характерен для специалистов, пользующихся двумя и более языками в своей профессиональной деятельности; он
включает навыки переводческого билингвизма, но отличается от него глубоким
знанием своей сферы деятельности, что позволяет специалистам-билингвам общаться без переводчика, реализуясь как билингвальная языковая личность. В ситуации межкультурного общения модифицируется идентичность и формируется
интерлингвокультурная языковая личность: билингв, который отличается интерлингвокультурным восприятием действительности, позволяющей выделять сходство и различие, предвидеть возможный коммуникативный сбой и предотвращать
его посредством средств языка.
133
ГЛАВА 2 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛЕКСИКОН РОССИЙСКОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ
КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
2.1. Вербальная актуализация инолингвокультурного субстрата в
англоязычной речевой практике
2.1.1 Основные способы образования вторичной лингвокультурной
номинации
Контакт различных лингвокультур в глобальном англоязычном межкультурном общении предопределяет формирование особой информационной среды,
включающей номинации феноменов мира носителей английского языка и также
инолингвокультур. Лексические единицы, вербализующие уже означенные в системе исходного языка концепты, в контексте иной языковой системы реализуются как вторичные лингвокультурные номинации. При этом возникают следующие
вопросы, как образуется средство идентификации инолингвокультуры, какова
специфика его функционирования?
Вслед за В.В. Кабакчи в работе используется терминологическое название
ксеноним, обоснование которого требует анализа различных подходов к обозначению лингвокультурных феноменов. Несмотря на значительное количество фундаментальных трудов по лексическим и лингвокультурологическим сложностям
межкультурного общения, единства мнений относительно обозначения данного
явления не выработано. Разнообразие терминов обусловлено многообразием подходов к изучению культурных особенностей, актуализируемых в слове, что проявляется именно в межкультурном общении. Как отмечал Б.Л. Уорф, понимание
«своего» наиболее очевидно при контакте с «другим», «при анализе чужого, непривычного языка мы осмысливаем его средствами своего родного языка» [346,
с. 138]. В когнитивно-дискурсивной парадигме речь идет не только о языковом
контакте, но и о концептуальном: через чужой язык мы «входим» в концептуаль-
134
ную систему контактирующей лингвокультуры, что позволяет «выявить» специфику своей лингвокультуры. Отсюда следует, что процесс формирования номинации, репрезентирующей инолингвокультурный концепт, обусловлен концептуальной системой принимающей лингвокультуры. Когнитивный подход к исследованию языковой картины мира, по мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина, требует осмысления лингвокультуры, проявляющейся «в наличии различий в одноименных концептах в разных национальных культурах, а также в наличии уникальных концептов, характерных только для одной культуры» [283, с. 142].
В межкультурном политическом дискурсе наибольшую сложность при перекодировании на другой язык представляет актуализация концепта, отличающегося аксиологичностью, которая, как подчеркивает А.П. Бабушкин, присуща концептам «многих абстрактных имен» [24, с. 38]. В терминологии В.И. Карасика,
речь идет о лингвокультурном концепте, определяемом как «многомерное смысловое образование, в котором выделяются ценностная, образная и понятийная
стороны» [169, с. 109]. Развивая эту мысль относительно политического дискурса,
можно сказать, что политический концепт является «многомерным образованием», понятийная составляющая которого и/или оценочность характеризуется
идеологизированностью и, в большинстве случаев, метафоричностью (политическая образность). Репрезентация имени политического концепта средствами другого языка представляет собой сложный процесс, результатом которого выступает
комплексное единство вторичной лингвокультурной концептуализации, как было
отмечено ранее, и вторичной лингвокультурной номинации в условиях нового
лингвокультурного пространства.
Сохранение национальной специфики наиболее сложно осуществить в межкультурных контактах, что предопределяет разные подходы к выделению «культурности». В отечественной лингвистике распространено обозначение «реалия»,
которое, однако, не реализует качества термина вследствие своей двусмысленности: реалия как предмет и реалия как слово. Следует учитывать также, что в англоязычном дискурсе номинация realia соотносима с реалией только в значении
135
«артефакт», что осложняет перевод научных статей на английский язык: “realia n
pl. Real things, actual facts” [ОDictFW, с.356].
Отечественные ученые вводят новые термины для обозначения «культурного
компонента», в частности, Н.М. Верещагин и В.Г. Костомаров выявили «лексический фон»: «Сочетания слов в обыденном сообщении …производны от лексических фонов и поэтому имеют в той же мере социальный характер, как и входящие
в сочетания слова» [76, с. 94].
В когнитивной парадигме анализирует языковые средства выражения реалий
В.П. Конецкая, рассматривая их «не просто как особые предметы объективной реальности, но как особые референты – элементы объективной реальности, отраженные в сознании (выделено мной – Н.Ю.), т.е. предметы мысли, с которыми
соотнесено данное языковое выражение» [171, с. 532].
Новаторский подход отличает классификацию Н.А. Фененко: она разграничивает R-реалии (фр. realite), С-реалии (фр. concept culturel) и L-реалии (фр.
lexеme), выделяя термин «реалия» как родовой [350].
Культурологическая парадигма в концепции В.В. Воробьева объективируется
в лингвокультуреме, включающей сегменты языка (слова) и «культуры (внеязыкового культурного смысла)», репрезентируемые словом. Важной характеристикой лингвокультуремы является то, что она объединяет уровни лингвистического
и экстралингвистического содержания в единый комплекс, который «находится в
прямой связи с лингвокультурологической компетенцией носителей языка. Незнание «культурного ореола» слова оставляет реципиента на языковом уровне, не
позволяет проникнуть в глубокую сеть культурных ассоциаций» [92, с. 49].
В исследовании О.Н. Иванищевой выделены когнитивные и коммуникативные параметры: «актуализация когнитивной сущности фоновых знаний дает возможность выявить обыденные представления о мире носителя языка» [153, с. 40].
Коммуникативная сущность фоновых знаний реализуется в процессе общения,
как «коммуникативный минимум» [153, с. 40]. Предпринимая попытку определить критерии выделения фоновой лексики, она приходит к логичному выводу,
что выработка четких критериев «вряд ли возможна» [151, с. 43–44].
136
Для настоящего исследования наиболее релевантной представляется классификация культурно-специфических единиц Е.Л. Березовича, которая соотносится
с проблемой выявления лингвокультурного субстрата. Ученый выделяет три
группы: 1) артефакты; 2) феномены духовной культуры или общественной жизни;
и 3) «культурные слова» [42, с. 3]. Выдвинутый им тезис о том, что артефакты,
несмотря на материальную уникальность и безэквивалентность, являются самыми
лингвистически пустыми этнокультурными сигналами: «от кваса и сарафана» (vs.
колхоза и спутника)» [42, с. 3], особенно актуален при изучении межкультурного
дискурса. Следует отметить, однако, что в определенной ситуации лингвокультурный субстрат выявляется и в артефактах. Вторая группа лексики представлена
более «рафинированным» пластом, связанным «с уникальными явлениями духовной культуры или общественной жизни (ср. слова вроде соборность или совок)»
[42, с. 3]. Наиболее интересна третья группа, где выявляется «собственно лингвистическое приращение анализа, базирующееся на всестороннем изучении системных связей слова»: «дружба, воля, душа и т.п., не имеющих печати культурного
своеобразия в своем «необходимом и достаточном» значении» [42, с. 3]. В данном
случае концепция ученого несколько расходится с общепринятым тезисом о русскокультурной специфике данных слов. Важным параметром анализируемой концепции выступает ее антропоцентричность: ученый подчеркивает, что в «коннотативном спектре» соединены разнообразные характеристики, обусловленные
«субъективным выбором носителя языка»; при этом «выбирает как субъект, так и
сама языковая система, которая властно вмешивается в процесс образования коннотаций» [42, с. 4].
В контексте когнитивно-дискурсивной парадигмы описанный подход отражает системное единство репрезентантов национально-маркированных концептов
материального и ценностного миров и потенциально «культуроспецифичных»
концептов. Данная классификация представляется логичной и убедительной; ее
релевантность подтверждается эмпирическим материалом настоящего исследования: значимость для эффективного межкультурного общения имеют не только
национально-маркированные концепты, но и универсальные, актуализирующие
137
иные ассоциативные связи в преломлении в новой концептуальной системе.
Именно такие концепты наиболее сложно поддаются адекватной вербальной репрезентации и, соответственно, исследованию.
В зарубежной лингвистике, как было отмечено ранее, взаимосвязь языка и
культуры эксплицитно выражена в термине languaculture, внутренняя форма которого актуализирует неразрывное единство национальной культуры и ее вербального выражения. Уникальным компонентом languaculture выступает культурно-специфическая номинация: culture-specific item («культурно-специфическая
единица») или cultural item («единица культуры»), т.е. функционально или коннотативно маркированная номинация лингвокультуры, наиболее сложная для перевода, что объясняется ее лакунарностью и особыми стилевыми характеристиками.
Мнение Дж.Ф. Аиксела о том, что практически каждая номинация отличается потенциальной способностью актуализировать культурную специфику в соответствующем контексте, подтверждается в ситуации межкультурного контакта:
“Any linguistic item can be a culturally-specific item depending not just on itself, but
also on its function in the text, as it is perceived in the receiving culture” [397, с. 58].
Данное утверждение способствует обоснованию выдвинутого в работе тезиса
о потенциальной способности слова «выражать» в определенном социальноисторическом контексте идеологизированную специфику, актуализируя его субстрат», и, превращаясь из нейтральной номинации в культурно-значимую.
Обобщая представленные выше концепции, следует отметить, что все подходы к терминологическому обозначению презентации культуры в языке объединены ключевой идеей: признанием неразрывной взаимосвязи языка и культуры и
необходимостью исследования слова в ситуации его функционирования.
Проанализировав подходы к терминологическому обозначению культурноспецифической номинации, выбор термина ксеноним представляется логичным,
обоснованным и наиболее адекватным для настоящего исследования. Важным качеством ксенонима, т.е. иноязычного обозначения культурно-значимого элемента
родной лингвокультуры, по мнению В.В. Кабакчи, выступает его корреляция с
исходной или первичной номинацией [157, с. 19–21], с этимоном. Ксеноним
138
«связывает» контактирующие лингвокультуры, что крайне важно для изучения
англоязычных средств объективации российского идеологизированного субстрата; выделение специфики корреляции ксенонима и этимона способствует системному решению заявленной задачи. Следует отметить, что тождественность по
форме терминов «ксеноним» и «ксенизм» может способствовать неоднозначности: под ксенизмом в терминоведении понимается «отрицательное отношение к
исконным терминам, стремление заменить их иноязычными [ТЗ, с. 139]. Такое
толкование обусловлено семантикой корня «ксенос» («чужой»), актуализирующего в данном случае негативные коннотации. В интерлингвокультурологии термин
«ксеноним», как маркер чужого, не пейоративен и позволяет «развести» реалию
как артефакт или культурно-специфичный феномен и реалию как средство номинации, что способствует упорядочению терминологии.
В терминах когнитивно-дискурсивного подхода ксеноним определяется как
вербальный репрезентант концепта инолингвокультуры. Результатом процесса
формирования ксенонима выступает объективация (актуализация/вербализация)
концепта/лингвокультурного субстрата, т.е. вторичная лингвокультурная номинация. Ксеноним является билатеральным обозначением, которое соотносится с каким-либо феноменом или событием через выражаемую им мысль [159, с. 115–
116], что требует определенных средств экспликации понятийной, образной и
оценочной составляющих, иначе вербальная единица станет простой оболочкой.
Ксеноним, как средство передачи этимона в другом коммуникативном пространстве, отличается от первичной номинации по степени произвольности; его
образование обусловлено, во-первых, этимоном, в определенной мере влияющим
на форму иноязычного коррелята; во-вторых, языковой системой принимающей
лингвокультуры. Специфика процесса формирования инолингвокультурной номинации предопределена различиями «в одноименных концептах в разных национальных культурах» и уникальными концептами, отличающими только одну
культуру, подчеркивают З.Д. Попова и И.А. Стернин [283, с. 142].
Как было отмечено выше, политический концепт характеризуется идеологически обусловленной оценочностью, отсюда следует, что процесс вторичной
139
лингвокультурной концептуализации или реконцептуализации в условиях нового концептуального пространства предопределяет формирование новой единицы, вторичной лингвокультурной номинация. Выявление способов образования ксенонима потребовало обращения к теории и практике перевода, где обоснованы подходы к решению вопроса о компенсации лакуны, в частности, к трудам
отечественных ученых В.С. Виноградова [79], В.Н. Комиссарова [188] и Н.К. Гарбовского [101].
Основными способами межъязыковой трансформации выступают транслитерация (иноязычное написание этимона), транскрибирование (передача формы)
или компромиссное решение – практическая транскрипция (передача формы иноязычного слова с учетом его произношения). Вербальное образование такого типа
в отечественной лингвистике обозначают терминами экзотизм, варваризм, заимствование, иноязычное вкрапление (термин А.А. Леонтьева) [230] или алиенизм
(<лат. alienus чужой), введенным В.П. Берковым [43, с. 60].
Функции иноязычного вкрапления («языковой единицы с сохранением признаков, свидетельствующих о ее иносистемном характере» [ССТ 2006, с. 37]) и
варваризма («иноязычного слова, употребляемого для создания «местного колорита» [ССТ 2006, с. 34–5]), главным образом, стилистические. По сути, все вышеназванные термины маркируют начальную стадию заимствования иноязычной
единицы, неадаптированной в принимающем языке и воспринимающейся как
чужеродный элемент. Французские лингвисты назвали начальный этап инкорпорирования заимствования термином xenism [478], который менее употребителен,
чем foreignism; оба термина, по сути, соотносятся с номинациями «экзотизм» и
«варваризм».
Требует уточнения, вследствие своей неоднозначности в контексте разных
подходов термин заимствование, под которым понимается как непосредственно
процесс перехода слова из одного языка в другой, так и результат адаптации данного слова в языке. В англоязычной лингвистике каждое из этих явлений имеет
свой кодифицированный термин: borrowing (процесс перехода элементов из языка А в язык В [Linguistics, с. 41] и loan (заимствование, результат этого процесса)
140
[Linguistics, с. 211]. В словаре Dictionary of Linguistics and Phonetics выделены типы заимствований, соответствующих русским терминам «прямое заимствование»,
«гибрид», «семантическое калькирование» и «лексическое калькирование»: loan
words, loan blends, loan shifts и loan translations [DictLanguage, с. 286–287].
Обобщая подходы зарубежных ученых, А.В. Зеленин отмечает, что заимствования представляют собой «инкорпорированные иноязычные элементы в
язык некоторой группы говорящих или перенесенные из одного языка в другой
«субстанциональные элементы»; это материальный результат «языковых контактов» [150, с. 86]. При образовании новой лексики «диапазон значений слов меняется путем расширения значений, переносной номинации, ухудшения и повышения качества значений, путем народной этимологии» [243, с. 20].
Основополагающие концепции перевода безэквивалентной лексики с русского языка на английский разработаны в середине прошлого столетия Г.Ю. Баллем
[28] и Г.В. Черновым [361]; в новой научной парадигме представлены подходы
современных отечественных лингвистов. Так, в концепции В.В. Кабакчи утверждается, что самым точным способом передачи этимона является заимствование,
гарантирующее уверенную обратимость, т.е. прочное двустороннее соответствие
между ксенонимом и его коррелятом-этимоном в любой форме [156]. В концепции И.Ю. Марковиной и Ю.А. Сорокина передача безэквивалентной лексики
средствами контактирующего языка представляет собой процесс заполнения лакуны, раскрытие «смысла некоторого понятия (слова), принадлежащего чужой
для реципиента культуре» переводческими приемами «заполнение» и «компенсация» [239; 240, с. 89].
В целях упорядочения терминологии необходимо подчеркнуть, что в настоящем исследовании под заимствованиями понимаются только кодифицированные иноязычные элементы, инкорпорированные в языковую систему. Незарегистрированные в словаре ксенонимы обозначены по способу трансфера: (практическая) транскрипция, транслитерация или трансплантация, т.е. трансфер этимона
(без перекодировки) в иноязычный текст [Словарь ТЗ, с. 190; с. 111].
141
Важно отметить, что трансплантация русскоязычного этимона препятствует
доступности изложения англоязычного текста, поэтому встречается крайне редко.
Отдельные примеры трансплантации переводятся, семантизируются параллельным подключением (термин В.В. Кабакчи). В корпусе эмпирического материала
настоящего исследования трансплантация выявлена только в 4 источниках, в
научных и газетных текстах, например, в интервью, типа процитированного ниже.
Автор трансплантирует высказывание известного политического деятеля в оригинале и переводит цитату на английский язык:“I remember the statement by Count
Benckendorff, the head of the police under Nicholas I. He was confronted by the editor
of a journal who came to complain that the journal was unlawfully closed by the censors. He replied: “Законы пишутся для подданных, а не для государства.” (Laws are
written for subordinates, not for the authorities)” [WP].
Сложность передачи ксенонима обусловлена гетерогенностью контактирующих языков, при этом наиболее субъективным типом является транскрипции
(графическая запись звучания слова), поскольку мы «слышим по-разному», как
отмечает С.С. Пашковская [273, с. 1295]. Практическая транскрипция способствует «узнаваемости» лексической единицы, как на письме, так и в устной речи,
сохраняя форму написания и, в определенной степени, звучания.
Второй по продуктивности способ образования ксенонима представлен калькированием, опосредованным заимствованием: Г.Ю. Балль [28], Т.Б. Крючкова
[206], Л.Т. Микулина [249], Г.В. Чернов [361] и др. Лексическое калькирование
означает процесс формирования нового слова или значения «путем буквального
перевода соответствующей иноязычной единицы» [ЛЭС, с. 211], что не всегда
возможно вследствие несовпадения структуры или коннотаций. Калькирование
основано на материале языка общения и способствует семантической прозрачности, однако оно может препятствовать общению, если идентично по форме свободному или терминологическому словосочетанию в принимающем языке.
В политическом дискурсе в данной ситуации формируется неоднозначность,
разрешение которой требует дополнительных средств экспликации. Например,
политический концепт КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ репрезентирован калькой
142
Bloody Sunday, совпадающей по форме с репрезентантом британского концепта
BLOODY SUNDAY: “Sunday, 30th January 1972, when British soldiers in Northern
Ireland used force to control a large crowd” [Longman Culture, с. 126]. В результате
концептуальной деривации концепта при его вербализации в межкультурном общении семантическая структура англоязычного репрезентанта изменилась. К сожалению, данный концепт в межкультурном дискурсе реализуется не только как
национальный британский или русскокультурный (значение 3), но как универсальный (значение 2), что обусловлено наличием тождественных феноменов в
различных лингвокультурах): Bloody Sunday: 2. any of various other Sundays when
blood was shed; 3. Jan 22 (Jan 9 old style) 1905, massacre of peaceful demonstrators in
St. Petersburg, Russia, marking the beginning of the violent phase of the Russian Revolution of 1905 [Britannica, с. 293]. В данном случае передача «инолингвокультурности» и оценочности требует не только уточняющего определения Russian, но и
дефиницонного описания.
Достоинство кальки в том, она, как правило, соответствует норме принимающего языка, при этом прагматически менее маркирована, чем практическая
транскрипция. Лексическое калькирование легче адаптируется в новой языковой
системе, благодаря «зеркальному отражению» фонемного или морфемного строения этимона [454, с. 264]. Данный способ удобен для передачи словосочетаний:
новое мышление (new thinking), общий европейский дом (common European house).
Семантическое калькирование представляет собой процесс и результат семантического сдвига под влиянием контактирующего языка и приводит к развитию многозначности; оно основано на аналогии между каким-либо словозначением этимона и его предполагаемого коррелята в другом языке. Классические примеры включают слова agitator, brigade, cadre, pioneer, people‟s. Метафоричность
актуализированного идеологизизированного субстрата нередко способствует пейоративности номинации, например, Darkness at Dawn. The Rise of the Russian
Criminal State (D. Satter), Sputnik. The Shock of the Century (P. Dickson).
Важно подчеркнуть, что лексическому калькированию словосочетаний сопутствует варьирование семантики, особенно в ситуации формального совпаде-
143
ния многокомпонентного ксенонима со свободным словосочетанием в английском языке. В таком случае формируется семантическая аберрация и требуется
введение лексических средств разрешения неоднозначности.
В ряде случаев инолингвокультурный концепт представлен описательным
оборотом или дефиницией; при доместикации (локализации) текста вводится аналог, т.е. семантически аналогичная номинация другой лингвокультуры. Такого
рода обозначения лишены культурной маркированности и не отвечают требованиям обратимости. Выбор способа формирования ксенонима определяется автором с учетом коммуникативной потребности. Так, этимон может коррелировать с
практической транскрипцией (glava kabineta) или описательным оборотом (head
of the Minister‟s office), калькой (director of the Cabinet), дефиницией (head of the
Minister‟s departmental staff), гибридной структурой (glava of the Cabinet) или, для
облегчения восприятия, с аналогом (Permanent Undersecretary of the State).
В период первичного использования ксенонима в дискурсе невозможно прогнозировать с абсолютной уверенностью, приживется ли она в лексической системе языка. Кроме лингвистических факторов (удобная для произношения и
написания форма, отсутствие эквивалентов и пр.), большую роль в адаптации новообразования играют экстралингвистические факторы: социально-политические
условия, фоновые знания, авторитетность издания и языковой личности – автора
текста.
Важно учитывать темпоральность ксенонима: при изменении социальнополитического контекста он меняет свой статус и переходит в группу историзмов
или универсалий. В ситуации коммуникативной востребованности историзмы
«оживают» (Komsomol), классические примеры метафорического трансфера
brigade, cadre, thaw, purge и monolith адаптировались до статуса универсалии.
Подвижность лексико-семантической системы, ее зависимость от национально-языковой политики, человеческого фактора делают практически нереальной прогностику «жизненного цикла слова» (word life cycle), т.е. статуса неологизма. В свое время П. Ньюмарк высказал мнение, что советизмы kolkhoz,
Komsomol, sputnik представляют собой временное явление, «взяты напрокат»
144
(„loans‟) и не останутся в языке (they will not stay): “Transcription may be required
for cultural words to provide authenticity or local colour. Some are „loans‟ – kolkhoz,
Komsomol, sputnik – they will not stay” [465, c. 30]. Данный прогноз, однако, не
подтвердился: в ХХ веке именно названные советизмы благодаря частотности использования в дискурсе адаптировались в английском языке и кодифицированы
словарями. В конце ХХ века предсказание П. Ньюмарка стало реальностью: в
русском языке последнего десятилетия этимоны Комсомол и колхоз перешли в
группу историзмов, однако в настоящем тысячелетии восстановлен этимон Комсомол, который «вернулся в строй» как средство номинации молодежной организации.
Суммируя вышесказанное, необходимо отметить, что практически все описанные подходы к обозначению вербального репрезентанта политического концепта или идеологизированного субстрата инолингвокультуры, не выделяют корреляцию этимона с его инолингвокультурным соответствием. Такое соотношение
характерно только для термина «ксеноним», что и предопределяет его использование в настоящем исследовании. Выявленная тождественность способов передачи реалии (теория перевода) и способов представления ксенонима (интерлингвокультурология) не означает их абсолютного сходства, специфика определяется
контекстом использования. Ксеноним, как основной термин интерлингвокультурологии, реализуется в аутентичном тексте в соответствии со стратегией его передачи, обусловленной ситуацией общения и автором, который не ограничен исходным текстом, как переводчик.
Таким образом, различные способы образования ксенонимической номинации позволяют выбрать наиболее оптимальный вариант, при этом наиболее эффективным является сочетание нескольких обозначений. Коммуникативная востребованность, т.е. частотное использование ксенонима, обусловливает его кодификацию в словаре, закрепление в языке в качестве одного из компонентов лексико-семантической системы, что обусловлено способностью английского языка
адаптироваться в соответствии с потребностью общения.
145
2.1.2 Психолингвистический механизм вербальной актуализации инолингвокультурного субстрата
В современных подходах к изучению переводческой деятельности на первый
план, по мнению З.Д. Львовской, выдвигается концепция передачи лингвокультурных смыслов [234] или, в терминологии Т.А. Казаковой, вторичного семиозиса [164], т.е. задача воссоздания исходного текста перемещается на воссоздание
исходного смысла. Деятельность переводчика рассматривается как когнитивный
процесс, и единицей перевода, по мнению А.Г. Минченкова, «признается концепт
как дискретная единица языка мышления» [250, с.7]. Отсюда следует, что исследование специфики вербальной актуализации субстрата инолингвокультуры требует учета когнитивных и психолингвистических аспектов речевой деятельности
личности.
Изучаемый эмпирический материал представлен аутентичными англоязычными текстами, большая часть которых по языковому оформлению монолингвальна, но при этом инолингвокультурно маркирована. Признаками иной лингвокультуры выступают транслитерированные и/или калькированные элементы, как
правило, эксплицируемые семантическими средствами, так или иначе выделяемые графически. Словесное произведение такого рода, несомненно, является
аутентичным текстом, порожденным на английском языке билингвом, однако
присутствие инолингвокультурных номинаций выдвигает проблему определения
его типа. Следует отметить, что произведения, одной из основных задач которыхо
выступает отражение культурной специфики инолингвокультуры, представляют
многие лингвокультуры; их авторы являются носителями английского, русского,
китайского и пр. языков. Примеры аутентичной литературы, отличающейся подобной спецификой, достаточно многочисленны, это – русскоязычная национальная литература этнических писателей советского периода и современности,
которая описана в трудах отечественных ученых Р.О Туксаитовой [340], А.Б. Тумановой [342], И.С. Хугаева [359]. Это также и англоязычная постколониальная
литература, изучаемая Б.Б. Качру [447] и Ст.Г. Келламаном [449]; среди произве-
146
дений, написанных на французском и на немецком языке русскоязычными эмигрантами широко известны книги А. Макина и В. Каминера.
Продуцирование текстов такого рода авторами-билингвами, несомненно, отличается от речевой деятельности, как по созданию произведения, ориентированного на отражение «своей» лингвокультуры, так и по реконструкции смысла исходного текста контактирующей лингвокультуры.
Как отмечено в главе 1, «мир другого языка» наиболее ярко и адекватно отражает именно интерлингвокультурная языковая личность, обладающая способностью актуализации инолингвокультуры вербальными средствами. Выявление
специфических качеств речевой деятельности данной личности требует междисциплинарного подхода: «проникновение» вглубь психолингвистических параметров, реализуемых в процессе формирования ксенонима в данном случае, требует
обращения к результатам изучения речевой деятельности психолингвистикой, когнитологией и когнитивной транслятологией.
Описание механизма объективации инолингвокультурного субстрата, его
конструирования и актуализации вербальными средствами в речевой деятельности автора-билингва, требует осмысления организации процесса речевой деятельности по созданию межкультурного текста, выделения его стадий. Необходимо
также выяснить, соотносится ли продуцирование словесного произведения, в контексте которого актуализируется инолингвокультурный субстрат, с переводческой
деятельностью; если да, то, на каком этапе и каким образом.
Как следует из фундаментальных трудов отечественных ученых, механизм
объективации и вербализации инокультурного субстрата формируется на стадии
замысла и мотива создания текста и обусловлен как языковой личностью, создающей текст, так и жанром произведения и целевой аудиторией; при этом речевая
деятельность автора-билингва в определенной степени сопоставима с переводческим процессом. Важным параметром является уровень билингвизма автора, которой должен обладать профессиональным знанием описываемой сферы и навыками профессионального билингва, что обусловливает адекватную объективацию
инолингвокультурного субстрата. Как было отмечено ранее, таким индивидом
147
выступает интерлингвокультурная языковая личность, отличающаяся интерлингвокультурным видением контактирующих лингвокультур, что позволяет предвидеть возможные лакуны и предотвратить коммуникативный сбой при помощи соответствующих вербальных средств.
Доказательство вышеприведенной концепции потребовало определить четыре направления исследования: 1) обобщение фундаментальных исследований о
психолингвистическом механизме речевой деятельности; 2) анализ современных
концепций о когнитивном подходе к переводу; 3) обоснование понятий «внутреннее кодовое переключение» и «внутренний перевод» как элементов психолингвистического механизма речевой деятельности по продуцированию текста в условиях билингвизма; 4) верификация результатов на англоязычном эмпирическом материале: анализ вербальных средств актуализации русского лингвокультурного
субстрата в интерлингвокультурной литературе.
Основы изучения психолингвистического механизма порождения речи заложены Л.С. Выготским, Н.И. Жинкиным, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьевым и продолжены последователями: А.А. Леонтьевым [231], А.А. Залевской и др.
Процесс творческой деятельности, по мнению А.А. Леонтьева включает мотив, замысел, внутреннюю речь, глубинно-синтаксическую структуру и внешнее
речевое высказывание с поверхностно-синтаксической структурой. Первый этап –
это «внутреннее программирование (sic) высказывания», его «содержательное
ядро», нелинейная иерархия пропозиций»; кодом внутреннего программирования
«является предметно-схемный или предметно-изобразительный код по Н.И. Жинкину» [231, с. 113–115].
Термин «внутренняя речь» введен Л.С. Выготским, который трактует его
двояко: как невербальный процесс мыслительной деятельности и как вербальную
стадию внутренней речи, беззвучную речь («речь про себя»). Ученый отмечает,
что «чем ближе к внешней речи внутренняя речь, тем теснее с нею связана в поведении, и может принять совершенно тождественную с нею форму тогда, когда
является подготовкой к внешней речи (например, обдумыванием предстоящей речи, лекции)» [97, с. 102]. В концепции Н.И. Жинкина внутренняя речь является
148
исключительно мыслительным этапом, осуществляемым «предметным кодом».
Утверждая, что мышление не «привязано» к каким-либо вербальным знакам, он
подчеркивает неразрывность взаимосвязи языка внутренней речи и языка: «Применение натурального языка возможно только через фазу внутренней речи. В
языке это отображается в переосмыслении лексических значений» [139, с. 36].
Вывод о невербальном характере внутренней речи доказывает невербальный
характер мыслительного процесса, т.е. его универсальность. Следует подчеркнуть, однако, что при этом наблюдается определенная скрытая артикуляция, связанная непосредственно с внутренней речью, как доказал в электрофизиологических исследованиях А.Н. Соколов. Скрытая артикуляция, по его мнению, представляет собой «основной механизм мышления, с помощью которого происходит
целенаправленный отбор, обобщение и фиксирование сенсорной информации
(данных ощущений и восприятий)» [цит. по 104, с. 227].
Следующий этап является промежуточным и включает переход от внутренней речи (мыслительного процесса) к внешней речи: «внешнюю речь про себя»
или «проговаривание про себя» (беззвучную вербализацию), как утверждает
П.Я. Гальперин [100]. Исследуя когнитивные аспекты внутренней речи, и, опираясь на концепции советской школы, А. Верани приходит к следующим выводам:
«Включенность внутренней речи в высшие психические процессы означает инструмент мышления, регуляцию, обработку языка (продуцирование и восприятие), формирование сознания, формирование волевых актов и формирование личности» [73, с. 16].
Вербализированную внутреннюю речь («речь для себя») ряд зарубежных исследователей считают подготовительным этапом к переходу во внешнюю речь с
особыми характеристиками; по мнению Н. Уили, внутренняя речь является «потоком сознания внешней речи и характеризуется отрывистостью»: “Inner speech is
a streamlined version of outer speech, characterized by short cuts” [514, c. 320].
Данное положение согласуется с выводами Л.С. Выготского, чей вклад в исследование механизма речевой деятельности высоко оценивается всеми зарубеж-
149
ными исследователями. По мнению А.А. Леонтьева, описание этапа «внешняя
речь» практически идентично в работах разных ученых [230, с. 120].
Обобщаем вышесказанное в следующей формуле:
замысел = «внутреннее программирование» (А.А. Леонтьев)
внутренняя речь = УПК (по Н.И. Жинкину)
внутренняя речь вербальная («внешняя про себя» по П.Я. Гальперину)
внешняя речь (текст).
Как было отмечено выше, одной из основных задач межкультурного общения является актуализация субстрата описываемой лингвокультуры. Исходного
текста в данном случае нет, однако существует ее вербально выраженный субстрат описываемой лингвокультуры, репрезентирующий концепт. Отсюда следуют вопросы, каким образом передать данный субстрат другим языком? Используются ли при этом переводческие трансформации? Является ли в таком случае
деятельность автора сопоставимой с переводческой?
Чтобы ответить на них, обратимся к современным фундаментальным работам о процессе перевода, рассматривающим перевод как один из видов «когнитивной деятельности человека, предполагая взаимодействие когнитивных и языковых структур индивида (переводчика) в самом широком контексте его психосемиотической характерологии. По мнению Т.А. Фесенко переводчику отводится
роль не «вербального перекодировщика», а интерпретатора смыслового кода, заложенного в исходном тексте» [352, с. 66]. Такой подход позволяет говорить о
возможности соединения функций автора и переводчика в единое целое, что объясняется когнитивной природой процессов перевода и продуцирования текста.
В отличие от собственно перевода при продуцировании интерлингвокультурного текста, необходимо передать смыслы инолингвокультуры, что согласуется с подходом когнитивной транслятологии, согласно которому «переводу подвергаются не вербальные формы, а стоящие за ними концепты» [352, с. 67]. Если
рассматривать концепты как аксиологически значимые «сгустки» описываемой
лингвокультуры, то автор текста, как и переводчик, должен реконструировать
концептосферу данной лингвокультуры и актуализировать ее субстрат. Абсолют-
150
но новый подход к переводу обоснован в интерпретативной теории перевода
(ИТП) французскими учеными Д. Селескович (1921–2001) и М. Ледерер, особо
подчеркивающими ориентацию «исключительно на смысл текста как объект теоретических исследований», что сближает данный подход с концепцией одноязычной коммуникации М.М. Бахтина [44, с. 72]. Как отмечает Т. Бодрова-Гоженмос,
в ИТП перевод является коммуникативным актом на «уровне всего текста (высказывания), а не на уровне языка, т.е. значений составляющих его слов»; именно
смысл выступает основной характеристикой одноязычного высказывания, поэтому перевод заключается в «передаче смысла, а не языковых значений его составных элементов» [44, с. 78].
Н.А. Фененко подчеркивает, что в ИТП «вычленение смысла как в процессе
перевода происходит в результате девербализации высказывания, намеренного
абстрагирования от языковой формы» для выделения «когнитивной и аффективной составляющих смысла» [351, с. 24].
Таким образом, опираясь на представленную выше концепцию, можно сделать вывод о том, что продуцирование текста-описания инолингвокультуры сопоставимо на определенном этапе с переводческой деятельностью. Создание такого текста включает стратегии одноязычной коммуникации и стратегии интерпретативной теории перевода (передача смысла). На данном этапе логичным является вопрос, на какой стадии происходит вербализация субстрата инолингвокультуры? Следуя концепции Н.И. Жинкина об универсальности процесса мышления, представляется, что концептуализация субстрата инолингвокультуры осуществляется именно на данной стадии универсальным языком (УПК), с которого
«возможны переводы на все другие языки» [139, с. 36]. При этом в ситуации продуцирования интерлингвокультурного текста возникает сложность при переводе
субстрата инолингвокультуры во «внешнюю речь про себя» (= «внутреннее проговаривание» по П.Я. Гальперину). Переход к «внешней речи про себя» предполагает актуализацию реконструируемой концептосферы описываемой лингвокультуры, но вербальные средства, имеющиеся в языке общения, могут быть неадекватны для актуализации «чужого» субстрата. В таком случае автор-билингв ав-
151
томатически переключается на другой языковой код – код описываемой лингвокультуры, т.е. процесс реализуется как «внутреннее кодовое переключение».
Традиционно
«внутреннее
кодовое
переключение»
понимается
как
переключение с одного языка на другой внутри предложения, т.е. во внешней
речи. Исследуемые произведения, созданные билингвами, позволяют говорить о
внутреннем переключении и во внутренней речи. Механизм переключения кодов
носит
психолингвистический
характер
и
осуществляется
автоматически,
независимо от уровня владения языком, что обусловлено слиянием двух языков,
которые реализуются практически как один код. М. Перотто объясняет специфику
речевого поведения билингвов возможностью «выбора не только внутри
регистров одного языка, но и в полном диапазоне двойного, как бы раздвоенного,
лингвистического кода», который «в их речи функционирует на самом деле как
один» [274, с. 280; с. 281]. Специфика речевой деятельности профессионального
билингва в том, что он «контролирует» оба кода; если внутреннее переключение
кода на этапе «внешней речи про себя» происходит автоматически, вследствие
отсутствия
адекватного
вербального
обозначения,
то
следующий
шаг
(«внутренний перевод») требует осознанных действий. Внутреннее кодовое
переключение на стадии «речи про себя» предопределяет закономерность
переводческих трансформаций для переключения на язык общения, что требует
переводческих навыков на этапе «внутреннего перевода».
Постижение специфики процесса перекодирования осложняется, во-первых,
сложностью изучения мыслительных операций (применяемая в теории перевода
методика «думай вслух», Think-aloud protocol, довольно субъективна); во-вторых,
обусловленностью
ассоциативных
связей
концепта
его
лингвокультурой.
Современные исследователи процесса переводческой деятельности должны
обращаться и к другим наукам, изучающим специфику человеческого мозга: к
нейронаукам (brain sciences), философии и вычислительной науке [304, с. 446].
Навыки внутреннего кодового переключения, предшествующего внутреннему
переводу и переходу во внешнюю речь, автоматизированы в должной степени
только в ситуации профессионального билингвизма, подчеркивает Л. Сальмон.
152
Профессиональный билингвизм предполагает автоматический навык перехода с
одного языкового кода на другой, включение «программы одного языка или
другого»; при актуализации инолингвокультурного субстрата происходит
«мыслительное действие по активизации базы энциклопедических данных,
связанных с языковыми данными в сети. При этом на уровне сознания
«включается лампочка»: «не все так просто, искать дальше!» [305, с. 314; 315].
Словосочетание «внутренний перевод» неоднозначно, ученые используют
его сообразно разрабатываемым концепциям. В лингводидактике под «внутренним переводом» понимается этап перехода от невербальной внутренней речи,
мыслительной деятельности, к этапу внутренней речи в форме «проговаривания
про себя». Это подтверждается изучением иностранного языка: обдумывая высказывание на одном языке (проговаривая про себя), студент пытается передать его
на другом, также проговаривая про себя перевод, формат высказывания: лексика,
синтаксис, связность определяются доминантным языком, как правило, родным.
Если не удается подобрать однозначные лексические и синтаксические соответствия, возникает вопрос: «Как по-английски…?» или в устную речь автоматически вставляют русские слова. Такое смешение кодов позволяет утверждать, что
мысль на переходном этапе к внешней речи вербализуется «про себя» на родном
языке, при этом «про себя» происходит и процесс перевода.
По мнению А.Г. Валиева, «если афферентации (импульсы) воспринимаются
и синтезируются изначально средствами иностранного языка, внутренний перевод
отсутствует» [67, с. 3]. Внутренний перевод нередко понимается как автоматический процесс перевода на родной язык иноязычного слова в процессе обучения,
что препятствует осмыслению услышанного и речевой деятельности. Так, языковые школы предлагают обучение языку «без внутреннего перевода», что выступает гарантией качества обучения. На запрос «внутренний перевод» поисковые
системы предлагают ряд ссылок. Например, «Как прекратить внутренний перевод
на русский фраз, услышанных на английском www.comenglish.ru/».
Термин
«внутренний
перевод»
связан
с
типологией
Р.
Якобсона:
внутренний/интраязыковой перевод – перифраз (intralinsguistic / rewording),
153
межъязыковой – непосредственно перевод (interlinguistic/translation proper) и
интерсемиотический перевод – трансмутация (intersemiotic / transmutation) [442, с.
114]. В значении «перифраз», «перевод на другой диалект» номинация
«внутренний перевод» используется в работах отечественных исследователей:
«Межъязыковой перевод… характеризуется большей [чем внутренний перевод –
Ю.С.] чувствительностью к контексту» [322, с. 28]. П. Рикер понимает
«внутренний перевод» как «перифраз»: «Причины возникновения разночтений,
множественных вариантов понимания одного и того же текста» объяснимы
«методом внутреннего перевода»
[300]. Аналогично трактует внутренний
перевод Хайсиг: “Inner translation”, the semiotics of hearing what people say and
saying what people say and saying what one thinks” [437, с. 50].
В своем исследовании М.А. Орел обосновывает понятие «внутренний перевод» как «внутрипсихическая деятельность билингва по вычленению смысла из
текста и обогащению собственного информационного и культурного запаса посредством декодирования сообщений на исходном языке» [264].
Новаторский подход отличает концепцию лингвистического описания
межкультурной коммуникации В.В. Кабакчи: «Внутренний перевод» – это
«разновидность переводческой деятельности, в ходе которой человек создает
оригинальный текст описания иноязычной культуры, осуществляя сам в
соответствии с возникающими при этом языковыми проблемами необходимые
«переводческие» преобразования текста» [161, с. 57]. В данном случае
желательно уточнить, что понимается под «языковыми проблемами», почему их
разрешение требует «переводческих» преобразований и каких именно.
Таким образом, «внутренний перевод» реализуется на стадии, предваряющей
непосредственно «внешнюю речь» после «внутреннего кодового переключения».
Реконструируя концептосферу описываемой лингвокультуры и актуализируя ее
средствами языка общения в «речи про себя» в случае отсутствия адекватных
вербальных знаков, репрезентирующих субстрат инолингвокультуры на языке
общения, автор-билингв автоматически переключается на другой языковой код,
переход с которого на язык общения представляет собой непосредственно пере-
154
водческую деятельность. Процесс продуцирования текста, актуализирующего
субстрат инолингвокультуры, представлен на следующей схеме:
Схема 1.
Как следует из представленной схемы, продуцирование словесного произведения является одним из главных процессов речевой деятельности по порождению речи, которое, как подчеркивает В.З. Демьянков, включает две протекающих
параллельно стадии: планирование и реализация речи. Под планированием имеется в виду «упорядочение концептуального содержания», а непосредственно «генерация текста» означает «трансформирование семантической или прагматической репрезентации в естественно-языковую» [123, с. 132]. Первая стадия соответствует этапам замысла и невербальной внутренней речи (УПК), вторая включает этап внутренней речи про себя, предшествующей реализации внешней речи.
Суммируя проанализированные выше подходы к порождению речи, обоснованные отечественной психолингвистикой, логичным представляется следующий
вывод: коммуникативные потребности автора, определяемые на стадии замысла,
обусловливают последующие этапы. Реализация «внутреннего перевода» на стадии «внешней речи про себя» в ситуации отсутствия адекватных языковых
средств вербализация субстрата инолингвокультуры предопределяет внутреннее
155
переключение кода на язык описываемой лингвокультуры и последующие межъязыковые трансформации, необходимые для актуализации инолингвокультурного
субстрата. Одной из основных специфических характеристик созданного при этом
произведения является наличие инолингвокультурных элементов. Формирование
ксенонима в процессе речевой деятельности предопределяет включение механизма внутреннего кодового переключения, переходящего в этап внутреннего перевода, который завершается непосредственно во внешней речи. Конечный результат процесса порождения текста в данном случае представлен аутентичным словесным произведением, автором которого является билингв, обладающий интерлингвокультурной картиной мира, позволяющей предвидеть возможные лингвокультурные лакуны и предотвратить коммуникативный сбой.
2.2 Комплексные стратегии актуализации ксенонима
в англоязычной речевой практике
Исследование комплексных стратегий передачи ксенонима, реализуемых в
коммуникативной практике, в данном параграфе проводится на материале медийного дискурса, в частности, таких жанров, как редакторская и аналитическая статья, комментарий, публицистический очерк и пр. Хронологически исследованный
материал отражает период 2000–2013 гг. и включает англоязычные электронные и
печатные издания, ориентирующиеся на глобальную англоязычную аудиторию и
на российский социум, в том числе экспатриантов и туристов: The New York
Times, Newsweek, Forbes, The St Petersburg Times, The Moscow Times и т.п.
Тематически номинации идеологизированного субстрата российской действительности, функционирующие в средствах массовой информации, не в полной мере соответствуют группам политического лексикона, указанным в разделе
1.4. Некоторое расхождение объясняется тем, что тексты, создаваемые непосредственно на английском языке, отражают позицию англоязычного автора, который
акцентирует внимание на наиболее релевантных, с его точки зрения, аспектах, это
своего рода «взгляд извне, со стороны». Например, не выражена в английском
156
языке тенденция языка политики российского дискурса к «демократизации», поскольку сленг при передаче его средствами другого языка, как правило, нейтрализуется.
Исследуемые в работе англоязычные средства номинации российского политического лексикона, в целом, отражают основные пункты «Плана Путина», который, как было отмечено, направлен на политическое регулирование жизнедеятельности социума [http://politike.ru/]. Лексикон включает политические термины
(названия партий, органов государственной власти и должностей, политических
принципов и учений) и политизированную лексику, отражающую основные проблемы жизни общества, в том числе мировоззренческого характера. Отсюда следует, что толкование политического дискурса в широком смысле, как сказано ранее, подтверждается непосредственно жизненной практикой; релевантным аргументом является также точка зрения В.В. Зеленского, который разграничивает
официальный и личностный уровни политики. Официальный уровень политики
представляет собой «набор некоторых действий, направленных на распределение
власти и экономических ресурсов»; он «включает средства массовой информации,
систему образования и все те социальные институты, которые контролируют явления социальной жизни. Второй уровень политики – личностный; он представляет собой сам способ, которым первый уровень актуализируется в индивидуальном сознании, как он проявляется в личности, в семье, во взаимоотношениях людей, в профессиональной деятельности, а также в восприятии человеком произведений литературы и искусства» [цит.по 376, с. 23].
Разделяя, в целом, мнение В.В. Зеленского, следует уточнить, что в СМИ актуализируется не только официальный уровень, например, интервью с политиками, но и личностный уровень, отражающий мировоззрение индивида, его ментальность (публицистика и др.). Таким образом, тексты средств массовой информации соотносятся как с институциональным политическим дискурсом (коммуникативная практика политиков), так и с неофициальным (речевая деятельность
индивида, подвергающегося воздействию официальной политической риторики).
157
Первым этапом анализа функционирования ксенонима в прессе выступает
его выделение из исследуемого материала и последующее изучение уровня орфографической адаптации и графических и дискурсивных маркеров, релевантных
для актуализации ксенонима в тексте и выявления его семантики. Анализ только
одного уровня не позволяет представить системное исследование лексикосемантической адаптации, что обусловило комплексную методику анализа в соответствии с когнитивно-дискурсивным подходом. Дискурсные маркеры, графические и лексические, эксплицируя нестандартность формы, имплицируют модификацию семантики, обусловленную концептуальной деривацией, что определяет
следующий уровень анализа. Как было обосновано ранее, «подступ» к исследованию концепта возможен только через объективирующую его номинацию: семантическое содержание слова неразрывно взаимосвязано с концептуальным. Анализ
способов вербальной актуализации концепта инолингвокультуры позволяет выявить специфику концептуального переосмысления, неизбежного при вторичной
культурной концептуализации, актуализируемой на разных уровнях.
При исследовании графических средств важен также формат медийного текста: в электронных изданиях предпочтение отдается кавычкам, поскольку сохранение курсива не всегда возможно технически. Общепринято считать основной
функцией кавычек выделение цитирования, в корпусе примеров, однако, выявлены и случаи использования в данной функции курсива:
“As “Nezavisimaya gazeta” reported today, he was outmaneuvered by Volodin:
Remember that in the summer Volodin essentially challenged Surkov when he initiated the creation of the All-Russian Popular Front for Vladimir Putin” [RFE/RL Dec.
28, 2011 // http:rferl.org/content/].
Цитата в форме курсива, увеличивая объем текста, формируя отдельный абзац, привлекает к себе внимание, в то время как кавычки менее заметны. Совокупность всех способов акцентирования информации, представленной в тексте,
способствует созданию эффекта достоверности и объективности: авторское мнение (личностный уровень) подкреплено фрагментом прямой речи авторитетного
политика (официальный уровень).
158
Сопоставление прагматических функций кавычек в английском и русском
языках показывает, что, в принципе, они тождественны. Уникальны одинарные
кавычки, не имеющие аналога в русском языке, они выделяют цитаты внутри цитируемого текста и, как и двойные кавычки, маркируют концептуальную асимметрию и/или семантическую вариативность:
“Perspectives: system analysis („power structures‟)” [http://www.prio.no/].
Введение в текст инолингвокультурных номинаций стандартизируется редакциями СМИ. Так, иностранное слово, не кодифицированное в толковом словаре, выделяется графически только при первичном использовании [МТ Guide]. При
исследовании эмпирического материала была выявлена и другая закономерность:
маркируя
слово
графически,
автор
сигнализирует
о
функционально-
стилистической значимости данной единицы, т.е. определяющим параметром является коммуникативная интенция.
Обратимся к примерам, наиболее яркий из которых представлен ксенонимом
“face control”, коррелирующим с этимоном «фейс-контроль», на первый взгляд,
американизмом, что, однако, не соответствует действительности. Этимон выступает своего рода символом элитарности: под ним понимается охранник («секьюрити»), миссия которого пропускать или не пропускать человека в элитный клуб
или ресторан высшего уровня. Если англоязычное соответствие не выделено графически, оно воспринимается как свободное словосочетание, способствуя аберрации, поэтому ксеноним маркируют графически практически при каждом случае
использования: “A mere invite to Dacha will not secure you entry. “It‟s all about “face
control”, Sorkin explains. “Moscow is obsessed with “face control”. We reserve the
right to refuse entry to anybody, if they don‟t look right” [Observer June 13, 2004].
Представляется, что основным критерием выбора маркера выступает авторская стратегия актуализации когнитивной информации на вербальном уровне так,
чтобы она стала доступна восприятию читателя. Таким образом, графические
маркеры выступают важным средством адаптации языка, нацеленного на создание атмосферы инолингвокультуры. В корпусе материала примеры с курсивом
составляют менее 20%, т.е. наиболее функциональным графическим маркером яв-
159
ляются кавычки. Категоричный вывод в данном случае затруднителен, учитывая
значительный объем газетных текстов в электронном формате, где курсив нередко не наблюдается, предположительно, по техническим причинам. В большей части примеров курсивом выделены инолингвокультурные номинации номенклатурных терминов, ценностей и абстрактных понятий.
Например, коррелирующий с этимоном «чиновник» ксеноним “chinovnik”:
образован практической транскрипцией и комплексом средств экспликации его
понятийного и оценочного содержания: “a mere chinovnik – a petty bureaucrat
promoted above his station. But that view misses the human reality that brilliance and
banality can all be attributes of the same individual” [NYP Feb. 6, 2009].
В данном случае практическая транскрипция способствует не только номинативной точности, но и созданию атмосферы инолингвокультуры.
Следует подчеркнуть, что на орфографическом уровне, как правило, не актуализируется когнитивно-информационная природа идеологизированного субстрата, который требует актуализации вербальными средствами, иллюстративными примерами и пр. С точки зрения англоязычного читателя, незнакомого с русским языком, «чужая» форма асемантична, и номинация является пустой оболочкой, «заполнение» которой предопределяет использование параллельного подключения для объективации языковой адаптации на всех уровнях. Соответственно, в прессе функционируют номинативные комплексы: единство ксенонима и
средств его семантизации.
Рассмотрим пример, в котором ксеноним, по сути, объективирует два концепта: “The Explanatory Dictionary of the Soviet Language defines nevyezdnoi as “a
citizen not allowed abroad by Soviet authorities”. Nearly the entire population of the old
Soviet Union was nevyezdnoi: only the elite were allowed to travel. These restrictions
were lifted in the Gorbachev era, but now a new nevyezdnoi class is emerging. This
time, it‟s the elite, and not just by the state” [Time Feb. 26, 2001].
В вышеприведенном фрагменте две модели образования ксенонима:
1. «практическая транскрипция + семантизация дефиницией»:
“Nevyezdnoi + “a citizen not allowed abroad by Soviet authorities”;
160
2. «калькирование + описательный перевод»:
“new nevyezdnoi class” + “the elite restricted and not just by the state”.
Данный пример иллюстрирует развитие многозначности ксенонима, которая
обусловлена модификацией этимона: 1) «невыездной в советское время, по законам своей страны» (о простых людях) и 2) «невыездной в постсоветское время, по
решению другой страны (о представителях элиты)». Оценочная составляющая
идеологизированного субстрата и в том, и в другом случае пейоративная, однако
модифицирована понятийность, что обусловлено концептуальной деривацией
этимона. «Новый класс невыездных – элита» включает представителей власти,
бизнесменов, депутатов и пр., т.е. высокопоставленных лиц, чья политическая или
финансовая деятельность вызывает недовольство правительства страны въезда.
Последующее выделение курсивом ксенонима сигнализирует о вариативности его концептуального содержания в разных социально-исторических контекстах; концепт НЕВЫЕЗДНОЙ, актуализируемый в советский период, относился к группе национальных политических концептов, отражающих дискурс власти
в контексте родной лингвокультуры. Специфичность данного феномена подтверждается следующим фрагментом, где объективируется концепт ПРАВО (НА ВЫЕЗД), лакунарный в западном мире, что требует графической маркировки и авторского комментария для разрешения неоднозначности. Автор выделяет позитивную оценку деятельности В.В. Путина, который не препятствует эмиграции,
недопустимой при коммунизме: “To Westerners the right to emigrate might not even
seem like a “right” since it is so basic. But this is a right which was absolutely unthinkable under communism” [Forbes May 11, 2012].
Концепт НЕВЫЕЗДНОЙ, точнее, субстрат «невыездная российская элита»
сформирован в ином социально-историческом контексте, актуализируя позицию
других лингвокультур относительно официальной политики России.
Обобщение способов вербальной актуализации позволяет выявить типичную
модель формирования инолингвокультурной номинации:
«ксеноним (практическая транскрипция) + средства экспликации».
161
Следует подчеркнуть, что вышеприведенная модель характерна, как правило,
для передачи на английский язык этимона, выраженного словом или словосочетанием, в редких случаях, фразой с небольшим количеством элементов.
В корпусе медийных текстов представлено 17 примеров практической транскрипции, коррелирующей с этимоном-пословицей/цитатой, что объясняется небольшим объемом текстов СМИ и реализацией принципов экономии и доступности: “А popular rhyme: “Est‟ obychai na Rusi – noch‟iu slishat‟ Bi-bi-si.” (“There‟s a
custom in Russia – at night we listen to the BBC”) [NYorker Sep. 22, 2008].
Экспликация понятийности и оценочности в ряде случаев требует привлечения широкого контекста. Например, в следующем примере идеологизированность
цитаты – стандартной фразы диктора, звучавшей первой в 6 утра по радио «Говорит Москва» – выявляется только в социально-историческом контексте предперестроечного советского периода, что предопределяет модификацию стандартной
модели ксенонимической номинации. Практическая транскрипция способствует
реализации принципа обратимости (номинативной точности) и созданию атмосферы инолингвокультуры, при этом понятийное содержание раскрывается калькированием Moscow speaking: “The radio day commenced at 6 A.M. First, the Soviet
anthem, then “Govorit Moskva...” (“Moscow speaking”)” [NYorker Sep. 22, 2008].
Названных элементов недостаточно, чтобы передать идеологизированную
оценочность фразы Govorit Moskva; актуализируемая на глубинно-когнитивном
уровне аксиологическая составляющая не доступна англоязычному читателю, в
данном случае требуется широкий контекст. Автор описывает ситуацию, эксплицитно выражая трагические последствия такого простого действия, как выключение радио, что считалось выпадом против Советской власти:
“If someone in a communal apartment shut off the radio, he was considered suspect, a potential “enemy of the people.” The broadcasts issued the edicts of the Central
Committee of the Communist Party, announced the details of the Five-Year Plan, declared the latest triumph of the Soviet Army and the perfidies of the capitalist West”
[NYorker Sep. 22, 2008].
162
В приведенном примере используется целый ряд калькированных политических номинаций – идеологизированных словосочетаний, актуальных в советский
период: the Central Committee of the Communist Party, a communal apartment, the
Five-Year Plan the capitalist West, “enemy of the people,” при этом кавычками маркирована только одна номинация (a potential “enemy of the people”). Нигде в тексте
вербально не выражена понятийность данных ксенонимов, поскольку автор считает необходимым акцентировать внимание только на наиболее значимой единице. Кавычки, выделяющие словосочетание “enemy of the people,” способствуют
выражению негативного отношения автора к проводимой в стране политике
борьбы с так называмыми «врагами народа».
Вербальная объективация идеологизированного субстрата, как следует из
вышеприведенного примера, обусловлена концептуальной деривацией, формирующей основу механизма адаптации языка. Ни англоязычный читатель, ни россиянин, незнакомый с реалиями сталинского периода, не смогут осознать идеологизированность фразы “Govorit Moskva...” (“Moscow speaking”)” вне представленного контекста, что объясняет усложнение стандартной модели номинативного комплекса: «ксеноним (практическая транскрипция) +
семантизация (калькирование/дефиниция/описательный оборот и пр.) +
актуализация оценочности (классификатор, описание ситуации)».
Из вышесказанного следует, что передача формы этимона любым из возможных средств не актуализирует его концептуального наполнения, предопределяя
необходимость использования широкого контекста.
Одной из специфических характеристик медийных текстов, выявленных при
анализе материала, является параметр «сближения» или проксимизации»
(<proximization – термина П. Капа) [411], удаленных друг от друга хронологически или географически феноменов, сопоставимых по каким-либо релевантным
признакам, актуализированным вербально. Проксимизация способствует выявлению аксиологических характеристик номинации современного события, которое
тождествено, по мнению автора произведения, историческому факту. Как показывает анализ корпуса текстов исследуемого периода, идеологизированный субстрат
163
одного политического периода в ряде случаев соотносится с феноменом, релевантным в другом историческом периоде, но значимом в современном контексте.
Так, в статье The Once and Future Road автор обращается к истории становления
Великого Новгорода, в которой, по его мнению, истоки современного города:
“They called their city Gospodin Gosudar Veliky Novgorod – Great Novgorod the
Lord and Master. By 1600 Muscovy‟s power eclipsed this civic lord and master, although Boris Yeltsin formally restored the appellation Veliky (Great) in 1999” [Time
June 4, 2001].
Вышеприведенный пример отличает ксенонимическая плотность этимона
«Господин Великий Новгород», который коррелирует с практической транскрипцией и структурно-модифицированным калькированием. Журналист проводит
параллель между системой правления Великого Новгорода и политикой Б.Н. Ельцина, отмечая, что он восстановил историческое название города.
Обращается к истории города журналист Дж. Димблеби, описавший свои
впечатления о России в путевых очерках, изданных позднее в виде книги. Введение
историзмов
способствует
актуализации
пейоративности
концепта
OLIGARCHY, выявленной при вторичной лингвокультурной концептуализации:
“The city fathers (Novgorod) felt strong enough to flex their political muscles and
established a council of merchants, landowners and nobles. This self-appointed oligarchy, known as the veche, set itself the task of developing Novgorod to the point where
the city gradually came to resemble its European counterparts” [Heart of a Land, с. 96].
Осмысление событий настоящего в контексте прошлого способствует актуализации новых смыслов. Так, протесты россиян в декабре 2011 г., по мнению западного журналиста, взаимосвязаны с распадом СССР, который сопоставим со
смертельным исходом: “The timing of Russia‟s latest political spasms couldn‟t be
more fitting. It was exactly 20 years ago this week that the Soviet Union itself collapsed, a 70-year-old empire that evaporated in the weeks between Dec. 8, 1991 and
Christmas Day, when Mikhail Gorbachev resigned from the Soviet presidency and
signed the government‟s death warrant” [FP Dec. 23, 2011].
164
В.В. Путин выразил трагическое восприятие многими россиянами событий
декабря 1991 г. фразой, ставшей прецедентной: “The events were so traumatic for
many Russians of the old regime that… Putin was moved to call the Soviet breakup “the
greatest geopolitical catastrophe of the century” [FP Dec. 23, 2011].
Эффект «сближения» декабрьских событий 2011 г. и 1991 г. выявляет не
только отношение журналиста к политике российского государства, но и предупреждение о возможных последствиях, которые, по его мнению, очевидны при
перенесении политического протеста 2011 г. в социально-исторический контекст
последнего десятилетия прошедшего столетия.
При исследовании газетных и журнальных статей был выявлен и такой способ проксимизации и актуализации оценочности как сопоставление политического деятеля с его предшественниками, а также зарубежными политиками:
“Putin‟s one brilliant insight is that the dictators of the past didn‟t know where to
stop. The Stalins and the Maos, the Calvins and Khomeinis, all insisted on prying into
the private sphere. Czar Vladimir grasped that a post-modern dictatorship needs to make
only a single compromise to prosper” [NYP Feb. 6, 2009].
Апеллятивация имен неоднозначно воспринимаемых политических деятелей,
the Stalins, the Maos, the Calvins и Khomeinis, как представляется, актуализирует
негативную оценочность деятельности В.В. Путина: он – другой, но при этом
также диктатор, что эксплицируется популярной в современном медийном дискурсе номинацией czar и политическими терминами пейоративной аксиологичности dictatorship и tyranny. В данном примере графически маркированы только
имена собственные, написанные с заглавной буквой в соответствии с языковой
нормой. Концептуальная деривация выделена эксплицитно: имена собственные
фактически подвергаются апеллятивации посредством определенного артикля the
и морфологической адаптации (окончание множественного –s).
Стратегии актуализации идеологизированного субстрата инолингвокультуры
достаточно разнообразны, что обусловлено адаптацией на разных уровнях: средства экспликации новых смыслов выделяют или вуалируют концептуальную деривацию, обусловливающую семантическую вариативность.
165
Особой функцией дискурсивных маркеров, как графических, так и лексических, выступает их способность полностью изменить смысл номинации, заменив
его абсолютно противоположным. Например, “The procedure must look “democratic,” or else it will be difficult to convince the “enemies” of Russia that the “21st-century
energy superpower” obeys the rules of the civilized world” [WS Dec. 11, 2007].
Идеологическую функцию кавычек, введение которых изменяет прагматическую направленность текста, одним из первых описал В. Клемперер в работе о тоталитарном языке нацизма [450, c. 67–68].
В англоязычном дискурсе кавычки выделяют пейоративное восприятие действий политиков, провоцирующих межэтнические конфликты: “Nationalist politicians in Moscow could try to use a new crisis to blame economic woes on “foreigners”
or “migrants” – even though millions of non-ethnic Russians living and working here
are Russian citizens” [MN No 74, 2011, c. 2].
Исторической тенденцией является переосмысление таких политических
универсалий как “democracy” и democratic”: они практически всегда положительны в осмыслении «своего» мира, но пейоративны в контексте описания мира «чужого»: “If you are interested in seeing where Russia is headed as a “democratic” and
“open” society, it might be instructive to watch the way that artists respond
to opportunities to engage the powers that be” [MT May 02, 2011].
Как показало исследование материала, политическая терминология, формально обозначающая универсальные концепты, отличается модификацией понятийности и оценочности, что обусловлено вторичной лингвокультурной концептуализацией, в контексте которой идеологическая связанность определяется картинами политического мира контактирующих лингвокультур. Таким образом,
важным качеством кавычек и курсива выступает их функциональный дуализм:
они могут одновременно реализовывать две функции: цитации и коннотативного
варьирования, актуализируя ироническое или скептическое отношение (so called).
В следующем примере представлен нестандартный пример актуализации
пейоративности посредством глагола в отрицательной форме, который выделен
курсивом (didn‟t), подчеркивая скептицизм автора и его негативное восприятие
166
политики Сталина, на фоне которого оценивается деятельность Л.И. Брежнева:
“Brezhnev was bad, and no one mourns him, but he didn‟t murder millions of Ukrainian
peasants, randomly execute tens of thousands of Poles and Balts, or populate the Gulag”
[Forbes May 11, 2012].
Примеров актуализации позитивной оценочности в прессе выявлено значительно меньше, чем пейоративной, однако даже немногочисленные иллюстрации позволяют сделать вывод о том, что в публикациях отдельных журналистов
наблюдается тенденция к объективности и к созданию положительного имиджа
российской действительности. Например, М. Дэвис описывает «операцию Багратион», которую он сопоставляет с действиями в Нормандии, выделяя решающую
роль именно советской армии: “Operation Bagration… This “great military earthquake”, as the historian J. Erickson called it, finally stopped in the suburbs of Warsaw.
But what American has ever heard of Operation Bagration? June 1944 signifies Omaha
Beach, not the crossing of the Dvina River. Yet the Soviet summer offensive was several times larger than Operation Overlord (the invasion of Normandy), both in the scale of
forces engaged and the direct cost to the Germans” [Guardian June 11, 2004].
В вышеприведенном примере представлена орфографическая адаптация
названия военной операции в английском языке; цитата, ссылка на известного историка, выделенная кавычками, способствует достоверности изложения. Обращает на себя внимание позиция западного журналиста, который выделяет роль
именно советских солдат, а не генералов: “The road to Berlin had been opened.
Thank Ivan. ... In the struggle against Nazism, approximately 40 “Ivans” died for every
“Private Ryan”. Scholars now believe that as many as 27 million Soviet soldiers and citizens perished in the Second World War” [Guardian June 11, 2004].
В данном фрагменте выявляется такая функция кавычек, как актуализация
обобщения личного имени: русское “Ivans”; генерализация актуализируется также
окончанием множественного числа “-s”, адаптация на морфологическом уровне
обоснована прагматически и соответствует норме английского языка. Генерализация имени американского солдата актуализируется классификатором every и аллюзией на художественный фильм Saving Private Ryan о судьбе простого амери-
167
канского солдата и его матери, потерявшей почти всех сыновей на фронте –
остался только один Ryan. Этот фильм потряс многих в США, поэтому, как представляется, сопоставление американского и русского солдатов в данной статье,
способствует возвеличиванию участников «операции Багратион». Подвиг простого русского солдата, незаслуженно забытого, автор выразил непосредственно в
аллюзивном заглавии статьи: Saving Private Ivan.
Позитивно оценочных статей, актуализирующих идеологизированный субстрат российской действительности, среди исследуемого корпуса текстов, выявлено относительно немного, что не подтверждает общепринятого вывода об исключительно пейоративной стереотипизации России в западной прессе.
Вышеприведенные примеры подтверждают высказанное ранее мнение о
межкультурности политического дискурса в контексте глобального информационного пространства, где переплетается и обогащается политический лексикон
участников общения.
В англоязычном медийном дискурсе развивается тенденция объективации
российского идеологизированного субстрата путем введения в текст политических номинаций западных реалий, инолингвокультурных относительно российской действительности. Например, в американской прессе российские феномены
представлены в контексте арабской лингвокультуры: “As thousands of riot police
moved in to break protesters‟ heads on the streets of Moscow and St Petersburg… Sen.
John McCain gleefully tweeted “Vlad – the Arab Spring, coming soon.” Moscow‟s Bolotnaya Square isn‟t Cairo‟s Tahrir Square… This is no Arab Spring, because unlike
Mubarak and his ilk, Putin still has many options” [DB Dec. 14, 2011].
Журналисты сопоставляют изоляцию резервации американских индейцев с
положением радиовещания «Эхо Москвы»: “In an unfree country, Echo of Moscow
lives in isolation, on a kind of Indian reservation” [NYorker Sep. 22, 2008].
Одним из популярных способов актуализации когнитивной информации ксенонима является введение в текст номинации родной лингвокультуры, как в приведенном ниже примере (the “other New Deal”): “The oil-price collapse and a global
168
depression is limiting Putin‟s ability to keep up his half of the “other New Deal” by improving Russia‟s quality of life” [NYP Feb. 6, 2009].
Экспликация ситуации в России термином “New Deal”, точнее сопоставлением с данным периодом в США, т.е. “other New Deal”, выделяет положительный
результат политики В.В. Путина: “New Deal: a name for the economic measures introduced by F.D. Roosevelt (1882–1948) in 1933 to counteract the effects of the Great
Depression. It succeeded in reducing unemployment” [ODPhrase 2006, с. 489].
Используя прецедентные политические термины, «свои» или инолингвокультурные, в контексте описания событий в России, автор эксплицирует не только
понятийность, но и оценочное содержание. Актуализация когнитивного содержания посредством западных феноменов способствует выявлению информации разных уровней, однако, при этом возникает проблема реализации параметра адресованности. Данный способ экспликации малодоступен восприятию глобальной
массовой аудитории; статья ориентирована на американского читателя или на образованного адресата в контексте межкультурного общения.
Как показал анализ эмпирического материала, при объективации отдельных
феноменов российской действительности проявляется нейтрализация смешения
стилевых регистров, характерного для русскоязычного политического дискурса,
который отличается тенденцией к заимствованию иностранных терминов, в том
числе номенклатурных. Политические номенклатурные термины представлены
двумя основными группами: обозначения административных единиц (министерство, департамент, округ и пр.) и должностей правительственных и административных структур (председатель палаты, спикер, сенатор). Ряд номенклатурных
терминов «восстановлен» из номенклатурной системы царской России: Дума, губернатор. Неофициальные номенклатурные обозначения, наряду с терминами,
реализуются в разговорном регистре, предопределяя смешение стилей в политическом дискурсе. При передаче данных номинаций на английский язык, как правило, не выявляется адаптация на концептуальном уровне, обусловливая аберрацию. В СМИ англоязычное обозначение официального термина-этимона используется редко, предпочтение отдается аналогу, «российская» направленность кото-
169
рого выражена классификатором Russian, дефиницией или описательным оборотом. Так, разговорная единица «спикер» в значении «председатель Верховного
Совета» в английском языке коррелирует с комплексной номинацией «speaker +
параллельное подключение» (дефиниция): “Sergei Mironov, speaker of the Russian
parliament‟s upper chamber, the Federation Council” [WP Aug. 26, 2008].
Среди номинаций российских политических феноменов, ставших популярными относительно недавно, обращает на себя внимание этимон «силовики». По
мнению литовских журналистов, именно силовики поддерживали Андропова во
времена СССР, противодействуя перестройке Горбачѐва; что подтверждает «советское происхождение» слова «силовик» [http://www.kaunodiena.lt/lt/?id]. Войдя в
активное употребление при Б.Н. Ельцине, номинация силовики приобрела особую
популярность при В.В. Путине. Тесная взаимосвязь советских номенклатурных
терминов с современными обозначениями выявляется при изучении их функционирования в англоязычном политическом дискурсе. Советизмы, казалось, изменившие свой высокий статус на «историзмы», активно используются в качестве
средства экспликации или как синонимы этимона «силовики».
Из различных способов передачи данного этимона средствами английского
языка не закрепился ни один; калькирование этимона «силовые структуры» как
“power structures/ministries” отражает концептуальную деривацию, способствующую семантической аберрации. Слово power означает скорее физическую, но не
«военную» силу, что предопределяет использование ксенонимического комплекса, состоящего, как правило, из практической транскрипции и ряда синонимов,
объективирующих какой-либо аспект вербализуемого субстрата российской действительности. Обратимся к следующему примеру:
“The dominance of siloviki: sociology (population of bureaucrats in uniforms);
system analysis („power structures‟ – armed bureaucracies, siloviki); decision-making
(Kremlinology, narrow circle, chekisty). The alliance between chekisty and the FSB
takes control over most power instruments” [http://www.prio.no/CSCW].
В приведенном фрагменте представлены разнообразные средства номинации,
каждая из которых выполняет и функцию экспликации понятийной и аксиологи-
170
ческой составляющих ксенонима siloviki. Например, перифрастические определения термина “military”, включающего представителей разных рангов: “population
of bureaucrats in uniforms, „power structures‟, armed bureaucracies и chekisty”; при
этом практически каждая номинация актуализирует негативную оценочность.
Концептуальная расплывчатость этимона силовики предопределяет его ксенонимическую плотность, вариативность способов передачи и семантизации
средствами английского языка: siloviki, silovye struktury (force structures), the armed
services, law enforcement bodies, an official from any of these government bodies:
“The word “siloviki” is derived from the phrase silovye struktury (force structures),
a reference to the armed services, law enforcement bodies, and intelligence agencies.
Thus, in literal usage, a silovik (plural: siloviki) is a current or former official from any
of these government bodies” [http://www.twq.com/].
В западной журналистике выделяют два значения русской политической
номинации: буквальное, т.е. «обозначение номенклатурной группы» (an official
from the armed services, law enforcement bodies, and intelligence agencies) и разговорное «приближенные В.В. Путину»: “Siloviki is a misnomer for the group as a
whole. The distinction between the literal meaning of the term and its colloquial use as
a name for this group is important” [http://www.twq.com/].
Политические журналисты эксплицируют пейоративные аксиологические
характеристики этимона в коррелирующем с ним номинативном комплексе, выделяя «элитарность, связь с криминалом», что объединяет идеологизированный
субстрат siloviki с концептом OLIGARCHY:
1. “Russia today is ruled by Putin‟s siloviki, former K.G.B. men and military officers who have the nation by the throat. That power-hungry mafia (the Russian word is
rooted in “power”) brooks no opposition” [MT Nov. 05, 2003].
2. “The “siloviki” (literally “men of power”), as the spooks are called, have transformed Russia. They took over a pluralist country” [DM Jan. 18, 2008].
Самая лаконичная экспликация когнитивной информации ксенонима siloviki
представлена прецедентным именем собственным: “Unifying term „siloviki‟ (power
171
men), which means usually officers of numerous power and law enforcement agencies,
got wide circulation under „silovik‟ Vladimir Putin” [http://www.pipss.org/].
Описанные выше направления адаптивности английского в функции актуализации инолингвокультурного субстрата, выявленные при анализе корпуса иллюстративного материала, отражают динамичность развития языка в глобальном
социально-историческом контексте. При этом основополагающим уровнем выступает этап концептуальной деривации, который предопределяет лексическую и
семантическую вариативность инолингвокультурного обозначения, способствуя
ксенонимической плотности. Так, субстрат «деятели, близкие президенту» представлен политическими терминами и идеологизированными словосочетаниями:
1. the nomenklatura, oligarchs, the nomenklatura class, the elite, the “Family”;
2. the nomenklatura (class), oligarchs, the elite (class), the cronies, siloviki.
Два ряда номинаций почти идентичны, за исключением последнего компонента, который выполняет функцию конкретизации политической эпохи. В первой группе выделены номинации периода правления Б.Н. Ельцина (“Family”), во
втором – В.В. Путина (siloviki). Идеологизированный субстрат “Family”, коррелирует с этимоном «семья», который, в отличие от этимона «силовики», эксплицитно выражает позитивные коннотации, скрывая важную когнитивную информацию. Соответственно, ксеноним the Family эвфемистичен, это не вся страна, а
только самое близкое окружение, сторонники. Ксеноним siloviki, напротив, является дисфемизмом, т.к. коррелирует с этимоном, внутренняя форма которого
включает прямую номинацию «сила».
Обоих президентов в прессе часто метафорически называют czar: czar Boris,
czar Vladimir. Ксенонимической плотностью отличается личное имя В.В. Путина,
причем большинство номинаций напрямую связано с его деятельностью в КГБ,
что практически эксплицирует пейоративность: KGB, a former intelligence service
chief, a spymaster, a chekist, an apparatchik, a silovik, czar Vladimir.
Значимой тенденцией, как представляется, выступает проксимизация посредством сопоставления личного имени В.В. Путина с прецедентными именами Ivan
172
the Terrible (пример 1) и Godfather (пример 2), которые эксплицируют аксиологические характеристики президента:
1. “For Russians in the west, if one is not an oligarch, pop star or secret assassin,
and does not think that “Putin‟s regime” is second-worst to that of Ivan the Terrible,
treading these waters is problematic” [Guardian Dec. 13, 2008].
2. “Family”, “Garry Kasparov, the chess player, had a different take in The Wall
Street Journal yesterday. If you want to understand the Russian president and the ruthless way he wields power, always taking and never giving, don‟t look to Russian literature. Read Mario Puzo, he wrote. Read The Godfather” [BS July 27, 2007].
Встречаются и такие редкие случаи, когда использование имени В.В. Путина
способствует актуализации аксиологических характеристик зарубежного политического деятеля, что подтверждает значимость российского политического деятеля в межкультурном политическом дискурсе: “Our opponent was a Mexican Putin: a
former secret police chief…” [FPM July 22, 2005].
В ходе анализа текстов СМИ последних лет была выявлена также тенденция
к использованию номинаций идеологизированного субстрата российской действительности для актуализации когнитивной информации, отражающей восприятие американскими журналистами не только «чужой», но и «своей» реальности.
Так, западные политологи и журналисты объективируют идеологизированный субстрат «враньѐ» при описании российской действительности, цитируя русских классиков: 1. “Red Tape Forums: Do Russians lie a lot?” [RTF].
2. F. Dostoyevsky: “A Word or Two about Vranyo” (“Nechto o vranye”, 1873)
Следует подчеркнуть, что в западной журналистике данный субстрат актуализируется практически во всех политических периодах советского и постсоветского правления, за исключением эпохи М.С. Горбачева, подчеркивая, что именно
благодаря его политике гласности, субстрат «враньѐ» потерял свою актуальность:
“A spurious past and a fictitious present were imposed on the captive minds of the
Soviet people. Until Gorbachev came to power, the country lived a double existence –
an official world of grand achievements, liberty, democracy, all juxtaposed with a reality of gloom, terror, denunciation, and apparatchik degeneration” [DB Dec. 19, 2011].
173
Необходимо уточнить, что реальность лингвокультурного субстрата «враньѐ» в котексте российского социума подтверждается отечественными СМИ, где
публикуются письма читателей, аналитические статьи, авторы которых рассуждают о том, что «врать допустимо», поскольку в нашей стране обманывает и
власть: (название статьи) «Кому врут чиновники?» [АиФ. – 2014. – № 18].
Идеологизированность субстрата «враньѐ» отражается на уровнях адаптации
коррелирующего с ним в английском языке ксенонима, где выделяется понятийность, оценочность и образность. Данный субстрат выступает одним из стереотипных качеств российской действительности в западном осмыслении и при передаче его средствами английского языка отличается ксенонимической плотностью: “vranyo, a white lie, a semi-lie, a semi-truth, the Russian fib”.
Актуализация ксенонима “vranyo” в американском социально-историческом
контексте, говорит о процессе постепенной адаптации данной номинации в принимающем языке, что обусловлено коммуникативной востребованностью.
Так, в следующем фрагменте актуализировано пейоративное восприятие политики Б. Обамы его противниками: “Russians have a behavioral characteristic called
“vranyo”, also known as the Russian fib. It is defined as telling a white lie, a semi-lie or
a semi-truth. It may involve the suppression of unpleasant parts of the truth. In regard
to Obama‟s ineligibility and his alleged felonies, Congress expects the American people
to engage in “vranyo” with them. It goes like this: “You know that you are lying, I
know that you are lying, and you know that I know that you are lying, but we both smile
and nod in agreement” [СFР June 14, 2011].
Выявление новых вербальных средств, способствующих актуализации субстрата «враньѐ», в частности, ксенонима maskirovka, позволяет сделать вывод о
постепенном расширении когнитивной информации идеологизированного субстрата. В английской прессе ксеноним maskirovka соотносится не только и не
столько с военным термином, сколько именно с «искажением истины», если использовать эвфемизм, или, напротив, «обман», что эксплицитно выражено дисфемизмом deception: “Soviet Deception: Moscow has always had a flair for D&D, known
174
in Russian as maskirovka. Maskirovka covers a broad range of concepts, from deception to camouflage at the troop level” [www.cia.gov/].
Ксеноним maskirovka приобретает все больше популярности в межкультурном политическом дискурсе; его эксплицируют разными способами, описанием,
как в предыдущем примере, или семантическим калькированием: “Since the 1980s,
when the Soviet Union was still around and using their maskirovka (“masking”) agency
to carry out large scale deceptions of photo satellites. The Russians taught the North
Koreans many things, and maskirovka was apparently part of the curriculum” [Jan. 4,
2013: www.strategypage.com/].
Как показывают примеры, ксеноним maskirovka графически в тексте не маркирован, создавая впечатление ассимиляции слова в языке. Из вышесказанного
следует, что актуализация субстрата «враньѐ», выделяемого западными журналистами при восприятии и осмыслении российской действительности, предопределена вторичной лингвокультурной концептуализацией. Расширение ксенонимической плотности идеологизированного субстрата «враньѐ» подтверждает его коммуникативную значимость: “vranyo, a white lie, little lies, a semi-lie, a semi-truth, the
Russian fib, maskirovka (“masking”), deception, little deceptions”.
Вышеприведенный пример адаптации ксенонима vranyo в качестве средства
номинации феномена американской действительности не является единственным
подтверждением концептуальной деривации ксенонимов, коррелирующих с русскокультурными этимонами. Расширяется объем когнитивной информации номинации czar, которая в настоящем исследовании классифицируется как универсалия, что подтверждается ее функционированием для обозначения деятелей, как
правило, связанных с криминалом (drug czar).
Данная номинация часто используются в политической журналистике, актуализируя пейоративные характеристики, специфика которых определяется контекстом. Именно так называют В.В. Путина, акцентируя его авторитарность: “The
world gathers to celebrate the shining rule of Czar Vladimir” [INYT Feb. 13, 2014].
В текстах последних нескольких лет все чаще обозначение czar функционирует при описании американской реальности в значении «приближенные прези-
175
дента США», что выявляется при анализе западной прессы. Например, czar в основном текстообразующем параметра газетной статьи – заглавии, актуализирует
пейоративные характеристики деятельности Б. Обамы:
1. Obama‟s Czars and Their Left-Wing Affiliations [FRM May 16, 2011].
2. B. Walker. Not Obama‟s Czars but His Commissars [ATh July 20, 2009].
В американском политическом дискурсе номинация czars (Obama‟s Czars)
фактически актуализирует информацию, тождественную той, которая отражена в
понятии «приближенные В.В. Путина», о чем говорилось выше: “Obama has appointed three-dozen so-called “czars” to manage various governmental responsibilities.
These czars have been described as “super aids” [FRM May 16, 2011].
Анализ выделенных фрагментов показывает развитие семантической структуры ксенонима czar, что обусловлено его адаптацией в языке: исходное понятие
«правитель российского государства, монарх» модифицируется, актуализируя
значение «свита правителя американского государства» негативной оценочности.
В данном случае выделяется субстрат американской лингвокультуры Obama‟s
czars, который соотносится на аксиологическом уровне с субстратом российской
действительности siloviki (cronies, the nomenklatura class, the elite). Данные номинации, по сути, синонимичны czar в контексте Obama‟s czars.
При анализе лингвостилистических средств, используемых в прессе для актуализации идеологизированного субстрата, были выделены также универсальные политические термины, т.е. номинации политических феноменов, релевантных для любой лингвокультуры, при этом отличающихся национальной спецификой. Поскольку, как было отмечено ранее, в межкультурном политическом дискурсе пересекаются разные национальные дискурсы, использование терминов,
тождественных по форме, но различающихся концептуально, осложняет коммуникацию, способствуя семантической аберрации, обусловленной идеологическими расхождениями. Соответственно, «всеобщие» термины требуют определенных
средств выделения национальной специфики.
Например, концепт IDENTITY тождественен концепту ИДЕНТИЧНОСТЬ по
формальным признакам, в политическом дискурсе, как правило, подчеркивается
176
уникальность данного концепта в национальном контексте, что эксплицируется
классификатором в виде определения. В западных СМИ актуализация данного
концепта как феномена российской действительности требует не только интернационализма, но и классификатора: Soviet или Russian (national identity). Анализ
выделенных фрагментов, где актуализируется номинация identity, позволяет говорить о концепте RUSSIAN NATIONAL IDENTITY, сформированном в западном
мире в результате вторичной лингвокультурной концептуализации этимона «русская идентичность». Специфика концепта определяется политическим периодом
(Soviet или Russian). Западные журналисты отмечают идеологизированность «советского» концепта SOVIET NATIONAL IDENTITY, что эксплицировано в
текстах, например, “cultivated, controlled through Politburo”, где также выявляется
противопоставление идеологий: “During the Soviet era, Soviet national identity was
continually cultivated and even controlled through Politburo government mechanisms
that emphasized the importance of a national identity through conflict with the West and
attempted to triumph wherever and whenever” [SS Aug. 17, 2011].
Большое внимание уделено постсоветскому периоду, в частности, политике
Путина, направленной именно на «формирование русской идентичности»:
“Putin is solving the Russian National Identity Problem” [http://www.carnegie.ru/].
По мнению западных и отдельных российских политологов, официальная
концепция «русской национальной идентичности», по сути, преследует авторитарные цели: «воссоздание покорности». В следующем фрагменте реализуется
эффект «сближения» с монархией, в контексте которой россияне были не гражданами, а подданными, что имплицирует метафору czar, популярную в англоязычном дискурсе: “Putin‟s “Russian national identity” has a clear agenda – undermine the
process of transforming individuals into citizens and return the nation toward total
submissiveness and the status of “poddanye,” i.е. the state slaves” [www.carnegie.ru/].
Анализируя стратегии актуализации идеологизированного субстрата в прессе, следует выделить проблему передачи гендера при написании фамилий женского рода. В данном случае выявляется вариативность: максимальная корреляция с этимоном или локализация, что объясняется, например, изменением стан-
177
дартов. Так в руководствах для журналистов стратегия локализации устепила
стратегии форенизации и номинативной точности, чему способствует передача
гендера: “Use the feminine form of the last name for all women, contrary to AP and
previous editions of the MT guide. Raisa Gorbacheva, Lyudmila Putina” [MT Guide].
Возможен, однако, и другой подход, обоснованный стратегией доступности,
предотвращающей семантическую аберрацию: гендерно маркированная фамилия
жены в соответствии с российской традицией, в англоязычном выражении может
не восприниматься как имя супруги, поэтому в англоязычной прессе авторы нередко локализуют женские фамилии: “Mikhail and Raisa Gorbachev holding hands
in the back seat of limousines” [WM May 1, 1997].
Вышеприведенные примеры иллюстрируют динамичность политического
лексикона, постоянно обновляемого и пополняемого в соответствии с потребностью коммуникантов в данном социально-историческом контексте.
Суммируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что в текстах малого объема, которые типичны для средств массовой коммуникации, стратегии актуализации идеологизированного субстрата российской действительности выражены,
главным образом, типичной моделью «ксеноним + параллельное подключение»,
которая, однако, модифицируется, сообразно коммуникативными интенциями автора. Вариативность обусловлена адаптивными ресурсами языка, реагирующимина изменения, обусловленные социально-историческим контекстом.
2.3 Советизмы в лингвокультурном пространстве английского языка
Номинации идеологизированных феноменов советского периода – советизмы
– не потеряли актуальности и современном английском языке, они довольно употребительны как в современной прессе, так и в историографии, что предопределило выделение в работе отдельного параграфа, основной задачей которого выступает исследование функционирования ксенонимов-советизмов.
Следуя принятому в политической лингвистике подходу, под советизмами
понимаются политические термины, в том числе ономастика, номенклатурные
178
обозначения, прецедентные высказывания, репрезентирующие идеологизированные феномены российской действительности, советские политические концепты,
в том числе универсальные, которые отличаются концептуальной асимметрией
при передаче их средствами английского языка, предопределяющей вариативность на семантическом уровне.
В соответствии с когнитивно-дискурсивной парадигмой адаптация английского языка для реализации функции номинации инолингвокультурного субстрата в работе исследуется с учетом социально-исторического контекста, что требует
кратко описать основные изменения политической ситуации в нашей стране в течение последних двух десятилетий.
Неоднозначное отношение к советской идеологии и к ее лексикону, можно
представить в полярных терминах: от отрицания до ностальгического восхваления. В постсоветском периоде выделяются два этапа: первый начинается с официального распада СССР (декабрь 1991) и начального этапа «новой жизни», как
восприняли многие образование СНГ, условно он включает также последние годы
перестройки. Состояние эйфории в предвкушении улучшения жизненных условий
обусловило отрицание советских ценностей; реалии советского времени описывались пейоративно, а капиталистический образ жизни, напротив, оценивался положительно. Символом перемен стало снятие «железного занавеса», что означало
возможность ездить заграницу или даже эмигрировать, свобода слова проявилась
в праве на критику правительства.
Второй период подобен постреволюционной эпохе 1917 г., когда «строили
новое общество» на обломках прошлого, что неизбежно отражалось на вербальном уровне: восстанавливались номинации, «забракованные» советской идеологией, появлялись обозначения новых феноменов и т.п. При этом вынужден был
адаптироваться русский язык: фиксировались новые политические термины, варьировалась аксиологическая составляющая советизмов, отражая тенденции полного отрицания каких-либо достоинств советского прошлого. Лексикон новой политической идеологии закреплялся в картине политического мира, равно как советизмы, актуализирующие иное концептуальное содержание. Такая языковая си-
179
туация подтверждает сформулированный в работе тезис о том, что языковой
адаптации ксенонима в политическом дискурсе предшествует концептуальная деривация. В русском языке усилилась тенденция к англизации, свойственная, главным образом, молодежи; англицизмы и американизмы постепенно вытесняют
привычные номинации политических структур, экономических и деловых сфер и
пр. Последнее десятилетие ХХ века отличалось критикой советских идеологем
как на официальном уровне, так и в прессе.
В первом десятилетии XXI века наблюдается возврат к идеалам советского
прошлого, что обусловлено экономическими и политическими проблемами, военными конфликтами и ухудшением экономического положения основной массы
населения; эта ситуация в отечественной прессе обозначается дисфемизмом «обнищание». Сложности советского времени постепенно забылись, и «издалека»
стало казаться, что тогда все было прекрасно, а сейчас все плохо. Мировоззрение
определенной части россиян, причем не только старшего поколения, сегодня
определяется советской концептуальной системой, что объясняется чувством ностальгии по прошлому, на расстоянии воспринимаемому в позитивных тонах, в то
время как настоящее не может решить ни экономические, ни политические, ни
социальные проблемы. Объяснение «советской ностальгии» заключается в механизме когнитивного осмысления действительности, которое формируется не
только и не столько непосредственно индивидом, сколько национальной концептуальной системой, манипулятивными средствами вербализации действительности в политическом дискурсе. На ностальгическом чувстве «играет» реклама: «тот
самый чай», «вкус знакомый с детства»; по советским моделям создаются общественные организации: в ряде регионов восстановлен комсомол; реконструируются прежние ритуалы (вручение наград труженикам села) и пр.
Русскоязычная пресса 2010-х гг. напоминает прессу периода «холодной войны», что предопределено современным социально-историческим контекстом. В
средствах СМИ актуализируются отдельные ушедшие в пассив советизмы, возвращаясь как номинации «восстановленных» феноменов (например, субботник,
дружинники, тимуровцы). Следует подчеркнуть, однако, что, несмотря на анало-
180
гию с «холодной войной», настоящее десятилетие в полном смысле слова состоянием «холодной войны» не отличается, поскольку в ХХ веке оно определялось
противостоянием капиталистических стран и социалистического блока. Если рассматривать политическую ситуацию в мире в контексте официального дискурса,
то действительно выявляются тождественные середине ХХ века тенденции: манипулирование общественным мнением, резкая критика российской политики и
ее неприятие, что предопределяет модификацию политического языка, лексикона
дискурса власти. Учитывая концептуальную асимметрию концептов ХОЛОДНАЯ
ВОЙНА (советского периода) и COLD WAR, а также ХОЛОДНАЯ
ВОЙНА
(постсоветского периода) и NEW COLD WAR, сформулированный западными
политическими журналистами, которые и предложили в качестве его репрезентанта термин the new cold war, актуализирующий новый концепт.
Обобщая результат выявления коммуникативно значимых советизмов в русском языке и коррелирующих с ними ксенонимов-советизмов, логично выделить
две группы: 1) лексические единицы, коррелирующие с ксенонимами, и 2) советизмы, на данный момент, не актуальные в англоязычном дискурсе, т.е. не репрезентируемые в английском языке. Анализ корпуса примеров подтверждает, что,
вопреки предсказаниям многих в самом начале 1990-х гг., советизмы полностью
не исчезли из нашей жизни, несмотря на некоторую эйфорию тех, кто положительно воспринял распад СССР, принимая его за абсолютный отказ от советизмов
как символов советской ментальности. Исторически значимые советизмы встречается в литературе разных жанров, без них невозможно создание текстового мира
исторических произведений о ХХ веке, мемуаров, научных исследований по истории, политологии.
Важным отличием функционирования советизмов в современном русском
языке от языка советской эпохи является то, что номинации, популярные в советское время, в том числе и восстанавливаемые сегодня, не формируют значимую
часть общего языкового кода россиян. Как подчеркивает Н.А. Купина, «в понимании речевых произведений, содержащих вербальные знаки, бренды, символы эпохи социализма, наблюдается, прежде всего, поколенное различие: языковой код
181
носителей русского языка, прошедших социализацию в СССР, и носителей русского языка, прошедших социализацию в постсоветское время, не совпадает. Филологи пишут о необходимости специального комментирования советского лексикона в текстах русской литературы ХХ века» [219, с. 39].
Из вышесказанного следует, что отдельные советизмы переосмысливаются в
контексте новой политической идеологии; результат концептуальной деривации
актуализируется в номинации как семантическое варьирование, модифицируется
понятийное содержание, образность и оценочность, опосредуя модификацию семантической структуры номинации. В результате анализа лексикографического
описания советизмов в моноязычных словарях, основанных на корпусе русского
языка и на материале прессы последних двух десятилетий, были выделены следующие тенденции: 1) переосмысление советизмов в контексте данного периода;
2) модификация оценочности знаковых для советского периода номинаций;
3) образование пейоративных жаргонизмов на основе советизмов;
4) изменение номенклатурных терминов;
5) возвращение в активное употребление коммуникативно значимых историзмов.
«Культурная память», как было подчеркнуто выше, довольно долговременна,
поэтому определенная часть советских концептов сохраняется в политическом
дискурсе, влияя на восприятие и толкование действительности. Например, концепт ВРАГ, формирующий отношение к капиталистическому миру, и его вербальная актуализация в клише вражеский агент, враги социализма для объяснения необходимости кампаний по разоблачению врагов народа. Перечисленные
клише «оставили след в коллективной идеологической памяти», способствуя «активизации языкового сопротивления», например, при обсуждении статуса некоммерческих организаций, которые получают финансирование, полностью или частично, из-за рубежа [220, с. 45]. Выделенные тенденции адаптации советизмов в
современном русском языке, как предполагается, в определенной степени влияют
на функционирование их англоязычных коррелятов. Следует учитывать, что процесс адаптации в системе языка продолжается и после кодификации заимствования, так отдельные ксенонимы-советизмы «вышли» за пределы ксенонимического
182
континуума, получив статус «политические универсалии»: gulag, politburo,
agitprop, apparatchik и пр., что подробно рассматривается в 4.3.1.2.
Ксенонимы-советизмы, корреляты значимых советских феноменов, функционируют в англоязычной историографии, публицистике; при этом в глоссариях
изданий, опубликованных в постсоветский период, фиксируются новые советизмы, некодифицированные ранее. Данный факт говорит о том, что процесс лексико-семантической адаптации в значительной степени обусловлен системой английского языка и социально-политическим контекстом данной лингвокультуры,
где не ослабевает интерес западных журналистов, историков, политологов к изучению российской действительности разных периодов.
В исследуемом материале обращает на себя внимание использование советизмов негативной оценочности в качестве средства экспликации концептуального содержания и пейоративности постсоветского термина. Наиболее типичные
примеры такого функционирования представлены ксенонимами chekisty, KGB,
nomenklatura, которые коррелируют с этимонами чекисты, КГБ, номенклатура,
репрезентирующими базовые концепты российского политического дискурса.
Важным отметить, что в современной социально-исторической ситуации данные
этимоны также отличаются негативной оценочностью, в отличие от советского
дискурса, что кодифицируется толковыми словарями [Совдепия 2005, с. 464].
Советизмы способствуют реализации стратегии проксимизации, которая, как
было отмечено ранее, «сближает» во времени или пространстве политических феноменов, как в контексте национального дискурса, так и в межкультурном общении. Эффект проксимизации реализуется, например, посредством введения политических терминов, обозначающих один из наиболее печально известных периодов советского государства, который сопоставляют с ситуацией принятия нового
российского закона. В данном случае журналист не использует прямых номинаций, выражая мнение россиян об этом законе, но его понятийность и негативная
оценочность эксплицируются советизмом Stalinist purge и датой 1937:
“MPs compared the new law to regulations in the worst years of Soviet rule, “This
isn‟t 1937 [the time of the great Stalinist purge]. This is worse” [GW July 13, 2007].
183
Журналист, ссылаясь на мнение одного из депутатов, вводит в цитату комментарий, реализуя стратегию доступности, поскольку прецедентный для россиян
год «1937» не отражает аналогичную когнитивную информацию в английском
языке. Использование параллельного подключения, the time of the great Stalinist
purge, способствует актуализации советского концепта 1937.
«Приближение» советского прошлого к реальности характерно для официальной риторики В.В. Путина, напоминающей риторику периода холодной войны,
обвиняя западный мир в манипулятивности. Так, идеологизированность следующего небольшого фрагмента актуализируется, во-первых, использованием клише
the Soviet habit of blaming… on, are manipulating; во-вторых, кавычками, реализующими двойственные функции: маркер, как цитирования (слова Путина), так и
саркастической тональности. В-третьих, в контексте эксплиуирована вариативность термина agitators, который в англоязычном политическом дискурсе ассоциируется именно с коммунистической пропагандой. Перечисленные параметры
позволяют сделать вывод, что журналист, используя термин с устойчивой «советской» коннотацией, имплицирует манипулятивность российского политика.
“Putin has reverted to the Soviet habit of blaming unrest on outside agitators, suggesting that “American partners” are manipulating the protesters” [DB Dec. 19, 2011].
Как было отмечено ранее, советизмы способствуют воссозданию события
недавнего прошлого, например, сфера культуры, которая также подчинялась указаниям «сверху». Гастроли контролировала организация Госконцерт, которая
определяла куда поехать и давала «рекомендации» относительно репертуара:
“Travel for Soviet artists during the Cold War could be difficult; and Western impresarios found dealing with Gosconcert, the state agency, frustrating. In 2005, Valentin
Berlinsky recalled: “We had nothing to do with choosing where we went: we had lots of
offers from the West, but couldn‟t accept them. “As to repertoire, we were given „recommendations‟ by a special ideological committee. Gosconcert wasn‟t interested in
what we played, but only in the money we brought back” [WT Jan. 6, 2009, с. 29].
На первый взгляд, семантизация советизма Gosconcert классификатором
нейтральной оценочности the state agency, не имплицирует негативных коннота-
184
ций. Однако в приведенном фрагменте эксплицитно описана система организации
гастролей: отсутствие возможности выбора, куда именно поехать на гастроли, поскольку все решалась директивно, распоряжениями «сверху»: “We had nothing to
do with choosing…” Соответственно, state фактически означает «контроль», что
подчеркивается также эвфемизмом „recommendations‟. Кавычки, выделяющие
данную номинацию, актуализируют семантическую вариативность, в данном контексте „recommendations‟ фактически означает свою противоположность («рекомендации, которые не обсуждаются»):
Советизмы актуальны для описания биографии тех, чья жизнь прошла в советский период, без них нельзя рассказать, например, об академике Сахарове: советские знаки отличия («Герой Советского Союза»), советские реалии «закрытый
город», «(внутренняя) ссылка» передаются в англоязычном дискурсе калькированием. Семантизация в данном случае «вплетается» в текст: decorated Hero of the
Soviet Union. Пейоративность глагола exile в английском языке усиливается объяснением причин ссылки и дисфемизмом, характерным в советский период только для западных источников: “By the 1960s, Sakharov was both an oft-decorated
Hero of the Soviet Union and an increasingly astute figure politically... The Kremlin finally lost patience, and Sakharov was exiled to the closed city of Gorky in 1980 after he
condemned the invasion of Afghanistan [Time June 17, 2002, c. 71].
Насыщен советизмами и текст о Ростроповиче; в приведенном ниже фрагменте обращает на себя внимание адаптация языка для актуализации понятия
«советская номенклатура», чему способствует классификатор Soviet:
“Despite his association with dissident forces in the Soviet Union, Rostropovich
enjoyed the fruits of success and cultivated friends in the Soviet nomenklatura, including the minister of the interior and members of the KGB” [GW May 4, 2007, c. 38].
Обоснованность введения классификатора Soviet в данный контекст обусловлена стратегией доступности и предотвращает развитие неоднозначности, обусловленной тем, что термин nomenklatura используется в английском языке в значении «российская элита, приближенные Путина».
185
Следует отметить, что этимон «номенклатуре» при передаче его средствами
английского языка отличает ксенонимическая плотность: nomenklatura, the
nomenklatura class, the elite, oligarchy, siloviki.
Лингвостилистический анализ материалов англоязычной прессы позволяет
сделать вывод о наличии знакового политического концепта (POLITICAL) ELITE.
По мнению зарубежных политологов, это один из ключевых концептов российской действительности, как советского периода, так и современного, актуализируемый номинациями Russia‟s political elite, old (new) nomenklatura, the CPSU, the
CPSU nomenklatura‟s sons and daughters, nomenklatura class, clan, apparatchiks.
Множество примеров их функционирования представлено на англоязычном
сайте Untimely Thoughts политического аналитика П. Лавелле, где обсуждается и
анализируется российский политический дискурс, участниками дискуссий являются, главным образом, западные и отечественные политологи, журналисты, историки и т.п. Лексикон сайта насыщен политической терминологией, в том числе
и советизмами, которые, как и антонимичные прилагательные “old – new” подчеркивают связь современности с прошлым, элитарность; эксплицитно описываются и новые тенденции в борьбе за власть: “Russia‟s political elite … the new
nomenklatura class …is a somewhat more open class than the old nomenklatura which
it succeeded. The new nomenklatura class consists of the CPSU nomenklatura‟s sons
and daughters, grandsons and granddaughters, nieces and nephews. The main difference
between the old and new nomenklatura classes is that the latter is more flexible when it
comes to ideology, offers more room for open political contest between interests and
factions and more upward mobility into the elite from the outside [Untimely].
Как следует из вышеприведенного примера, ксеноним nomenklatura кодифицирован в английском языке как советизм, однако в современном контексте он
актуализирует новое понятийное содержание «российская политическая элита»,
новый класс (“the new nomenklatura class”).
Одним из факторов, предопределяющих адаптивность английского языка для
передачи советизмов, является восстановление ряда номинаций советского периода в русском языке или переосмысление советизма, который в результате про-
186
цесса концептуальной деривации получает новое содержание. В современном
русском языке наблюдается процесс восстановления отдельных советизмов, которые в ряде случаев, актуализируются в совершенно других контекстах. Выбор
формы номинации, идентичный советизму, имплицирует соответствующие функции и социальную значимость; при этом, как правило, выявляются негативные
коннотации. Например, одной из имеющих определенное влияние в политических
кругах группировок является так называемый «Вашингтонский обком», по форме
образования этимон представляет собой гибридную структуру: «заимствование
(топоним) «Вашингтон» + «обком» (советизм)».
И первый, и второй компонент словосочетания эксплицитно выражают связь
с правительственными структурами: топоним как символ федеральной власти, а
«обком» как символ региональной (областной комитет КПСС, фактически высшая
административная структура области в советское время).
Поисковые сайты на запрос «Washington Obkom» дают ссылки на русском
языке, например: «Вашингтонский обком, ключевой символ в России начала XXI
века. 19.03.2007» [fttp://www.polit.nnov.ru].
Приведены также ссылки на англоязычные сайты:
“Russian Paper Chides Soros, “Washington Obkom” for Support of “Tiflis Fuehrer” Saakashvili” [Aug. 19, 2004 // http://dlib.eastview.com/].
Как следует из вышеприведенного примера, аксиологические характеристики
обозначения Washington Obkom пейоративные, посредством введения прецедентной номинации “Fuehrer” эксплицитно выражена связь с антисоветскими движениями («Фюрером» называли Гитлера). Соединение номенклатурного обозначения и прецедентного имени пейоративной оценочности в одном контексте обусловливает формирование аналогичных аксиологических характеристик политической группировки: “Washington Obkom” for Support of “Tiflis Fuehrer”
Англоязычные журналисты актуализируют пейоративность номинации введением фразы “what‟s referred to ironically”. В западной прессе подчеркивают, что
Washington Obkom представляет собой определенный вербальный код (conspiratorial Russian expression), который помогает скрыть истинное назначение данной
187
структуры: “The “Washington Obkom,” which translates as the “Washington Province
Party Committee,” is a conspiratorial Russian expression that refers to a supranational
group that secretly rules Russia and the post-Soviet States from Washington – with the
help of unnamed Russian elites” [Dec. 14, 2011: http://rt.com/politics/].
Анализ функционирования данного ксенонима на различных сайтах, позволяет сделать вывод, он представляет собой политический эвфемизм, выражающий
понятие «антироссийская прозападная группировка.
С одной стороны, топоним Washington прямо указывает на реальных участников, с другой стороны, советизм в значении «обком» трактуется россиянами
неоднозначно: для одних он символизирует порядок в регионе, другие воспринимают его как историзм. Именно концептуальная неоднозначность советизма в
контексте с американизмом способствует кодированию информации.
В англоязычной прессе функционируют также номинации негативных социальных явлений, имевших место в советский период, но скрывавшихся официальной пропагандой. Например, советизм, получивший выражение в русскоязычной
прессе только в середине 1990-х, – «дедовщина», актуальность которого подтверждается тем, что он был включен в глоссарий энциклопедического издания в
постсоветский период: “Dedovshchina cross-generational bulling in the armed forces”
[CamEnc. 1994: Glossary].
Этимон дедовщина коррелирует с ксенонимом dedovshchina (практической
транскрипцией) и передается также аналогами hazing (пример 1) и bullying (пример 2), лингвокультурная соотнесенность которых эксплицируется в тексте:
1. “Hundreds of new recruits die each year at the hands of more seasoned soldiers
and officers who torture them, justifying their actions as hazing” [Nweek Nov. 6, 2000].
2. “Random killings of despairing soldiers are common in the underfunded armed
forces, where bullying is rife. But such accidents have been rare among troops in charge
of Russia‟s vast nuclear arsenal” [NYT Feb. 20, 2003].
Выделенные аналоги тождественны по оценочности и понятийности ксенониму, но не являются абсолютными эквивалентами. Например, в словарной дефиниции hazing отмечено, что это явление было характерно для военных учебных
188
заведений и сейчас запрещено: “hazing: making someone uncomfortable by forcing
them to do an unpleasant job. It used to be common in military schools but now is rare
and forbidden by the schools” [Longman Culture, c. 609].
Феномен bullying, означающий «издевательства над теми, кто младше или
слабее», выявляется в школах: “Bullying <bully a person, esp. a schoolboy or schoolgirl, who hurts or intentionally frightens weaker people” [Longman Culture, с.162].
В корпусе примеров представлены текстовые фрагменты, в которых не эксплицируется понятийная составляющая лингвокультурного субстрата dedovshchina,
однако вербализующий его ксеноним представлен в одном ряду с социальными
феноменами негативной оценочности, т.е. актуализируются аксиологические характеристики: “Compared with Soviet times, those who follow the Russian military
have hit a gold mine. Issues such as dedovshchina, crime, corruption, housing, pay, etc.
are discussed in considerable detail” [Untimely June 9, 2006].
Данный ксеноним негативной оценочности встречается в текстах других
жанров, и, как правило, сопровождается параллельным подключением:
1. “Psychological browbeating of raw recruits by other soldiers. Vzglyad‟s exposes
of this often-interethnic brutality, known as dedovshchina” [New Russians, с. 169].
2. “The brutality and bullying suffered by recruits (so-called dedovshchina)” [CamEnc. 1994, с. 455].
Исследование функционирования советизмов в современном английском
языке подтверждает и сформулированный в главе 1 вывод о расширении лингвокультурного пространства английского языка. Не будет преувеличением назвать
английский основным языком общения западных государств со странами азиатского региона, политический дискурс которых представляет интерес для данного
исследования. Коммунистическая партия таких государств, как Вьетнам, Китай,
Япония достаточно сильна, при этом национальный политический дискурс данных стран долгое время подвергался значительному воздействию советской идеологии: под влиянием КПСС были образованы Коммунистические партии в других
странах, которые заимствовали идеологию и терминологию КПСС. Закрепляясь в
японском, китайском и вьетнамском языках, советизмы нередко кодифицирова-
189
лись в принимающей языковой системе; их релевантность для национального политического дискурса данных государств подтверждается англоязычной прессой.
Политические номинации советского происхождения, актуальные для политического дискурса стран Тихоокеанского региона, где сохраняется руководящая
роль коммунистической партии, включают обозначения институтов власти, экономических явлений коммунистической идеологии, военные термины: Politburo,
five-year plan, АК-47, etc., ассимилированные практически до уровня универсалий.
Исследование кодификации заимствований из русского языка в японский
проводилось с А.В. Бордиловской, владеющей японским и английским языками, и
описано в совместной статье [391]. Методом сплошной выборки из «Японскорусского словаря», энциклопедии Encyclopedia of Japan и культурологического
словаря An English Dictionary of Japanese Culture были выделены советизмы: azito,
interi, kape, katyutya, kampa, kuremurin, kombinȃto, noruma и peresutoroika. Специфика японского произношения относительно русского обусловливает использование транскрибирования, адаптированного в соответствии с нормой принимающей лингвокультуры и английского языка.
Так, отдельные ксенонимы сохраняют тесную концептуальную связь с этимонами: «interi / interigentya (интэри/интэригэнтя) <intelligentsiya: образованные
люди,
занимающиеся
интеллектуальным
трудом;
kape
(капэ)
<
kp:
kommunisticheskaya partiya; kuremurin (курэмурин) <Kremlin: место в Москве,
где
находится
администрация
президента.
Российское
правительство;
peresutoroika (пэрэсутороика) <perestroika; noruma (норума) < norma: работа,
которую необходимо выполнить за установленный отрезок времени» [391].
При этом выделяются заимствования, кодифицированные в языковой системе, но в результате концептуальной деривации и прагматической адаптации в новом социально-историческом контексте закрепились в качестве номинаций феноменов японской лингвокультуры: «azito (адзито) < agitpunkt: пристанище членов
незаконного движения,
место тайных собраний; kombinȃto (конбина:то) <
kombinat: мероприятия по пропаганде периферийных совместных предприятий;
190
kampa (канпа) < kampaniya: действия по сбору денежных средств для проведения
политических мероприятий» [391].
Новая когнитивная информация актуализируется в ксенониме katyutya, что
предопределило расширение семантической структуры номинации:
«katyutya (катюхя) < Katyusha: 1) название советской песни; 2) имя главной
героини романа Толстого Воскресение; 3) один из видов головной повязки» [391].
Варьирование оценочности иллюстрируется термином azito (адзито), этимон
которого «агитпункт» характеризуется положительной оценочностью и эмоциональностью в советском лексиконе, ни в коей мере не связанным с криминалом
(«пристанище членов незаконного движения»).
Вышеприведенные примеры подтверждают, с одной стороны, влияние советского политического дискурса на японскую картину политического мира, с другой стороны то, что в контексте новой концептуальной системы и языка заимствование может «оторваться» от своих корней, и модификация значения закрепляется в словаре.
Выделяются советизмы и в контексте вьетнамского политического дискурса.
Значительный период геополитического формирования Вьетнама в ХХ веке определялся воздействием советского коммунизма, при этом Вьетнам находился также
и под влиянием США, что привело к разделению страны на две части (северный и
южный Вьетнам). Несмотря на то, что сегодня официально страна представляет
собой единое государство, определенное расслоение все еще отражаются в культуре страны: Северный Вьетнам, поддерживаемый Советским Союзом во времена
войны с США, является политическим центром страны и развивает идеологию
коммунизма, англоязычным рупором которой является официальная газета Việt
Nam News. Армия Северного Вьетнама использовала советское оружие, и обозначения зафиксированы в словаре военных терминов и сленга Glossary of Military
Terms & Slang from the Vietnam War A-C, составители которого представляют проамериканский Вьетнам (южный), что отражается в толкованиях: “AK-47: Sovietmanufactured Kalashnikov, semi-automatic and fully automatic combat assault rifle,
7.62-mm; the basic weapon of the Communist forces” [MilitT. VWar].
191
Классификатор Communist (the Communist forces, Communist machine) способствуют экспликации негативной аксиологической составляющей вышеприведенных слов. Зафиксировано в словаре словосочетание, объективирующее субстрат коллективизм (советская идеология), противопоставленный субстрату индивидуализм (идеология Запада): “New Socialist Man: Orwellian concept adopted by
the Communists. The ideal collectivized citizen” [MilitT. VWar].
Во вьетнамской англоязычной прессе севера большое внимание уделяется
описанию деятельности Коммунистической партии Вьетнама, что предопределяет
использование лексикона советской идеологии применительно к местным реалиям: Communist Youth Union, Party General Secretary, Revolutionary Youth League.
Ряд политических терминов представлен в глоссарии путеводителей, что
подтверждает их лингвокультурную значимость:
1. “Politburo: Political Bureau; about a dozen members overseeing the Party‟s
day-to-day functioning with the power to issue directives to the government;
2. “social evils campaign: campaign to prevent evil ideas from the West „polluting‟ Vietnamese society” [Vietnam, c. 508–510].
Как и в советском политическом лексиконе используется ономастизация the
Party (= the Communist Party), Government (= The Việt Nam Government): to honour
the Party [VNN Jan. 21, 2006, c.21].
Под влиянием советской идеологии образованы политические клише, модифицируется военная терминология: ”the Hő Chĭ Minh Young Pioneers Brigade” [VN
News Jan. 21, 2006, c. 3]. Ряд номенклатурных терминов образован по советским
моделям: “A member of Việt Nam‟s Politburo; the Party Central Committee” [VNN
Jan. 16, 2006]. Обилие клише в политической риторике соответствует «духу»
идеологии: “We need to increase the awareness and involve the public, cadres and Party members in fighting corruption” [VNN Jan. 12, 2006, c. 5].
Аналогичные характеристики свойственны и политическому дискурсу Китая:
риторика официальной прессы призвана создавать позитивный образ Компартии
Китая и ее политики, что отражено в ряде китаизированных советизмов: the
Communist Party, General Secretary Politburo; the Party Central Committee и т.п.
192
В современном Китае все еще продолжается «борьба с диссидентами».
«Культурная память» народа хранит события «культурной революции», ее последствия: подавление танками студенческих протестов: “… more than 30 years
after the end of the Cultural Revolution, and 20 years after the tanks crushed student
protests in Tiananmen Square” [ChD July 18, 2011, с. 9].
Падение коммунистических режимов в какой-то мере повлияло на политику
Компартии КНР, допуская компромиссы, но, не ограничивая свою власть. В среде
последователей Мао, особенно в Пекине, в речевой практике китайских ленинцев
традиционно используются советские клише и лексикон коммунизма: “Nearly
three decades after Mao‟s death, his political legacy still guides the Leninists in
Beijing” [JT Sep. 5, 2005, с. 13].
Только в прессе запада, как и в англоязычной японской прессе, эксплицитно
выражены аксиологические характеристики правления Мао, чистки, убийства
студентов: “Mao‟s giant portrait peers down Beijing‟s Tiananmen Square, where his
successors gunned down hundreds of people to save communism in 1989 at a time
when other besieged Leninist regimes began to fall” [JT Sep. 5, 2005, с. 13].
Следует отметить, что реалии советского времени включают не только термины партийной идеологии, но и знаковые имена советской культуры. Несмотря
на то, что в России восстановлены многие исторические названия, в том числе театров, переименованных после революции и получивших имена видных советских политических деятелей, в англоязычном дискурсе многие из них закрепились как своего рода брендовые имена. Так, Мариинский театр, в советское время
– Кировский (ксеноним the Kirov), в англоязычной прессе Китая по-прежнему известен как the Kirov, что способствует экспликации имени the Mariinsky Theatre:
“Kirov Back: The Kirov Ballet from the Mariinsky Theatre will bring the “Swan
Lake” to Beijing ballet lovers in September” [ChD Sep. 10, 2001].
Обобщая вышесказанное, следует подчеркнуть, что, как показывает исследование корпуса примеров, номинации инолингвокультуры в принимающем языке
не обязательно в полной мере сохраняют тесную связь со своими этимонами;
адаптируясь в системе, они могут реализовывать новые функции, в частности,
193
обозначая феномены других инолингвокультур. Особо важным представляется
отметить, что отдельные советизмы не потеряли своей актуальности в англоязычном мультикультурном дискурсе, отражая изменения социально-исторической
ситуации в России, где восстановлены с определенной модификацией некоторые
советские феномены, что предопределило и активизацию их обозначений. Советизмы функционируют в политическом дискурсе ряда стран в качестве средства
номинации партийных феноменов, при этом они являются частью системы языка
данной лингвокультуры и, соответственно, используются в межкультурном политическом дискурсе.
2.4 Инолингвокультурная первичная номинация – этимон
Основная задача настоящего параграфа заключается в обосновании термина
«первичная инолингвокультурная номинация-этимон», введенный в данной работе для обозначения единицы, которая актуализирует инолингвокультурный концепт, сформированный непосредственно в концептуальной системе западного мира и отражающий восприятие «чужой» действительности. Культурологическим
примером результата концептуализации такого рода выступают стереотипы, в то
время как вербальные единицы, объективирующие когнитивное осмысление инолингвокультуры в речевой практике и кодифицированные в словарях, на данный
момент терминологического названия не получили.
В ходе анализа эмпирического материала были выявлены слова и словосочетания, репрезентирующие идеологизированный субстрат российской действительности, которые, однако, не коррелируют с каким-либо этимоном в русском
языке, соотношение было выявлено только на уровне переводческих вариантов.
Соответственно, возникает вопрос, если лексическая единица представляет собой
вторичную лингвокультурную номинацию, отличающуюся тесной связью с этимоном, т.е. обязательно коррелирует с ним, значит, лексические единицы типа
(Russian) bear, Russki /Rooskie, Socialist sympathizer, Russian scare, Russian threat,
Red scare/threat и т.п. терминологически не могут быть обозначены как «ксенони-
194
мы». Названные обозначения отражают осмысление России в западном мире на
уровне концептуальной деривации, в контексте которой российская действительность преломляется через призму Запада, понятийность, образность и оценочность формируемых при этом концептов большей частью определяются стереотипом «враг». Маркированные Russian («русский») они отличаются пейоративной
оценочной составляющей, обусловленной длительным идеологическим противостоянием «Россия – Запад». Кратковременный период «потепления» после распада социалистического блока в 1990-х вызвал кризис советологии, ставшей ненужной, однако сегодня наблюдается восстановление риторики «холодной войны».
Вербальные репрезентанты сформированных англоязычными политиками и
журналистами концептов российской действительности включают номинации
Russian mafia, (Russian) bear, Russki /Rooskie, Socialist sympathizer, Russian scare,
Russian threat, Red scare, Red threat, buttinsky, new Russians, Russiannes, pavlova и
др., функционирующие в англоязычных текстах различных жанров и регистров.
Перечисленные
единицы
объективируют
концепты
RUSSIA,
RUSSIAN
IDEOLOGY, RUSSIAN PEOPLE и входят в когнитивную матрицу Russia, влияя на
оценочность составляющих ее концептов. Большая часть перечисленных единиц
отличается пейоративностью, что способствует решению задач определенного
пропагандистского воздействия: формированию образа «чужой».
Анализируемые лексические единицы, по сути, являются первичными, т.е.
этимонами, образованными непосредственно в системе английского языка в качестве средства репрезентации концептов чужой лингвокультуры. В данном случае
реализуется, главным образом, адаптация на уровне когнитивного осмысления
действительности, результатом которой выступает формирование нового концепта, который закрепляется в концептуальной системе западного мира и актуализируется на вербальном уровне.
Из вышесказанного следует, что терминологическое определение вышеперечисленных номинаций представляет особую трудность: формально, они обозначают инолингвокультурные концепты, которые, однако, не выступают национальными концептами данной лингвокультуры, поскольку оформились
непо-
195
средственно в концептуальной системе Запада, т.е. представляют собой первичные концепты. Соответственно, традиционный подход, в соответствии с которым
первичное обозначение называется этимоном или первичной лингвокультурной
номинацией, коррелирующей с ксенонимом или вторичной лингвокультурной
номинацией, в данном случае невозможен, поскольку нарушено терминологическое соотношение этимон – ксеноним.
Важно подчеркнуть, что в большинстве случаев связь анализируемой лексики с русским языком выражена эксплицитно; во-первых, ассимилированным заимствованием «Russian», первым компонентом ряда словосочетаний, во-вторых,
на морфологическом уровне: посредством слов, образованных при помощи суффиксов славянского происхождения типа –sky. Названные характеристики позволяют сделать вывод о том, что при этом актуализируется идеологизированный
субстрат именно российской действительности. Главные специфические качества
данных обозначений в том, что они актуализируют инолингвокультурные концепты, но сформированные непосредственно в концептуальной системе западного
мира, т.е. являются этимонами. В русскоязычном дискурсе подобные номинации
появились в результате перевода с английского языка, как правило, с графическими или лексическими маркерами (кавычки/курсив, так называемые), выделяющими «чужую» оценку российской действительности.
Наиболее яркие примеры функционирования первичных инолингвокультурных номинаций относятся к периоду «холодной войны», когда одной из основных
задач диктатуры власти в странах капитализма было противодействие распространению коммунизма в лице СССР. «Угроза» проникновения идеологии коммунизма на Запад в послевоенный период (1940–1950-ые гг.) была достаточно
обоснована, политики помнили о популярности социализма в 1930-е годы в США,
в так называемую эпоху Red Decade («красное десятилетие»). Оптимистичное
восприятие социализма было практически повсеместным (но кратковременным),
что подтверждается, например, таким фактом, как отказ в издании книги американского автора русского происхождения. В 1933 г. издательства в США не взяли
на себя смелость опубликовать первый роман Э. Рэнд We The Living (в русском
196
переводе «Мы – живые»); причина отказа заключалась именно в том, что она отрицала коммунистические идеи [475, с. VIII].
Для противостояния «вредным идеям» коммунизма в рамках политики Доктрины Трумэна (Truman Doctrine) формировался концепт COMMUNISM и закреплялась соответствующая оценочная составляющая. Цель доктрины заключалась в так называемой стратегии containment of Communism («сдерживание коммунизма»), что, по сути, означало объявление «крестового похода против коммунизма» (a crusade against Communism) для предотвращения распространения
«коммунистической инфекции» (Communist infection) и «угрозы международного
коммунизма» (a threat of international Communism).
В англоязычной прессе, беллетристике, публицистике и пр. концепт
COMMUNISM объективирован разнообразными терминологическими словосочетаниями метафорического характера и негативной оценочности, которые формировали чувство страха, ожидания угрозы со стороны России. Созданию пейоративного образа коммунизма (коммунизм – это маркер врага, «чужого» /Other)
способствовали также терминологические номинации Communist expansion («распространение коммунизма»), the aggression by Communist regimes («агрессия коммунистических режимов), the Communist conspiracy («коммунистический сговор»). В 1946 г. фиксируется единица the Soviet military threat («советская военная
угроза»).
Противостояние лагеря социализма и капитализма – как мира «чужого» против своего «свободного» – актуализировалось также политическими метафорами
the iron curtain («железный занавес») и the cold war («холодная война»).
Ключевым концептом послевоенного периода выступает непосредственно
COLD WAR, имя которого, изначально связанного только с советской страной,
адаптировалось и функционирует в межкультурном политическом дискурсе для
обозначения напряженных отношений между разными странами. В русском языке
номинация англоязычной этимологии cold war коррелирует с переводным эквивалентом, фразеологической калькой холодная война [254, с. 107]. Данный термин
кодифицирован в англоязычных словарях; в определении Cold War подчеркива-
197
ется оппозиция Советского Союза и его сателлитов демократическим странам западного мира под руководством США: “Cold War, rivalry after World War II
between the Soviet Union and its satellites and the democratic countries of the Western
world, under the leadership of the United States” [Random, с. 402].
В письменной практике концептуальная асимметрия маркируется на орфографическом уровне: заглавные буквы в начале каждого слова выделяют словосочетание как имя собственное, название периода противоборства идеологического
плана («без применения оружия»), между СССР и западными странами. Если
слова не выделены заглавными буквами, то актуализируется универсальный концепт. По сведениям журналистов, термин the cold war был впервые использован в
1947 г., а завершилась холодной войны с распадом социалистического блока:
“The cold war finally ended only when growing internal dissent and a collapsing economy triggered the implosion of the Soviet system” [Nweek May 8, 2000].
Конец холодной войны связывают с именем М.С. Горбачева, что и предопределило такую популярность советского лидера в западном мире, и прецедентность его имени не вызывает сомнения. В отечественном политическом дискурсе,
имя Горбачева вызывает негативные ассоциации с распадом СССР; в западном
считают, что именно он «поднял» железный занавес: “Nearly thirty years ago, more
pluralistic American media coverage of Soviet Russia helped President Ronald Reagan
meet its leader, Mikhail Gorbachev, halfway in a joint effort to abolish the Cold War
forever. (They thought they had succeeded)” [Nation Jan. 16, 2013].
Уверенность в невозможности возобновления холодной войны на встрече со
студентами колумбийского университета высказал В.В. Путин, призывая покончить с изучением советологии: Putin calls for abolishing “sovietology” as subject at
U.S. institutions [Pravda.ru Aug. 26, 2003].
К сожалению, «потепление» переходит в «похолодание», которое усиливается с каждым годом, причем, по мнению отдельных журналистов, в этом виновата
российская сторона: “President Vladimir Putin last weekend declared that a new arms
race and cold war with the West had begun, and announced that Russia would retaliate
198
against US missile defence plans in Europe by pointing its missiles at European cities”
[GW June 08, 2007, с. 5].
По мнению других западных журналистов, именно Запад провоцирует Россию: “Although the US political-media establishment routinely blames Putin, the
movement toward cold war, instead of partnership, with post-Soviet Russia began almost a decade before he came to the Kremlin – in the 1990s, in Washington, under the
Clinton administration” [Nation Jan. 16, 2013].
Как показал анализ корпуса примеров, в социально-историческом контексте
настоящего тысячелетия актуализируется концепт NEW COLD WAR, сформированные в результате концептуальной деривации концепта COLD WAR:
“The remarkable difference between the Cold War and its more heated versions is
that one cannot launch the Cold War if the attacked party refuses to pick up the fight. So
far, there have been no obvious signs of Moscow‟s readiness to engage in the Cold War
rhetoric” [Putin takes on the world‟s “wolf” // Untimely May 12, 2006].
Из вышесказанного следует, что адаптация концепта COLD WAR в англоязычном мире отразилась и на российской концептуальной системе: в языковой
картине мира контактирующих лингвокультур зафиксированы термин the Cold
War (первичная инолингвокультурная номинация-этимон) и «холодная война»
(калькирование, ксеноним), объективирующие соответствующие концепты.
Концептуальная деривация данного термина в ситуации меняющегося социально-исторического контекста предопределила формирование своего рода смежных концептов: NEW COLD WAR и IRON CURTAIN, репрезентанты которых the
new cold war и the iron curtain. В современном дискурсе термин the iron curtain, по
данным зарубежных ученых, возник на основе прямой номинации: «в XVIII веке
занавес из железа предназначался для защиты от пожара в театрах, чтобы в минуту опасности зрители были ограждены от сцены. Метафора возникла практически
мгновенно; термин the iron curtain, выражающий понятие «преграда советскому»
(the Soviet barrier), был впервые использован в 1920 г., однако повсеместному
распространению способствовало выступление Уинстона Черчилля в 1946 г.»:
199
“The iron curtain was literally a curtain of iron, used in eighteenth-century theaters. “As a precaution against fire, an iron curtain was constructed, so as to let down in
a moment of danger and separate the audience from the stage”. It was almost immediately used figuratively for any impenetrable barrier. The first use of iron curtain to refer
to the Soviet barrier appeared in 1920, but it was not until Winston Churchill‟s 1946 address that it became a household expression” [Its Own Words, с. 251–252].
В русском языке номинация англоязычной этимологии iron curtain коррелирует с фразеологической калькой железный занавес [254, с. 107].
В корпусе примеров выявлена актуализация концепта NEW COLD WAR в
публикациях настоящего десятилетия, причем наиболее ярко это проявляется в
прессе 2008 г. Интенсификация пейоративности обусловлена отношениями России и Грузии: “When Russian tanks rolled into Georgia and its fighter bombers and
artillery bombarded Gori, the Kremlin well knew it was declaring that the Cold War had
restarted” [AS Aug. 18, 2008].
Одной из наиболее популярных номинаций периода 1920-е –1930-е гг., эпохи
«сочувствующих коммунизму», в западной риторике периода холодной войны
выступает словосочетание Socialist sympathizer. Возникнув на «основе советского
коммунизма/социализма», выражение Socialist sympathizer использовалось пропагандистами как своего рода ярлык «сторонники коммунизма», который «навешивали» и на западных журналистов, поддерживающих политику советской власти.
Так, резко критиковали журналистов С. Уэбб и Б. Уэбб за прославление советского коммунизма, описание достижений советского строя, где они не видели или не
хотели замечать никаких пороков; по мнению противников нашей страны, «такие
западные журналисты, как Сидни Уэбб и Беатрис Уэбб – сторонники социализма,
в своих репортажах искажали (советскую жизнь)…» (“Distorted reportage by Western socialist sympathizers, such as Sidney and Beatrice Webb…”) [Russians, с. 176].
Наиболее ярким примером англоязычной первичной инолингвокультурной
номинации пейоративной оценочности является выражение Президента Р. Рейгана the evil empire, которое впервые прозвучало в выступлении Speech to the National Association of Evangelicals в 1983 г. (Orlando, Florida). Фраза the evil empire,
200
одна из ключевых номинаций ХХ века, включена в словарь цитат: “The Evil Empire, a term for the former Soviet Union, deriving from a speech by Ronald Reagan in
1983. The name is often used allusively of a political approach focusing exclusively on
the perceived dangers from a particular direction” [ODPhrase 2006, с. 239].
В приведенной дефиниции выделены два значения: 1) “the former Soviet Union” и 2) метафорическое наименование предполагаемой угрозы с какой-либо стороны (“the perceived dangers from a particular direction”). Развитие семантической
структуры отражает, как известно, коммуникативную востребованность номинации, за которой «стоит» значимый концепт.
По данным зарубежных советологов именно в англоязычном политическом
дискурсе был образован дисфемизм Stalinism, обозначающий политические приниципы И.В. Сталина: “Stalinism” is a term coined outside of Russia [Untimely].
В советологических исследованиях подчеркивается также, что, невзирая на
феномен реально существующего культа, сам И.В. Сталин не позволял так называть свою деятельность: “He (Stalin) never permitted his own political order to be
officially described as “Stalinism” [Political Mind, c. 6].
Термин “Stalinism” кодифицирован словарями малого объема, выделяющими
его пейоративность: “Stalinism: the principles and practice of communism associated
with Stalin characterized by the extreme suppression of opposition, totalitarian rule, and
an aggressive foreign policy 1925–1930” [WCD, с. 1273].
Современные русскоязычные толковые словари зафиксировали производные
имени И.В. Сталина, в том числе и сталинизм, только в постсоветский период:
«Сталинизм, сталинист, сталинщина» [СРЯ ХХ, с. 754–755].
Ксенонимическая плотность инолингвокультурного концепта RUSSIA подтверждает его коммуникативную значимость; он объективирован в английской
картине мира целым рядом вербальных единиц, истоки которых в русском языке.
Основные номинации советского периода включают Russia, Kremlin, Moscow,
Soviet Union. Словарные определения перечисленных единиц, как правило, достаточно объективны и нейтрально оценочны, в то время как в речевой практике нередко актуализируется пейоративность.
201
Следует подчеркнуть, что данный концепт вербализуется и первичными инокультурными номинациями, т.е. репрезентантами концептов, сформированных в
концептуальной системе англоязычного мира. Среди них выделяются метафорические обозначения “the bear” и “the bear state”, отличающиеся пейоративностью;
их популярность в современном политическом дискурсе в некоторой степени
предопределена созвучием с фамилией «Медведев».
Как отмечают западные журналисты, «выдвижение политика, чья фамилия
происходит от русского слова «медведь» (“bear”) было неудачным выбором. Западные русофобы уже давно используют имя этого животного как национальный
символ страны такой же дикой и агрессивной, которую, однако, можно укротить,
если удастся надеть ей на шею железный обруч»:
“Selecting a man whose surname derives from the Russian word for “bear” is unfortunate. Western Russophobes have long used the animal as a national symbol to portray the country as wild and aggressive, though susceptible to being tamed if you can
get an iron ring round its neck” [Guardian March 3, 2008].
Данная метафора обыгрывается в разнообразных контекстах, актуализируя
негативную оценочность и возвращая нас к противостоянию периода холодной
войны (советская/российская угроза Западу – the Bear was perpetually threatening):
“Russians understand why we needed NATO in the days when the Bear was perpetually threatening to break out of its cave and fall upon the West‟s sheepfolds. Now,
however, we appear to want to march into the cave and throw stones at the Bear. No
wonder it emits the occasional growl” [Independent April 7, 2008].
Использование зоононима в функции метафорического названия нашей страны создает пейоративный образ; актуализации метафорической персонификации
способствует орфографическая адаптация (прописная буква: the Bear) и авторский
комментарий:
“Mainstream institutional investors from the West are embracing the Russian Bear
as never before. Gone are the days – for now, anyway – when arms had to be twisted
and favours called in to get Russian floats away” [Times Feb. 27, 2008].
202
Пейоративная метафора Bear (State) получила широкое распространение в
западном политическом дискурсе в значении «Россия», в частности, в заглавиях
публикаций СМИ, где актуализируется значение «русская угроза, опасность»:
1. “Don‟t Laugh at the Bear («Не смейтесь над Медведем») [WS Oct. 15, 2008];
2. “Russia‟s Crisis: This Winter, the Bears Will Not Hibernate” («Российский
кризис: этой зимой Медведи не впадут в спячку») [Time Dec. 24, 2011];
3. “Be wary of embracing the Russian Bear, it can still bite” («Опасайтесь обнимать «Русского Медведя», он все еще может кусаться») [Times Feb. 27, 2008].
Образ «чужого» в западном политическом дискурсе, начиная с 1940-х гг.,
создавался фразами, которые постепенно превращались в клише: the Russian
scare/threat, the Red scare/threat. В отечественных англоязычных публикациях ХХ
века данные номинации встречались только маркированные кавычками и/или
лексическими маркерами. Соответственно, по аналогии с западной риторикой, в
советской официальной политической риторике была образована инолингвокультурная номинация-этимон «американская угроза», которая известна в англоязычном мире как перевод с русского языка. Следует отметить, что в англоязычных
аутентичных публикациях перевод всегда выделяется кавычками, актуализируя
скептические коннотации («так называемый»): “All that the innocent Soviets had
done was respond to the “American threat” [Moscow Spring, с. 84].
Вышеназванные примеры иллюстрируют объективацию концептов пейоративной оценочности, которые создаются в концептуальной системе англоязычного мира и объективируются соответствующими номинациями, способствуя формированию образа «вражеская Россия». Учитывая идеологические противоречия,
историю борьбы за лидерство на мировой арене, перечисленные примеры логически обоснованы и соответствуют задачам западной пропаганды.
Следует выделить, однако, и довольно неожиданную, как может показаться
на первый взгляд, концептуальную деривацию ксенонима sputnik в западном политическом дискурсе. В отечественной лингвистике неоднократно с гордостью
отмечалось, что это заимствование стало частью лексико-семантической системы
английского языка буквально за несколько часов – что соответствует действи-
203
тельности. Как отмечено в исследовании П. Диксона, известный американский
лексикограф К. Л. Барнхарт через двадцать четыре часа после запуска спутника
добавил статью sputnik в готовящийся к печати словарь Comprehensive Desk
Dictionary (Thorndike-Barnhart) [Shock of the Century, с. 249].
В англоязычных толковых словарях дефиниция соответствует требованию
объективности: “sputnik (also Sputnik) literally, „travelling companion‟. An unmanned artificial earth satellite, especially a Russian one; specifically each of a series of
such satellites launched by the Soviet Union between 1957 and 1961” [ОDictFW].
Важно подчеркнуть, что в коммуникативной практике периода холодной
войны данная номинация стала прямым обозначением победы Советского Союза
(в западной концептуальной системе – врага) в соревновании с капитализмом.
Соответственно, в заимствование sputnik, репрезентирующее концепт SPUTNIK,
нередко употребляли в контексте, способствующем актуализации пейоративности. «Спутник» означал растущую техническую мощь СССР и форсировал следующий этап гонки вооружений:
“Sputnik signaled the Soviet Union‟s growing technical capability and helped to
precipitate a new phase in the US-USSR arms race” [Times Atlas].
Слово «спутник» использовали как уничижительный термин:
“Sputnik was even used as a term of deprecation” [Shock of the Century, с. 250].
Концептуальная деривация нового концепта обусловила восстановление в
английском языке продуктивности словообразовательной функции суффикса –nik,
которая на тот момент практически была утрачена. Новообразования, главным
образом, описывали негативные характеристики, выражая качество «чрезмерная
приверженность чему-либо»:
“-nik a suffix of nouns, usually derogatory, persons who support (are concerned)
associated with a particular political cause or group, cultural attitude or the like: beatnik, filmnik, no-goodnik, peacenik < Yid (cf. nudnik) < Slavic a personal suffix in Slavic
languages in contact with Yiddish” [Random, с. 1300].
204
В современном английском языке данный суффикс малопродуктивен, однако
отдельные пейоративные номинации на его основе, например, peacenik, не потеряли своей актуальности.
Концептуальная система не отличается статичностью: политические концепты формируются и переформируются, реагируя на изменения в социуме. При анализе корпуса примеров в контексте описания деятельности российского президента были выявлены такие пейоративные номинации, как cronies, crony capitalism,
пейоративной оценочности. Феномен crony capitalism, как следует из дефиниции
данного выражения, может наблюдаться практически в любом государстве:
“Crony capitalism: an economic system in which family members and friends of
government officials and business leaders are given unfair advantages in the form of
jobs, loans, etc. ” [CamDict].
Как следует из анализа прессы настоящего десятилетия, он соотносится
главным образом, именно с российской действительностью; адекватных форм передачи его на русский язык не выявлено. Западные политологи высказывают мнение, что это камуфлирующее обозначение, скрывающее концепт SOCIALISM.
Именно такие ассоциации выделены в названии статьи: The “Crony” in Russian
“Capitalism” is Socialism (18.08.2008): “Crony capitalism” is a misnomer. Under capitalism, there are no state favors or subsidies to business... It is socialism and a mixed
economy that breed “cronyism” [http://www.capmag.com/].
Существительное cronies, как было отмечено ранее, относится к ряду номинаций, выражающих понятие «лица, приближенные Путину», т.е. имплицируют
элитарность. Данное слово, как правило, используется во множественном числе,
как своего рода генерализация, что также способствует актуализации ассоциативной связи с ксенонимом siloviki.
В корпусе примеров выявлены текстовые фрагменты, в которых выделяется
прагматическая функция cronies, способствующая усилению пейоративности метафоры czar. Метафорическое обозначение политиков, в частности, czar свойственно именно западному политическому дискурсу, в котором объективируется
авторитарность В.В. Путина:
205
“Russia ended up with a czar. Vladimir Putin, the 21st-century czar, may be nicer
than Stalin or Czar Alexander III (who reigned from 1881 to 1894) and brighter than
Nicholas II (1894 to 1917). But he‟s still a czar, with a czar‟s sense of infinite entitlement. Putin believes he deserves to rule Russia” [NP Jan. 19, 2008].
Сочетание cronies с метафорой czar способствует актуализации понятия
«царь и его свита», что имплицирует тоталитарность и отсутствие демократических свобод: “A czar, of course, never comes alone. He comes with cronies, the cronies
are always hungry” [WS № 9, 2007].
В прессе настоящего десятилетия распространение получило выражение deep
state, применимое, в принципе, к любой стране, но популярно сегодня именно в
значении «приближенные В.В. Путина», тождественном этимону «силовики»:
“As long as Putin controls Russia‟s “deep state” – i.e., the key figures in the military,
law enforcement, and security services – he will have more power and influence than
whoever is the formal head of state” [RFE/RL Aug 16, 2011].
Из вышесказанного следует, что репрезентация понятия «лица, приближенные Путину» в английском языке отличается ксенонимической плотностью и
представлено
следующими
номинациями:
(Putin‟s) cronies, siloviki, elite,
nomenklatura и относительно новую единицу – “deep state”.
Перечисленные единицы включают как ксенонимы, так и номинации, образованные именно западными политологами и журналистами: cronies и deep state.
В исследуемой группе выявлены и репрезентанты концепта RUSSIAN, объективированные в английском языке рядом единиц, в первую очередь, словом
Russian, которое коррелирует с этимоном «русский» и англоязычным этимоном
негативной оценочности Russki /Rooskie.
Обе номинации кодифицированы в англоязычном толковом словаре, при
этом оценочность ксенонима Russian нейтральная. В речевой деятельности возможна актуализация коннотативной вариативности, обусловленной концептуальной деривацией, неизбежной при контакте идеологически противопоставленных
систем. Стереотипное негативное представление западного мира русского человека отражено в пейоративной номинации Russki. Этимологически данное слово
206
восходит к искаженному произношению фразы I am a Russian как Ya Russki , как
утверждает американский лингвист Менкен, которая была популяризована американскими солдатами во время Второй мировой войны: “Russkis”, popularized by
American soldiers in WW II, comes from “Ya Russki” (I am a Russian)” [460, с. 109].
При анализе этимологии подобных неоднозначных примеров единственным
авторитетным критерием выступает верификация данных, внесенных в академический словарь. Так, по данным The Oxford English Dictionary (OED), первое употребление слова Russki в британском английском относится к 1858 году, дата регистрации в системе языка 1919 год, причем первоначально этноним не обладал
негативной оценочностью: “Russki /Rooskie <Rus Russkiy, 1858. Cf. Norcki: a Russian or person of Russian descent. 1919” [OED].
В американском английском это слово появилось во время войны при контактах русских и американских солдат, как отмечено в словаре Dictionary of
American Regional English, где кодифицировано два значения: 1) пейоративное
наименование русского человека»; 2) «этническое прозвище иностранцев»:
“Russki (Russky), pl. -kis or -kies; informal 1. often offensive a Russian; 2. slang
of American Forces in Europe 1967–68, names and nicknames for people of foreign
background” [DictAmRE].
Американские лексикографы отмечают, что слово buttinski образовано на основе глагола butt in (to intrude) и суффикса славянских фамилий -sky/i:
“buttinsky/buttinski < American butt in intrude + sky/i, from Slavic surnames; sl.,
a person who interferes in the affairs of others; meddler [WCD, с. 181]; “buttinski pl.skies a person who habitually butts in; an intruder or meddler” [DictAmRE].
Данная номинация, включающая суффикс славянского происхождения, способствует стереотипизации русского человека, россиянина.
В современном политическом дискурсе деривативные образования на основе
buttinski встречается в публицистике в контексте описания феноменов американской лингвокультуры, например, как основа для образования окказионализмов:
“How far sequels can go before we say enough is enough: Police Academy. How many?
207
a.k.a. “Mission to Moscow”: “Kicking buttski. Making you laughski. The Academy is
backski!” [Nweek May 21, 2001].
Окказиональные образования laughski, backski в вышеприведенном примере
способствуют созданию комического эффекта.
При анализе эмпирического материала были выделены новообразования, актуализирующие феномен российской реальности «дети олигархов», причем как в
отечественной прессе, так и в зарубежной. В англоязычной коммуникативной
практике данное явление названо образованным по модели buttinski словом
Bratski: “Ninety years on from the Russian Revolution, a new phenomenon is gripping
the former Soviet Union – the Spoilt Bratski Revolution” [DM Nov. 3, 2007].
В приведенном примере негативные ассоциации актуализируются не только
посредством Bratski, но и политическим термином the Russian Revolution, который
в данном контексте теряет терминологическую понятийность, при этом передает
скептическое отношение автора к «революционным» переменам в России. Если
the Russian Revolution совершалась бедными, то the Spoilt Bratski Revolution – богатыми, точнее, избалованными детьми богатых (the Spoilt).
Важно отметить, что адаптация английского языка для номинации инолингвокультурного субстрата реализуется на нескольких тесно взаимосвязанных
уровнях. В реальной практике они протекают практически в одной временной
плоскости, что не означает, однако, полного параллелизма. Формирование новых
ассоциативных связей предопределено концептуальной деривацией в новом социально-историческом контексте. Лексико-семантическая адаптация определяется
коммуникативными интенциями автора и параметром адресованности на читателя, при этом актуализации на вербальном уровне неизменно предшествует уровень когнитивного восприятия.
Например, номинация buttinsky в процессе концептуальной деривации, обусловленной сложившимися пейоративными стереотипами о российской действительности, приобрела негативные оценочные смыслы, которые влияют и на новообразования на основе данной модели, закрепляя стереотипы инолингвокультуры.
208
Вышеприведенные примеры актуализации идеологизированного субстрата
российской действительности отличает исключительно пейоративность. В англоязычной картине мира, однако, зафиксированы и лексические единицы положительной оценочности, объективирующие концепты, сформированные исключительно в концептуальной системе запада. Во-первых, необходимо выделить, концепт RUSSIAN IDENTITY («русская идентичность»), объективированный номинацией Russianness, которая образована на основе русизма Russian и английского
собирательного суффикса –ness: “Russianness <Russian + ness, a strong Russian
identity. The quality or state of being Russian. 1937” [OED XIV, с. 296].
В отличие от вышеприведенных обозначений Russianness актуализирует положительные коннотации, «этническую связь» выходцев из России: “In New York
and Israel many Jews feel their Russianness” [Russians, с. 653].
Несмотря на то, что исследованных толковых словарях номинация «русскость» не зафиксирована, ее функционирование в русскоязычном дискурсе очевидно. Например, сборник статей, составленный В.В. Красных «Русские и «русскость»: лингво-культурологические этюды».
Во-вторых, значимой составляющей матрицы «Россия» в англоязычном мире
является русская и/или российская культура, искусство. Русская балерина Анна
Павлова настолько потрясла своим талантом англоязычный мир, что во время ее
гастролей в начале ХХ века в Австралии и Новой Зеландии в ее честь был создан
торт-безе, своего рода символ легкости и воздушности ее танца. Этот факт зафиксирован в словаре; российское искусство способствует положительному образу
России в англоязычном мире: “pavlova: a light cake made of meringue, cream, and
fruit especially popular in Australia. It is thought to have been invented to celebrate a
visit to Australia or New Zealand by Anna Pavlova” [Longman Culture, с. 989].
Следует также подчеркнуть, что эта номинация коррелирует в русском языке
не с этимоном, а с переводным эквивалентом; соответственно, включение слова
pavlova в группу заимствованных русизмов, как иногда утверждается в отдельных работах отечественных лингвистов, представляется ошибочным.
209
Неординарный случай концептуальной деривации перевода первичной инокультурной номинации положительной оценочности на русский язык представляет собой термин New Russians, образованный известным американским журналистом Х. Смитом. Именно так он назвал свою книгу о постсоветской России, своего рода продолжении книги The Russians, которая в советское время была запрещена как антисоветская; прочитать ее можно было только в спецхране публичных
библиотек Москвы и Ленинграда.
Предисловие к книге The New Russians Х. Смит начинает одной из ключевых
фраз эпохи: «После падения стены… Покидая Россию и русских в декабре 1974, я
думал, что эта громадная страна и ее народ никогда не изменятся. Русский народ
был настолько русским… И об этом я написал в книге «Русские»… Как
оказалось, я был неправ…»: “After the Wall Came Down When I left Russia and the
Russians in December 1974, … I thought that vast country and its people would never
really change. As a people they were so Russian… And I wrote that in my book The
Russians. As it tuned out, of course, I was wrong” [New Russians, с. XVII–XVIII].
В книге The New Russians Х. Смит рассказывает о другом русском народе,
«новых русских», подчеркивая, что, только понимая, корни реформ, можно понять и кто такие «новые русские»: “Before we can understand the New Russians, it is
necessary to understand the roots of the present reforms” [New Russians, с. 4].
Важно выделить и функции артиклей, акцентирующих внимание на понятии
«народ» в данном контексте: a people (т.е. весь народ) и обобщающая сила определенного артикля the New Russians (не прослойка!).
Именно позитивная оценочность выражена и в журналистике, и в беллетристике англоязычных авторов, например, криминальный роман М.К. Смита Wolves
Eat Dogs: “And stop using the phrase „New Russians‟ when you refer to crime. We‟re
all New Russians, aren‟t we?” [Wolves, с. 6; с. 7].
К сожалению, позитивная оценочная составляющая первичной инокультурной номинации в переводных вариантах не выражена, и, как известно, в российском дискурсе словосочетание «новые русские» отличается, главным образом,
210
пейоративностью, что кодифицировано в определении термина в «Словаре современного жаргона российских политиков и журналистов».
В словарной статье указывается, что «термин позаимствован из западной
прессы, в которую попал из книги журналиста Х. Смита «New Russians». В российских СМИ впервые применен газетой «Коммерсантъ» в 1992 г. 1. В широком
смысле – все богатые, живущие в России, сделавшие состояние в ранний период
современной России. 2. Лубочный персонаж. Малообразованный человек, непонятно как сделавший себе богатство на волне российских реформ. 3. В узком
смысле – социальный слой живущего в России населения, характеризующийся
высокой материальной обеспеченностью, образованностью, особым менталитетом и стилем жизни (в противоположность значению 2)» [Словарь жаргона, с. 87].
Обобщая вышеизложенное, следует подчеркнуть, что в концептуальной системе англоязычного мира концепты российской действительности формируются
в двух направлениях. Во-первых, это концепты, содержание которых обусловлено
их этимонами в отечественной концептуальной системе. Во-вторых, это концепты, возникшие в концептуальной системе англоязычного мира и первично репрезентируемые именно средствами английского языка, не связанные этимологически с русскоязычными наименованиями, т.е. этимоны. Большая часть подобных
номинаций объективирует политические концепты негативной оценочности, что
предопределено идеологическими установками Запада.
Важно отметить, что создаваемому негативному стереотипному образу России противостоит и другая Россия, известная своим искусством и самобытностью
национального характера. Положительный идеологизированный субстрат отражен в довольно немногочисленных номинациях, которые, тем не менее, способствуют нейтрализации пейоративных стереотипов нашей страны.
211
2.5 Концептуально-семантическая и прагмалингвистическая адаптация
в межкультурном политическом дискурсе «Россия – Запад»
2.5.1 Идеологические варианты «эвфемизм :: дисфемизм»
Политический дискурс, как форма вербального коммуникативного взаимодействия, диалогичен по своей сути: он направлен «на поиск политической позиции, согласование намерений, выявление взаимных интересов, или, наоборот,
противоположной политической позиции, согласование намерений», так описывает Т.П. Третьякова политический диалог [338, с. 311]. Данные рассуждения на
вербальном уровне можно представить в виде оппозиции
«прямая номинация (дисфемизм) :: косвенная номинация (эвфемизм)».
Концептуализация политического феномена в межкультурном политическом
дискурсе обусловлена идеологией своей лингвокультуры, национальной картиной
политического мира и мировоззрением индивида. Как правило, задача политиков
и журналистов заключается в формировании положительного имиджа «своей» и
негативных стереотипов «чужой» лингвокультуры, что предопределяет идеологизированность каждого уровня адаптации языка при образовании номинации.
Как было отмечено ранее, основой механизма адаптации языка выступает
концептуальная деривация, которая реализуется в контексте межкультурного общения как вторичная лингвокультурная концептуализация, при этом выделяются
составляющие субстрата инолингвокультуры. На вербальном уровне концептуализация инолингвокультуры актуализируется обозначениями в соответствии с
установкой диктатуры власти, в частности эвфемизмами и дисфемизмами.
Так, в ходе военных действий возникают ситуации, ненамеренно или преднамеренно, военных действий, направленных на на солдат и офицеров своей армии, что, естественно, не может считаться нейтральным или тем более положительным феноменом. Концептуальное переосмысление данного события способствует выделению оценочной составляющей концепта АРМИЯ, если речь идет о
себе, выделяется коннотация «друг»(friend). Соответственно, в контексте «род-
212
ной» прессы используется политический эвфемизм taking friendly fire (дословно
«подвергнуться дружескому обстрелу», т.е. нападение на свои войска). Боевые
действия противника в аналогичной ситуации выражаются дисфемизмом being
attacked by your own troops.
Корреляция такого рода является одной из наиболее ярких иллюстраций результата процесса вторичной лингвокультурной концептуализации и объективации ее результата в виде вторичных инолингвокультурных номинаций, анализу
функционирования которых посвящен данный раздел.
Как было отмечено ранее, лексикон политического дискурса определяется
социально-историческим контекстом, средой функционирования. Например, так
называемый «советский язык», Communese English (в терминологии М. Пеи), понимается как результат адаптации английского языка для выражения вербального
кода советского политического дискурса; иначе говоря, завуалированный язык
эвфемизмов, противопоставленный «стандартному английскому»:
“patriotic versus pro-communist; liberate versus conquer; land reform versus confiscation; free versus totalitarian” [474, c. 154].
Анализируя специфику эвфемизмов и дисфемизмов в работе Forbidden
words. Taboo and the Censoring of Language, K. Аллан и K. Бѐридж пришли к логичному выводу: эвфемизация дискурса или, напротив, актуализация дисфемизмов наиболее четко выявляется именно при контакте лингвокультур с идеологически несовпадающими концептуальными системами [399].
В англоязычном политическом дискурсе скрытая пейоративность русскоязычных этимонов объективировалась, в первую очередь, на графическом уровне;
вторичная лингвокультурная концептуализация, способствующая выявлению
концептуальной асимметрии в исходной культуре относительно нового контекста,
выражалась эксплицитно выделением советизмов-эвфемизмов кавычками или
курсивом. Вторым способом актуализации концепта, переосмысленного при
осмыслении в иной лингвокультуре, является использование дисфемизмов или
прямых номинаций, что обусловлено адаптацией на лексико-семантическом
уровне. Другой вариант актуализации инолингвокультурного концепта представ-
213
ляет собой введение каких-либо лексических указателей, маркирующих манипулятивность советской политической риторики: in their words.
В корпусе иллюстративного материала, отражающего официальную политическую риторику советского периода, выявлены косвенные обозначения, оправдывающие ввод советских войск в Афганистан: «выполнение интернационального долга», «по приглашению» и пр., которые способствовали намеренному искажению действительности. При передаче идеологизированного субстрата «выполнение интернационального долга» посредством английского языка процесс вторичной культурной концептуализации способствовал выделению скрытой информации и негативной оценочности этимонов, что отразилось на вербальном
уровне, где были сформированы прямые номинации – дисфемизмы. “Many speakers paid tribute to those who had died, in their words, “on internationalist duty” in Afghanistan” [MS April 18, 1987].
Следует особо подчеркнуть, что выделение уровней адаптации в данном случае, как и во всех рассмотренных выше, условно. «Пусковым» механизмом каждого этапа выступает концептуальная деривация, обусловленная прагматическими
установками дискурса власти.
Естественно, что в советских англоязычных изданиях номинации такого рода
трактовались как прямые обозначения, искажая истинное положение дел. Сопоставление лексикона западного политического дискурса и советских англоязычных изданий позволяет выделить идеологические варианты, функциональностилистические синонимы или прагматические варианты «дисфемизм – эвфемизм». Так, в примере, приведенном К. Алланом, негативное отношение к вводу
советских войск в Афганистан и к советской манипулятивной риторике, актуализируется глаголом claimed и дисфемизмом aggressors, эксплицирующим прямое
значение эвфемизма invited в англоязычном политическом дискурсе: “In the mid
1980s the USSR claimed to have been invited into Afghanistan; the Americans claimed
that the Russians were aggressors there” [399, с. 50].
В англоязычных западных публикациях использовался дисфемизм invasion;
негативное отношение к происходящим событиям выражается также прямым пей-
214
оративным атрибутом illegal: “I was no supporter of the Soviet invasion. Although
nominally a response to an invitation from Afghan leaders, the dispatch of Soviet troops
in December 1979 was foolish and illegal” [GW Dec. 18–24, 2003].
В период перестройки советское правительство признало неправомерность
своих военных действий в Афганистане, однако прямых номинаций, тем не менее,
избегали: политические эвфемизмы «выполнение интернационального долга», «по
приглашению» заменили традиционным «даблспик», например, «ошибки».
Например, в следующем фрагменте дисфемизм Soviet intervention in the Afghan
war используется в контексте с эвфемизмами a mistake, the excessive use of force:
“The liberal faction of the press was using Gorbachev‟s glasnost for an open assault on current policy – specifically, Soviet intervention in the Afghan war. During a
television roundtable in mid-June 1988, Fyodor Burlatsky, a former speech writer for
Khrushchev, asserted that the Soviet intervention in Afghanistan had been a mistake.
Izvestia columnist Alexander Bovin added that sending one hundred thousand troops into Afghanistan was typical of the excessive use of force in Soviet foreign policy” [New
Russians, с. 102].
В период афганской войны в функции политического эвфемизма закрепился
военный сленг «груз-200», в англоязычном дискурсе он коррелирует с практической транскрипцией gruz-200 и калькой two hundreds. Обе номинации актуализируются в английском языке как армейский сленг и графически маркированы. Эксплицируя значение gruz-200, автор использует прямую номинацию corpses, выделяя пейоративность ксенонима; в контексте «своей» политики в подобных случаях, как правило, используется эвфемизм casualties: “The war is also coming home in
the form of gruz-200 – Russian army slang for corpses” [Time No 2 2000].
Объяснение этимологии “two hundreds” в следующем примере, на первый
взгляд, подтверждает отсутствие фоновых знаний у корреспондента: “Two
hundreds” is army slang for bodies. One explanation is that a body packed in a zinc coffin and a wooden crate for transport weighs 200 kilos, or 440 pounds” [NYT Jan 14,
2000].
215
Однако в отечественной прессе также встречаются некорректные толкования:
«Стандартный гроб – изделие «Г-3» размером 2 м 10 см – в длину, 86 см – в ширину. Трехслойное изделие «Г-3» – гроб вместе с цинковой оболочкой, транспортировочным ящиком и телом покойного – весит около двухсот килограммов. Отсюда и пошло название «груз-200» [АиФ № 47 2003].
В Словаре русского военного жаргона В.П. Коровушкина образование военного сленга «груз-200» объясняется метонимическим трансфером номера приказа:
«груз-200 – трупы убитых, 1979–89. Афганская война, Чечня. Приказ МО за №
200» [Жаргон, с. 80].
Политическая эвфемизация официального дискурса практически не меняется
при освещении военных событий: «У нас называть войну войной чаще всего избегают. Войны в Афганистане не было, мы просто ввели туда ограниченный воинский контингент. Мы как бы не участвовали в войнах в «третьем мире”. Советская традиция продолжилась и в демократической России. Если во время первой
чеченской кампании хотя бы иногда говорили о военных действиях, то во время
второй – у нас антитеррористическая операция» [Новая газета 13.01.2002].
Наиболее яркие примеры такого рода характерны для периода холодной войны: эвфемизм «своей политики» в советских англоязычных изданиях соотносился
с дисфемизмом в английском политическом дискурсе запада. Эвфемистическая
номинация, если и функционировала в англоязычной прессе, то непременно выделялась графически (кавычками или курсивом) или лексически (so-called), что маркировало концептуальное и аксиологическое варьирование.
Идеологические варианты «эвфемизм :: дисфемизм» включают тематически
разнообразный лексикон. Период «террора» отражен ксенонимами Doctor‟s plot =
persecution of Jewish doctors, enemy of the people = political opponents, “ten years
without right of correspondence” = execution. extreme measures = to kill: “Extreme
measures” – shooting people…” [Nweek July 20, 1998].
Коллективизация соотносится с эвфемизмами resettlement (= deportation),
“special settlement” (= exile): “Special settlements” had been established by the NKVD.
They were little different from labour camps” [Behind Closed Doors, c. 268].
216
Концепт ОТТЕПЕЛЬ актуализирован дисфемизмом the Thaw, с которым соотносятся эвфемизмы “the secret speech”, the personality cult (в значении Stalin
cult/Stalinism), Stalin‟s “mistakes”, т.е. crimes, excesses of Stalin (= persecution of
people): “In the aging dictator‟s last years the stultifying effect of what his successors
would call “the cult of the personality” became obvious” [CamEnc 1982, c. 118].
Оппозиция эвфемизм :: дисфемизм свойственна актуализации «запретных
тем»: the Party Line = Stalin/Lenin Line, the “center (Center) = Moscow, government;
негативныйх политических и социальных явлений: individual = private /co-op, coop; non-aligned countries – non-socialist, “underground”/”unofficial” – banned,
“blank pages”/“white spaces” = banned topics.
В англоязычном дискурсе аксиологическая вариативность эвфемизма, в частности, негативная оценочность, маркирована графически, при этом нередко функционирует параллельно дисфемизму, который эксплицирует семантику ксенонима. Параллельное подключение средств семантизации реализуется в тексте далеко
не всегда; в ряде случаев выявление инолингвокультурной информации, заключенной в ксенониме, требует обращения к широкому контексту.
Например, вводятся уточняющие детали, которые способствуют актуализации понятийности и оценочности. Так, словосочетание the Kolyma gulag camps не
вызывает негативных эмоций у непосвященного человека, однако использование в
данном тексте номинации slave laborers объективирует негативные аксиологические характеристики: “During the Stalin years, a significant portion of Vladivostok‟s
exports was human beings – slave laborers heading by sea to work in the Kolyma gulag
camps” [BR May 1999, c. 6].
Доминирующее чувство страха советского человека обусловило развитие эвфемистических обозначений органов власти и пр., прямые номинации для рядового человека были табуированы, вслух их старались не произносить. Как подчеркивает Л.П. Крысин, «камуфлирующие наименования наиболее частотны при
описании того, что надо скрывать: жизнь лагеря или тюрьмы, работы оборонных
предприятий, а в недавнем прошлом – скрытой деятельности верхушки коммунистической партии и госаппарата, работы ЧК – ОГПУ – НКВД – МГБ – КГБ, кото-
217
рые получили устойчивое эвфемистическое наименование компетентные органы.
Например, лагерь или тюрьма в административно-деловом жаргоне называется
учреждение» [203, с. 270]. Соответственно, в англоязычной картине мира советский политический концепт КГБ был репрезентирован как прямыми номинациями, так и косвенными, например, “…The „special section‟ at Pavel‟s plant, a
euphemism for the KGB presence in every Soviet institution” [Moscow Spring c. 121].
В русскоязычной речевой практике использовали номинацию «(высшие) органы», которая коррелируют с ксенонимом (higher) organs: “Higher organs‟, a euphemisms for the Party Central Committee of the KGB” [Moscow Spring, c. 149].
Табу советского общества включают также обозначение органов госбезопасности номинацией «особый отдел», который коррелирует с ксенонимом-калькой
(a special Department) и транслитерацией (Osobyi Otdel): “Political crime was made
the responsibility of a special Department (Osobyi Otdel)” [KGB, c. 4].
В данном случае выявляется ксенонимическая плотность, реализуемая эвфемизмами, которые характерны для коммуникативной практики, но не вошли в
языковую систему, т.е. не кодифицированы: „special section‟, „higher organs‟, a
special Department, Osobyi Otdel. В терминологии А. Вежбицка подобные номинации являются «языковой самообороной», актуализируемой в тоталитарном государстве при жестком политическом контроле как выражение «тех эмоций, отношений и идей», которые «могут быть выражены с помощью слов и словосочетаний подпольного языка» [70, с. 108].
Эвфемизация лексики является результатом концептуальной деривации, способствующей выявлению нового смысла, иной оценочности, что наиболее отчетливо проявляется в политическом дискурсе тоталитарного государства. Общение с
представителями власти, «органами» (КГБ), как правило, вызывало страх. В сталинский период, когда приветствовались доносы, страх вызывали окружающие,
«рядом могут быть доносчики», которые «напишут», примером может служить
плакат с надписью «Не болтай» или с лозунгом «Болтун – находка для шпиона».
Например, глагол write в соответствующем контексте может актуализировать
пейоративность, поскольку фактически обозначает write reports to the organs:
218
“In the 1930s, Nadezhda Mandelstam tells us, the verb to write assumed a new
meaning. When you said he writes or does she write? or (referring to a classroom of
students) they write, you meant that they wrote reports to the organs. (Similarly, the
Cheka‟s rigged cases were called „novels‟). To „write‟ meant to inform, to denounce.
Solzhenitsyn calls it „murder by slander‟” [Kobe the Dread, c. 141–142].
Имя Сталина вызывало у советских людей противоречивые чувства: с одной
стороны, такое же чувство страха, как и КГБ (НКВД, ЧК и т.п.), с другой стороны,
многие испытывали смешанное чувство благоговейного трепета и уважения, и
почитания. В метафоре М. Амиса отражается именно чувство страха, которое
держало в подчинении всю страну: Kobe the Dread. Laughter and the Twenty Million
(M. Amis). Соответственно, дисфемизм «культ Сталина» даже в период оттепели
не характерен для советской риторики, прямая номинация Stalin cult использовалась только в англоязычных зарубежных публикациях: “The cult of Stalin was
already being replaced by the cult of Khrushchev” [Revolutionaries, c. 27].
Перевод генерализации «культ личности» на английский язык маркирован
кавычками, которые акцентируют идеологически обусловленное концептуальное
варьирование: “He wants to avoid creating another “cult of personality”, the
euphemisms for glorification of an all-powerful leader” [Gorbachev. Biography, c. 3].
В публикациях XXI века графическое выделение, как правило, не используется: “Nowhere is today‟s personality cult more visible than in Putin‟s hometown of St.
Petersburg” [Nsweek May 7, 2001].
Возможным объяснением представляется ассимиляция номинации personality
cult, универсалии, обозначающей чрезмерное почитание какого-либо политического деятеля в любой лингвокультуре: “personality cult usu derog the officially encouraged practice of giving too great praise to a particular person, esp.a political leader:
a personality cult surrounding the Prime Minister” [Longman Culture, c. 1004].
Метафорическое обозначение событий в Чехословакии Пражская весна – the
Prague Spring: непосвященный читатель может и не понять: за обозначением
скрываются события 31 августа 1968 г., когда по приказу советского правительства были введены войска СЭВ, что рассматривалось на Западе как “Soviet
219
invasion”, «вторжение». В СССР Пражская весна обусловила усиление диссидентского движения. В дефиниции энциклопедических англоязычных изданий the
Prague Spring трактуется как период, характеризуемый стремлением народа добиться свободы слова, прессы и т.п., что и побудило их к восстанию:
1. “The Prague Spring. The spring of 1968 in Czechoslovakia, characterized by a
growing freedom of speech, the press, and the arts” [RussEnc, c. 324].
2. “The Prague Spring. An uprising in Czechoslovakia in 1968” [Atlas, c. 179].
«Пражская весна» как политический термин выступает прецедентной номинацией, однако, не для всех. Так, одна туристическая фирма рекламировала туры
в Прагу на майские праздники, которые назвала «Пражская весна».
Прямые номинации характерны для англоязычных зарубежных публикаций;
действия советских войск описывали, как правило, пейоративно: “1968. Soviets
crush “Prague Spring” uprising in Czechoslovakia” [Oregonian Dec. 29, 1991].
В отечественной англоязычной прессе постсоветского периода события 1968
г. описываются дисфемизмами:
“The Prague uprising of 1968 that was subsequently squashed by the Soviet Army
prompted Brezhnev to steer the country back toward strict state regulation, both in the
economy and internal politics” [MT Dec. 15, 2006, c. 4].
Динамичность эвфемизма в современном дискурсе иллюстрируется оппозицией militia – police, militiaman – policeman, модификация которой происходит на
наших глазах. В период становления Советской власти национально-языковая политика требовала отказа от институтов власти царской России, полностью заменить которые не представлялось возможным, тогда модифицировались обозначения, и концепт ПОЛИЦИЯ вербализовали эвфемистически милиция: “Uniformed
police, militsia (“police” was considered a bourgeois term), are omnipresent in Soviet
cities” [From Nyet to Da, c. 104].
Отечественные словари предлагали два варианта перевода этимона милиционер: интернационализм, объективирующий концептуальную деривацию, способствующую выделению функции «ложный друг переводчика»: милиционер 1.
militiaman; милиционер 2 policeman (in the USSR) [HPAC, с. 1213].
220
Прямая номинация имеет помету (in the USSR). В современном политическом
дискурсе проблема перевода на английский язык данного обозначения (эвфемизмом или прямой номинацией) больше не актуальна в связи с преобразованием
милиции в полицию. Следует отметить, что в англоязычном политическом дискурсе militia функционирует как «народное ополчение», поэтому использование
данного термина в значении police актуализировало семантическую аберрацию, и
для разрешения неоднозначности, как правило, использовали параллельное подключение средств семантизации.
В период перестройки социально-политические и экономические изменения,
в частности, легализация частного бизнеса, который длительное время считался
«пережитком капитализма», обусловили появление новых эвфемизмов. Закрепившиеся в сознании советского человека негативные стереотипы концепта ЧАСТНИК влияли на оценочность номинаций частная школа, частный бизнес и пр.
Соответственно, подобные структуры получили обозначение коммерческие школы,
индивидуальное
предпринимательство.
Носители
английского
языка-
билингвы при переводе, как правило, использовали эквивалент private.
Буквальный перевод эвфемистических номинаций кодифицировался отечественными русско-английскими словарями, например,
индивидуальное хозяйство – individual farm [РАС].
В.П. Москвин, а вслед за ним Е.П. Сеничкина, высказывают мнение, что
прямые обозначения, отличающиеся семантической неопределенностью, семантической редукцией, могут выступать как эвфемизмы, аналогично словам «с
обобщенной семантикой»: «книжные, научные термины, мало известные среднему носителю языка, иноязычная лексика». В качестве примера приводится следующее высказывание: «У него педикулез (вм. вшивость). Исконно русское слово
обладает прозрачной формой, содержит отрицательную оценку, а иноязычное
медицинское слово педикулез знают далеко не все носители русского языка. Следовательно, подобное высказывание можно употребить в эвфемистических целях,
для «смягчения» отрицательной оценки» [311, с. 8–9].
221
Данная точка зрения представляется не совсем убедительной, поскольку, вопервых, некоторые медицинские термины, в том числе педикулез, известны образованным людям. Во-вторых, использование термина действительно искажает в
той или иной мере информацию, маскирует ее, однако это скорее пример двусмысленности, но не смягчения номинации.
В медицинском дискурсе эвфемизацией можно считать генерализацию, заменяющую серьезный диагноз: опухоль – вместо рак, как было принято ранее в
нашей стране. Сегодня в российской медицине диагноз не скрывается.
Термины любой сферы, не только медицинской, доступны далеко не всем
читателям, что подтверждает лингвосоциопсихологический эксперимент, проведенный Т.М. Дридзе на материалах прессы. Одно из заданий включало объяснение значения «употребительной газетной лексики», которая была неверно объяснена. В результате «был получен ряд неверных определений»: эскалация – «прекращение военных действий»; потенциал – «пунктуальный, либерал – «это слащавое что-то»; бундесвер – «это темные силы чего-то» и т. д.» [131, с. 182–184].
Из данных примеров следует, что массовый читатель не проявляет большого
интереса к политике: семантика «весьма употребительной газетной лексики» оказалась недоступной, несмотря на то, что в советское время политинформации
проводились регулярно. Сооветственно, вышеприведенное мнение о том, что термины способствуют эвфемизации, представляется сомнительным, думается, что
данный пример иллюстрирует бюрократизацию языка газеты.
Политические эвфемизмы российского политического дискурса в текущем
десятилетии, как и в предыдущие исторические периоды, обусловлены политической, социальной и экономической ситуацией. Так, в России, как и во многих других странах, существует потребность в неквалифицированном труде, которая решается, главным образом, за счет привлечения иммигрантов, как правило, из
бывших союзных республик, негативное отношение к которым актуализируется и
на вербальном уровне. Номинации иностранцы, инородцы, мигранты нередко
используются в СМИ; в разговорном регистре частотны и оскорбительные этнические номинации.
222
Выбор лексикона и средств актуализации оценочности определяется автором, учитывающим предполагаемые разделенные знания у читателя или, точнее,
отсутствие общего знания, что обусловливает в ряде случаев использование дополнительных средств семантизации, например, прямое указание на то, что графические маркированное обозначение является эвфемизмом (euphemistically
described as “spheres of influence”): “A sign of intensely practical nature of the talks
was the swiftness with which the discussion turned
to what was euphemistically
described as “spheres of influence.” This deliberately innocuous phrase could mean as
little or as much as each of the participants wished. Eventually, of course, after the Nazi
invasion of Poland it was used to determine who should exercise control over various
eastern countries” [Behind Closed Doors, c. 16].
Как отмечалось выше, важным способом актуализации концептуального варьирования, особенно оценочности, является использование лексического оборота
so-called, который, как и кавычки или курсив, может актуализировать скептическое отношение к реальности. В следующем примере so-called относительно номинации normalization означает, что фактически ничего не изменилось: “The argument is made that the decline of history, which some regard as a sign of Russia‟s socalled normalization, allows some past injustices to endure, and also permits prejudices
to survive unchallenged” [JCH 2003].
Современная российская реальность отличается криминализацией не только
структур власти, но и социума, что предопределяет модификацию лексикона.
Прямая номинация «откат» нередко заменяется косвенными, типа «административный налог» и т.п. В следующем примере передача средствами английского
языка слова «откат» выделена кавычками, маркирующими одновременно цитирование: “Thirdly and perhaps most importantly, there is the pervasive bureaucracy that
exacts the so-called “administrative rent” from everything that moves” [MN No 22,
2010, c. 3].
Графические маркеры способствуют выделению оппозиции (англоязычный
политический дискурс) «дисфемизм:: эвфемизм» (советский дискурс); следует
223
подчеркнуть, однако, что всегда необходимо учитывать контекст, коммуникативные потребности, позицию языковой личности-автора высказывания.
Например, эвфемизм Чеченской войны зачистка образован от глагола положительной оценочности «чистить», что создает положительные коннотации. Однако в речевой практике данная номинация актуализирует значение «террористические действия» (“mop-up operations”), «убийства военных и гражданских лиц
(“cleaning up operation”, “flush out”): В тексте это выражено эскплицитно:
“Chechen civilians used to be subjected to a different kind of horror, known as zachistki,
or “mop-up operations.” …what the Russian army calls a zachistka, literally a “cleaning
up operation”, supposedly intended to “flush out” guerrilla fighters hiding among the
civilian population. Hundreds of zachistki have been carried out throughout Chechnya”
[BBC Aug. 9, 2001].
Этимон зачистка в ряде случаев используется в значении «чистка» (эвфемизм сталинских времен) – «политическая зачистка»: “It is part of what Vladimir
Ryzhkov, an independent member of the lower house of parliament, the Duma, decribes
as a political zachistka (purge): a word mainly used to describe bloody Russian raids on
Chechen villages” [Economist Feb. 24, 2007, с. 30].
Манипулирование вербальными средствами не означает невозможности увидеть скрытую информацию, именно увидеть, поскольку, как неоднократно подчеркивалось, графические и лексические средства актуализации концептуальной
деривации позволяют вдумчивому читателю понять позицию автора. Например,
кавычки и фраза what he termed подчеркивают ссылку на источник термина и в то
же время определенную ироничность автора: “Victor Yushchenko, threatened to
call a snap election to defend himself against what he termed a “putsch” by parliament,
which wants to strip him of his powers” [Economist Sep. 08, 2008, c. 32].
Как было отмечено выше, одним из активных социальных процессов современного российского социума, отражающимся и на языковом уровне, является
криминализация, что эвфемистически называют «демократизация языка»: использование криминального жаргона в литературном языке (беспредел). Интересно
отметить, что при этом в криминальных кругах наблюдается восстановление со-
224
ветизмов, которые подвергаются концептуальной деривации и актуализируют новые эвфемистические значения. Например, советизм бригада, образованный в
свое время посредством метафорического трансфера на основе военного термина
(бригада коммунистического труда), в современном дискурсе означает «криминальная группа». Соответственно, бригадир – главарь криминальной группы.
Номинация «мафия» характеризуется скрытым значением, за которым – «организованная преступная группировка», в английской картине мире актуализируется прямое значение: “mafia: term used in contemporary Russia for organized
crime” [21st Century, c. 141].
В следующем примере эвфемизм, выражающий точку зрения российского
министра (“core interests”), эксплицируется дисфемизмом (i.e., without America),
актуализирующим имплицируемую информацию, как ее воспринимает западный
журналист: “Russia‟s foreign minister, Sergei Lavrov, advised Europe to decide its
policy towards Russia based on its own “core interests” (i.e., without America) …with
snide remarks about American arrogance” [Economist Sep. 08, 2008].
Аналогичный пример оппозиции эвфемизм “reforms” – дисфемизм “repressive
measures” приведен в статье A Russia expert argues that Vladimir Putin‟s new “reforms” are really a return to repression:
“What are the main reasons behind Putin‟s political reforms?
Stephen Sestanovich: Is that what you‟re calling them? I call them “repressive
measures” [Nweek Sep. 16, 2004].
Поскольку эвфемизмы отличаются динамичностью, их следует рассматривать в контексте данного социально-политического и экономического периода.
Подвижность номинаций в этой группе лексики обусловлена тем, что эвфемизация в ходе использования «стирается», приобретает негативные коннотации, что
требует использования новой лексической единицы.
Идеологическая картина мира, создаваемая посредством эвфемизмов, субъективна и часто противоречит реальным фактам. Ethnic Russians в одной идеологии превращаются в undesirable aliens в другой. Это типичная для любого современного общества ситуация, которой способствуют средства массовой информа-
225
ции, чья задача заключается в создании идеологически регламентированных концептов. Каждая номинация в политическом дискурсе закреплена за определенной
идеологией, негативная оценочность дисфемизма в контексте «своей» идеологии
лексически (so-called) и/или графически маркирована, равно как и использование
эвфемизма в контексте «чужой» идеологии: “The “Union of Right-Wing Forces” is
supported by a group of so-called “young reformers”, who support an accelerated
introduction of the market economy and who were forced to resign following the
financial crash of August 1998” [http://www.wsws.org/ Dec. 22, 1999].
Выбор единицы номинации определяется, во-первых языковой личностью,
намерен ли она выделить положительное или смягчить отрицательное, во-вторых,
политикой издательства, в-третьих ситуацией общения, в ходе которой образуются прямые и косвенные номинации.
Таким образом, как следует из приведенных выше примеров, процессы эвфемизации, характерные для дискурса власти партии, обусловливают создание идеологических вербальных оппозиций. Эвфемизм и дисфемизм, обозначая один и тот
же феномен, актуализируют разные аспекты, фактически конструируя асимметричные концепты, отражающие полярные по значению качества. Вербализация
таких концептов всегда обусловлена идеологически, что способствует формированию своеобразных идеологических синонимов, соответствующих идеологической и социальной дифференциации социума и «приписанных» определенной социальной группе. Косвенные номинации, способствуя модификации оценочности,
влияют на концептуальную систему и формирование идеологических концептов
общества и языковой картины мира, что четко видно в ретроспекции.
Результатом переосмысления концепта является подмена обязательных признаков денотата, что отражается на оценочности и актуализации концепта. Все то,
что в прямом наименовании для данного общества или морали является неприемлемым, нежелательным, негативно характеризует ее, всегда получает косвенную
номинацию, истинное значение которой является «скрытым».
226
2.5.2. Прагматические варианты «свой» :: «чужой»
Вторичная лингвокультурная концептуализация какого-либо феномена, репрезентируемого вербально в одной лингвокультуре, на актуализацию данного
концепта в новом коммуникативном пространстве. В англоязычном политическом
дискурсе выделяются своего рода прагматические варианты, каждый из которых
«приписан» к определенной лингвокультуре. Если оба варианты являются инолингвокультурными, «чужими» относительно английского языка, значения и коннотации каждого из них эксплицируется; если одна из номинаций известна в англоязычном мире, обязательно семантизируется другая.
Репрезентация идеологически обусловленного концепта в другой лингвокультуре может выражаться лексической единицей, отличающейся в той или иной
степени от обозначения, принятого в «своей» идеологии. Образующиеся при этом
пары номинаций, фактически имплицируют коннотации «свой» или «чужой», и за
каждой из них «скрывается» соответствующая концептосфера и идеология.
Сопоставительный анализ корпуса англоязычных источников отечественных
авторов и английских текстов, авторы которых представляют другие лингвокультуры, позволил представить следующие основные оппозиции:
Fascism
Nazism
Soviet-German/
Nazi-Soviet Pact / Non-aggression Pact/
Russo-German Treaty
Molotov-Ribbentrop Pact
The Great Patriotic War
the Second World War
The Yalta Conference
the Crimean Conference
peaceful coexistence
détente
February Revolution
March Revolution
The Winter campaign/
the Winter War/
The Finnish war
the Russo-Finnish campaign
В Большом энциклопедическом словаре определение термина фашизм включает в качестве примеров, итальянский и германский фашизм:
227
«фашизм – социально-политические движения, идеологии и государственные режимы тоталитарного типа. В узком смысле фашизм – феномен политической жизни Италии и Германии 20–40-х гг. ХХ » [БЭС].
В англоязычном межкультурном политическом дискурсе в описании второй
мировой войны, термины различались прагматически: в отечественных изданиях
функционировала номинация fascism, в западных публикациях – Nazism. При переводе на английский язык советских лозунгов военного времени их, как правило,
не локализовали, сохраняя прочную связь с этимоном: “BEF – abbreviation for Bei
fashistov (defeat the fascists). Commonly seen on tank turrets” [Slang WWII, р. 277].
В советской политической риторике термин фашизм использовался в специализированном значении: гитлеровский фашизм, нацистский фашизм, что, соответственно, сохранялось и в англоязычных советских публикациях.
В западной риторике в подобном контексте функционирует термин Nazism,
означающий именно «фашизм нацистской Германии»: “Amid the euphoria of the
Grand Alliance‟s victory over Nazism” [Legacy WWII].
Специализированное значение термина Nazism как «идеология и деятельность немецкой нацистской партии» зафиксировано в англоязычных словарях:
“Nazism: the political ideas and activities of the German Nazi Party” [Collins Cobuild].
Учитывая это, необходимо помнить, что при перекодировании желательно
предотвращать концептуальную аберрацию: поскольку в англоязычной картине
мира термин fascism традиционно актуализирует генерализированное значение,
неоднозначность необходимо снимать, например, графическим выделением, маркирующим семантическую вариативность, комментарием и т.п.
В российской риторике последних десятилетий наблюдаются тенденции к
использованию термина Nazism в контексте, где традиционно вводили термин
fascism, что способствует эффективности англоязычного межкультурного общения: “During the Great Patriotic War, the Soviet Red army defeated Nazi Germany and
Hitler and thus saved the world from the fascist plague and Nazism [Pravda.ru
10.12.2011].
228
В данном случае текст создан русскоязычным автором и опубликован на российском сайте, что позволяет говорить об определенной локализации: использование термина Nazism в соответствии с традицией англоязычного политического
дискурса в значении «фашизм в Германии 1920–1940-х», однако в вышеприведенном примере сохраняется традиционное в российской риторике обозначение
the Great Patriotic War.
Примеры такого употребления характерны для публикаций последних лет:
“It was hard to acknowledge that the totalitarian Soviet Union played the key role in
crushing Nazism. As children of postwar decade, we were raised on stories of heroic
deeds, sacrifice, mass killings and Nazi torture. The Soviet government did not have to
hide the Great Patriotic War” [MT June 22, 2011, c. 8].
The Great Patriotic War – World War II
В советской риторике особое значение, естественно, придавалось Великой
Отечественной войне, иначе говоря, тому периоду второй мировой войны, отсчет
которого начался 22 июня 1941 года, в день нападения на СССР. В данном случае
используется метонимическая номинация the Great Patriotic War (часть целого):
“…the memory of the shared ordeal and triumph in what the Soviet people call the Great
Patriotic War is a primary source of the unblushing patriotism they feel today” [Russians,
c. 370].
Можно говорить и об определенном расширении значения (вторая мировая
война). В англоязычных советологических публикациях калькирование русского
термина всегда семантизируется “World War II. Depicted by the Soviet government as
the Great Patriotic or Fatherland War (1941–45)” [Sputnik Generation, c. 5].
Если рассматривать словосочетание the Great Patriotic War как буквальный
перевод или кальку, можно утверждать, что перевод некорректный, поскольку
patriotic не означает «отечественная». Возможно и другое направление рассуждения: «отечественная война» означает «война за свое Отечество», т.е. патриотическая. В англоязычных толковых словарях в дефиниции слова fatherland подчеркивается словозначение «место, где ты родился». Иллюстративный пример выделяет компонент «гордость за свою родину» (proud of it), что позволяет сделать вы-
229
вод о том, об адекватности номинации Patriotic в данном контексте. При этом использование слова Fatherland при передаче на английский язык номинации «Великая отечественная война» вызывает сомнение: “fatherland: the place where you
and your family were born, especially when you feel proud of it; the Fatherland
Germany during the Second World War” [MED, c. 508].
В дефиниции слова patriotic подчеркивается «долг», иллюстративный пример актуализирует ассоциативные связи с российским патриотизмом: “patriotic:
feeling a lot of love, respect and duty towards your country: a patriotic young Russian”
[MED, р. 1040].
В советологических изданиях вариант the Great Fatherland War встречается
редко. В корпусе выделено только пять случаев, например, “Stalin astutely dubbed
the war as “the Second Great Fatherland War” (rather than World War II), invoking the
precedent of Russia‟s resistance to the Napoleonic invasion of 1812” [Atlas, р. 175].
Следует подчеркнуть также, что в теории и практике перевода, в межкультурной коммуникации обоснована стратегии следования исторически сложившейся практике использования каких-либо номинаций, возможно, этим объясняется
тот факт, что номинация the Great Fatherland War малоупотребительна.
Аналогичная вариативность наблюдается при передаче термина «Отечественная война 1812 г.»: the Patriotic War of 1812 и Napoleon‟s Russian campaign/
Napoleonic Wars: “Until the First World War, Napoleon‟s Russian campaign and the
ensuing war of 1813–1814 was the largest military confrontation in history. The battlefields of the Patriotic War decided the fate of many nations and peoples. For Russia the
term Patriotic War (an English rendition of the Russian Отечественная война) formed
a symbol for a strengthened national identity” [Russia Now].
Возможно также, что в современном английском языке семантика слова Fatherland и Patriotic изменились, поскольку в 1930-х, как следует из произведения
The Kremlin and the People, именно Fatherland означало «долг перед своей страной
защищать ее»: “The Patriotic idea of patriotism was impressed upon the Soviet public.
To illustrate my meaning, in 1934–35 the word “Rodina” “birth land” was substituted
230
for the phrase “Socialist Fatherland” which had been current since the Revolution”
[Kremlin, c. 201–202].
Дюрант, американский корреспондент, билингв, прожил в России более 20
лет, представил события в России Сталинского периода в позитивных тонах, опираясь на советскую прессу. Он был одним из просоветских зарубежных корреспондентов.
В межкультурном политическом дискурсе обозначения военных событий нередко представлены в разных вариантах, с точки зрения участвующих в военных
действиях сторон. Представляется логичным считать, что идеологически обусловленная номинативная вариативность такого роад характерна для межкультурного политического дискурса.
Molotov-Ribbentrop Pact = Nazi-Soviet Pact
Данные прагматические варианты представляют название договора, заключенного между СССР и Германией 23 сентября 1939 г., известного в отечественной политической истории как «Советско-германский договор о ненападении»,
который передается калькой Soviet-German Non-Aggression Pact. В западной политической риторике употребительны термины Nazi-Soviet Pact и MolotovRibbentrop Pact, оба зафиксированы в словаре: “Molotov-Ribbentrop Pact: mutual
non aggression pact signed on 23 Aug. 1939 between Germany and Soviet Russia, containing secret protocols which divided Eastern Europe between the signatories: eastern
Poland, Latvia, Estonia, Finland and Bessarabia to Russia, western Poland and Lithuania (later transferred to the Russian sphere) to Germany. The Russians invaded Poland
17 days after the Germans, on 17 Sep. 1939. Also, Nazi-Soviet Pact” [Random, c. 320].
В глоссариях советского политического лексикона зарегистрирован также
вариант Nazi-Soviet Nonaggression Pact: “agreement signed by Nazi Germany and
the Soviet Union on Aug. 23, 1939, immediately preceding the German invasion of Poland, which began World War II. A secret protocol divided Poland between the two
powers. The pact also delayed the Soviet Union‟s entry into World War II. Also, the
Molotov-Ribbentrop Pact” [S.U.].
231
Русскоязычный коррелят термина Molotov-Ribbentrop Pact, переводной вариант «Пакт Молотова-Риббентропа» вошел в российский политический дискурс в
постсоветский период. В англоязычном дискурсе предпочтение отдается термину
Nazi-Soviet Pact, как правило, с указанием даты: “It was probably a shock for Soviet
public opinion to learn the existence of secret protocols of the Nazi-Soviet Pact of 1939,
revealed for the first time in that country by Volkogonov. Their discovery makes impossible the apology of a „defensive pact‟” [Gorbachev and History, c. 17].
The Yalta Conference – the Crimean Conference
В российском дискурсе используются два варианта номинации Крымская
конференция и Ялтинская конференция (1945 г.); оба обозначения зафиксированы
в словаре: «Крымская конференция (Ялтинская конференция)» [СЭС, с. 667]. В
англоязычном западном дискурсе используются инолингвокультурные корреляты
каждой номинации, но кодифицирована только один:
“Yalta Conference: meeting of Allied war leaders” [Times Atlas Glos].
Советские англоязычные публикации, как правило, отдавали предпочтение
лексической единице the Crimean Conference, использование которой встречается
и в западных англоязычных изданиях, как правило, в контексте с более точным,
по мнению западных журналистов, обозначением the Yalta Conference: “Attending
the Crimean Conference – which the world inaccurately but incorrigibly insists on calling the Yalta Conference – required a long and potentially hazardous journey for the two
leaders of the democratic world” [Smithsonian Jan 2000].
The Winter/the Russo-Finnish campaign – the Winter War
В советский период изучение русско-финской войны не входило в школьную
программу, замалчивалось, соответственно, в советских англоязычных публикациях предпочитали эвфемистическую номинацию Winter campaign, в то время как
в зарубежных источниках функционировал дисфемизм Russo-Finnish / Winter War:
“Russo-Finnish/Winter War 1939–40. The war between the Soviet Union and
Finland at the beginning of World War II. It was won by the Soviet Union, the aggressor, which gained part of the Karelian isthmus” [RussEnc, с. 349].
232
Эвфемизм campaign встречается и в ряде советологических изданий середины прошлого столетия параллельно с прямой номинацией: the Russo-Finnish campaign – the Finnish War: “The Western world believed that the Russo-Finnish campaign had proved what it always suspected, that the execution of the “Generals” in 1937
and the Purge afterwards had so demoralized the Red Army that as a fighting force it
was contemptible. I was in Moscow during the latter part of the Finnish War, but with
the Soviet censorship and the extreme reluctance of American readers to hear anything
but ill of Russia and the Red Army” [Kremlin, c. 179–180].
В целом для западного англоязычного дискурса характер термин War «война» (дисфемизм) как составная часть номинации (the Winter War):
1. “On Nov. 26, 1939, Russian troops near the Finnish border were bombarded by
artillery fire, and 13 soldiers were killed or wounded. This incident, known as the shootings of Mainila, or Mainilian laukaukset, gave Russians an excuse to attack Finland,
thus starting the Winter War” [Nweek Oct. 25, 1999].
2. “The tiny country (Finland) fought the much larger Red Army to a virtual standstill during the Winter War of 1939–40” [Atlas, c. 173].
В современной англоязычной прессе, функционирующей в русском социуме,
об этих событиях сегодня говорят открыто, что было недопустимо в советский
период. Термины the Finnish war of 1939 и the Afghan war of 1979 to 1999, обозначающие «несправедливые» войны, информация о которых скрывалась от общества, эксплицитно выражая негативную оценку советской политики:
“Unlike the “unjust” wars that it hid from the population – the Finnish war of 1939
and the Afghan war of 1979 to 1999…” [МТ June 22, 2011, c. 8].
The Kuril Islands/ the Kuriles – Northern Territories
Данные номинации отражают дипломатические проблемы между Россией и
Японией, которые, на данный момент, не подписали мирного договора, что объясняется проблемой геополитического характера, так называемыми «спорными
территориями». В российском политическом дискурсе, как правило, обсуждают
вопрос о Курилах (Курильских островах), в англоязычном политическом дискурсе
речь идет о Northern Territories (русский переводной эквивалент Северные терри-
233
тории): “The Northern Territories in Japan: the islands known as the Kuril Islands
outside Japan” [SРТ Feb. 2, 2000].
Прагматическая оценочность «свой» или «чужой», как правило, маркируется
графически (чаще кавычками) или лексически (known as…, called…). Советологические издания предпочитают, главным образом, номинацию Northern
Territories, а не российско-маркированную the Kuril Islands, что говорит о позиции
автора, издания и пр. В западном политическом дискурсе постоянно подчеркивается, что советские войска «оккупировали» японскую территорию:
1. “Northern Territories” in the broadest sense refers to Japanese territories occupied by Soviet forces in Aug.–Sep. 1945” [Russian Far East, c. 278].
2. “The group of islands – called the Kuril Islands by Russia and Northern Territories by Japan – was seized by the Soviets near the end of World War II. The dispute has
prevented the two countries from signing a peace treaty formally ending their World
War II hostilities” [MT Dec. 15, 2006, c. 3].
В «Руководстве для журналистов» англоязычного издания The Moscow Times
кодифицируется графическое написание топонима, а также его идеологизированное толкование, в котором выделена пейоративная оценочность политики Советского Союза: “Kuril Islands. Not Kurile or Kuriles. Use in datelines after a community name in stories from these islands. Name an individual island, if needed, in the text.
The islands are claimed by Japan but have been occupied by the Soviet Union since
1945” [MT Guide].
Приведенные примеры иллюстрируют концептуальную вариативность, актуализируемую в большей степени на уровне оценочности.
Peaceful coexistence – détente
В советском политическом дискурсе термин «мирное сосуществование»
функционировал как один из ленинских принципов внешней политики. В англоязычных советских публикациях использовали кальку, зарегистрированную позднее в словаре: “peaceful coexistence: in the foreign policy of Soviet Russia, a concept
of varying emphasis referring to relations with the capitalist West” [OED XI, c. 387];
234
В западной риторике данная номинация рассматривалась как политический
эвфемизм, семантически равноценный, по мнению советологов, термину détente
эпохи Никсона – Киссинджера (the Nixon-Kissinger era): “attempts at relaxing or easing tensions, particularly between the countries of eastern and western Europe. In 1922,
after his visit to Moscow, President Nixon proclaimed the end of the Cold War and beginning of Soviet-American détente” [RussEnc, c. 107].
В советском дискурсе термин détente коррелировал с переводным эквивалентом «разрядка напряженности»: “…the language filled with Soviet code words from
the Nixon-Kissinger era of détente (peaceful coexistence, for example). They and their
nations were doomed to what Khrushchev had called peaceful coexistence and Richard
Nixon and Henry Kissinger had referred to as détente” [Gorbachev Biography, c. 6].
В современном англоязычном политическом дискурсе была попытка сформировать новый концепт, аналогичный DÉTENTE, при этом отражающий реалии
настоящего тысячелетия, и выражаемый метафорически термином reset, который,
однако, должного развития не получил; новый политический концепт не был
сформирован. При анализе корпуса примеров были выявлены текстовые фрагменты, реализующие стратегию «сближения» политических периодов, в частности, этапа холодной войны “détente” и современного этапа “reset”:
“Consider the recent episode, Obama‟s 2009 purported “reset” of relations with
Moscow, or what was called “détente” in another Cold War era” [Nation Jan. 16, 2013].
February Revolution – March Revolution
Вариативность номинаций в данном случае объясняется разными системами
летоисчисления: Россия основывались на Юлианском календаре, т.е. идеологически обусловленная вариативность не выражена. При калькировании термина
«февральская революция» советологи локализовали номинацию, учитывая свою
систему летоисчисления: March Revolution.
Следует отметить также, что в англоязычном дискурсе функционируют своего рода пары идеологизированных топонимы, выбор которых обусловлен идеологическиой позицией автора текста, его родной лингвокультурой, коммуникативными потребностями и политикой редакции. При этом могут использоваться оба
235
варианта, что способствует реализации стратегии доступности, учитывая широкую англоязычную аудиторию: “The Heilong River (called the Amur in Russia), a
border river of the two countries” [ChD Nov. 30. 2005, с. 1].
Как следует из вышеприведенных примеров, учитывая, какой номинации отдается предпочтение в дискурсе, можно понять, какая идеология «стоит» за ней.
Сопоставление текстов разных идеологических направлений позволяет выделить
прагматически обусловленную концептуальную деривацию, которая предопределяет модификацию составляющих компонентов, в том числе, оценочности.
В корпусе эмпирического материала выделены также текстовые фрагменты,
где использованы лексические единицы, отличающиеся изменением семантической структуры, в частности, семантической вариативностью и модификацией аксиологической составяляющей, анализ номинацией такого типа выступает задачей
следующей части параграфа. В данном случае речь пойдет о способах актуализации вторичной лингвокультурной концептуализации интернационализмов.
Как было рассмотрено выше, в глобальном англоязычном политическом дискурсе
«вступают в контакт» не только языки, но и концептуальные системы разных
лингвокультур; и ассоциативные связи лингвокультурного концепта определяются не только, и не столько исходным конструктом (этимоном), сколько концептуальной системой принимающей лингвокультуры.
Особую сложность для достижения эффективного межкультурного политического общения представляют интернационализмы, идентичность форм которых
имплицирует формальное семантическое сходство. В случае концептуального
расхождения требуется авторский комментарий, предотвращающий аберрацию и
разрешающий неоднозначность при переходе на другой языковой код. Ассоциации могут настолько измениться в процессе концептуальной деривации, что формируется энантиосемия, под которой понимается полярное размежевание ассоциативных связей. Энантиосемия предопределена не только концептуальной асимметрией контактирующих лингвокультур, формирующих картину глобального
политического мира, но и отсутствием разделенного знания. Энантиосемия сопоставима с полисемией или омонимией, но критериев выделения названных про-
236
цессов не выработано. Следует отметить, что при сопоставлении русской и английской
концептуальных
систем
выделяются
отдельные
термины-
интернационализмы, которые характеризуются резким расхождением как на
уровне понятийности, так и оценочности, вплоть до полной противоположности.
Чтобы проиллюстрировать вышесказанное, обратимся к концепту КОСМОПОЛИТИЗМ, который объективируется термином космополитизм. Термин космополитизм в постсоветский период потерял свою «коммунистическую окраску»,
что подтверждается словарем, однако, в речевой практике еще актуальны закрепившиеся в советское время коннотации. Например, в учебном пособии «Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка» известный отечественный ученый использует термин космополит в «советском» значении, подчеркивая пейоративную аксиологическую составляющие: «Приверженец только
общечеловеческих ценностей может превратиться в космополита, или человека
без Родины (в русском языковом сознании при этом всплывает поговорка Иван, не
помнящий родства)» [10, с. 11].
Борьба с так называемыми «врагами государства», с идеологией космополитизма в советский период способствовала концептуальной деривации концепта
КОСМОПОЛИТИЗМ, и в словаре зафиксирована негативная оценочность лексической единицы, репрезентирующей концепт:
«Космополит: человек, лишенный чувства патриотизма, оторванный от интересов своей родины, чуждый своему народу; космополитизм: реакционная
буржуазная идеология, проповедующая отказ от национальных традиций и культуры; противоп. пролетарскому интернационализму» [СИС 1988, с. 264].
В коммуникативной практике номинация актуализировала смыслы «буржуазная идеология», «противник советской власти», «инородец», «человек без родины». Пейоративная оценочность имплицировала коннотации «преклоняющийся
перед всем иностранным» («безродные космополиты»), синоним – «враг». В словаре И. Земцова Советский политический язык (1985 г.) данный термин описывается «со стороны» (автор эмигрировал из СССР): «космополитизм: приобщен-
237
ность к мировой культуре, представляемая коммунистами как забвение национальных традиций; приравнивается к измене родине» [ЗемцовПолит., с. 209].
В английской языковой картине мира концепт COSMOPOLITAN, объективируемый словом cosmopolitan, напротив, как правило, актуализирует положительную оценку: “Сosmopolitan usually appreciatively a person who has travelled widely
and feels equally at home everywhere” [Longman Culture, с. 287].
В англоязычных советологических публикациях такое идеологически обусловленное расхождение маркируется графически: “The aim was to root out
“cosmopolitanism” [Atlas, с. 175]. Пейоративность термина в контексте советского
дискурса эксплицируется оценочными эпитетами, выделяемыми в англоязычном
дискурсе графически: “…in 1949, the regime started referring to its internal enemies
as “rootless, stateless cosmopolitans” [Gorbachev Biography, с. 73].
Учитывая функционирование номинации в прессе и его кодифированное толкование, представляется логичным утверждать, что в данном случае результатом
концептуальной асимметрии является энантиосемия. В словаре выделена помета:
In Soviet usage, фиксируя расхождение аксиологических характеристик термина
при сопоставлении западной и советской риторики:
“Cosmopolitanism. In Soviet usage, disparagement of Russian traditions and culture (equivalent with disloyalty)” [OED].
Вариативность данного обозначения в современной речевой практике актуализируется в контексте: “These (the „new Russians‟) were people who already had it
all right back home and were quite – not totally, but quite – cosmopolitan. They felt
comfortable anywhere in the world” [Guardian April 12, 2004].
В современных отечественных словарях отмечено модифицированное значение «размытой» семантики; словосочетание «гражданин мира» представляется
неопределенным: «Космополит, человек, ставящий общечеловеческие ценности
выше государственных; гражданин мира» [ПолитЯзык, c. 97].
Следует признать, что и в современном дискурсе термин космополит, репрезентирующий концепт КОСМОПОЛИТ отличается асимметрией относительно англоязычного коррелята cosmopolitan, вербализующего концепт СOSMOPOLITAN
238
позитивной оценочности, что объясняется устойчивостью стереотипов советского
политического дискурса. В английской языковой картине мира не объективируется значение «ставить общечеловеческие ценности выше государственных», подчеркивается мультикультуризм, уважение к другим нациям, фраза “feels equally at
home everywhere” не означает «отказ от собственной идентичности».
Идеологически обусловленная концептуальная деривация способствовала переосмыслению в советском политическом дискурсе таких универсальных политических
концептов как
БУРЖУАЗИЯ,
ПРОЛЕТАРИАТ,
РЕВОЛЮЦИЯ
и
BOURGEOISIE, PROLETARIAT, REVOLUTION и ряд других. В данном случае
актуализируется смысл, определяемый контекстом коммунистической идеологии:
«Пролетариат: передовой революционный класс наемных рабочих, находящийся в политическом угнетении и экономическом порабощении при капитализме, который стал господствующим классом, осуществляющим свою диктатуру»
[Словарь Ушакова]; “proletariat: the class of wage-earners, esp. those who earn their
living by manual labor; the working class” [Random, с. 1540];
В английской картине мира единица proletariat означает «люди, которые занимаются физическим трудом», коннотации нейтральные; в советском дискурсе
толковые словари маркировали идеологически обусловленную эмотивность номинации пролетариат («передовой»), выделяя его бесправие («порабощенный»).
Концептуальная
асимметрия
отличает
концепты
РЕВОЛЮЦИЯ
и
REVOLUTION: «Революция: коренной переворот в жизни общества, который
приводит к ликвидации предшествующего общественного и политического строя
и установлению новой власти» [СРЯ 1995, с. 661]; “revolution: a time of great,
usually sudden, social and political change” [Longman Culture, с. 1153].
Политический термин революция в советском дискурсе объективировал, в отличие от англоязычного, также значения «прогресс», «неизбежность». В данном
случае результатом концептуальной деривации является не подмена концептов
или развитие энантиосемии, как утверждается в отдельных исследованиях, а полисемия, что подтверждается данными англоязычных толковых словарей. «Ком-
239
мунистическое значение» выделено в отдельных словарных статьях и маркировано лексически in the Marxist doctrine, in Marxist theory:
“Revolution, in the Marxist doctrine of social evolution, the class struggle between
the bourgeoisie and the proletariat leading in time to the downfall of capitalism and to
its replacement by communism” [OED Suppl. III, с. 1243]; “proletariat, 2. (In Marxist
theory) the class of workers, especially industrial wage earners, who do not possess capital or property and must sell their labor to survive” [Random, с. 1540].
Аналогично репрезентирован и концепт BOURGEOISIE: “bourgeoisie 1. Middle class. 2. (In Marxist theory) the property-owing capitalist class” [WCD, с. 157].
Концептуальной энантиосемией, как представляется логичным утверждать с
учетом вышесказанного, отличаются также отдельные словарные статьи в словаре Oxford Advanced Learner‟s Dictionary, издание которого в СССР было адаптировано в соответствии с канонами советской идеологии. Такой идеологический
вариант словаря подвергся серьезной критике за рубежом. В советском издании
авторы учитывали менталитет советской аудитории, поэтому дефиниции терминов отличаются концептуальной асимметрией, которая выявляется при сопоставлении с изданными ранее словарями. Так, в словарной статье communism выделена
«историческая неизбежность коммунизма»:
“Communism, 1. social and economic system in which the means of production
are owned by all members of society; 2. theory, revealing the historical necessity for the
revolutionary replacement of capitalism by communism and the ways of creating a
communist society; 3. social and political movement for the abolition of capitalism and
the building of a communist society” [(Soviet)ОALD, с. 170].
Сопоставление с зарубежными изданиями показывает значительные расхождения в словарных статьях. В издании 1987 г. (период «холодной войны») термин
communism объективирует следующие словозначения: 1. теория theory, belief и
2. «советское» толкование, пейоративность которого выражена рядом словосочетаний, выделяющих элитарность партии, тоталитарность социальной системы:
“Communism 1. (belief in) a social system in which property is owned by the community and used for the good of all its members; 2. political and social system (as in the
240
USSR) in which all power is held by the highest members of the Communist Party,
which controls the land and its resources, the means of production, transport, etc. and
directs the activities of the people” [ОALD 1978, с. 171–172].
Определенная идеологическая нейтрализация отличает словарные толкования
периода 1980-х гг., что объясняется перестройкой в СССР, которая способствовала изменению отношения к нашей стране в положительную сторону. В данном
случае результатом концептуальной деривации является идеологическая нейтрализация ряда словарных описаний в английских словарях. Так, в издании 1988 года в словаре Oxford Advanced Learner‟s Dictionary термин communism объективирует роль государства, а не элиты (under state control), словарное описание не
несет ярко выраженного пейоративного характера, свойственного более раннему
изданию: “Communism, 1. ideology that proclaims the abolition of class oppression
and exploitation, and the foundation of a society based on the common possession of the
means of production and the equal distribution of goods; 2. (colloq.) political system in
which the power is held by the Communist or Workers‟ Party; and the land and its resources, the means of production, etc., are under state control” [ОALD 1988, с. 170].
При сопоставлении дефиниций разных изданий представляется очевидным,
что ни в одном из зарубежных изданий не признавалось существование коммунистического государства, но именно такое толкование приведено в советском издании, что противоречит концепции западной идеологии: “Communism, social and
economic system…” [(Soviet)ОALD, с. 170].
Как было отмечено ранее, неоднозначность такого рода не поддается четкому
терминологическому определению, например, П.И. Панько рассматривает подобные случаи как феномен «понятийные омонимы» [271], но В. Шмидт считает, что
при этом развивается «идеологически обусловленная полисемия» [487; 488].
Картина политического мира российской действительности отражает в той
или иной мере инолингвокультурный мир, часть которого входит в семантическое
пространство русского языка. Инолингвокультурные концепты осмысливаются в
«чужой» концептуальной системе и подвергаются концептуальной деривации, что
влияет на их вербализацию. Концепты, реконструированные в результате данного
241
процесса, репрезентируются средствами принимающего языка, объективируя
иные коннотации, оценочность, что обусловивает формирование идеологически
обусловленной полисемии, а при полярном размежевании значений свидетельствует о концептуальной энантиосемии.
В интерлингвокультурной картине политического дискурса российской действительности соединение «своего», родного мира и «чужого» политического мира нередко способствует модификации разных уровней.
Рассмотрим концептуальную энантиосемию мусульманского концепта ШАХИД, кодифицированного в политическом дискурсе российской лингвокультуры
номинациями шахид, исламский террорист-самоубийца и камикадзе.
Словарь представляет номинацию шахид следующим образом: «Шахид:
1. Последователь ислама, павший в борьбе против врагов этой религии. Погибшие
на фронтах Великой Отечественной войны мусульмане считаются шахидами.
2. Исламский террорист-самоубийца, камикадзе. Акции, операции шахидов. Захват шахидами заложников» [Заимствования, с. 198].
Первое значение соответствует значению этимона и иллюстрируется одним
примером; пейоративность второго маркирована тремя иллюстративными примерами. Следует подчеркнуть, что востоковеды неоднократно писали о необходимости более корректного использования слова «шахид», этимон которого обладает эмоциональностью и положительной оценочностью в мусульманском мире.
В настоящее время сложно установить источники такого концептуального переосмысления. Частотное использование этого слова в СМИ именно во втором значении в контексте описания терроризма способствовало формированию концептуальной энантиосемии: два значения противоположной оценочности закреплены
в словаре. В академическом мусульманском мире лингвисты, изучающие описание родной лингвокультуры в английском языке, отмечают неправомерность использования номинации suicide bomber в качестве синонима вербальных знаков
shaheed и martyr, упрощая их толкование. Такое некорректное введение в дискурс
политических номинаций, утверждает Т. Алауней, искажает действительность и
предопределяет развитие концептуальной асимметрии [398, с. 72–74].
242
Причины такого концептуального расхождения предопределены концептуальной асимметрией политической и религиозной картин мира контактирующих
лингвокультур. В политическом переводе большое значение имеет выбор политической номинации: семантика лексической единицы в определенном контексте
влияет на информацию, закрепляя соответствующие стереотипы и оценочность.
Так, опрос информантов (100 студентов российских вузов трех городов) показал, что первая реакция на стимул «шахид» – это терроризм. Они не смогли понять, почему русская служба новостей Израиля (сентябрь 2012) использовала слово «шахид» в значении «мученик»: «При проведении операции против Сирии был
обстрелян жилой дом в г. Аксалат (Турция), убито пять человек (женщина с маленькими детьми). Официальный Дамаск «назвал убитых шахидами, выражая сожаление семье святой мученицы».
Буквальный перевод на русский язык вызвал у русскоязычных слушателей
чувство дисгармонии, что объясняется отсутствием разделенного знания о концепте SHAHEED в разных лингвокультурах: “Women who lost their husbands or
brothers to state politics of terror, or whose children were brutalized during the zachistki
might feel so lost as to feel that kamikaze tactics are their only recourse. The words
smertnitsy (literally, death row women) and shakhidki (shaheedeen, or martyrs, in Arabic) have permanently entered the Russian vocabulary” [BBC News Aug. 9, 2001].
В интерлингвокультурном пространстве российской лингвокультуры существуют и другие обозначения, отличающиеся концептуальной энантиосемией.
Так, пример реализации концептуальной асимметрии представляет собой кодификация номинации «камикадзе».
В японской лингвокультуре данное слово определяется следующим образом:
«kamikaze – это
«божественный ветер; отряд камикадзе; отряд летчиков-
смертников [ЯРС]. В российской лингвокультуре словарь модифицирует исходное значение: «камикадзе – это «террорист-самоубийца, смертник. Чеченские
камикадзе [Заимствования, с. 102]. В данном случае наблюдается концептуальное
переосмысление и дополнительные пейоративные ассоциации, эксплицитно выраженные в примере.
243
Приведенные выше политические номинации функционируют не только в
политическом дискурсе, но и в обыденном языке; следует учитывать, что
заимствованные номинации могут актуализировать отличающиеся от концептаэтимона значения, отражая концептуальную асимметричность глобальной
картины
политического
мира.
Результатом
данного
процесса
является
концептуальная энантиосемия, закрепившая два противоположных значения, по
сути, репрезентирующих два концепта.
Формирование политизированных языковых значений зависит о того, как
индивид воспринимает когнитивную информацию, заключенную в слове; Об
этом, к сожалению, порой забывают отечественные журналисты, известные
деятели, употребляя номинации, не осознавая негативной оценочности, которой
эти слова обладают. Одна из сложностей межкультурного общения заключается в
выборе адекватного варианта передачи слова средствами другого языка. Так, в
русскоязычном политическом дискурсе политическая номинация rebels, как
правило, обозначается словом повстанцы, характеризующимся эмотивностью,
положительной оценочностью: «повстанец – участник восстания, партизанского
движения» [Словарь Ушакова]. Партизанское движение ассоциируется с войной
против
фашизма,
что
имплицирует
позитивные
коннотации,
абсолютно
противоречащие контексту описания террористических действий.
Если обратиться к англоязычным словарям, становится очевидно, что номинация rebel синонимична целому ряду пейоративных обозначений. Например, в
Тезаурусе (Webster‟s New World Roget‟s A –Z Thesaurus): “rebel – insurgent, insurrectionist, traitor, rioter, terrorist, turncoat, separatist, etc.” [Thesaurus, с. 356].
Чтобы предложить более корректный вариант передачи слова на русский
язык, чем тот, который распространен в СМИ, необходимы совместные усилия
переводчиков, журналистов и политологов. Описание военных действий требует
особого внимания к четкости формулировок, события такого рода нельзя трактовать однозначно. Как утверждают некоторые российские журналисты и правозащитники, выступившие с обращением к журналистам и общественным деятелям,
244
«признающим необходимость окончания войны в Чечне», использование номинации «террористы» создает негативный стереотип всех чеченцев.
В обращении говорится: «Именуя подрывы, столкновения с федеральными
силами «терактами», а бойцов чеченского Сопротивления – «бандитами», «террористами», «боевиками», вы транслируете официальную идеологию, стремящуюся представить чеченскую войну как борьбу с терроризмом, и вводите в заблуждение ваших зрителей. В расправах пророссийской администрации есть элементы
терроризма. Вы осведомлены о военных преступлениях федеральных сил против
мирных жителей, о кровавых «зачистках». Но никто из вас не называет этих командиров «главарями банд» и «террористами» [Иностранец. – № 37. – 2003].
В зарубежной прессе нередко упрекают Россию в манипулировании информацией, что выражается в использовании номинаций insurgents в тех случаях, когда в западной риторике предпочтение отдается обозначению terrorists, что касается, главным образом, «войны с терроризмом в Ираке. Западные журналисты отмечают, что Беслан изменил отношение России к терроризму, и Россия приняла
официальную американскую политическую риторику.
Так, по мнению американского журналиста П. Лавелле, именно трагедия в
Беслане способствовала тому, что Россия признала необходимость борьбы с международным терроризмом: “Before Beslan, Russian media reported on “terrorists” at
home and “insurgents” in countries like Iraq. Since Beslan, insurgents in Iraq with increasing frequency are denoted as terrorists. The Kremlin, through state-controlled television, has essentially adopted the official U.S. lexicon. Days after the Beslan tragedy,
President Vladimir Putin lambasted a visiting delegation of foreign journalists and Russia-watchers for the West‟s preference to characterize perpetrators of terrorist acts in
Russia as “rebels” and “insurgents.” To stress his point, Putin even slipped into English,
terrorists killed Beslan‟s children – not “rebels.” Russia has moved closer to the United
States in its fight against international terrorism” [ NI June 02, 2004].
Суммируя вышесказанное, следует отметить, что за каждым словом в политическом дискурсе стоит языковая личность, ограниченная, однако в своем выборе не столько законами языковой системы, сколько идеологией. Репрезентируя
245
концепт вербально, индивид «отражает» мир через призму национального и индивидуального сознания. Эффективности политического дискурса препятствует
асимметричность концептуальных систем, отсутствие разделенного знания у
коммуникантов. Отсюда следует, что одной из задач национально-языковой политики выступает создание идеологически релевантных для власти концептов, ассоциативные связи которых способствуют стереотипизации «чужого», воздействуя
на национальное сознание и концептуальную систему человека.
2.6 Аббревиация как прагматическая адаптация
Одним из ведущих принципов коммуникативной деятельности в глобальном
информационном пространстве выступает принцип языковой экономии, актуализируемый на лексическом уровне, главным образом, посредством аббревиации.
Способность модифицировать структуру путем сокращения номинации особенно
значима для политического дискурса, отличающегося значительным количеством
аббревиатур, основные типы которых, как отмечает Е.А. Дюжикова, включают
терминологические словосочетания, многокомпонентные номенклатурные термины и т.п. [136]. Поскольку аббревиация не является абсолютным эквивалентом
полного обозначения, она представляет собой важное средство прагматической
адаптации языка и осуществляется, главным образом, как реализация 1) принципа языковой экономии и 2) идеологического и психологического воздействия на
социум. Задачей настоящего раздела выступает анализ специфики адаптации английского языка, способствующего экономии средств выражения в политическом
дискурсе, на материале корпуса примеров сокращений разных типов.
Экономичность изложения способствует скорости обмена информацией,
особенно в современных условиях, когда коммуникативное поле, благодаря интернету, стало практически безграничным. Следует подчеркнуть, однако, что аббревиатура выступает важным средством достижения политических целей, поскольку за сокращенной формой легко скрыть негативную или нежелательную
информацию. При образовании сокращения необходимо учитывать, что оно мо-
246
жет выполнять функцию стилистического синонима полного варианта, только при
условии сохранения структуры: CIS = C(ommonwealth of) I(ndependent) S(tates). В
таком случае сохраняется семантическая связь краткого термина
с полным
наименованием, однако, актуализуется и определенная семантическая вариативность [120]. Инициальные аббревиатуры (initial) легко опознаются по форме, поэтому даже при отсутствии средств параллельного подключения, их можно соотнести с соответствующим полным словосочетанием. Как правило, стратегии доступности и адресованности обеспечиваются экспликацией сокращения при его
первом введении в текст; однако, встречаются и примеры, где стратегия доступности не соблюдается. Такое отклонение от стандартного использования объясняется либо тем, что аббревиация кодифицирована, возможна и прецедентна, либо
тем, что автор переоценивает эрудированность читателя. Наиболее «замаскированы» акронимы, которые, адаптируясь в языке, теряют свою форму: исчезают точки после каждой буквы, потом заглавные буквы, и акроним приобретает форму,
идентичную слову, нередко и соответствующие грамматические характеристики.
Потеряв связь с исходным словом, акроним функционирует как слово общего
языка или как термин.
Выделенные при анализе эмпирического материала сокращенные номинации
феноменов российской действительности, в частности, идеологизированного субстрата, включают инициальные сокращения двух типов (образованные от кальки
и транскрибированные) и акронимы. В ситуации межкультурного общения следует помнить, что ксеноним-сокращение, как правило, функционально эквивалентен исходной номинации, при этом не маркирован графически. Инициальная аббревиация, в отличие от ксенонимов других типов, «признаками» инолингвокультуры не обладает, что затрудняет актуализацию идеологизированного субстрата;
автор, однако, может целенаправленно ставить задачу вуалирования информации.
В ситуации, требующей достижения номинативной и семантической точности, чтобы избежать коммуникативного сбоя, автор вводит в текст элементы семантизации. Сокращения особенно значимы в описании политического дискурса
инолингвокультур, что объясняется обилием многосоставных словосочетаний в
247
языке политики (как правило, названия административных структур, политических направлений). Аббревиатуры частотны в англоязычной историографии; авторы-билингвы, предвидя сложность восприятия текста, приводят списки сокращений в начале или в конце книги, что позволяет не эксплицировать многократно
аббревиатуры в словесных произведениях большого объема.
Например, в книге Darkness at Dawn. The Rise of the Russian Criminal State
список транслитерированных сокращений Abbreviations and Administrative Delineations представлен на первых страницах: “GKI State Property Committee; FSK
Federal Counterintelligence Service (predecessor of FSB) ” [Darkness at Dawn, c. X].
Экспликация сокращений в вышеприведенных примерах, осуществляется
калькированием полного варианта термина; в целях реализации стратегии «приближения» понятийность и оценочность нового феномена актуализируется при
помощи выделенного скобками названия аналогичной структуры в новом политическом периоде (predecessor of FSB).
Наиболее распространенный способ актуализации пейоративности, используемый как в прессе, так в историографии и в произведениях других жанров,
представлен введением в текст широко известной аббревиатуры the KGB негативной оценочности, которая способствует экспликации соответствующего идеологизированного субстрата определяемого термина:
“FAPSI Federal Agency for Government Communications and Information (formerly part of the KGB)” [Darkness at Dawn, c. X].
Большинство выделенных сокращений образовано практической транскрипцией и эксплицировано калькированными словосочетаниями исходных номинаций. В статьях глоссария нередко выявляется структурная вариативность внутри
каждой статьи: «полное обозначение + сокращение» или «аббревиатура + калькированное словосочетание». Автор не следует стратегии единообразия, приоритет отдан прагматической функции, и по лексеме, избранной в качестве заглавного слова статьи, определяется коммуникативная значимость ксенонима, что подтверждается при исследовании его функционирования в основном тексте. Вариативность введения ксенонимов позволяет сделать вывод о том, какую именно
248
форму автор предпочитает. Например, “defense-industrial complex (OPK) New
name for the Russia military-industrial complex (VPK)” [21st Century, c. 137].
В данном случае приоритет отдан кальке, сокращение приведено в скобках,
как средство обеспечения обратимости. Автор представляет лексические варианты термина: полное обозначение и сокращенное; в качестве средства семантизации введен устаревший термин military-industrial complex (прямая номинация),
пейоративность которого замаскирована в эвфемизме defense, первом компоненте
нового термина defense-industrial complex. Экспликация понятийности и оценочности новой номинации посредством введения предшествующего термина способствует актуализации преемственности; при этом выявляется концептуальная
асимметрия, в данном случае, концептуальная деривация фактически, является
аберрацией. Эвфемистическое название неизменившегося, по сути, феномена выделяет варьирование понятийности: в термин на поверхностном уровне «заложены» новые смыслы, которые не сохраняются на глубинном уровне. Идеологизированный субстрат может объективироваться на разных уровнях, требуя гибкости
адаптивных ресурсов языка:
“military-industrial complex (VPK) Voennyi-promyshlennyi kompleks is a formal institutional network connecting the Soviet (now Russian) genshtab, military enterprises… The integration of the VPK is higher than its American counterpart based on a
loose community of interest. The VPK recently has been renamed the oboronnyipromyshennyi kompleks (OPK; defense-industrial complex)” [21st Century, c. 141].
В
данном
фрагменте
(статья
приведена
в
сокращении)
ксеноним-
транскрипция the VPK используется не только параллельно калькированному
полному варианту термина, обеспечивая корреляцию с этимоном, но и в функции
номинации, что способствует реализации принципа экономии. Устаревшее название, дисфемизм, также приведено в статье в качестве прагматического синонима,
объективирующего
идеологизированный
субстрат.
Значимость
номинации
military-industrial complex подтверждается ксенонимической плотностью англоязычного обозначения термина: 1) калькирование: military-industrial complex;
2) сокращение-практическая транскрипция: VPK;
249
3)
практическая
транскрипция
полного
варианта
термина:
Voennyi-
promyshlennyi kompleks; 4) новое обозначение ОРК.
В свою очередь, в данной статье актуализируется ксенонимическая плотность и нового обозначения: the oboronnyi-promyshennyi kompleks, OPK, defenseindustrial complex; при этом эвфемизм, представляет собой коррелят прямого
названия. Средством экспликации оценочности является соотнесение ксенонима
термина с американизмом. Важно отметить, что локализация (использование номинаций феноменов какой-либо лингвокультуры в качестве экспликации), может
препятствовать доступности в контексте межкультурного дискурса
Анализ словарных статей глоссария позволяет выделить приемы актуализации концептуальной адаптации отдельных сокращений, в частности, авторский
комментарий, где выделены основные составляющие понятийного и оценочного
содержания идеологизированного субстрата. Так, автор расшифровывает модель
образования ксенонима-сокращения посредством практической транскрипции
полного термина и кальки полного варианта, экспликации способствует описание:
“GRU Glavnoe Razvedovatel‟noe Upravlenie: Main Intelligence Administration, the
foreign intelligence organ of the Russian Ministry of Defense” [21st Century, c. 140].
Ксеноним MOD в следующем примере выступает заглавным словом статьи
глоссария, что говорит о его значимой роли в основном тексте. Обращает на себя
внимание модель образования инициального сокращения: основой аббревиации
выступает калькированное словосочетание. Как представляется, что, возможно
объясняется омонимичностью данной аббревиатуры с термином, принятым в англоязычном дискурсе: “MOD: Russian Ministry of Defense” [21st Century, c. 142]. В
целях предотвращения неоднозначности восприятия ксенонима-омонима, вводится классификатор в виде определения Russian, локализующего сокращение.
Идеологизированный субстрат российской действительности актуализируется посредством параллельного использования в одном контексте пейоративного
сокращения the KGB, который коммуникативно востребован, что способствует
его прецедентности. Данный ксеноним является советизмом, актуальность которого в современном дискурсе определяется функционированием в качестве сред-
250
ства экспликации понятийности и оценочности новых политических феноменов:
“the FSB” (пример 1) и “the Federal Security Services,” (пример 2)
1. “A striking article in the daily Nezavisimaya Gazeta – which clearly reflected
the views of the FSB, the successor to the KGB – warned that the Kremlin was losing
its grip on the military...” [Putin‟s Enemies Within // Time Dec.10, 2001
2. “Rashid Nurgaliev, Russia‟s interior minister, said the terrorists appeared to
have targeted a nearby police training centre and the local headquarters of the Federal
Security Services, the successor to the KGB” [FT April 1, 2010, с. 10].
Советизм реализуется the KGB и в качестве средства семантизации политического историзма: the NKVD: “I was shown a piece of paper by the NKVD [precursor to the KGB] officer there” [Guardian March 5, 2003].
Номенклатурный термин the KGB в современном западном политическом
дискурсе выполняет также функцию характеристики политического деятеля; достоверный факт деятельности В.В. Путина в КГБ западными СМИ, как правило,
трактуется как одно из его ведущих политических качеств, маркер авторитарности: “Is Vladimir Putin a reflection of this need for a “strong hand?” Some observers
have pointed to the authoritarian nature of his regime, to his background in the KGB
and to his apparent authoritarian tactics in government to illustrate this element of continuity in Russian political culture” [Political Culture].
Многие авторы создают имидж В.В. Путина именно через соотнесение его с
the KGB, при этом пейоративность советизма эксплицирует и личное отношение
журналиста к российскому политику: “As a career officer in the KGB, an organization its members never leave, he is fundamentally anti-Western and undemocratic, and
comfortable with conflict, crime, and the company of beasts” [Esquire Sep. 25, 2008].
Выделяются и позитивные импликации, связанные с деятельностью в КГБ,
это дисциплинированность и организованность: “Russia, still effectively led by
KGB-trained and experienced Vladimir Putin” [AS Aug. 18, 2008].
Выявлены также примеры актуализации позитивной оценочности составляющей концепта КГБ «обеспечение порядка в стране». По мнению западных жур-
251
налистов, которое разделяют многие россияне, страна нуждалась в «восстановлении порядка» (“restore order, something post-Soviet Russia needed”):
“When Boris Yeltsin… was replaced as president by a hand-picked, previously
unknown former KGB colonel named Vladimir Putin, American optimists could make
the case that Russia was moving in the right direction. Mr Putin… promised to restore
order, and that was something post-Soviet Russia clearly needed” [FT July 5 2006]
Показателем высокого уровня адаптации номинации the KGB выступает его
функция экспликации оценочной составляющей лингвокультурных обозначений,
в частности, ономастики, что, с одной стороны, актуализирует связь политических феноменов в контексте межкультурного политического дискурса, с другой
усиливает негативную стереотипизацию российской политики: “In Kazakhstan that
year... Two prominent opposition politicians died of gunshot wounds around election
time. A. Sarsenbaiuly, was bound at the wrists and murdered …by officers from Kazakhstan‟s former KGB” [Esquire Sep. 25, 2008].
В вышеназванной функции the KGB способствуют актуализации значения
номинаций политических феноменов лингвокультур, исторически не связанных
единством политики, как в предыдущем примере. В качестве средства семантизации понятийности и оценочности инолингвокультурного политического феномена the KGB реализуется как ассимилированное в системе языка слово (the KCIA =
the prewar Japanese “kempeitai” = the Soviet KGB):
“While it (the KCIA) took its name and some of the functions from its U.S. model,
in many respects the KCIA was more like the prewar Japanese “kempeitai” or the Soviet KGB in its unbridled power in the domestic as well as the foreign arena
[www.DearReader.com/].
Как следует из вышеизложенного, the KGB является фактически полифункциональным советизмом, выполняя функции актуализации оценочности, экспликации понятийности как историзмов, так и феноменов российской реальности, а
также инолингвокультурных политических явлений.
В политическом дискурсе встречаются также синонимичные номинации –
устаревшие обозначения, не потерявшие актуальности ни в русскоязычной, ни и в
252
англоязычной прессе. Например, акроним «Чека» в разговорном регистре обозначает «КГБ»: «Чека по традиции в современном разговорном языке КГБ продолжал именоваться ЧК» [Арго, с. 531].
Зафиксирован в словаре и его коррелят-ксеноним: “Cheka: the All-Russian
Extraordinary Commission for the Struggle Against Counterrevolution, Speculation and
Sabotage. (In the Soviet Union) the state secret police organization 1917–1922, succeeded by the GBU. 1920–25” [Random, c. 353].
Сохранился и дериват акронима Чека – чекист, тождественный ксенониму:
«чекист: неодобр. Военнослужащий ВВ 1950–70-е» [Жаргон, с. 319]. В военном сленге в современном языке актуализируются новые значения акронима чекист: пейоративное «хитрец, пройдоха» и нейтральное «солдат во внутренних
войсках» [Арго, с. 531]. Модификация семантики этимона на ксеноним не повлияла: “chekist pl chekisty: a member of Cheka” [Random, c. 353].
Данная номинация характерна для политического дискурса, ее пейоративность актуализируется параллельным использованием
KGB: “Chekists (KGB
officers) above all like social order and predictability” [Time Jan. 22, 2001].
Элитарность силовых структур современного российского общества, приближенных к «сильным мира сего», отражается в пейоративности, актуализации
которой способствует ксеноним chekisty, используемый в данном случаев параллельно ксенониму “ the FSB”: “System analysis („power structures‟ – armed
bureaucracies, siloviki); decision-making (Kremlinology: narrow circle, chekisty). The
alliance between chekisty and the FSB takes control over most power instruments”
[http://www.prio.no/page/CSCW].
Как отмечалось ранее, транскрибирование не является распространенной
формой передачи этимона вследствие своей субъективности, однако его достоинством является создание национального колорита: “…hundred-thousand strong
demos chanting “Doloy Kah-Geh-Beh!” (Down with the KGB!). So much time has
passed” [Untimely June 9, 2006].
253
Кодифицированные ксенонимы, образованные транскрибированием, практически не встречаются, исключение представляют сокращения, зарегистрированные академическими словарями: VECHEKA, Cheka, Gay-Pau-Oo / Gay-Pay-U:
“Gay-Pay-Oo/Gay-Pay-U, phonetic representation of G.P.U. as pronounced in
Russian” [OED VI, с. 410].
В корпусе примеров из глоссариев выделены примеры регистрации ксенонимических сокращений, заимствованных советизмов в постсоветское время
Например, в глоссарии энциклопедического издания зафиксирован историзм
“RKKA < R(aboche)-K(rest‟yanskaya) K(rasnaya) A(rmiya) Workers‟ and Peasants‟
Red Army” [CamEnc. 1994: Glossary].
Кодификация коррелята этимона «ГТО», недавно воспринималось как историзм, однако в 2014 г. Указом Президента феномен ГТО и его обозначение «возвращаются» в российскую реальность. Важно отметить, что в дефиниции не выделена «советская принадлежность», и это позволяет сделать вывод о значимости
фактора частотности использования номинации, маркирующего ее релевантность
и после ухода на периферию языковой системы. В данном случае, как представляется, западные лексикографы следовали стратегии прогностики, основанной на
анализе предполагаемого «жизненного цикла» единицы:
“GTO < G(otov k) t(rudu)) (i) O(borone) (Ready for labour and defence), the national fitness programme” [CamEnc 1994: Glossary].
Тенденцией современного английского языка выступает кодификация в
постперестроечный период сокращений-советизмов, которые обозначат феномены, актуальные и после распада СССР:
1. Gosplan. The Soviet state central planning agency. The institution survives but
no longer has directive responsibilities [CamEnc. 1994: Glossary].
2. Goskomstat The Soviet state statistical agency. The acronym is still used in the
postcommunist period” [CamEnc. 1994: Glossary].
Глоссарии историографических изданий регистрируют и коммуникативно
релевантные советизмы-историзмы:
Gossnabsbyt: the Soviet state wholesale allocation system [21stCentury, c. 140].
254
Как отмечалось выше, в англоязычных исследованиях о России западные
журналисты уделяют много внимания советской истории, что предопределяет использование
ксенонимических
сокращений
образованных
транслитерацией
(VSNKH) или на основе калькированных номинаций (CPK), обеспечивая обратимость, что немаловажно в политическом дискурсе:
“Theoretically control over industries was centered in the Supreme Council of the
National Economy (VSNKH), which was created shortly after the revolution in 1917.
VSNKH in turn delivered its power from the Council of People‟s Commissars (CPK).
The CPK (the forerunner of the Council of Ministers) also created the Chief Oil Committee (Glavny Neftianoi Komitet) under the VSNKH on May 17, 1918” [Rise of the
New Russia, c. 27].
В корпусе примеров выявлены также инициальные аббревиатуры, образованные практической транскрипцией: “VGTRK – All-Russian State Television and
Radio Company” [http://www.pipss.org/]
Относительно частотные ксенонимы-сокращения, коррелирующие с этимонами-сокращениями, после первичной семантизации, как правило, не эксплицируются и функционируют в тексте как единица языка, способствуя точности информации и реализации стратегии языковой экономии:
“The Federal Guards Service (FSO) … there are the forces of the Foreign Intelligence Service (SVR) with its spetsnaz” [http://www.hooverdigest/].
Вышеприведенные примеры иллюстрирует типичные стратегии передачи политических сокращений в английском языке; в политических блогах наблюдается
тенденция стратегии реализации обратимости. Адаптация английского языка на
вербальном уровне реализуется транслитерацией, способствующей сохранению
связи с этимоном: служба внешней разведки» = SVR; сокращение, образованное
от калькированного словосочетания, встречается реже.
Типичная для русского языка аббревиация, образованная усечением первого
компонента словосочетания, в английском языке видоизменяется и передается
либо калькированием полного словосочетания либо практической транскрипцией
при параллельном подключении: “general staff/genshtab: The supreme uniformed
255
Russian military authority responsible for all civil defense, readiness, military
mobilization, security, and war-fighting activities” [21st Century, c. 139].
Следует отметить, что сложносокращенный этимон «генштаб» при передаче
на английский язык практической транскрипцией теряет свойства сокращения и
воспринимается как слово genshtab, требующее экспликации. Использование
калькирования полного варианта термина в качестве номинации, на первый
взгляд, противоречит принципу экономии, однако, с другой стороны, калька не
требует экспликации, т.е. калькирование номинации, по сути, выполняет также
функцию семантизации, поэтому в коммуникативной практике сокращенный термин и его полный вариант нередко используются параллельно.
В англоязычном политическом дискурсе, отражающем российскую действительность, образуются номинации типа «сращение» (blending): «начало первого
элемента словосочетания + вторая часть второго компонента». Известным примером образования такого рода выступает privilegentsia, сформированная посредством сокращения словосочетания privile(ged intelli)gentsia, определяемый компонент которого представлен ассимилированным русизмом. Англоязычная лексическая единица privilegentsia актуализирует политический концепт пейоративной
оценочности ЭЛИТА, понятийность которого отражает идеологизированный субстрат российской действительности «партийная, военная и административная бюрократия». По данным зарубежных лексикографов данный политический термин
создали западные политологи в 1950-х годах, причем его функционирование было
ограничено первоначально рамками научного дискурса. Термин используется с
1980-х: “These bureaucrats get their jobs under the nomenklatura or privilegentsia system, whereby Communist party members nominate their friends in return for kickbacks
and privileged access to rationed goods” [Economist May 30, 1987].
Первое значение лексической единицы priviligentsia следующее: “privileged
class of important Party members in the Soviet Union and other Warsaw Pact states”;
позднее закрепилось понятие «советская элита». Коммуникативная релевантность
данной номинации способствовала ее частотности в политическом дискурсе и
адаптации в новых контекстах. Результатом концептуальной деривации выступает
256
формирование новой понятийной составляющей “any group of people who either
enjoyed or advocated privilege” [www.answers.com/].
Недавним образованием является militocracy (< Rus. mili(tary)+(au)tocracy),
коррелирующее с этимоном «милитократия», который введен О. Крыштановской:
“According to O. Kryshtanovskaya, who used the term „militocracy‟ to describe
the current Russian regime, the share of „men in epaulettes‟ among top managerial elite
(starting from deputy minister and higher) is 25%” [http://www.pipss.org/].
Отдельные сокращения зафиксированы в словаре военного сленга: “seksot <
sek(retnyi) so(trudnik) secret collaborator: an informer” [Slang WWII, c.281].
Заимствованные акронимы пейоративной коннотации актуализируют аналогичную оценочность в англоязычном дискурсе только при условии ее экспликации; ассимилируясь в новом концептуальном пространстве, они часто не требуют
семантизации. Например, акроним gulag используется для номинации негативных
реалий США: “The largest juvenile-justice system in the world – the California Youth
Authority, a teen gulag with 9,000 inmates” [Nweek July 4, 1994].
Ксеноним-сокращение, как правило, тесно связан с этимоном, в отличие от
других видов инолингвокультурного обозначения, однако при востребованности в
новой коммуникативной среде, возможна и концептуальная деривация, предопределяющая вариативность семантической структуры объективирующей концепт
номинации. Адаптивные возможности инолингвокультурных сокращений ограничивает языковая система, как правило, не принимающая такие новые формы,
которые не соответствуют стандарту, соответственно, ксенонимов-сокращений в
английском языке относительно немного.
Например, по данным зарубежных
лингвистов в современном англоязычном дискурсе актуально заимствованиесокращение agit-prop, которое реализуется в функции политического эвфемизма:
Yet in one of the short agitprop videos submitted for the event‟s competition a chap
called Steve Price gave his audience what could prove the germ of an idea that might
resonate better with a cuts-agnostic public than smashed windows in the West End:
mockery” [Guardian March 29, 2011// цит.по 485, c. 28].
257
Сокращение-ксеноним, как правило, семантизируют калькированием полного словосочетания этимона, или введением аналогичного по денотату и оценочности англоязычного термина (не обязательно сокращения): “The RTS index (the
Russian counterpart of the Dow Jones Index of Russian stocks)” [Rise of Russia, c. 94].
This was an important form of economic support for the East European Communist and other Council of Mutual Economic Assistance countries (CMEA but more
commonly referred to as COMECON)… [Rise of the New Russia, c. 44].
Сокращения, в отличие от других типов ксенонимов, как правило, не выделяются курсивом или кавычками, однако инициальные сокращения маркированы
начальными прописными буквами. Акроним выделяют прописными буквами или
начальной прописной буквой, при адаптации графическая маркировка может стираться, поскольку номинация читается как слово.
В процессе формирования политического ксенонима не всегда возможно
выбрать наиболее адекватную форму образования, что предопределяет функционирование прагматических синонимов: сокращений разных номинативных типов.
Адаптация сокращений-заимствований определяется, главным образом, коммуникативными интенциями и социальной значимостью.
Реализуя принцип языковой экономии, аббревиатура способствует оптимизации языковой системы, при этом сокращенная форма может вуалировать определенные коннотации, нежелательные с точки зрения автора, издания и т.п.
Суммируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что номинации инолингвокультуры в принимающем языке не обязательно в полной мере сохраняют тесную
связь со своими этимонами, адаптируясь в системе, они могут реализовывать и
функции обозначения реалий других инолингвокультур. Отдельные сокращения,
адаптируясь в языке, отражают новые понятия или используются для экспликации
«восстановленных» исторических феноменов российской действительности.
Необходимо подчеркнуть, что при актуализации сокращения на вербальном
уровне ему неизменно предшествует концептуальная деривация.
258
ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ
Расширение языковых контактов способствует познанию мира не только
«чужих» лингвокультур, но и родной лингвокультуры, поскольку именно в процессе межкультурных контактов, через призму «чужого», осознаются лакуны.
Образование инолингвокультурной номинации, терминологически обозначаемой вслед за В.В. Кабакчи ксенонимом, системно и полно можно рассмотреть
в контексте когнитивно-дискурсивной парадигмы, способствующей «слиянию»
подходов к изучению номинации: традиционного и когнитивно-дискурсивного.
Ксеноним, по сути, является репрезентантом концепта инолингвокультуры, ее
субстрата, экспликация значения при этом обусловлена языковой личностью, которая «вскрывает» пейоративность или, напротив, выделяет положительное.
Анализ способов вербальной актуализации инолингвокультурного субстрата выявляет взаимозависимые уровни, каждый из которых предопределяет специфику следующего. Основой механизма лексико-семантической адаптации языка
является концептуальная деривация, «включающая» процесс когнитивного
осмысления и переосмысления инолингвокультурных феноменов. Специфика
данного процесса в том, что в межкультурном дискурсе осмыслению подвергается концепт, обладающий характеристиками, уже сформированными в родной
лингвокультуре, в работе данный процесс обозначен термином «вторичная лингвокультурная концептуализация».
Одной из особенностей лексикона межкультурного дискурса, выявленной в
ходе исследования эмпирического материала, является «первичная инолингвокультурная номинация» (этимон), представляющая собой объективацию идеологизированного субстрата инолингвокультуры, формируемого при осмыслении
российской действительности в англоязычной концептуальной системе. Ряд образованных в западной системе концептов российской действительности соответствует западной картине политического мира, где Россия представлена большей
частью пейоративно; вербальные репрезентанты данных концептов и образуют
259
первичные англоязычные номинации, которые, в отличие от ксенонима, в русском
языке коррелируют с переводными вариантами, но не с этимоном.
В лингвокультурном пространстве современного английского языка не потеряли своей актуальности и отдельные советизмы. Во-первых, выделяются единицы, закрепившиеся в языковой системе, что объясняется их коммуникативной
востребованностью и сегодня, в отличие от коррелирующих с ними этимонов,
ушедших на периферию. Англоязычные советизмы функционируют в качестве
средства семантизации новых номинаций в историографии, журналистике, беллетристике, способствуя созданию прагматического эффекта. Во-вторых, активизируются советизмы и под влиянием российского политического дискурса. Восстановление ряда советских ритуалов обусловливает коммуникативную активность
советизмов-историзмов и соответствующих ксенонимов. Третьим направлением
актуализиации советизмов является их востребованность в лексиконе политического дискурса стран, где сильна роль коммунистической партии, образованноц
под влиянием советской партийной системы, что подтверждается современной
англоязычной национальной прессой.
Ключевым направлением любого политического дискурса является задача
сохранения власти, что требует вербального манипулирования, механизм которого основан на концептуальной деривации. Данная задача реализуется посредством
идеологически и прагматически обусловленных лексических вариантов эвфемизм
– дисфемизм, а также номинаций оппозиции «свой» и «чужой». Вербальное манипулирование способствует развитию идеологически обусловленной полисемии,
омонимии и, в редких случаях, концептуальной энантиосемии. В меньшей степени манипулирование актуализируется в аббревиации, посредством которой, главным образом, реализуется оптимизации речевой деятельности.
Выделенная на основе исследования эмпирического материала модель образования ксенонима не является эталонной, это своего рода базовая структура, которая модифицируется в зависимости от коммуникативной интенции, ситуации
общения, мировоззрения языковой личности, участвующей в межкультурном политическом дискурсе.
260
ГЛАВА 3 АКТУАЛИЗАЦИЯ ИДЕОЛОГИЗИРОВАННОГО
СУБСТРАТА В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
ИНТЕРЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
3.1. Обоснование отбора исследуемого материала
Целью данной главы выступает анализ авторских стратегий вербальной актуализации идеологизированного субстрата российской действительности в текстах
разных жанров и разнообразных политических направлений. Выделение способов
ксенонимических номинаций и критериев их выбора в словесных произведениях
большого объема, а также последующее сопоставление полученных результатов с
данными об использовании идеологизированных обозначений в масс-медиа,
необходимо для верификации выводов об адаптивном механизме английского
языка в условиях межкультурной коммуникации. Основные исследуемые жанры
включают историографию, научные работы, мемуарный жанр, путевые заметки.
При отборе эмпирического материала учитывалась категория авторитетности, которая, как подчеркивают А.А. Болдырева и В.Б. Кашкин, «является одной
из важнейших для коммуникационного процесса. Ее содержание связано с лингвоэкономическим и властным статусом коммуникантов» [51]. Многие западные
авторы неоднократно бывали в России, работали с архивными документами,
встречались с политическими деятелями, журналистами и с россиянами разных
социальных кругов. Большинство отличается профессиональным билингвизмом,
т.е. владеют русским/английским языком как родным, вторым или иностранным.
Комбинация языков («английский + русский» или «русский + второй») представляется важным фактором: доминирующей лингвокультурой нередко выступает
именно та, которая усваивалась с детства, влияя на восприятие окружающего мира и его отражение в речевой деятельности. Следует учитывать и коммуникативную активность языков: оказываясь в англоязычной среде, авторы русского происхождения погружаются в новую лингвокультуру, при этом контакты с родной
лингвокультурой могут быть ограничены. Билингвальность автора подтверждает-
261
ся его образованием: студенты-историки, политологи, специализирующиеся на
России, изучают русский язык, что позволяет им читать первоисточники в оригинале, работать с документами в российских архивах (как следует из ссылок на
русскоязычный материал). Ряд работ включает интервью с россиянами, переведенными авторами, что отмечено в предисловии. Предпочтение отдавалось работам известных западных историков: K. Кларк, Р. Конкуеста, У. Дюранти, О. Файджеса, Ш. Фитцпатрик, Е. Лукаса, М. Малиа, Р. Пипеша, Р. Сервиса и др.
Значимым критерием выступает жанр: наибольший интерес для настоящего
исследования представляет историография, в которой наиболее подробно отражено воздействие политических процессов и политических деятелей на жизнедеятельность социума. Сложность отбора историографии обусловлена массивом издаваемых за рубежом книг о политическом развитии современной России, о советском периоде и о царской России. В 1990-х гг. были рассекреченны архивные
документы и западные историки, журналисты получили возможность изучать
секретные в недавнем прошлом документы советского периода, позволяющие поновому осмыслить политическую действительность нашей страны. Следует отметить, что в историографии категория авторитетности объективируется вставными
текстами: цитатами из архивных документов, прессы, фрагментами интервью с
политическими деятелями и т.п.
При отборе произведений особое внимание также обращалось на его название, отражающее суть содержания и также идеологическую позицию автора, восприятие каких-либо феноменов российской действительности: пейоративное, позитивное или нейтральное: (оценочные номинации подчеркнуты мной – Н.Ю.):
Oilopoly. Putin, Power and the Rise of the New Russia (М. Goldman) и The New Cold
War: How the Kremlin Menaces both Russia and the West (E. Lucas), Rebirth of a Nation (J. Lloyd), Sputnik. The Shock of the Century (Р. Dickson), The Living & the Dead.
The Rise and Fall of the Cult of World War II in Russia (N. Tumarkin) и др. Историография представлена публикациями, отражающими макроисторию: Russian Political Culture since 1985 (А. Denton), Inside Putin‟s Russia (J. Jack) и микроисторию:
262
Ivan‟s War. The Red Army 1939–45 (C. Merridale), а также биографическими исследованиями: Gorbachev and History (P. Broué) и др.
В эпоху холодной войны практически вся подобная литература рассматривалась исключительно в оппозиции «свой» (единственно правильный) :: «чужой»
(враждебный, ложный, фальсифицирующий). Стереотипы такого рода порой звучат и сегодня: книги о России зарубежных авторов однозначно воспринимаются
как искажающие нашу действительность, однако это далеко не всегда именно так.
Следует напомнить, что западные специалисты, писатели и журналисты, побывавшие в нашей стране в период 1920-х–1940-х, лично общались с В.И. Лениным и И.В. Сталином, которые умели убеждать в значимости своих идей. В написанных западными писателями и корреспондентами книгах Россия нередко была
представлена в положительном ракурсе, за что противники коммунизма подвергали их критике. В период 1920-х гг. многие западные журналисты действительно
поверили в российскую революцию, доверяя советской прессе, где идеализировалась действительность. Отличались позитивностью и отдельные книги, написанные западными историками в советский период. Своеобразной точкой отсчета изменения отношения к советской идеологии стало «открытие» архивов и, получив
доступ к документам сталинских времен, положительно настроенные советологи
вынуждены были изменить свое мнение.
При отборе эмпирического материала учитывались рецензии, а также предисловие, где обоснованы авторские интенции, анализировались терминологический указатель (Index) и глоссарий (Glossary). Методом сплошной выборки были
выделены инолингвокультурные номинации, которые разграничивались по параметру количества синонимов, т.е. ксенонимической плотности. Анализ ключевых
номинаций терминологического указателя позволяет выявить релевантность
(коммуникативную востребованность), которая верифицируется статически: количеством ссылок на функционирование данного обозначения в тексте. Например, в произведении Russia‟s Sputnik Generation. Soviet baby Boomers Talk about
Their Lives представлены следующие обозначения идеологизированного субстрата
российской действительности: politics (11 ссылок), Pravda, propaganda (11 ссы-
263
лок), Vladimir Putin (8 ссылок), rehabilitation (6 ссылок), political myths (6 ссылок),
October Revolution (6 ссылок), openness (2 ссылки), perestroika (33 ссылки) и других инолингвокультур: Prague Spring (3 ссылки), German Wave, Vietnam War (4
ссылки) [Sputnik Generation]. Анализ вербальных средств указателя показывает,
что в тексте использованы также лексические единицы, обозначающие феномены
британских и американских лингвокультур: BBC, RL (Radio Liberty), Voice of
America. Лингвокультурное своеобразие номинаций подтверждает высказанное
ранее мнение о пересечении национальных дискурсов в глобальном информационном пространстве и о формировании межкультурного политического дискурса.
Концепция о значимости владения языком описываемой лингвокультуры
складывалась на протяжении многолетнего опыта изучения англоязычных обозначений феноменов российской действительности, используемых в произведениях разных авторов, главным образом, билингвов. Именно билингвы обладают
способностью «проникнуть» в суть инокультурного слова, выявить стоящий за
ним концепт и осмыслить его на глубинно-когнитивном уровне. Анализ внутренней формы номинации, ее этимологии позволяет восстановить «культурную память». Следует подчеркнуть, однако, что мировоззрение индивида и его концептуализация действительности меняются в течение жизни с приобретением нового
опыта, при этом доминантное воздействие родной лингвокультуры реализуется на
глубинном уровне, что может повлиять на способы отражения инолингвокультурной действительности. Соответственно, логично предположить, что описание
российской действительности как инолингвокультуры средствами родного языка
обладает определенной спецификой по сравнению с представлением ее как родной лингвокультуры средствами другого языка.
Верификация данного предположения обусловила разделение исследуемого
материала на две группы в зависимости от комбинации языков: «английский +
русский» и «русский + английский». Особый пласт эмпирического материала
представлен научными текстами, адресованными, главным образом, специалистам, что, как предполагалось, влияет на выбор вербальных средств актуализации
264
идеологизированного субстрата российской действительности; данная группа
включает также энциклопедические издания.
Для сопоставления привлекались переводные произведения, которые послужили источником заимствования политического сленга, лексики Гулага; это – роман А. Солженицына One Day in the Life of Ivan Denisovich и лексикографическая
история Гулага The Gulag Handbook французского коммуниста Дж. Росси.
Для сравнения анализировались также вербальные способы актуализации
идеологизированного субстрата в произведениях, написанных невладеющими
русским языком политологами, историками, журналистами; предпочтение отдавалось публикациям авторов, которые опираются на серьезные исследования российской политики, прессу, переводные издания с русского языка, имеют личный
опыт посещения России, общения с россиянами при посредничестве переводчика,
например, Дж. Димблеби.
Следует отметить, что не все проанализированные на стадии отбора материала произведения о российской политической действительности включены в исследование. Так, в написанных небилингвальными авторами текстах (путевые заметки, научные статьи и т.п. – 14 источников) инолингвокультурная специфика
актуализируется, как правило, номинациями артефактов, но аксиологическая составляющая, релевантная для настоящей работы, практически не представлена.
Большинство анализируемых произведений включает не менее 300 страниц,
такой объем позволяет предположить вариативность способов актуализации
идеологизированного субстрата, привлечение широкого контекста и комментария.
Суммируя вышесказанное, представляется необходимым подчеркнуть, что
все проанализированные произведения представляют собой аутентичный материал, поскольку являются результатом реальной речевой деятельности и предназначены непосредственно для функционирования в дискурсе, это отличает их от
учебных материалов, создаваемых с целью обучения и неиспользуемых в ситуации реального общения.
265
3.2 Интерлингвокультурное произведение как особый тип текста
Задачей данного параграфа является выделение типологических характеристик исследуемого эмпирического материала, представленного разнообразными
произведениями, объединенными задачей отражения инолингвокультурной специфики. Обоснование понятия «интерлингвокультурный текст» требует определить понятие «текст» и выделить его параметры.
В фундаментальных работах по лингвистике текста обоснованы различные
толкования терминов «текст» и синонимичного словосочетания «словесное произведение», анализ которых показывает отсутствие единства подходов и, соответственно, многообразие дефиниций [35; 36; 288; 66]; «по данным авторитетных
германистов» существует более 300 определений понятия «текст» [363, с. 10].
Среди основных текстообразующих параметров многими учеными отмечается коммуникативная значимость текста, подчеркивается, в частности, что его
лингвостилистические характеристики «складываются под влиянием типичных
условий, форм и целей коммуникации, свойственных данному виду общения, и
отражают типичные отношения между коммуникантами» [268, с. 42]. Текст понимается как «совокупность правил лингвистической и экстралингвистической
организации содержания коммуникации представителей определенной лингвокультурной общности» [290, с. 34]. В исследовании по жанровой стилистике текста В.И. Провоторов рассматривает текст как глобальный знак, представляющий
собой целостную систему, «в которой коммуникативная функция представлена в
виде трех подсистем», взаимосвязь и взаимообусловленность которых обеспечивает интегративность всех уровней словесного произведения: предметнофункционального, прагматико-функционального и формально-синтаксического
[288, c. 22]. Обобщая основные характеристики текста, выделяемые в лингвистических работах зарубежных и отечественных ученых, В.Е. Чернявская подчеркивает, что текст представляет собой форму «порождения человеческого знания»
(выделено мной – Н.Ю.) и включает следующие параметры:
266
1) «всеобщие типологические признаки, присущие текстам как представителям определенных классов, видов, типов»;
2) «индивидуальные характеристики», которые показывают уникальное
своеобразие «отдельных текстовых произведений» [363, с. 16].
Основным критерием текста в когнитивно-дискурсивной парадигме выступает текстуальность, под которой понимается совокупность дефиниционных параметров (когезия, когерентность, интенциональность, адресованность, информативность, ситуативность, интертекстуальность) [363, с. 17–19].
Как следует из положений фундаментальных трудов, лингвистика текста изначально ориентировалась на изучение исключительно литературного текста [4],
однако выводы о текстообразующих параметрах литературного текста, как представляется, релевантны для словесного произведения любого жанра. В частности,
адресованность, обусловливающая взаимосвязь автора и читателя, основана на
функциональном дуализме текста, его двунаправленности.
Как подчеркивает Е.А. Гончарова, «в основе литературного текста лежит
стремление автора не только к созданию – средствами языка – собственной, «авторской», картины Мира, но и к донесению своих представлений об изменчивых
свойствах Мира до других. В круг этих «других» входят, прежде всего, потенциальные читатели», от которых зависит «дальнейшая продолжительность «жизни»
литературного текста, его социальная востребованность» [111, c. 6]. С адресованностью тесно связана интенциональность, понимаемая как «обусловленность текстового целого коммуникативной целью» [363, с. 19]. Известный отечественный
ученый Н.С. Валгина, обосновывая взаимозависимость автора текста и читателя,
отмечает, что «любой текст рассчитан на чье-либо восприятие: летописец пишет
для потомков, специалист-ученый – для коллег, с целью передать свои наблюдения и выводы [66]. Двунаправленность текста, таким образом, означает, что любой текст одновременно направлен «на автора-создателя и на воспринимающего
читателя» [66].
В соответствии с традиционным подходом считается, что именно автор
определяет восприятие текста [288, c. 23]. Данное утверждение представляется
267
несколько категоричным, поскольку не учитывается мировоззрение читателя и
его компетентность: следует согласиться с тем подходом, согласно которому
«решающей в декодировании смыслов данного текста» является «межтекстовая
компетентность читателя (реципиента) [372, с. 37]. Данное положение закреплено
в терминологическом словаре, где подчеркивается, что текст «реально функционирует только во взаимодействии с адресатом (sic)» [Стилистика, c. 123].
Ученые отмечают влияние читателя на глубину понимания текста, что объясняет «множественность (до непримиримости) его интерпретаций» [372, с. 37].
Множественность интерпретаций обусловлена, в том числе, интертекстуальностью, которая, как утверждает И.А. Щирова, является значимым текстообразующим параметром, онтологическим качеством любого словесного произведения,
предопределяя «включение текста в новое культурное поле и бесконечность обновления текстовых смыслов в новых контекстах» [382, с.79].
Для настоящего исследования важным качеством текстуальности выступает
параметр «культурная маркированность», который стали отмечать относительно
недавно, например, в исследованиях У. Фикс [353]. По данным В.Е. Чернявской,
культурологическую специфику текста «наряду с традиционно выделяемыми текстообразующими характеристиками» выделяют немецкие ученые [363, с. 34].
Обосновывая культурную обусловленность текста, ученые отмечают, что интертекстуальность означает наличие «в культуре, где существует данный текст,
определенной системы дискурсов…; культурный контекст текста «погружен» в
среду кодов культуры, что влияет как на создание текстов, так и на их интерпретацию» [292, с. 187]. Исследование произведения, «погруженного» одновременно
в разные культуры, проводится, главным образом, в рамках переводоведения, где
на первый план выдвигаются функционально-стилевые характеристики текста
оригинала и текста перевода: К. Райс [295, с. 202–228], И.С. Алексеева [8, с. 50–
54], В.С. Виноградов [79, с. 16–18] и др.
Как следует из вышеизложенного, в основных фундаментальных работах по
германистике и лингвистике текста не определяется специфика аутентичного текста, создаваемого билингвами с целью отражения инолингвокультуры. Произве-
268
дения такого рода изучаются отечественной наукой, главным образом, на материале национальных русскоязычных текстов или авторского перевода. Следует отметить, что для настоящего исследования значимость представляют выводы отечественных ученых о специфике национальных русскоязычных произведений билингвальных авторов. Русскоязычная национальная литература, советская и современная, создается национальными авторами, отличающимися профессиональным билингвизмом («родной язык + русский»); в советский период двуязычие
было характерно практически для всех союзных республик, за исключением России, поскольку именно русский язык выполнял функции внутригосударственного
общения. Обращаясь к русскому языку, основным вербальному средству продуцируемого словесного произведения, национальные писатели-билингвы создавали
художественную картину мира национальной лингвокультуры: Ч. Айтматов, О.
Вициетис, С. Капутикян и др. К русскому языку как средству своей этнической
идентификации обращаются современные писатели-билингвы Г. Бельгер, A. Кекильбаев, М. Кул-Мухаммед и др.
Произведения, написанные на заимствованном литературном языке, исследователи называют субстратными, поскольку в данном случае актуализируется
субстрат родной лингвокультуры и сохраняются традиции «национальной литературы, т.е. «национальное не только помещено, но и растворено в литературном
тексте» [359, с. 173]. Изучая русскоязычную национальную литературу, ученые
отмечают, что под влиянием картины мира контактирующего языка меняется
идентичность писателя-билингва. Так, исследуя формирование билингвальной
личности двуязычного писателя, У.М. Бахтикиреева приходит к выводу, что
именно билингвальность позволяет автору приобщить носителя русского языка к
мировосприятию тюркских этносов [33].
Анализируя языковую картину мира писателя-билингва, отраженную в
художественном дискурсе, А.Б. Туманова подчеркивает, что «идиоэтническое
начало» писателя неизбежно проявляется в тексте. Такая закономерность способствует «формированию у него как личности и как художника слова особой, своеобразной языковой картины мира негомогенного характера, которая представляет
269
собой результат контаминации, взаимовлияния двух культур и двух языков», контаминированной картины мира [342, с. 7].
Практически все ученые выделяют культурную специфичность русскоязычной литературы писателей-билингвов и взаимовлияние контактирующих лингвокультур, например, в казахской художественной прозе и публицистике [340], осетинской [359], якутской русскоязычной литературе [62]. Русскоязычное произведение, включающее межкультурный диалог, в концепции А.В. Подобрий представлено как «поликультурное» [277], Ж.В. Бурцева обосновывает термин «транскультурное» [62], Л.Г. Самотик считает, что в литературе такого рода создается
образ инонациональной речевой среды [306].
В зарубежных научных направлениях изучению «межкультурных» англоязычных текстов, написанных билингвами на втором языке, уделяется значительное внимание с середины прошлого тысячелетия. Особенностью данных произведений, выражающих этническую идентичность, является обращение авторовбилингвов к «чужому» языку, средствами которого актуализируется инолингвокультурный субстрат. Это – разноплановые произведения, включающие не только
постколониальную литературу, но и литературу писателей-эмигрантов.
Интерес многих зарубежных ученых вызывает именно постколониальная литература, обозначаемая разнообразными терминами, один из первых, «контактная
литература» (contact literature) введен Б.Б. Качру [446; 445]. Литература такого
рода включает произведения билингвальных писателей из бывших колоний, использующих язык колонизаторов для выражения своей этнической идентичности,
модифицируя при этом норму английского языка. Отдельные постколониальные
писатели считают, что, «присваивая» язык колонизаторов, они бросают своего
рода вызов англоязычному миру, но отклонения от нормы английского языка не
безграничны и не должны препятствовать реализации желания быть «услышанным» в глобальном мире.
В новейших исследованиях обосновываются новые термины. Так, термин
«транслингвальная» (translingual) вводит С. Г. Келлман в работе Switching languages: translingual authors reflect on their craft. Он называет «транслингвальными
270
писателями» тех «амбивалентных» (ambivalent) авторов, которые владеют более
чем одним языком и создают свои произведения не на родном языке или более
чем на одном языке [449, с. 9]. Для творчества транслингвальных писателей характерны отклонения от зафиксированной нормы, но единый языковой код не является требованием транслингвальной литературы [441, с. 301]. В данных произведениях отражен мир этнических лингвокультур: индийской – Р. Рао, нигерийской – Ч. Ачебе, тринидадской – В.С. Наипаул и др.
Зарубежные исследователи выделяют «транскультурную креативность»
(transcultural creativity), под которой П. Скотт понимает «искусное и преднамеренное воспроизведение характерных деталей одного языка средствами другого»
[цит.по 404, с. 2].
Получают все большую популярность в современном англоязычном мире
произведения русских иммигрантов (Russian immigrant writers), написанные в
2000-ые годы; авторы-билингвы, первый язык которых русский, создают картину
мира родной лингвокультуры, преломляя ее через призму концептуальной системы англоязычного мира, модифицируя, соответственно, и языковые средства.
Основным параметром произведений такого рода, как представляется, выступает «интерлингвокультурность»; текст «погружен» одновременно в два кода:
язык описания и вербальный код описываемой лингвокультуры. Иначе говоря,
словесные произведения обладают общим «содержательным» компонентом: информацией об инолингвокультуре, выражаемой «чужим» относительно данной
лингвокультуры языком.
Именно контакт разных лингвокультур «высвечивает» ее лингвокультурный
субстрат, маркирующий специфику инолингвокультуры; данное положение обосновано в трудах М.М. Бахтина: «Чужая культура только в глазах другой культуры
раскрывает себя полнее и глубже (но не во всей полноте, потому что придут и
другие культуры, которые увидят и поймут еще больше)» [34 с. 457]. Предвидя
возможные возражения, которые нередко звучат сегодня о подавлении, поглощении одной культуры другой, ученый подчеркивает: «При такой диалогической
271
встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое
единство и открытую целостность, они взаимно обогащаются» [34, с. 457].
Перефразируя высказывание Ю.А. Сорокина о переводе, можно предположить, что смыслы, которые «входят в пресуппозицию автора» и очевидны для него, могут остаться «закрытыми для представителей другой культуры» [322, с. 5],
если они не эксплицированы в произведении. Соответственно, писатель-билингв
использует разнообразные авторские средства и межъязыковые трансформации
для лингвокультурной и стилистической адаптации английского языка, реализуя
коммуникативные интенции по выражению инолингвокультурной идентичности.
Словесное произведение подобного рода обозначено в исследовании как интерлингвокультурное, поскольку оно отражает представление автора-билингва об
инолингвокультурной действительности средствами иного – относительно данной
лингвокультуры – языка, адаптирующегося для актуализации ее субстрата. Интерлингвокультурный текст находится между контактирующими лингвокультурами («интер»), «связывая» их в единое коммуникативное целое в межкультурном дискурсе, интерлингвокультуре.
Процесс адаптации языка для выполнения функции актуализации инолингвокультурного субстрата в произведении такого рода основан на концептуальной
деривации, неизбежной, как отмечалось ранее, при контакте различных концептуальных систем. Выявление субстрата происходит на глубинно-когнитивном
уровне: на стадии внутренней речи («внутреннее кодовое переключение» и
«внутренний перевод»), за которой следует переход во внешнюю речь, и результатом данного процесса выступает формирование инолингвокультурной номинации. При этом индивидуальность автора при выборе языковых средств ограничена языковой системой, которая может меняться, «принимая» новые элементы, однако, не «нарушая общепонятности языка» [307, с. 44].
По соотношению воплощенной в тексте лингвокультуры и языка изложения
интерлингвокультурные произведения классифицируются в зависимости от первого языка автора: тексты, в которых инолингвокультура 1) актуализируется на род-
272
ном языке или 2) на втором/иностранном языке, и 3) также произведения, где актуализируется на втором/иностранном языке родная лингвокультура.
Интерлингвокультурная литература представлена разными жанрами, в каждом их которых воплощена авторская индивидуальная картина мира, отражающая
в той или иной степени взаимодействие лингвокультур. Она фиксируется языковыми средствами: определенными тематическими группами языковых единиц,
индивидуально-авторскими языковыми средствами и др. [283, с. 8].
Интерлингвокультурными писателями можно назвать и советских русскоязычных национальных писателей С. Капутикян, Ч. Айтматова, и современников
Г. Бельгера, A. Кекильбаева; это и американские писатели, русского происхождения (Russian immigrant writers) О. Грушина, Г. Штейнгарт. В отличие от контактной (субстратной/транслингвальной) литературы, включающей произведения на
«втором» языке, интерлингвокультурная литература объединяет произведения, актуализирующие субстрат не только субстрат родной лингвокультуры средствами
другого языка, но также инолингвокультуры средствами родного языка.
Текстообразующие качества интерлингвокультурного произведения отличаются спецификой реализации текстовых параметров. Во-первых, интенциональностью: коммуникативной целью является актуализация субстрата инолингвокультуры; при этом текстовый мир опосредован дважды: языком, на котором создается текст, и индивидуально-авторской концептуальной картиной мира лингвокультуры, воплощаемой в данном произведении. По мнению зарубежного ученого М. Спунера, «язык приобретает новые черты, превращаясь в совокупность
элементов инолингвокультуры и языковых характеристик семантики, прагматики,
литературного наследия запада» [496].
Во-вторых, данный текст характеризуется двунаправленностью: он адресован
автору (в идеале, билингвальному) и англоязычному читателю. Следует также
выделить функциональный дуализм автора-билингва, совмещающего функции
писателя по продуцированию текста и переводчика инолингвокультурного субстрата (как отмечено в параграфе 2.1.2): автор переводчик.
273
Актуализация субстрата инолингвокультуры предопределена психолингвистическим механизмом «внутреннего кодового переключения» и «внутреннего
перевода» с использованием межъязыковых трансформаций на стадии «внешней
речи». Вербализируя инолингвокультурный субстрат, автор стремится к максимальной доступности языковых средств выражения. Данное положение подтверждается исследованием транскультурной креативности (transcultural creativity)
нигерийских англоязычных писателей филологом Е.О. Бамиро, который выделяет
приоритет единства культур: создается своего рода культурный гибрид (hybridity),
характеризующийся культурным слиянием (cultural syncreticity) [404].
В-третьих, в процессе создания интерлингвокультурного словесного произведения преобразуется и сам автор-билингв: формируется интерлингвокультурная
личность, отличающаяся интерлингвокультурным видением мира.
В четвертых, важным параметром является языковое оформление интерлингвокультурного произведения, характеристикой которое является конденсация
инолингвокультурных маркеров, главным образом, ксенонимов, объективирующих субстрат инолингвокультуры.
В-пятых, выделяется специфика когерентности, под которой понимается
«семантико-когнитивная связность», глубинно-смысловой уровень произведения
[364, с.18; с. 19], что предопределяет вариативность средств актуализации инолингвокультурного субстрата и множественность интерпретации читателем. Интерлингвокультурный текст представляет собой не «(относительно) законченную
единицу, но открытую в межтекстовое пространство сущность» [364, с. 57], адресованную англоязычному читателю.
Важно отметить и многоплановость целевой аудитории: 1) носитель английского языка, (не)обладающий фоновыми знаниями об инолингвокультуре; 2) инолингвокультурный читатель, владеющий английским языком как вторым или
иностранным, (не)знакомый с описываемой инолингвокультурой; 3) владеющий
английским языком читатель-представитель описываемой лингвокультуры.
В-шестых, следует отметить «интертекстуальность» текста, что предполагает
не только пересечение с разнообразными другими текстами, но и включение его в
274
межкультурное коммуникативное пространство, в «связь» с другими интерлингвокультурными произведениями.
Важным качеством исследуемых текстов является аутентичность, трактуемая
как реализация текста в реальной коммуникативной ситуации, независимо от того
является ли автор носителем английского языка или какого-либо другого.
Из вышесказанного логично следует, что в когнитивно-дискурсивной парадигме интерлингвокультурное произведение соответствует терминологическому
определению «особый формат знания», введенному Е.С. Кубряковой: ученым
предложена методика исследования художественных произведений как формата
знания, в частности, на примере анализа драмы [213]. Под форматом знания понимается определенный способ «представления знаний на мыслительном или
языковом уровнях» [47, с. 5]. Обоснованность данного толкования предопределена понятиями «знание» и «формат». Знание трактуется как «проверенный практикой результат познания действительности, …еѐ отражение в сознании человека;
форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности» [324]. Важным качеством знания выступает его объективация «знаковыми
средствами языка» [324]. Понятие «формат» означает способ представления знания в тексте, определенная системность расположения компонентов текста. Соответственно, анализ любого словесного произведения как «формата знания» предполагает выделение основных текстообразующих параметров на конкретном материале, системности структуры текста, способствующей отражению в нем определенных результатов познавательной деятельности автора.
Соотношение текста и знания подтверждается также положениями, обоснованными Н.С. Валгиной: «Текст как продукт речемыслительной деятельности автора и материал речемыслительной деятельности интерпретатора (читателя) есть
особым образом представленное знание (выделено мной – Н.Ю): вербализованное знание и фоновое знание. В тексте линейно упорядочена совокупность знаковых единиц разного объема и сложности, т.е. это материальное образование, состоящее из элементов членораздельной речи. Однако это в целом материальное
образование несет в себе нечто нематериальное, содержание (знание, событие)»
275
[66]. Толкование текста как формы «порождения человеческого знания» отражено
и в процитированном выше исследовании В.Е. Чернявской.
Языковое оформление интерлингвокультурного произведения более естествено, чем переводного, что подтверждается исследованием М.В. Умеровой. Сопоставление переводов и непереводных текстов на языке принимающей культуры
выявляет существенную разницу естественности языка: рецепторы переводов «в
большинстве случае различают оригинальные тексты на языке принимающей
культуры и тексты переводов» [345, с. 29]. Переводам более свойственна
нейтральность при передаче национально окрашенных выражений, при этом не в
полной мере сохраняется образность.
Таким образом, обобщая выводы исследователей текстообразующих параметров понятия «текст», логичным представляется выделение интерлингвокультурного произведения как текста особого типа. Функционируя в межкультурном
общении, он отличается от других типов текста рядом характеристик, определяемых, главным образом, его интерлингвокультурностью. Интерлингвокультурная
картина мира создается автором-билингвом посредством адаптации языка, через
призму которого представлена инолингвокультура, учитывая многоплановость
читателя, представителя англоязычного мира, включающего носителей не только
английского языка, но и других языков. Особый текстовый мир является результатом познания инолингвокультуры, который объективируется особыми языковыми средствами. Данные свойства позволяют считать интерлингвокультурный
текст особым жанром, особой формой представления знания об инолингвокультурной действительности.
276
3.3 Актуализация идеологизированного инолингвокультурного
субстрата в английском (родном) языке
3.3.1 Историография: макроистория
Основной задачей данного параграфа выступает анализ вербальных средств
актуализации идеологизированного субстрата, обусловленной процессом концептуальной деривации. Исследование механизма адаптации английского языка, результатом которой является образование вторичной лингвокультурной номинации, требует также выделить маркеры воздействия родной лингвокультуры автора
на восприятие инолингвокультуры и представление своего видения, своего знания
читателю. Первым этапом анализа текста жанра «историография» является выявление основных текстообразующих характеристик, что, несомненно, влияет как
на языковое оформление, так и на формат произведения.
Историография, отражающая воздействие политических деятелей на социально-политическую ситуацию, представляет собой «макроисторию», которая,
как представляется, тесно связана с институциональным дискурсом. Произведения данного направления опираются не только на политологические, исторические и подобные исследования, материал прессы, но и на личное общение журналиста, историка с политическими деятелями, что представлено в виде цитат, описания их непосредственного участия в каких-либо событиях.
Как отмечено ранее, авторы исследуемого направления отличаются профессиональной компетентностью и профессиональным билингвизмом; это – политические журналисты, корреспонденты серьезных изданий, историки, имеющие
опыт освещения политических событий разного уровня.
Следует подчеркнуть, что читателю, в том числе читателю-лингвисту, отражение политических событий в макроисториографии представляется достаточно
объективным, с чем, возможно, не согласятся единодушно историки. Объективности способствует категория авторитетности, реализуемая фрагментами архивных
документов, выдержками из интервью, цитатами известных политических деяте-
277
лей. Прецедентные феномены актуализируются знаковыми личными именами,
ссылками на известные словесные произведения, авторитетные медийные издания
и пр. Макроисториография представляет собой пересечение жанров; одной из основных задач при этом выступает исторический и политический анализ российской действительности на основе научных исследований, русскоязычной прессы,
архивных документов, практически недоступных ни массовому англоязычному
читателю, ни многим россиянам, что создает впечатление корректности описания
политической действительности. Личное восприятие автора отражено в авторском
комментарии (внутри текста или в примечаниях).
Вышесказанное не означает абсолютной беспристрастности исследуемых
произведений, каждое из которых, по мнению М.М. Полюжина, «является отражением, как внешних условий общения, так и объективируемого внутреннего мира» автора; «выбор или предпочтение тех или иных языковых форм для совершения того или иного типа речевого действия могут свидетельствовать об уровне
развития интеллектуальных способностей индивидуальности, ее характере, темпераменте, целевых установках» [280, с. 442–443], а также о мировоззрении инолингвокультурного автора и его отношении к России и россиянам.
В советский период литература такого рода находилась в спецхранах библиотеки им. Ленина в Москве и публичной библиотеки в Ленинграде; получить
доступ в спецхран можно было только при наличии официального документа,
обосновывающего необходимость чтения данных изданий в научных целях. На
русском языке советологические исследования стали публиковать только в 1990х, что сегодня дает возможность более объективно оценивать что «они» о «нас»
пишут. Так, в предисловии к «Истории Советской России», написанной советологом Э. Карром, переводчик А.Н. Ненароков отмечает профессионализм работы,
отражающей «взгляды, оценки, мнения того поколения людей – как зарубежных,
так и советских государственных, политических общественных деятелей, ученых
и представителей широких народных масс, – что были современниками Октября и
послеоктябрьских позиций» [257, с. 9]. Э. Карр, как и многие другие западные
ученые, опирается на огромный исторический материал, стремясь «создать адек-
278
ватную картину отображаемой эпохи и ее действующих лиц, способствовать трезвому и реалистичному восприятию СССР» [257, с. 10].
Обращение к оригинальным историографическим текстам позволяет понять,
какими средствами создается картина определенного периода российской действительности и ее адекватность. Исследуемый в данном разделе материал, как
отмечено ранее, наиболее обширен и представлен публикациями последних двух
десятилетий (44 произведения) и десятью работами, изданными до 1990 г. Сопоставление реализации вербальной адаптации в текстах разных периодов необходимо для изучения динамики вариативности способов выражения инолингвокультурного субстрата. Методика исследования механизма адаптации английского
языка в данной функции включает несколько этапов.
Первым шагом выступает выделение текстообразующих параметров историографии; как показывает анализ, формат исследуемых произведений соответствует требованиям жанра, принятым в данном лингвокультурном сообществе, и
аналогичен, в целом, научным трудам. Основными компонентами формата являются 1) предисловие автора о переводе терминов и/или о системе транслитерации;
2)указатель основных терминов (Index);
3) глоссарий (Glossary of foreign words /of people and companies);
4) постраничные примечания (Endnotes / Notes to pages) и
5) список использованной литературы (Bibliography: primary source: current
periodicals, web sites, films and music, printed works, secondary sources).
Подобная структурная упорядоченность содержания способствует авторитетности текста и его доступности читателю.
Англоязычная историография, как правило, достаточно объемная, например,
в книге Р. Сервиса A History of Modern Russia from Nicholas II to Putin 659 страниц.
В ряде проанализированных произведений авторы предваряют основной текст
обоснованием принципов орфографической адаптации, которым они следует.
Формирование ксенонимических номинаций российской действительности в
письменной речи требует, в первую очередь, орфографической адаптации, что
осложняется отсутствием общепринятой системы перекодировки кириллицы в ла-
279
тиницу. В отличие от политического дискурса, актуализируемого в медийных
текстах, основные номинативные средства которого, включая инолингвокультурные обозначения, кодифицируются руководством издания (Style Guide), в данном
случае выбор системы перекодировки кириллицы на латиницу определяется
непосредственно автором. В проанализированном материале, как правило, не выявляется доминирование какого-либо территориального варианта при перекодировке; предпочтение отдается наиболее популярной, в том числе и среди британских специалистов, американской системе Библиотеки Конгресса (the Library of
Congress system), которая в определенной степени модифицируется непосредственно авторам согласно его задачам и, учитывая коммуникативные потребности
современного читателя.
В целях «приближения к читателю» и снятия «налета экзотичности» опускаются
диакритические
знаки,
локализуются
отдельные
русские
имена:
Transliterating Russian names into English presents some peculiar problems. We have
adhered largely to the Library of Congress system but have omitted diacritical marks for
the sake of simplicity. We have replaced most Russian first names with English equivalents, such as Peter, Nicholas, and Catherine [History of Russia, XIII]
Как следует из приведенной цитаты, английскими эквивалентами представлены такие имена как Пѐтр, Николай, Екатерина (соответственно, Peter, Nicholas,
Catherine), которые ассоциируются в историографии, главным образом с царственными особами, что позволяет говорить о прагматическом потенциале орфографической адаптации.
Для передачи звучания слова, особенно имени собственного, автор изменяет
указанную систему транслитерации, что обосновано в предисловии: звуки «ѐ» на
письме передаются как ѐ: Gorbachѐv, но не Gorbachyov, также в целях сохранения
фонетического облика слова звук «е» транслитерируется как ye (Yeltsin), в отличие от yeh (Yehltsin) [History of Mn Russia, c. IX].
Выбор автора, как правило, объясняется личными предпочтениями. Так, во
избежание негативного восприятия имени вследствие его «странной для английского языка формы» (look so odd in English) имя Александр локализуется:
280
“Some (proper names) look so odd in English that I have Anglicized them: thus
Alexander rather than Aleksandr” [History of Mn Russia, c. IX].
Другие авторы, напротив, стремятся при передаче имени собственного, максимально сохранить его инокультурность и не локализуют русское имя: “we have
not used John and Basil instead of Ivan and Vasili” [History of Russia, XIII]. Другим
обоснованием данного подхода выступает «социальный статус» имени: в отличие
от вышеназванных имен Peter, Nicholas, and Catherine, известных как имена царей
значимых исторических периодов, имена «Иван» и «Василий», равно как и John,
ассоциируются с простыми людьми. Несмотря на то, что в англоязычной историографии нередко встречается имя русского царя Ивана Грозного (Ivan the Terrible),
имя Иван настолько часто использовали в значении «простой человек», «русский», что оно фактически функционировало как имя нарицательное, способствуя
созданию негативных стереотипов: «русский Иван». В соответствии со стратегией
политкорректности, например, в рамках программы мультикультуризма The
Multicultural Management Program,журналистам, рекомендовали избегать использования слова Ivan в значении
«советский человек»: “Ivan, a common and
offensive substitute for a Soviet person” [Chicago Tribune June 1, 1990].
Сопоставление орфографической адаптации русских имен собственных разными авторами выявляет вариативность подходов, в отдельных случаях весьма
существенную: одни следуют стратегии локализации, другие форенизации, что, с
одной стороны, лишает имя его «инолингвокультурной маркированности», но, с
другой, способствует доступности восприятия текста. Соответственно, каждый
пример написания русскоязычного имени собственного латиницей, представляет
собой определенный компромисс между формой и лингвокультурной спецификой. Исключением выступают имена собственные, в том числе и топонимы, кодифицированные в словаре, однако, и в данном случае, авторы иногда отступают
от традиционного написания.
Адресованность историографии на читателя обеспечивается, как было отмечено ранее, указателем ключевых номинаций (Index), который предоставляет и
определенную статистику перечислением основных страниц, где используется
281
данное слово, что способствует выявлению частотности, маркирующей релевантность ксенонима. Анализ языковой адаптации при передаче идеологизированного
субстрата на материале данного структурного элемента позволяет выделить не
только орфографическую адаптацию, но и лексическую вариативность, которая
маркирует ксенонимическую плотность.
Все ссылки на источники, использованные в оригинале на русском языке,
передаются практической транскрипцией и, как правило, не семантизируются, поскольку они эксплицированы непосредственно в тексте: Argumenty i fakty
(Moscow); Brat (dir. A. Balabanov: 1996); Ye. Gaidar, Gosudarstvo i evolutsia, 1995
[From 1991]. Как следует из приведенного примера, ассимилированные топонимы
передаются в традиционном написании. Следует уточнить, что авторы и/или издатели могут придерживаться любой системы, в том числе и собственной (House
Style), что оговаривается во вступительной части, или в конце издания, где приводятся используемые соответствия кириллицы латинице. В изученном материале
используется, главным образом, американская система Библиотеки Конгресса с
отдельными отклонениями, в манере House Style.
Орфографическая вариативность, обусловленная разницей в написании ряда
слов в соответствии с британским или американским стандартом, в текстах выявляется, однако никакой особой функции при этом не обладает, соответственно,
такая вариативность не анализируется.
Glossary (глоссарий), включающий толкования ключевых понятий, имен политических деятелей и т.п., представлен, в основном, в историографии.
Методом сплошной выборки из указателя выделялись все номинации, актуализирующие идеологизированный субстрат российской действительности; статистическая обработка которых позволяла вычленить ксенонимическую плотность,
под которой, как было отмечено ранее, понимается наличие двух и более обозначений разного рода одного и того же феномена инолингвокультуры. Анализ графической адаптации номинаций, выделенных в указателе, выявляет вариативность авторских стратегий (форенизация или локализация).
282
Вторым этапом исследования микроисториографии является изучение
средств адаптации языка в основном тексте, что предопределяет комплексный
анализ, отражающий специфику каждого уровня: вербального (непосредственно
способа образования номинации), когнитивного для выявления понятийности и
аксиологических характеристик идеологизированных концептов, уровня межъязыковых трансформаций и уровня текстологических конннотаций, с целью определения адекватности передачи идеологизированного субстрата. С целью верификации уровня адаптации слова в языковой системе необходимым шагом также
выступала интерпретация лексикографического описания семантики.
При анализе каждого текста выдвигалась задача исследовать, влияет ли и,
если да, то, каким образом, родной язык автора на средства актуализации субстрата. Первая группа включает произведения авторов-носителей английского
языка (комбинация языков «английский + русский»). Англоязычный автор создает произведение на родном языке, ориентируясь на область инолингвокультуры.
Целевая аудитория – англоязычная, т.е. субстрат объективируется через призму
картины англоязычного мира и языка и индивидуальную языковую картину мира
автора, что влияет на концептуализацию и объективацию субстрата инолингвокультуры. В отличие от переводчика, ограниченного текстом оригинала, автор
интерлингвокультурного произведения может вставлять политические, культурные и пр. комментарии непосредственно в текст, при этом определенные детали,
значимые ассоциации добавляются по мере развертывания описания, что создает
определенную стилистику произведения, эмотивность, и способствует более полному отражению идеологизированного субстрата.
В глоссариях выделяются номинации идеологизированного субстрата российской действительности, отличающиеся ксенонимической плотностью dvorovye
– “courtyard people” (i.e. domestic serfs), ezhovshchina –“rule of Ezhov,” i.e., the
Great Purge. Как показал анализ, ксенонимическая плотность предопределена
адаптивным механизмом английского языка, что в глоссариях отражено достаточно адекватно. На вербальном уровне выделяются такие варианты номинации
283
как: 1) «сокращение + полный вариант (практическая транскрипция) + калька»:
gensek (generalnyi sekretar) –general secretary of CPSU;
2) «практическая транскрипция + аналог»: guberniia – province;
3) «практическая транскрипция + описательный перевод»: Nakaz –
Instruction of Catherine II to Legislative Commission;
4) «практическая транскрипция + калька, (не)выделенная графически + аналог/дефиниция/описательный перевод» [History of Russia, с. 877–890].
Вторичная концептуальная деривация способствует выявлению оценочной
составляющей, которая эксплицитно выражена при экспликации ксенонима
(derogatory): “apparatchik – derogatory term for professional party worker”. Оценочность выявляется также при помощи введения в текст этимологической справки:
“mir –peasant commune; also means world and peace”. Вариативность ксенонимических вариантов предопределена синонимичными ксенонимами: мир – т.е. сельская община: “obshchina – peasant commune” и “mir –peasant commune” [History of
Russia, с. 878]. Причем, как следует из приведенных примеров, в данном случае
автор не выделяет транскрипцию графически.
Выявить доминантную стратегию орфографической адаптации не представляется возможным. Вышеприведенные примеры иллюстрируют стратегию форенизации или создания национального колорита, выявляемую на орфографическом уровне (использование практической транскрипции для передачи этимона).
При этом на графическом уровне в отдельных текстах обращает на себя внимание
именно локализация, автор не выделяет инолингвокультурные единицы курсивом,
что создает впечатление их принадлежности общеязыковому фонду, как в вышеприведенных примерах.
В других источниках практической транскрипцией актуализируются только
наиболее значимые, по мнению автора, политические концепты, вербализованные
терминами: Okhrana, narodniki, kulaki; названиями, например, прессы, которые
эксплицируются классификатором: Ogonek (magazine). Перечисленные ксенонимы внесены в указатель используемых терминов: “Okhrana (political police),
narodniki (populists), kulaki” [History of Mn Russia].
284
Как показывает анализ эмпирического материала, авторы, большая часть
которых историки и журналисты, считают основной задачей корректное описание
политической ситуации периода, представленного в книге, что реализуется дискурсными маркерами. В списке литературы, примечаниях указаны не только работы на английском языке, но и на русском: ссылки на архивные документы, в
частности, ГАРФ, особого архива (Москва), русскоязычной прессы: “Yekaterina
Karacheva, “Za Shto Zabral, Nachalnik?! Otpusti,” Novoye Russkoye Slovo, January 12,
2000” [Darkness at Dawn, c. 274].
Авторы нацелены на англоязычную аудиторию, включающую всех, кто интересуется политической историей России; естественно, что студент-политолог
владеет политической терминологией, в то время как другому читателю она может быть недоступна. Стратегия доступности предопределяет введение текст толкований ключевых для изложения терминов, что способствует восприятию текста.
Номенклатурные термины, например, административного деления, вводятся в авторском комментарии, как правило, во вводной части или в примечаниях в конце
книги. Так, этимон «край» передается в английском языке транслитерацией krai,
семантизируемой аналогами “province” и “territory”, которые в тексте используются как синонимичные варианты ксенонима, автор также указывает на релевантные признаки (a large area), специфицируя термин топонимами:
“Krai best translated as “province” or “territory”, a krai is a territorial subdivision
that generally encompasses, such as Primoriye in the Far East or the Krasnoyarsk region
in Siberia” [Darkness at Dawn, c. Х].
Другим способом реализации стратегии доступности выступает введение
локальных реалий (an American state), при пояснении геополитического характера
ксенонима, сопоставляя его по административной функции с уже введенным термином: “Oblast often similar in size to an American state, an oblast has the same
weight in the Russian administrative system as a krai”. [Darkness at Dawn, c. Х].
В целом историография предназначена массовому читателю, поэтому авторы
не перегружают текст ксенонимами, однако это довольно серьезное чтение. В
большинстве случаев авторы отдают приоритет актуализации субстрата лингво-
285
культуры таким вербальным знаком, который сочетает номинативную и концептуальную точность. Исследование способов актуализации идеологизированного
субстрата в корпусе выделенных текстовых фрагментов позволяет сделать вывод,
что, как правило, авторы обладает навыками «синхронизации» (термин О.А.
Леонтович) своих концептов как ментальных образований «с ментальными образованиями» носителя описываемой лингвокультуры [228, с. 114]. Макроисториография, как следует из анализа корпуса примеров, тождествена, в некоторой степени, научному дискурсу, по количеству используемых терминов. При этом, как
документальная проза, она отличается введением примеров, политических анекдотов и других средств, способствующих «удержанию» интереса читателя.
Стратегии актуализации идеологизированного субстрата в историографии
разноплановы и включают как традиционные модели, которые описаны выше, так
и авторские стратегии творческого плана.
Обобщая стандартные формулы передачи субстрата, следует выделить основную модель, наиболее характерную для прессы и прочих текстов (глоссарий),
объем которых требует лаконичности изложения:
«практическая транскрипция + средства параллельного подключения»,
выраженные, например, аналогом: “the narod, the people” (аналог): “…not the disgruntled liberal intelligentsia but the narod, the people” [Civil Archipelago, с. 96];
или описательным переводом – “informal civic political groups”:
“Those were the early days of glasnost, when all kinds of neformaly, informal civic political groups, with names like Moscow Tribune and the Club of Social Initiatives,
were suddenly allowed to bloom” [Civil Archipelago, с. 97].
Вариантом данной модели выступает обратный порядок: «средства экспликации + практическая транскрипция»: “The Russians had a special term for such private work crews – they were called shabashniki” (sic) [New Russia, с. 67].
Политический язык, как правило, отличается многокомпонентными терминологическими словосочетаниями (названия политических
и государственно-
партийных кампаний, политических периодов), которые в историографии традиционно передаются калькированием. Ксенонимы-словосочетания, передающие
286
этимоны данной группы в английском языке, относятся к ономастике, и в соответствии с нормой английского языка каждое слово в данном случае выделяется
начальными заглавными буквами. Данное правило выступает единственным требованием к адаптации на графическом уровне, при этом обычно не наблюдается
актуализации оценочности:
“The authorities looked back with pride on the October Revolution, the Five-Year
Plans and the Second World War; they anticipated a future involving an incremental
improvement of living standards” [History of Mn Russia, с. 405].
Аксиологические характеристики выявляются при ономастизации этимона, в
ситуации возведении коррелирующего с ним ксенонима в ранг «имени собственного». Например, концепт РУССКАЯ ИДЕЯ, актуализируется, главным образом,
именно в философских или советологических исследованиях, но в русском языке
он объективируется терминологическим словосочетанием, выражающим абстрактное понятие: «идея в преломлении российского восприятия». В англоязычных текстах, главным образом, нацеленных на осмысление концепта РУССКАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ, формируется ксеноним “the Russian Idea”, второй компонент
которого выделен заглавной буквой как имя собственное, наименование национальной идеологии (the distinctly national ideology):
“The Russian Idea is the distinctly national ideology with which Russia traditionally justified its lack of freedom vis-à-vis the West. Proponents of this idea argued…
that Russia had a culture of a different type that was based on Orthodoxy and dedicated
to the development of the spirit” [Darkness at Dawn, c. 201].
При ономастизации выявляются существенные аксиологические качества,
обусловленные концептуальной асимметрией в контексте западной идеологии:
«миссия российского государства – спасение человечества» (“gave to the state a
role in salvation”), т.е. фактически соотнесение себя с божественной миссией, как
утверждается в западной традиции (“reserved for God”): “Although the Russian Idea
was originally developed to defend tsarism, it came to characterize Russian thought
generally… The Russian Idea gave to the state a role in salvation that, in the Western
tradition, is reserved for God” [Darkness at Dawn, c. 202].
287
Анализ графических маркеров крайне важен, поскольку он способствует выделению актуализированного субстрата инолингвокультуры, за которым стоит авторское восприятие и его коммуникативные интенции; в определенной степени
использование кавычек или курсива определяется также языковой нормой.
Как показало исследование корпуса примеров, первичное введение калькированного термина, как правило (но не всегда), выделяется кавычками или курсивом. Кавычки наиболее типичны в качестве дискурсных маркеров калькированных словосочетаний: “The growing cult of Brezhnev was outrageously at variance
with actuality…. The favoured terms were “really existing socialism”, “real socialism”,
“mature socialism” and “developed socialism” [History of Mn Russia, с. 404].
При последующем использовании в рамках этого же абзаца ряд терминов
уже не выделен кавычками, возможно, для экспликации значимости термина
“developed socialism”, который связан именно с эпохой правления Л.И. Брежнева:
В тексте обосновывается релевантность брежневской формулировки, выделяющей «достижения и предстоящие задачи» (“highlighted achievements already
made and objectives yet to be attained”). При этом также приводится критическое
объяснение терминологических недостатков других терминов (“too wordy”, “an
undesirable comparison”, “too decrepit”):
“Really existing socialism was too wordy. Real socialism invited an undesirable
comparison with surrealist socialism; mature socialism sounded altogether too decrepit
a note. …From 1966 the propagandists increasingly claimed that the country had entered the stage of “developed socialism”. This term highlighted achievements already
made and objectives yet to be attained” [History of Mn Russia, p. 404].
В данном случае выявляется также профессионализм автора, который опирается на документы и прессу советского периода, где обоснована значимость данной концепции. При дальнейшем использовании термина выявляется не только
вариативность на графическом уровне (отсутствие маркеров), но и актуализация
вербальными средствами когнитивной информации термина:
“…Developed socialism was a term used in Brezhnev‟s opening report to the
Twenty-Fourth Party Congress in March 1971” [History of Mn Russia, с.405].
288
Всего в данном произведении выделено 8 случаев использования данного
термина, три из которых графически маркированы (два процитировано выше), в
третьем примере выявляется авторское восприятие, термин выделен одинарными
кавычками, что способствует выражению скептицизма относительно советской
позиции, т.е. актуализируется пейоративность. Данное утверждение обосновано и
контекстуальным анализом, где выделяется советская традиция приписывать все
проблемы, в том числе экономический кризис, исключительно капитализму
(“crisis were the exclusive characteristic of capitalism”):
“There had been a constant official prescription that crisis were the exclusive
characteristic of capitalism and that they could not occur under „developed socialism‟…” [History of Mn Russia, c. 467].
Как показывает анализ, ксенонимические комплексы «ксеноним (практическая транскрипция) + параллельное подключение» относительно немногочисленны, при этом стратегии экспликации инолингвокультурного обозначения варьируются. Например, этимон «объединения» коррелирует с практической транскрипцией ob‟‟edineniya и маркированным кавычками аналогом “associations”, которым сопутствует подробный комментарий для экспликации субстрата. Далее в
тексте используется только аналог associations, внесенный и в указатель
associations (factories). В данном случае номинативная плотность реализуется,
главным образом, аналоговыми формами, которые не отличаются тесной связью с
этимоном: “In 1973 a decree was issued to draw factories with complementary
activities into “associations” (ob‟‟edineniya). The idea was that enterprises would be
enabled to serve each other‟s needs without resort to permission from Gosplan and the
ministries in Moscow. Associations were also expected to operate on a self-financing
basis” [History of Mn Russia, с. 407–8].
При исследовании корпуса иллюстративных примеров макроисториографического жанра, значимое воздействие родной англоязычной лингвокультуры на
восприятие российской действительности выявлено, главным образом, на уровне
оценочности, что не позволяет, тем не менее, делать категоричные выводы. Акту-
289
ализация пейоративных или позитивных ассоциаций в большей степени определяется мировоззрением автора, его идеологическими позициями.
Как показало исследование материала, определяющим критерием для полного и адекватного отражения идеологизированного субстрата является профессионализм автора, его компетентность и понимание описываемых феноменов.
Например, при актуализации концепта ТРУД на русском языке в контексте советской идеологии всегда выделялась позитивную оценочность, эмоциональность,
например, клише «труд – дело доблести, чести и геройства». В соответствии с
официальной идеологией труд был «беззаветным, благородным, самоотверженным» и т.п. [Совдепия 2005, с. 431 –433]. Трудовая повинность считалась обязанностью, которую государство возлагало на гражданина [Совдепия 2005, с. 311].
В западном восприятии актуализировался компонент «без вознаграждения»,
«принудительный»; выражению идеологизированного субстрата «трудовая повинность крестьянина» средствами английского языка предшествует концептуальная деривация, которая способствует выявлению пейоративности: жесткая
обязанность: “Gubernatorial advocates viewed the grain needed by the army as an
obligation (povinnost‟) that the citizen owed the state in its hour of need and for which
no direct recompense should be expected” [Authority, с. 42].
Раскрытию понятийности идеологизированного ксенонима способствует его
использование в различных контекстах: “beginning of the payment for grain and for
labor obligations”... [Authority, с. 218]; “village fulfilled their grain obligation” [Authority, с. 239]; при этом негативные коннотации эксплицируют прямой номинацией imposed: “imposed labor obligations (povinnosti)” [Authority, с. 257]. Специфичность описываемого субстрата выделяется использованием транслитерированного ксенонима, который всегда маркирован курсивом; в ряде фрагментов в
качестве ксенонимической номинации вводится описательный перевод grain and
for labor obligations.
В корпусе эмпирического материала выделены также примеры актуализации
идеологизированности слов разговорного регистра, в которых выявляются коннотации «элитарность, привилегии». Так, этимон «мигалки», как общеизвестно,
290
формально выступает атрибутом правительственных структур и машин «скорая
помощь», «полиция», «пожарная», как это принято во всех странах. В российской
действительности, «мигалками» нередко обладают высокопоставленные или коррумпированные лица, что подтверждается отечественной прессой: «Вопрос (о запрете на мигалки для всех авто, кроме оперативных служб) будет обсуждать экспертная группа. Президент В. Путин говорил о снижении числе автомобилей со
спецсигналами с нынешних сотен до нескольких десятков» [АиФ. – 2014. – № 20].
В англоязычном тексте идеологизированный субстрат пейоративной оценочности актуализируется посредством ксенонима migalki, семантизируемого
описательным переводом (official blue flashers). Негативная составляющая выражена эксплицитно (acquired through bribes): The official blue flashers, called migalki,
are often acquired through bribes [Civil Archipelago, р. 102].
Экспликации ксенонима способствует описание конкретной ситуации выражения несогласия с несправедливостью: А group of furious road warriors putting
blue plastic children‟s buckets on their cars – a spontaneous movement known as the
Society of Blue Buckets. When members discovered that Nikita Mikhailkov…had a car
with a migalka, they lambasted him online [Civil Archipelago, р. 103–104].
Вышеприведенные примеры подтверждают, что и в номинациях, на первый
взгляд, не характеризующихся лингвокультурной спецификой, а нейтральных,
выявляется идеологизированность субстрата.
Идеологизированность отличает и некоторые номинации разговорного регистра, что объясняется криминализацией российского политического языка, в
частности, распространением, как было отмечено ранее, сленга. Например, сленг
«крыша» объективирует субстрат «криминал в бизнесе», что, по мнению автора,
обусловливает закономерность его использования в англоязычном тексте: практическая транскрипция эксплицируется комментарием: “Khodorkovsky apparently
believed that he no longer needed to kowtow to political godfathers – that is, pay for a
krisha or “roof”, as Russian businessmen had since the days of the czar” [New Russia,
с. 113]. Автор привлекает внимание читателя к описываемым событиям игрой
291
слов, выделяя пейоративность термина “rule of law” в контексте российской действительности: The “rule of law” becomes the “rule of rulers” [New Russia, с. 190].
Кавычки, как отмечено ранее, маркируют калькированные термины, эксплицируя при этом негативную оценочность:
“Gasprom‟s press office described the Rossneft assertion as a “technical mistake”
– in other words, a lie! Continuing the soap opera” [New Russia, с. 191].
Актуализации идеологизированного субстрата способствует орфорграфическая вариативность, выявленная при передаче средствами английского языка интернационализмов, которые характеризуются семантической модификацией, обусловленно концептуальной асимметрией. Результатом данного процесса выступает контаминация интернационализмов, т.е. искаженные по форме (контаминированные) единицы, сигнализирующие читателю об определенной специфике понятийности или оценочности слова. Номинации такого рода в работе обозначены
«контаминированные интернационализмы», под которыми понимаются используемые в российском дискурсе универсалии, по форме тождественные англоязычным единицам, но отличающиеся понятийной и оценочной составляющей.
Контаминированная единица в функции ксенонима инолингвокультуры может
использоваться параллельно англоязычному обозначению, для экспликации семантической вариативности автор вводит комментарий.
Множество политических терминов образовано на основе греческих и латинских корней, что способствует формированию единиц интернационального характера, однако объективируемые ими политические концепты контактирующих
политических картин мира, отличаются своей спецификой; так было в период холодной войны, практически ничего не изменилось и сегодня. Номинации наиболее
значимых политических концептов в контактирующих языках нередко превращаются в «ложных друзей переводчика». Пожалуй, самый очевидный пример – это
концепт ДЕМОКРАТИЯ :: DEMOCRACY, положительная оценочность которого
проявляется, в основном, в контексте «своей» лингвокультуры. Соответственно,
носители английского языка передают интернационализм, используемый в рос-
292
сийском дискурсе, контаминированной формой, объективируя концептуальную
асимметрию, эксплицируя ее в авторском комментарии:
Demokratiya (democracy) and demokratizatsiya (democratization) involves a
transformation in participation in decision making. The process of transition to “democracy” is “democratization”. The objective is to place more authority with the rank-andfile citizen or a member of a collectivity or group. Demokratiya seeks to involve the
masses in a more positive way in public affairs and in so doing to restrict the power of
the political leadership [Under Perestroika, с. 15].
Концепту DEMOKRATIYA, по мнению западных журналистов, сопутствует
концепт PLYURALIZM, но на российской почве, по их мнению, он не актуализируется, что выделяется в тексте контаминацией интернационализма: Thus glasnosts‟ entails a pluralism (plyuralizm) of points of view rather than previously centralized and controlled media. A plyuralizm of interests is to be encouraged. Hence democratization is an important mechanism to combat traditional interests that maintain the
status quo [Under Perestroika, с. 14; с. 15].
Концептуальные «разногласия» о понятийном содержании термина демократия/democracy, проиллюстрированные текстовыми фрагментами, достаточно
типичны. Коммуникативная востребованность контаминированного термина обусловила его кодификацию в глоссарии энциклопедического издания:
demokratizatsia democratization [CamEnc 1994: Glossary].
Контаминация термина dictate в контексте описания российской действительности обусловлена тем, что в российском политическом дискурсе официально
не признается диктатура Сталина: “Political diktat and pretentious habits of rulers…
Under dictators, life and thought do not cease: art becomes the substitute outlet for politics” [New Russians, с. 96].
Контаминированные интернационализмы были выявлены в текстах и других
жанров: они маркированы графически, что позволяет их опознать, и эксплицируются разнообразными средствами: авторским комментарием, реалией англоязычного мира и пр. Самый краткий способ представлен введением интернацио-
293
нализма: “As in Soviet days, the Kremlin uses dezinformatsiya (disinformation) to
camouflage its policies and discredit its opponents” [New Cold War, c. 22].
В эмпирическом материале представлена, главным образом, историография,
предназначенная для взрослой аудитории. В целях сопоставления проанализирована также историческая литература, ориентированная на детскую аудиторию;
поскольку история изучается уже в начальной школе, интересно было выяснить,
на каком материале формируется образ нашей страны в сознании школьников.
Для этой цели была выбрана книга для чтения The Soviet Union, изданная Chicago
Childrens (sic) Press (1990). Учитывая целевую аудиторию, представленную младшими школьниками, авторы уделяют много внимания лингвокультурному субстрату российской действительности, который актуализируется в обозначении
природы, что дает определенное представление об образе жизни россиян, о громадных просторах страны:
The Land. The northernmost part of the Soviet Union is an icy, flat land called
the tundra. It stretches all along the Arctic Ocean. South of the tundra is the taiga, a
thick forest that grows on swampy ground. South of the taiga are flat grass-covered
plains called the steppe [SU: Chicago, с. 7–8].
В вышеприведенном текстовом фрагменте функционируют словарные ксенонимы, адаптированные в английском языке, они стали компонентами системы
языка, но, несмотря на это, внесены и в глоссарий:
taiga – forest made up mostly of needle-leaf evergreen trees;
tundra – cold, treeless lands near the Arctic Ocean и пр. [SU: Chicago, р.46].
По формальным признакам: ксенонимы tundra, taiga и steppe являются единицами базового словаря, данное мнение сформулировано на основе анализа словарей, все они зарегистрированы в учебном словаре, при этом известны в англоязычном мире достаточно давно. Период заимствования данных номинаций, по
лексикографическим данным, XIX век, XIX век и XVII век.
Ведущей стратегией изложения выступает стратегия максимальной доступности, что обусловлено детской целевой аудиторией. Формат детской историографии соответствует основным параметрам жанра «историография», в частности,
294
включает глоссарий терминов, в том числе ксенонимов, названный Words you
should know, например: comrades – friends, partners;
czar – the title used by the rulers of Russia, meaning “Caesar” in Russian;
republic – a country with elected leaders;
soviet – a governing council [SU: Chicago, с.46].
В конце книги, как принято в историографии, представлен указатель использованных в тексте терминов: civil war 31; Communists and communism 30, 31, 35,
36, 37, 40; czars 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31; East Germany 35; Five-Year
Plans 32; France 27; и др. [SU: Chicago, р.47–48].
Описание исторических событий требует обозначения правителей России,
соответственно, авторы используют ксеноним czar, это одно из первых заимствований русизмов (XVI век), тем не менее, чтобы помочь ребенку понять или
вспомнить, что обозначает данный титул, сначала вводится лингвокультурный
аналог king (Ivan III … became king). Ксеноним czar используется в следующем
предложении, где семантизация предшествует номинации:
Early History. In 1462, Ivan III captured the land around Moscow and became
king. Ivan III was the first Russian ruler to call himself czar [SU: Chicago, с. 21].
Авторы ограничивают функционирование политических терминов, заменяя
их в ряде случаев описанием, но информированный читатель понимает, что речь
идет о гулаге: In 1924, Lenin died. Joseph Stalin took over. Millions of people who
disagreed with Stalin were killed or sent to prison in Siberia [SU: Chicago, с. 32].
Взрослой аудитории понятно, что под так называемым «тайным договором
Сталина 1939 г.» имеется в виду Nazi-Soviet pact: In 1939, Stalin made a secret treaty with Adolf Hitler and Nazi Germany [SU: Chicago, с. 33].
В следующем примере речь идет о периоде гласности (glasnost): In the 1980s,
the Soviet Union, headed by Mikhail Gorbachev, began to change. Communism wasn‟t
working. The Soviet republics were given more freedom [SU: Chicago, с. 36].
Как следует из вышеприведенных примеров, политические терминыксенонимы (gulag, Nazi-Soviet pact, glasnost) не используются для реализации доступности, значимой при создании историографии, адресованной детской аудито-
295
рии. Следуя в целом формату жанра, авторы не реализуют в полном объеме принцип номинативной точности, предпочитая описательные дефиниции, чтобы не перегружать произведение политическими терминами. Таким образом, в детской
историографии принцип доступности представляется приоритетным.
Суммируя вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что авторские стратегии актуализации субстрата инолингвокультуры при создании историографического текста определяются форматом данного жанра, т.е. четкой структурой. Способы актуализации инолингвокультурного субстрата обусловлены концептуальной деривацией, точнее, вторичной лингвокультурной концептуализацией, означающей переосмысление концепта инолингвокультуры в контексте новой системы. Актуализация абстрактных понятий, ключевых политических терминов, особенно интернационализмов, определяется концептуальной асимметрией, выявляемой автором при осмыслении русскокультурного концепта в концептуальной системе англоязычного мира. При исследовании материала не удалось выделить
стандартную модель образования ксенонимической номинации; в историографии,
в отличие от прессы, авторы имеют возможность более полно и системно актуализировать политический концепт. Они не ограничены небольшим форматом издания, что позволяет им осмыслить феномен на глубинно-когнитивном уровне и
представить его при описании в разных контекстах, при этом каждый раз выделяя
какое-то новое качество.
3.3.2 Историография: микроистория
Тексты данного формата называют также документальной прозой; в микроистории, в отличие от макроистории, политическое воздействие отображается на
личном уровне индивида, что предопределяет эмоциональность описания, образность. Значимость исследуемых в данном параграфе произведений для анализа
политического дискурса несомненна: истинный результат эффективности институционального политического дискурса, нацеленного на решение внутригосударственных проблем, выявляется именно на индивидуальном уровне, в образе дей-
296
ствия, поступках и высказываниях простого человека. Задачами данного параграфа, таким образом, выступают выявление вербализованного идеологизированного
субстрата в речевой практике и моделей актуализации, а также причины концептуальной деривации индивидуальных смыслов в контексте политического воздействия идеологии правящего класса.
В названиях большинства исследуемых произведений отражен личностный
уровень: Private Life, Ordinary Life, A Cultural History, The History of emotions, что,
на первый взгляд, не предполагает связи с политикой. В данном случае следует
учитывать контекст использования приведенных фраз и, главное, выявить авторские интенции и авторское осмысление используемых номинаций, обоснованные
в предисловии. Отбор материала для данного параграфа опирался не столько на
название, что релевантно для макроистории, сколько на глоссарий и/или указатель ключевых обозначений, авторское предисловие и рецензии критиков. Одним
из основных критериев выбора изученного материала выступали авторские интенции, при этом, главной, по утверждению авторов, выступала задача осмысления идентичности россиянина, «русскости».
Так, выбор книги Natasha‟s Dance. A Cultural History of Russia O. Файджеса
(на данный момент официального перевода его работ нет, в критических обзорах
используются варианты, в том числе Фигес или Файгес) обусловлен авторскими
интенциями, раскрытыми в предисловии, и его авторитетом в научном мире.
О. Файджес – английский историк, специалист по российской истории, свободно
владеющий русским языком; он изучает историю не только по научным историческим публикациям, материалам прессы, но и неоднократно работал в российских архивах, беседовал с простыми людьми. Соответственно, его микроисториография отражает авторское восприятие российской действительности. Как было
отмечено выше, слова «культура» и culture не тождественны в ряде случаев,
например, по когнитивной информации, прагматическим функциям. Как следует
из предисловия, автор выделяет идеологизированный субстрат в слове culture,
обосновывая свой подход к отражению российской действительности: «Культура
выражена не только великими творениями, но и кружевом ручной работы, музы-
297
кальностью крестьянской песни, отражающими национальное самосознание, обусловленное политикой и идеологией, традициями, ценностями… Все это и формирует культуру и образ жизни»: “The elements of culture are not just great creative
works … but artefacts as well, from the folk embroidery to the musical conventions of
the peasant song. And they are summoned, not as monuments to art, but as impressions
of the national consciousness, which mingle with politics and ideology, social customs
and beliefs, … that constitute a culture and a way of life” [Cultural History, с. XXVI].
Таким образом, «история российской культуры» двух предыдущих тысячелетий представлена как своего рода «зеркало» воздействия диктатуры власти на
народ. Значимость этой книги для анализа обусловлена и тем огромным и неоднозначным интересом читателей, высказавшим свое мнение на читательском форуме [RR]. Англоязычная аудитория отметила, что они не только получили удовольствие от чтения книги, но и поняли, что такое «русскость», особенности менталитета, как они отражены в культуре.
Задача описания политики через жизнь простого человека актуализируется,
как и макроисториография, посредством политического лексикона, включая термины, которые, однако, менее коммуникативно востребованы. Специфическим
качеством исследуемого материала является актуализиация идеологизированного
субстрата в номинациях, на первый взгляд, с политикой не связанных: обозначениях эмотивных состояний, предметов одежды, ритуалов, культуры. В данном
жанре, в меньшей степени, чем в прессе, используется традиционная модель
«ксеноним + параллельное подключение», что, как представляется, обосновано
тенденцией к актуализации оценочности, в том числе и ксенонимов, непосредственно связанных с политикой.
Например, в годы Второй мировой войны особая роль отводилась политруку: как идеолог, олицетворяющий партию, он обязан был регулировать моральноидеологическое воздействие на солдат. При передаче данного этимона на английский язык автору не удается найти адекватную номинацию, поскольку в дефиниции или кратком описании актуализировать все ассоциации, нередко пейоративные, концепта POLITRUK практически невозможно, объективация оценочности
298
реализуется на протяжении всего текста. Например, цитируются архивные документы, при этом в авторском комментарии приведена негативная оценка действий
политруков (politruks); подчеркивается, что все было подчинено только выполнению задач, определяемых партией, в том числе и личностные отношения, дружеская атмосфера создавалась искусственно, что эксплицитно выражено кавычками:
“All that a politruk needed to do… was to make sure the men knew that theirs
was a just cause… In place of long-established trust the politruks nurtured these people‟s party spirit, or worse, a fabricated „friendliness‟” [Ivan‟s War, с. 68 –69].
Актуализации пейоративной оценочности ксенонима способствует его морфологическая адаптация: множественное число politruks. Идеологизированный
субстрат данного ксенонима выявляется на концептуальном уровне, в восприятии
западного читателя, в картине мира которого значимость личности несомненна,
партийная позиция не думать о «маленьком человеке», симпатии не вызывает:
“The political-moral condition of the troops is generally good,‟ the politruks
wrote for their masters‟ benefit. The politruks were not concerned with individual
minds” [Ivan‟s War, с. 68].
Чтобы подчеркнуть типичность происходящего, автор вводит определенный
артикль the politruk, акцентируя внимание на том, что описанная ситуация была не
единичным фактом; в авторском комментарии объясняется, что традиционно описываемое «предательство» было не идеологическим актом, но чувством самосохранения: “In late August 1941, the politruk came close to absolute despair. ... Some
(peasants) even volunteered to become fascism‟s local agents – politzei – but at heart it
was not politics but survival that impelled them” [Ivan‟s War, с. 116].
Подобные комментарии, естественно, могут обусловить и определенное
негативное отношение россиянин к автору, поскольку это «наша история», однако
и в перестроечный, и постперестроечный период в отечественной прессе, в публикуемых произведениях диссидентов (запрещенных в советское время), в воспоминаниях узников гулага, описано немало «белых пятен» нашей истории.
Идеологизированный субстрат в номинациях феноменовх искусства выделяется в произведениях разных жанров. Так, чтобы «поднять боевой дух солдат»
299
во время войны политруки обращались к музыке, в частности к частушкам, политизированные тексты которых нередко создавали сами политруки: “Music
…worked better than the politruks. Those who could not write would memorize and
develop the short folk poems, chastushki. The politruks wrote some of these, adapting
the folk themes of fate and motherland to the current world of Stalin and the party”
[Ivan‟s War, с. 170–171].
В другом произведении выявляется идеологизированность концепта РУССКИЙ ТАНЕЦ, которой воспринимается как символ «русскости», «русской идентичности» и коррелирует с ксенонимами dance, pliaska и khorovod. Идеологизированность данных номинаций выявляется постепенно, каждое следующее описание дополняет выделенные ранее коннотации. Так, круговые движения в хороводе
эксплицируют коллективные традиции, олицетворяя ценности народа «соборность», «общинность»: “Collective rituals like the Khorovod were combining folk
song and ceremonial dance with real events in village life” [Cultural History, c. 272].
Разгром армии Наполеона способствовал «русификации» высшего света:
французская культура – культура врага – постепенно вытеснялась традициями
родной крестьянской культуры, которые высший свет постепенно вводил в свой
образ жизни. Модными становились народные ритуалы, и после 1812 г. пляска
как истинно народный танец была популярна на балах. Таким образом, этимон
«пляска» идеологизируется, это уже не народный танец, а символ протеста высшего света против Франции: “At balls in Petersburg, where European dances had
always reigned supreme, it became the fashion to perform the pliaska and other Russian
dances after 1812. … Princess Elena Golitsyn danced her first pliaska several decades
later at a ball in Novgorod. „Nobody had taught me how to dance the pliaska. It was
simply that I was a “Russian girl” [Cultural History, с.105].
Благодаря неоднократному использованию в разных контекстах ксенонимы
khorovod и pliaska приобретают прецедентную значимость для читателя. Данные
ксенонимы репрезентированы комплексным знаком, включающим транслитерацию с разнообразными способами семантизации, в том числе культурологический
комментарий. В каждом следующем эпизоде, где используется транслитерация,
300
номинация включается в иной контекст, что способствует объективации новых
смыслов.
Идеологизированный субстрат выявляется в описании одежды: крестьянский сарафан, кокошник, кафтан и поддевка превратилась для высшего света в
особый символ новых политических взглядов; и аристократия постепенно отказывается от европейской моды, предпочитая традиционную русскую одежду:
“Russian forms of dress became the height of fashion after 1812. At balls and receptions
in St Petersburg, and from the 1830s at the court as well, society ladies began to appear
in national costume, complete with the sarafan tunic and kokoshnik head-dress of old
Muscovy. The kaftan and khalat. The podyovka, a short kaftan traditionally worn by the
peasantry, was added to the wardrobe of the nobleman as well. To wear such clothes
was “to make a conscious statement of one‟s Russianness” [Cultural History, c. 108].
В приведенном выше отрывке автор вводит ксенонимические обозначения
названий одежды, традиционной для крестьян, но ставшими и одеждой высшего
света после 1812 г. Для экспликации значения используются разнообразные приемы: аналог (tunic), дефиниция (head-dress of old Muscovy), ранее введенный и
внесенный в Глоссарий ксеноним (podyovka, a short kaftan). Ни одно из перечисленных вербальных средств не эксплицирует аксиологические характеристики,
которые раскрываются в разных эпизодах при описании реальных ситуаций и в
авторском комментарии.
Выявляется идеологизированный субстрат ксенонима khalat (этимон – «халат»), знаковость которого в том, он является символом праздного времяпровождения, атрибутом социального явления «обломовщина», что и придает ему определенную идеологизированность и лингвокультурную значимость.
Этимоны «халат» и «поддевка» из одежды простых людей превратились в
атрибуты «русскости», с помощью которых высший свет демонстрировал свою
близость народу. В качестве иллюстрации значимости субстрата используется иллюстрация: портрет А. С. Пушкина в халате художника Тропинина, т.е. невербальные средства сопутствуют вербальным, позволяя инокультурному читателю
точнее воспринимать описание:
301
“Tropinin painted Pushkin wearing a khalat (plate 22), …as a gentleman who was
perfectly at ease with the customs of his land” [Cultural History, с. 109].
Пейоративные коннотации актуализируются в контексте, при этом типичность описываемого явления подчеркивается местоимением our перед именем
собственным в функции нарицательного во множественном числе:
“Most heartfelt striving of all our Oblomovs is their striving for repose in a dressing gown)” [Cultural History, c.411].
Аксиологическая составляющая ксенонима khalat способствует экспликации концепта ОБЛОМОВЩИНА: “The Russians have a word for this inertia – Oblomovshchina – from the idle nobleman in Goncharov‟s Oblomov who spends the
whole day dreaming and lying on the coach. Thanks to the literary critic Nikolai Dobloliubov, who first coined the term, Oblomovshchina came to be regarded as a national
disease. Its symbol was Oblomov‟s dressing gown (khalat)” [Cultural History, c. 410].
Идеологизированность ксенонима акцентируется наиболее ярко посредством введения в текст цитаты В. Ленина, таким образом, имя литературного героя, в результате процесса концептуальной деривации и онимизации превращается в обозначение социального явления негативной оценочности:
“Lenin used the term when he grew frustrated with the unreformability of Russian
social life. “The old Oblomov is with us”, he wrote in 1920” [Cultural History, c.411].
Следует заметить, что в современном российском дискурсе, в контексте
восстановления «русской идентичности», о чем нередко говорят политики, выявляется актуальность концепта СОБОРНОСТЬ. В англоязычном дискурсе данный
концепт не терял значимости: западные историки выделяют его как основу русской ментальности. В историографии он актуализируется посредством транслитерации sobornost‟ и разнообразных средств экспликации, которые вводятся в текст
в
форме
параллельного
подключения
или
раскрываются
на
глубинно-
когнитивном уровне в контексте. Авторы-билингвы привлекают этимологию слова, выделяя религиозные корни русского человека: “The Slavophile idea was rooted
in the notion of the Russian Church as a free community of Christian brotherhood – a
302
sobornost‟ (from the Russian word sobor, which was used for both „cathedral‟ and „assembly‟)” [Cultural History, c.312].
В идеях славянофилов подчеркивалось, что идеологизированный субстрат
«соборность» означает свободу (от крепостничества), что способствует истинной
вере: “The Slavophiles were firm believers in the liberation of the serfs: for only the
communion of fully free and conscious individuals could create the sobornost‟ of the
True Church” [Cultural History, c. 313].
Многие советологи подчеркивают, что СОБОРНОСТЬ является одним из
основных параметров «русскости», при этом данный концепт противопоставлен
западному концепту INDIVIDUALISM: “one of the basic categories of Russianness
expressed as obshchina, sobornost‟, nation, class, Soviet nation, etc., which is diametrically opposed to Western individualism” [Idee, с. 299].
Западные историки выделяют также идеологизированный субстрат ксенонима Byt, точнее коррелирующего с ним этимона «быт», что объясняется путем
выявления этимологии этимона. Осмыслению концептуального содержания этимона «быт» способствует высокий уровень когнитивной обработки информации,
свойственный, как правило, профессиональным исследователям. Автор обобщает
полученную из разных источников информацию о субстрате «быт», выделяя релевантные характеристики, в частности, концептуальную асимметрию концепта
БЫТИЕ, актуализированного как «бытие» и «быт». «Бытие» объективирует восприятие интеллигенции, которая считала, что субстрат «быт» имплицирует связь
со «старым» образом жизни, противопоставляя его формирующемуся в контексте
XIX века концепту БЫТИЕ. В англоязычном тексте этимон передается практической транскрипцией: Byt, «образ жизни» от слова byvat‟, т.е. «происходить», а
экспликация осуществляется в культурологическом комментарии:
“byt: to happen or take place): from the 19 th century the term was increasingly associated with the „old‟ Russian way of life by the intelligentsia, who contrasted byt
with bytie” [Cultural History, с. 643–644].
В историографии анализируются также ситуации, где выявляется идеологизация личностных эмотивных состояний, например, «тоска» и «счастье», которые
303
переживаются «маленьким человеком» в контексте идеологии советского государства сталинского периода. После смерти В.И. Ленина проводилась политика
возвеличивания И.В. Сталина, Советская власть ставила своей задачей формирование «нового советского человека», человека с коммунистическим мировоззрением. Этим объясняется тот, на первый взгляд, странный с позиции современности факт, что даже многие репрессированные людей считали себя жертвами чьихто ошибок, что Сталин об этом не знает. Они верили в коммунистическую идею, и
в то, что личное счастье возможно только при социализме, при строительстве
коммунизма. В результате такого идеологического воздействия личные эмоции,
чувства, переживания постепенно исчезали, менялась личность «маленького человека», который стал воспринимать «государственное» как «личное»; при этом
«личное» становится возможным только в контексте соответствия идеологии государства. Именно сталинская риторика пронизывала понимание состояния высшего блаженства – счастья – в неофициальном общении простых людей предвоенной России. Даже в личных записях, в дневниках, «маленький человек» понимал, что счастье невозможно без социализма: “Happiness (schast‟e) was the name of
the emotional state that, according to received Stalinist discourse, socialism was bringing or would bring to each Soviet citizen” [Happiness].
В сталинский период простому советскому человеку было сложно в полной
мере осознать эмотивное состояние «счастье». Идеологическое воздействие диктатуры власти способствовало «уничтожению» всего личного ради блага государства, Сталина. Личное чувство воспринималось в соответствии с понятием, сформированным официальным дискурсом: “…happiness as officially construed was hard
for Stalinist citizens to express convincingly” [Happiness].
Естественно, что осознание идеологически обусловленной подмены трактовки понятия «личное счастье» как «счастье в служении государству» возможно
только с позиции современности. В предвоенной России понятие «счастье» не
связывалось с личным благополучием, это было асоциально и аполитично. Постепенно номинация усиливала свой идеологический потенциал, закрепляя «культурную память» данного периода. Основой объективации идеологизированного
304
субстрата в слове «счастье» представляется провозглашение принципа коллективизма, антонимичного индивидуализму, пороку буржуазного общества. Объективным подтверждением формирования идеологизированного субстрата являются
дефиниции в советских лексикографических изданиях, которые нередко носили
прескриптивный характер, фиксируя идеологизированную картину мира, основанную на принципах марксизма-ленинизма. В дефиниции «Большой Советской
Энциклопедии» подчеркивалась, что «счастье» означает «борьбу за переустройство общества, за осуществление идеалов коммунизма», что противопоставлялось
личному счастью как проявлению эгоизма [БЭС].
Официальная риторика сталинского периода формировала потребность
«служению делу коммунизма», манипулируя сознанием простого человека, и в
результате «маленький человек» воспринимал состояние радости как личное
только в ситуации трудового энтузиазма и пр. Идеологизированность номинации
«счастье» в русском языке сталинского периода выявляется в историографии: передавая данное понятие средствами английского языка, историк вынужден использовать несколько средств номинации. Основной формой обозначения является транслитерация слова schast‟e, параллельно которой вводится аналог happiness.
Использование транслитерации при описании различных ситуаций выделяет вариативность семантики, автор напоминает, что слово happiness не эквивалентно
ксенониму schast‟e. Англоязычный читатель, незнакомый с реалиями советского
периода, может неверно истолковать happiness в функции номинации идеологизированного субстрата инолингвокультуры, поскольку в англоязычном мире
«счастье» – это «ощущения удовольствия, радости, удовлетворения»: “happiness,
the state of being happy. Happy, a feeling or showing pleasure and contentment”
[Longman Culture, с. 600].
Риторика официального дискурса акцентировала внимание на пропаганде
счастья, однако в реальной жизни простой человек испытывал определенную неудовлетворенность от идеологизированного счастья, скорее всего, не понимая
причин; соответственно, в неофициальном общении эмотивное состояние «счастье» актуализировалось в контексте с антонимом «горе» (gore, pechal‟):
305
“Grief (gore, pechal‟), its antonym, was absent from official discourse but very
much present in the repertoire of private emotional performance. For Agrippina Korevanova, happiness and sadness were mingled on the great day when her lifetime of hard
work was recognized…”
В вышеприведенном отрывке колхозница испытывает смешанные чувства
на церемонии награждения грамотой «за доблестный труд», поскольку по состоянию здоровья она больше не может работать на «благо Родины», участвовать в
«строительстве социализма»: “I had been born too late, and not done enough, and because now, just when the work of socialist construction was proceeding at full steam
around me, I had become a disabled person, a sick woman. If only I had been born some
twenty years earlier! How much more I would have been able to do! ”
В отличие от макроистории, где реализации стратегии достоверности сопутствует, главным образом, цитирование документов, материалов прессы, в микроисториографии достоверности способствуют воспоминания, письма, дневники простых людей, где они рассказывают о своей жизни. Факты из личной биографии,
как представляется, являются прямым доказательством успешности институционального политического дискурса, или, напротив, его провала. Именно через поведение и образ мыслей простого человека можно осознать воздействие официального дискурса на ментальность индивида.
Стратегия доступности реализуется, главным образом, путем авторского
комментария, в котором историк объясняет идеологические лакуны, недоступные
большей части англоязычной аудитории, предотвращая коммуникативный сбой.
Так, ксеноним “the mainland,” маркированный кавычками, отличается семантическим варьированием, означая не географическое понятие, но разговорное: так жители удаленных районов, провинций называют европейскую часть России. Предвидя семантическую аберрацию, журналист вводит комментарий: “When we arrived here, “on the mainland,” as we say, from our faraway settlement to central Russia,
my father wanted me to receive a good basic education” [SputnikGeneration, с. 56]
306
Примечание: “Soviet citizens living in remote parts of the Far North and Siberia
or on Sakhalin – the regions where many labor camps were located – referred to the
heart of the country as “the mainland” [SputnikGeneration, с. 56]
Суммируя вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что микроисториография, отражающая воздействие официального политического дискурса на ментальность простого человека, требует системного изучения, что позволит определить реальную эффективность воздействия политической риторики власти.
Особой характеристикой исследуемых произведений является актуализация
идеологизированного субстрата в номинациях «бытовых предметов» (одежды,
ритуалов, песни и пр.). В данном жанре, в меньшей степени, чем в прессе, представлена модель «ксеноним + параллельное подключение», что обусловлено объективацией оценочности, требующей описания конкретной ситуации, поведения и
пр. Актуализация субстрата осуществляется не только на вербальном, но и на
глубинно-когнитивном уровне. Именно при исследовании микроистории выявляется истинный результат политического воздействия на социум.
3.3.3 Научный дискурс
Исследование актуализации идеологизированного субстрата в научном дискурсе ставит своей задачей определить наиболее адекватные формы отражения
идеологии в языке и сопоставить данный жанр с другими жанрами. Как представляется, научные тексты близки макроисториографии, поскольку и в том, и в другом случае задачей автора является представление результата научных изысканий, т.е. доминантной стратегией выступает достоверность.
В корпусе материала выделяется работа Е. Моссмана Changing Patterns of
Russian Political Discourse: A Dictionary of Russian Politics, 1985–Present, одним
из наиболее часто используемых способов образования ксенонима в данном тексте выступает трансплантация. Важно отметить, что анализируемая работа выполнена в русле политической лингвистики и представляет большой интерес, как
для лингвиста, так и для политолога. Особое внимание при изучении текста было
307
уделено выявлению «точек пересечения» актуализируемого субстрата в научном
жанре с другими. Анализируя специфику советского языка, автор объективирует
концепт ЛОЖЬ, о котором говорилось в настоящем исследовании в главе 2. Этимон «ложь» коррелирует в исследуемом тексте с трансплантацией и аналогом, автор подчеркивает, что эта номинация выступала ключевой характеристикой советского дискурса: “Even the latest edition (1979) of the Soviet Encyclopedic Dictionary omits the entry ложъ (lie) which is a key notion for the understanding of the nature
of Soviet political language and all the law terminology” [Changing Patterns, с. 4–5].
Важно отметить, что трансплантация используется не в качестве параллельного подключения, как средство достижения обратимости, но в номинативной
функции: “The era of perestroika lasted for at least five years; now we often hear of
постперестройка [postperestroika]) may be divided into two periods: 1985-1987 –
aппаратная перестройка (perestroika done by the apparatus) and after 1988 – демократическая перестройка (democratic perestroika)” [Changing Patterns, с. 11].
Анализируя специфику советского политического языка, автор выявляет
«корни» гласности, по его мнению, идеи М. Горбачева, его термин «политическое
мышление» основан на философских концепциях: “The term “новое политическое
мышление” (new political philosophy thinking) is a new one (as its synonym Gorbachev uses философия (philosophy)” [Changing Patterns, с. 13].
Выделяя ключевые лингвокультурные понятия, которые не только отражают культурную традицию, но и влияют на настоящее, исследователь выделил номинации, тесно связанные с течением славянофилов, отражающие образ жизни
крестьянина: “ But some of his other terms are closely connected with the Russian
cultural tradition and Orthodox Christianity. Such are the terms “соборность” (conciliarism) and “мир” (mir, the Russian village community)” [Changing Patterns, с. 14].
В приведенном фрагменте обращают на себя внимание лексические единицы, актуализирующие субстрат “соборность” (conciliarism) и община, или в данном случае, “мир” (mir, the Russian village community), которые перекликаются с
примерами из историографии, рассмотренными ранее.
308
Анализируемая научная работа отличается от аналогичных изданий использованием малоупотребительного способа графического выделения: жирный
шрифт выступает маркером ксенонима, образованного путем практической транскрипции: “Political speech has been most reactive to the idea of nation unleashed by
glasnost‟. The 18th century term “rossiiane” has been retrieved to refer to the ethnically
Russian population, as distinct from the Russian-speaking (russoiazynchnyi) population that has preempted the term russkii” [Changing Patterns, с. 3–4].
Трансплантация вводится в текст при цитировании русскоязычных источников, способствуя достоверности исследования, и является в данной работе основным способом формирования ксенонимической номинации; выделяемной курсивом, в ряде случаев также и кавычками. В качестве средства экспликации используется калькирование и/или комментарий:
“Theу could not find any counter-slogan to the liberal “сoциализм c человеческим лицом” (“socialism with a human face”), borrowed into Russian from the Czechoslovak reformers of 1968 and used by Soviet democrats while the Communist ideologists prefer гуманный социализм (human socialism)” [Changing Patterns, с. 8–9].
В других случаях, как правило, при транслитерации односложных этимонов
или словосочетаний-калек с английского языка, семантизация передается аналогами, называть которые эквивалентами вряд ли целесообразно, поскольку они, по
сути, являются ложными друзьями переводчика, отличаясь концептуальной
асимметрией, предопределяя семантическое варьирование в английском языке:
“It would be interesting to compare the patterns of discourse in the official Soviet
propaganda under Stalin, in the Samizdat literature of the 60‟s and 70‟s and in the Soviet mass media today. The most fascinating fact is the continuity of key words, ideas and
slogans of struggle and confrontation in all these three types of texts. We find in all of
them such key words as враг (enemy), предатель (traitor), борьба (struggle), война
(war), бой (battle), фронт (front)” [Changing Patterns, с. 15].
Автор комментирует концептуальную и оценочную вариативность ряда западных терминов, используемых в постсоветском политическом дискурсе:
309
“It is slightly absurd that the Soviets are introducing new designations of institutions and posts according to a Western pattern, though the essence of the regime has
hardly changed: президент (president), вице-президент (vice president), парламент
(parliament), муниципалитет (municipality)” [Changing Patterns, с. 16].
В списке цитируемой литературы источники на русском языке передаются
только практической транскрипцией.
Используется трансплантация и в исследовании Д.E. Бартлей Soviet
Approaches to Bilingual Education о советской системе образования. Обоснованность такого подхода определяется, во-первых, целевой аудиторией – политологи,
историки, магистранты; трансплантация позволяет уточнить информацию по русским источникам, способствует достоверности. Во-вторых, терминология российского политического дискурса постперестроечного периода и сферы образования
отличается от европейской, что осложняет ее передачу на английский язык. Российская система образования в настоящий момент меняется, наблюдается определенная европеизация, при этом сохраняются и национальные особенности, поэтому использование аналогов; британских образовательных терминов или американских, в данном случае ограничено.
Трансплантация в указанной работе обязательно семантизируется, например, аналогом или дефиницией. Как правило, автор маркирует калькированные
термины кавычками и предотвращаеть семантическую аберрацию, уточняя буквальность перевода данной номинации:
“Socially productive practice” is literally translated from the Russian expression
(общественно-производственная практика). What is actually meant by this is the
practical development of socially useful skills and talents emphasizing the interests of
society and civic responsibility” [Soviet Approaches, c. 17].
Интерлингвокультурная картина мира автора-билингва позволяет предвидеть возможную двусмысленность кальки special school, которую носитель английского языка может воспринимать в значении «школа для детей с ограниченными возможностями». Чтобы избежать идеологически обусловленной аберрации
вводится гипероним с дефиницией (калькирование и комментарий), далее кальки-
310
рование названия школы и практическая транскрипция, что способствует разрешению неоднозначности: “The general secondary polytechnical school specializing in
a foreign language, or special school (spets shkola)” [Soviet Approaches, с. 1].
Когда автор вновь обращается к номинации школы указанного типа, вводится несколько иная форма написания ксенонима, выделяемая не курсивом, а кавычками (“spetzshkoli”). Такая вариативность формы и графического выделения
объясняется авторским подходом, не ограниченным единым стандартом перекодирования и графической маркировки: “The general secondary polytechnical school
specialized in foreign languages are generally referred to as special schools,
“spetzshkoli”. Henceforth, they will be referred to as such” [Soviet Approaches, с. 1].
При введении в текст ксенонима, образованного практической транскрипцией, эксплицируемого дефиницией, автор поясняет необходимость такого объемного толкования культурной спецификой, подтверждаемой отсутствием эквивалента в английском языке. Идеологизированность советского социума отражалась и на образовании, что отражено в анализируемой работе, но основное внимание там уделено описанию организации учебного процесса и пр. В целом стратегия передачи субстрата соответствует научному тексту, основная задача которого
заключается в научном изложении, в реализации стратегии достоверности.
Как следует из вышеизложенного, в данном случае языковое оформление
соответствует стратегии создания научного текста, что позволяет говорить об английском языке в функции языка для специальных целей. Актуализация идеологизированного субстрата в научных текстах, как правило, представлена стандартной моделью: ксенонимическим комплексом, номинативным компонентом которой является практическая транскрипция, эксплицирумая посредством параллельного подключении непосредственно в предложении; необходимые дополнительные детали вводятся в текст постепенно. Научный дискурс предназначен, главным образом, для специалистов, т.е. коммуникативная среда ограничена, и приоритет авторских стратегий отдан семиотической и концептуальной точности.
311
3.4 Актуализация идеологизированного субстрата родной
лингвокультуры в «чужом» коммуникативном пространстве
3.4.1 Беллетристика
В данной группе представлены произведения, написанные билингвами, носителями русского языка, причем далеко не все из них изучали английский с детства. Иммигранты из России, Э. Рэнд [132] и Г. Штейнгарт приехали в США, не
владея английским языком, и осваивали его в естественной языковой среде, достинув такого уровня, который позволил им создавать романы на английском
языке и получить признание в литературном англоязычном мире. Другие авторы
приехали в США со знанием языка и совершенствовали его далее также в естественной языковой
среде. Анализ актуализации субстрата в художественных
произведениях, научных работах и культурологических очерках и статьях СМИ
позволяет сделать некоторые обобщения. Авторы создают тексты на втором языке, который обращен в область родной лингвокультуры, ориентируясь при этом
на англоязычную аудиторию. Термин «второй язык» в данном случае используется условно, это может быть и третий язык, или иностранный. Формально второй
язык фактически может стать и первым.
Анализ выявления субстрата в произведениях Э. Рэнд следует начать с
краткого изложения ее идеологии (мировоззрения), которая составляет философскую основу ее работ. «Идеология объективизма» основана на ее личном восприятии советской действительности, точнее, идеологизированного субстрата «коллективизм», синонимичного субстрату «диктатура» [479].
Одна из проблем, которую пытаются разрешить писатели-билингвы, включает осмысление концептуальной системы, идеологий, языковой картины мира
родной лингвокультуры и новой. На актуализацию лингвокультурного субстрата
средствами другого языка, как правило, доминирующее воздействие оказывает
именно родная лингвокультура. Однако Э. Рэнд, в отличие от многих билингвальных писателей, писала на языке близкой ей по духу лингвокультуры, приняв
312
ее безоговорочно: “I am an American by choice and conviction”. В текстовом мире
своих художественных произведений она создает пространство, актуализирующее
лингвокультурный субстрат родной по рождению, но чуждой по духу культуры:
субстрат «идеология коллективизма» против родного по духу субстрата «идеология объективизма». Субстрат ««идеология коллективизма» актуализируется не
столько прямыми номинациями, сколько на глубинно-когнитивном уровне: через
описание действий и поступков персонажей. Важным представляется и то, что
концепты СОВЕТСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ, КОЛЛЕКТИВ и ДИКТАТУРА представлены не как универсальные, но национально-специфические феномены.
Одним из ведущих лозунгов советского времени является: «Коллектив всегда прав»; идеологи партии, журналисты и пр. подчеркивали, что буржуазное общество ограничивает свободу человека, в то время как при социализме возможно
широкое социальное творчество, «под которым классики марксизма понимали активную деятельность широких трудящихся масс, свободно и сознательно строящих новую жизнь» [286, с. 10]. Как представляется, редактор намеренно не указал
фамилию автора предисловия к сборнику статей известного британского автора
Ч.П. Сноу, посольку в то время это было единодушное мнение «широких трудящихся масс», сформулированное марксистско-ленинской идеологией.
Субстрат «идеология коллективизма» соотносится с концептами ГОСУДАРСТВО, КОЛЛЕКТИВ, АЛЬТРУИЗМ и ДИКТАТУРА. Субстрат «философии
объективизма» отражает противопоставление концептов INDIVIDUALISM и
EGO. Концепты INDIVIDUALISM и EGO репрезентируются номинациями
individualism и ego в их естественном англоязычном контексте:
individualism 1) the habit or principle of being independent and self-reliant; selfcentred feeling or conduct; egoism; 2) a social theory favouring freedom of action for
individuals over collective or state control [ODЕ].
На первом месте в приведенном выше определении понятие «независимость» (being independent) и «самостоятельность» (being self-reliant). Это и название социальной концепции, провозглашающей значимость права человека на сво-
313
боду действий, но не контроль государства над выбором человека (данное значение русскоязычный толковый словарь не фиксирует).
В русскокультурной картине мира на первом месте негативная эмоциональность (против коллектива): индивидуализм 1. Нравственный принцип, ставящий
интересы отдельной личности выше интересов общества. 2. Стремление к выражению своей личности, своей индивидуальности [СРЯ 1994].
В концепции Э. Рэнд individualism соотносится с понятием индивидуальность: 1. Особенности характера и психического склада, отличающие одного индивидуума от других. 2. Человек как обладатель присущих только ему черт характера, индивидуальных особенностей; личность [БСТСРЯ 2006].
Концепт EGO не репрезентирован в русском языке; «эго» – это «начальная
часть сложных слов, вносящая значение направленности на собственное «я» (эгоцентризм, эгоцентрист, эгоцентрический и т.п.)» [БСТСРЯ 2006], т.е. слов, характеризующихся пейоративностью. В английской картине мира актуализируется
положительный компонент (self-esteem): ego – a person‟s sense of self-esteem or
self-importance [ODE]. Первым словозначением выделено именно «самоуважениея» (self-esteem, confidence in one‟s own worth or abilities, self-respect), а вторым
вводится негативное значение self-importance «большое самомнение» [ODE].
Разница в толковании англоязычных ключевых слов и их традиционных переводческих вариантов существенна, что не позволяет читателю, невладеющему
английским языком, в полной мере осмыслить концепцию объективизма.
Обратимся к актуализации субстрата в романах We The Living, Anthem и
Atlas Shrugged. Первый роман, отрицающий идеи коллективизма, We The Living (в
русском переводе «Мы – живые»), написан в 1933 г. в ответ на просьбу соотечественников рассказать о жизни в России, где «мы все умираем»: “„When you get
there, tell them that Russia is a huge cemetery and that we are all dying‟. We The Living
told them.” Вероятно, именно последняя фраза и подсказала название романа:
living (живые) – антитеза dying (умирающие) – это протест против подавления
свободы, значит, против жизни. Роман автобиографичен интеллектуально, именно
в этом смысле Э. Рэнд – это Кира, главный персонаж. Биографические детали Ки-
314
ры другие, иная внешность, но Кира воплощает идеи, убеждения и ценности Э.
Рэнд. Это своего рода протест против давления общества на человека, тотального
руководства образом жизни, желаниями и пр. В следующем примере представлен
один из ключевых постулатов того времени «коллектив всегда прав»: One day her
class declared a boycott against a little girl, at luncheon, the little table was occupied by
two students: Kira and the freckled girl. The indignant class leader approached them.
“Do you know what this girl here has done?” “I haven‟t the slightest idea.” “Then why
are you doing this for her?” “You‟re mistaken. I am not doing this for her. I am doing it
against twenty-eight other girls” [We the Living, с. 48].
Идеологизированный субстрат «идеология коллективизма» требовал подчинения коллективу, отриция индивидуальность. Кира мечтает стать инженером,
строить мосты, она стремится воплотить в жизнь свою мечту, не думая о том, соответствует ли ее желание служению пролетарскому государству:
“I‟m organizing a Marxist Circle to learn the proper proletarian ideology, which
we‟ll all need when we go out into the world to serve the Proletarian State, since that‟s
what we‟re all studying for, isn‟t it?” “Did it ever occur to you,” asked Kira, “that I
may be here for the very unusual, unnatural reason of wanting to learn a work I like only because I like it?” [We the Living, с. 70].
В приведенном выше отрывке субстрат «идеология коллективизма» актуализируется на вербальном уровне калькированием политического лексикона, используемого «красной студенткой»: a Marxist Circle, proletarian ideology, to serve
the Proletarian State. Позиция автора (неприятие субстрата) проявляется в ответе
Киры, лишенном каких-либо политических терминов, но выражающем ее желание: unnatural reason of wanting to learn a work I like only because I like it.
Если быть объективным и не искать в работах Э. Рэнд ненависти к коммунизму, можно ли утверждать, что мечта Киры противоречит потребностям общества? Она пытается делать то, что ей по душе, однако проявление искренности
вступает в конфликт с принципом коллективизма.
Объективируя субстрат «идеология коллективизма» как «подавление личности государством», Э. Рэнд пытается подвести читателя к выводу о том, что та-
315
кая идеология синонимична диктатуре: “We the Living is not a story about Soviet
Russia in 1925. It is a story about Dictatorship, any dictatorship, anywhere at any time,
whether it be Soviet Russia, Nazi Germany, or – or which this novel might do its share
in helping to prevent – a socialist America” [We the Living, с. XV].
Данный субстрат выявляется при вербализации клише: “Toil, comrade,” he
said, “is the highest aim of our lives. Who does not toil, shall not eat”. “The Soviet State
recognizes no life but that of a social class” [We the Living, с. 51; с. 166].
Метафоричность романа подтвердилась практикой: во время второй мировой войны итальянская киностудия, без ведома автора, экранизировала We the
Living; фильм имел успех, потому что зрители поняли его «анти-» направленность
(антидиктаторскую идею). Только спустя пять месяцев правительство Муссолини
осознало, что фильм протестует не только против коммунизма, но и против фашистской диктатуры и запретило его показ. Через двадцать лет фильм восстановили, и он вышел в прокат в 1986 г. через четыре года после ее смерти.
Роман Anthem (Гимн), написанный в 1937 году, был издан первоначально
только в Англии и лишь в 1946 в виде памфлета в Америке. Субстрат «идеология
коллективизма», обезличивающий человека, уничтожающий его как личность актуализируется в романе, в первую очередь, концептом ДИКТАТУРА: у персонажей нет имен, главный герой Equality 7-2521 не осознает своего I, он только we, и
он проклят, потому что отличается от других ростом, телом, но ничего не может с
этим поделать: “Our name is Equality 7-2521. We are six feet tall, and this is a burden,
for there are not many men who are six feet tall. We were born with a curse” [Anthem,
с. 18]. Идеологическое воздействие романа усиливается местоимениями множественного числа our, we, способствующими актуализации лингвокультурного субстрата «идеология коллективизма».
В романе we («мы») означает I («я»), при этом речь идет об одном человеке,
который не может говорить о себе «я», подчеркивая независимость от коллектива,
что противоречит идеологии коллективизма. Невольно он нарушает закон коллективизма «думать как все и выглядеть как все»: “We strive to be like all our brother
men, for all men must be alike. Over the portals of the Palace of the World Council,
316
there are words cut in the marble, which we repeat to ourselves whenever we are tempted: “We are one in all and all in one. There are no men but only the great WE,
One, indivisible and forever” [Anthem, с. 19].
Метафоричность романа Anthem в символике самого названия – это гимн
индивидуальности, «эго», что усиливает пейоративность субстрата «идеология
коллективизма», который концептуально соотносится с фанатизмом, подчиняя
себе человека, препятствуя развитию его индивидуальности: “What is not done
collectively cannot be good” [Anthem, c. 73].
Субстрату «идеология коллективизма» противостоит субстрат «идеология
индивидуальности», который, по мнению автора, не свойственен диктатуре, он
проявляется только в свободном от давления власти обществе.
Anthem оптимистичен, сила духа индивидуума побеждает; Equality 7-2521
находит себя: у него есть любимая, сыновья и друзья, и с ними он построит новый
свободный мир для Человека, смысл которого – «ЭГО»: “For the coming of that day
shall I fight, I and my sons and my chosen friends. For the freedom of Man. For his life.
For his honor. And here I shall cut in the stone the word which is to be my beaker and
my banner. The word which can never die on this earth, for it is the heart of it and the
meaning and the glory. The sacred word: EGO” [Anthem, c. 104–105].
Anthem, так же как и Atlas Shrugged, перекликается с известными антиутопиями: Brave New World, Nineteen Eighty Four, Мы.
Наиболее полно противостояние лингвокультурных субстратов «идеология
коллективизма» и «идеология индивидуальности» актуализируется в самом значительном романе Atlas Shrugged (1957). Главный персонаж романа Anthem представляет деловой мира, но вряд ли местом действия можно однозначно назвать
Америку. В произведении актуализируется концепт АЛЬТРУИЗМ, который являются важной составляющей идеологии коллективизма, препятствуя развитию
индивидуальности. Главный герой против альтруизма, но и сам ничего не просит:
человек должен сам отвечать за себя, в этом суть самоуважения (self-esteem, ego).
«Atlas Shrugged – философский манифест индивидуальности и протест против
коллективизма – самое значимое по силе воздействия на ментальность читателя
317
произведение Э. Рэнд: «В 1991 г. Библиотека Конгресса США провела опрос среди своих читателей с целью выявить книги, которые оказали наибольшее влияние
на их жизнь. Библия возглавила список; следом за ней – «Атлант расправил плечи» [103, с. 9]. Речь-манифест главного героя Джона Голта (John Galt), на написание которой потребовалось два года, вошла в мини-энциклопедию The Ayn Rand
Lexicon. Objectivism from A to Z. Экономический кризис XXI века, охвативший
практически весь мир, по мнению многих американцев, подтвердил значимость
личности в решении сложных вопросов. Государство (= коллектив) может обвинять предпринимателей и «свободный рынок», но решить экономические проблемы силой своей власти не может, вызывая такие разрушительные последствия, с
которыми справиться не в состоянии. Субстрат «идеология коллективизма» актуализируется, в том числе, в клише: внутренние враги, внешние враги: “Internal
enemies can be as great a danger to the people as external ones. Perhaps greater” [Atlas
Shrugged, с. 760].
Противостоять врагам может только коллектив, т.е. государство. Слово
народный в названиях различных структур, государств и институтов формально
подчеркивает то, что «все принадлежит народу», все решает человек, однако фактически право голоса имел только коллектив, а точнее государство: People‟s State
of Mexico, People‟s State of Chile, South American People‟s States, People‟s Opera
Company. По мнению Э. Рэнд предназначение государства не в том, чтобы контролировать жизнь индивида, а в том, чтобы его защищать: “The only purpose of a
government is to protect man‟s rights, which means: to protect him from physical
violence. The only proper functions of a government are: the police, to protect you from
criminals; the army, to protect you from foreign invaders; and the courts, to protect your
property and contracts from breach or fraud by others, to settle disputes by rational
rules, according to objective law [Atlas Shrugged, с. 977].
Э. Рэнд подчеркивает порочность идеологии «коллективизм», что не способствует развитию мысли: “To think is an act of choice. Reason does not work automatically; thinking is not a mechanical process; the connections of logic are not made
by instinct. But you are not free to escape from your nature, from the fact that reason is
318
your means of survival – so that for you, who are a human being, the question „to be or
not to be‟ is the question „to think or not to think‟” [Atlas Shrugged, с. 930].
Субстрат «идеология коллективизма» акцентирует то, что мнение индивидуума никого не интересует, думать не надо; в идеологии объективизма утверждается значимость умения «думать», которому можно научиться, но для этого
нужно хотеть учиться; думать – это выбор, умение мыслить не механическое, оно
подчиняется воле человека.
Э. Рэнд актуализирует идеологизированный субстрат «коллективизм» в
своих романах на глубинно-когнитивном уровне, при описании соответствующих
ситуацийе или, воссоздавая мир коллективизма в жанре антиутопии, что способствует созданию негативной образности в текстовом мире, за которым стоит советская действительность, которую она не смогла принять.
Один из наиболее популярных писателей-современников русского происхождения в США считают Г. Штейнгарта; с присущим ему чувством юмора он
рассказывает о проблемах современной России в романе Absurdistan. В художественной картине мира автор воссоздает жизнь «бизнесменов», еврейской диаспоры и пр. Ирония автора передается через описание персонажей; стилистическую функцию выполняют своего рода вторичные заимствования, контаминированные интернационализмы kottedzhes, town khauses, kapitalists, biznesman, т.е. автор маркирует семантические модификации, коннотативное варьирование на орфографическом уровне. Например, контаминированное обозначение kottedzhes актуализирует скептическое отношение иностранцев к тому, что российские бизнесмены гордо именуют коттеджами свои дома. На первый взгляд, это слово
перекликается с английским cottage, обозначающим понятие «загородный дом для
отдыха», однако это не соответствует русскокультурному контексту: “Krestovsky
(Island) is where we, rich people, pretend to be living in a kind of post-Soviet Switzerland, trudging along the bike paths built „round kottedzhes and town khauses, and filling
our lungs with parcels of atmosphere seemingly imported from the Alps” [Absurdistan,
с. 4].
319
Калькирование, как способ передачи ксенонима, используется, как правило,
для передачи многокомпонентных синтаксических структур, и, сочетаясь с необычным для англоязычного мира семантическим наполнением, способствует передаче инолингвокультурного субстрата.
Современная Россия представлена с юмором и иронией, это своего рода
совмещение «внутрикультурного» осмысления и «взгляда со стороны», иронизирование над социальными проблемами в контексте политического лексикона советского времени. Пейоративная номинация prostitutki (контаминация маркирует
«лингвокультурную специфику») и советизмы (labor brigade) помогают читателю
понять не только текстовой мир, но и языковую личность автора, его отношение к
реальности: “The prostitutki in this part of the world formed a stylized labor brigade.
They shimmied up to the dance floor without much enthusiasm and then, in a tradition
that has become diktat in the eight formerly Soviet time zones” [Absurdistan, c. 435].
В отличие от текстового мира российской реальности, который представляет Г. Штейнгарт, в романах О. Грушиной отражена советская действительность.
Интерес для настоящего исследования представляет вошедший в список New York
Times «Сто лучших книг 2006 г.» ее первый роман The Dream Life of Sukhanov. В
Америке она известна как О. Grushin; фамилия локализована, поскольку англоязычные фамилии гендерно не маркированы, но в переводе на русский язык используется исходное написание. В интервью Русской службе «Голоса Америки»
О. Грушина называет себя русской писательницей, несмотря на то, что пишет поанглийски: «Роман мой очень русский во многом. Мне хотелось бы, чтобы это
был «русский роман английскими словами» [114].
О. Грушина использует в романе общие для интерлингвокультурных авторов стратегии создания текста и способы передачи субстрата, сочетая традиционную модель и авторский подход. Например, популярные в период правления Сталина лозунговые клише великий вождь и социализм с человеческим лицом передаются калькированием, как в следующем текстовом фрагменте. Интертекстовые
аллюзии автор комментирует, учитывая, что англоязычный читатель не всегда
понимает аллюзию на идеологизированные формы советского искусства, которые
320
художники вынуждены были создавать, следуя духу времени: Malinin‟s “Great
Leader” paintings, with Lenin. В английском обозначении словосочетание великий
вождь представлено как калькированное имя собственное “Great Leader”, поскольку маркировано начальными заглавными буквами, кавычками маркируется
модификация оценочности, слышатся и несколько саркастические нотки:
“It occurred to Sukhanov that the whole scene was oddly like a parody of Malinin‟s early work – one of those easily recognizable “Great Leader” paintings, with Lenin (or someone else, heavily mustachioed and currently unnamable) thundering from a
far-off podium, on the unreachable horizon, and tides of workers and peasants spreading
outward from it” [Dream Life, c. 6].
Субстрат российской лингвокультуры в произведениях русских иммигрантов нередко актуализирует субстрат российского детства и юности, восстановленный по своим воспоминаниям или рассказам родителей; он понятен зрелому поколению россиян, но у молодежи России другие ценности и приоритеты. Оценочность знакомых старшему поколению россиян по курсу школьной и вузовской истории клише также воспринимается молодыми россиянами сегодня иначе, и автор
выделяет пейоративность использованием лексических средств, в частности, оборотом so-called. Заглавные буквы в начале каждого компонента словосочетания
подчеркивают значимость лозунга. Актуализация оценочности политического
термина Socialism во многом определяется индивидуальной концептуальной системой читателя: СССР в зарубежной прессе связывали и связывают с коммунизмом, но не с социализмом. Калькированная фраза Socialism with a Human Face отсылает информированного читателя к событиям в социалистической Чехословакии: “Other, milder creations hung under the spotlights, presenting to the audience socalled Socialism with a Human Face – a slogan that was perhaps more familiar to Sukhanov than to anyone else here [Dream Life, c. 6].
Суммируя вышесказанное, необходимо отметить, что на рубеже ХХ–XXI
веков проблемам сохранения, осознания и объективации идентичности в условиях
глобализации уделяют все больше внимания. Одна из причин, вероятно, увеличение миграции населения, именно в процессе освоения новой лингвокультуры
321
многие обращаются «вглубь» своей семьи, своих корней. Подтверждение этому
пишущие на английском языке американские писатели-современники русского
происхождения, которые стремятся вербализовать лингвокультурный субстрат
советской или русской эпохи в текстовом мире художественного дискурса, причем не только посредством номинативных комплексов, но на глубиннокогнитивном уровне. На лексическом уровне это актуализируется, главным образом, введением практической транскрипции или калькирования и разнообразных
способов семантизации, что позволяет не только передать национальную специфику, но и способствует информативности текста и его достоверности.
3.4.2 Мемуары
Задачи данного параграфа идентичны предыдущим, но решаются на материале мемуарного жанра, представленного рядом автобиографических эссе и мемуарами A Mountain of Crumbs американской писательницы русского происхождения Е. Гороховой, эмигрировавшей в США из Ленинграда; английский язык она
изучала в специализированной английской школе, потом в ЛГУ. Естественно, что
личный опыт жизни в Советском Союзе отражал влияние советской идеологии на
мировоззрение человека, и осмыслить его она смогла только в контексте новой
лингвокультуры, сохраняя связь с прошлым. Детство и юность связаны с советским периодом, эпохой идеологизации всех сфер жизни; большое влияние оказала
и вторая мировая война, в которой участвовали ее родители, что не могло не отразиться на их мировоззрении и воспитании детей.
Размышляя о прошлом, вспоминая свою маму, которые последние годы
жизни провела в Америке у дочери, писательница описывает ее с любовью и теплотой, в то же время, используя и советизмы, которые передают атмосферу жизни
страны в целом и ее семьии: “My mother – a World War II surgeon, the permanent
chairman of the family Politburo she had installed in our Leningrad kitchen, and a
mirror image of my Soviet Motherland” [E. Gorokhova. New Year].
322
Термин Politburo является универсалией в современном английском языке и
используется как средство номинации стран, сохранивших компартию и соответствующие структуры, однако это не означает, что любой носитель языка знает
значение этого слова. Определенные детали, используемые в тексте очерка,
например, permanent, chairman, installed позволяют представить себе довольно
строгую атмосферу семьи, глава которого – мать, тем более, военный хирург.
Старшее поколение эмигрантов из России, вероятно, в большей степени, чем носители английского языка, понимает сложности быта семьи писательницы, образ
жизни, благодаря сохранившимся в культурной памяти смыслам советского периода, когда по всем каналам показывали заседание съезда КПСС, его президиум,
когда быть «членом Политбюро» означало иметь власть и т.п.
Е. Горохова не сразу смогла избавиться от чувства страха и неуверенности,
свойственного эмигрантам того периода («заставят вернуться, не выпустят из
страны» и т.п.), субстрат страха и неуверенности «пронизывал» жизнь многих думающих людей в то время. Вспомним диссидентов, «внутреннюю ссылку», исключение из Союза писателей. Прямого обозначения этого субстрата в тексте нет,
он актуализируется через описание эпизода ожидания рейса в Ленинград в лондонском аэропорту. Писательница рассказывает о своем тревожном состоянии
(tensed mouth, slumped back), решившись поехать в страну, которую покинула
тридцать лет назад; о том, что «русский всегда остается русским» (a woman in her
fifties, whose face, beneath a layer of Western creams and cosmetics, carries faint marks
of her Slavic heritage): “In London we join a group of British passengers waiting for
our flight to Russia. They leaf through their guidebooks with maps of Leningrad, all
except a woman in her fifties, whose face, beneath a layer of Western creams and cosmetics, carries faint marks of her Slavic heritage. She is talking to a man who may be
her English husband as she glances in my direction because from my tensed mouth and
slumped back she knows I am Russian” [Leningrad Oct. 7, 2012].
Субстрат советского образа жизни в творчестве Е. Гороховой объективируется концептом ВРАНЬЁ, вербализуемом в английском языке номинациями
vranyo, the pretending и lies. В очерках он актуализируется при описании чувств
323
мамы писательницы, осознавшей в американском доме дочери, что светлого будущего в советском прошлом не было. Это осознание было трагичным для женщины, пережившей войну, искренне любившей Родину и ее олицетворяющей, как
метафорически описывает ее дочь: “My mother, a “mirror image of my
Motherland”… Her last life was in my house in New Jersey, where she realized –
straight from her arrival – that every Russian official had lied to her, that there was no
bright future shining on the Soviet horizon” [E. Gorokhova. A Good Run].
Следует почеркнуть, что, как отмечено ранее, идеологизированный субстрат
российской действительности «враньѐ» выделяют западные журналисты. В первом значительном произведении Е. Гороховой, мемуарах A Mountain of Crumbs.
Growing Up Behind the Iron Curtain, рассказывается о то постепенном осмыслении
«раздвоенной реальности» советской жизни (the split reality we lived in). Первое
осознание пришло в 10-летнем возрасте, когда она начала изучать английский
язык и, встретив в тексте слово privacy, попыталась перевести его на русский язык
по словарям. Это не удалось, и она обратилась в учительнице, которая и объяснила, что в русском языке такого слова нет. Нет слова, потому что не было в советской культуре такого концепта, и не могло быть. Так постепенно вырисовывалось
противоречие между официальной и личной жизнью, своего рода doublethink, до
сих пор влияющей на ее жизнь: “This was one of the first manifestations of the split
reality we lived in, the linguistic disconnect that mirrored the schism between the official and the private life in Soviet Russia. We all sliced our souls in half: one for yourself
and your close family and friends, the other for the official world of Soviet bureaucracy
and lies. It was an almost schizophrenic existence, and a few bizarre remnants of this
doublethink still punctuate my life here” [How I Write: E. Gorokhova. Aug 2, 2012].
Жанр позволяет автору следовать не столько стратегии номинативной точности, сколько передаче «духа» того времени, актуализируя идеологизированный
субстрат в описаниях различных эпизодов жизни своих родителей, своего детства.
Например, значимость социального происхождения для поступления в институт,
преимущество было у детей рабочего класса и крестьян: “Universities were now
free, but candidates were accepted on the basis of their social class and not their merit:
324
children of workers and peasants first, children of professionals last. Because my grandfather was no longer a peasant, my mother had to wait two months until a milkmaid‟s
daughter dropped out, creating an opening” [Mountain of Crumbs, p. 7].
В мемуарах объективация концепта ВРАНЬЁ представлена практически в
каждой части, отражая все этапы жизни автора. Значимость данного концепта для
актуализации субстрата российской действительности выражена в ряде работ носителей английского языка; субстрат концепта – «лицемерие, притворство». К
сожалению и сегодня это не потеряло своей актуальности («что не запрещено, то
разрешено»). Вербально экспликация концепта выражена непосредственно в
названии главы Vranyo, the Pretending, где практическая транскрипция семантизируется пейоративно оценочным аналогом. Ксеноним vranyo, курсивом, используется в различных главах мемуаров, выражая оценку описываемых событий; это
ключевой концепт, отражающий восприятие советской действительности с точки
зрения автора. В школе детям внушалось, что не следует задавать вопросы, это
своего рода свободомыслие, которое не поощрялось. Например, «воспитание на
примере» П. Морозова (не думается, что следует его обвинять в предательстве отца, так его воспитывала школа). В следующем эпизоде автор вербализует субстрат глаголом pretend: “For this serious crime, and for breaking Stalin‟s decree to
give up all the harvest to the people, Citizen Morozov the elder was arrested and served
ten years in the camps,” announces Vera Pavlovna. I don‟t say anything, and no one
else does either, to contradict Vera Pavlovna in praising Pavlik Morozov‟s vigilance and
valor. We all know that some things are so obvious you just don‟t debate them. You
don‟t debate what‟s written in history textbooks. You pretend you think that Pavlik Morozov was a true hero deserving a medal” [Mountain of Crumbs, c. 58].
Суммируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что в мемуарах, как и в художественной литературе, приоритет отдается созданию атмосферы описываемого периода, понять которую возможно при вдумчивом чтении; лингвокультурный
субстрат актуализируется в различных контекстах, в поведении людей, т.е. на
глубинно-когнитивном уровне, при этом он не обязательно эксплицитно выражен
ксенонимами. Практическая транскрипция, как способ образования ксенонима, в
325
ряде случаев эксплицируется средствами параллельного подключения. Необходимо особо отметить, что при актуализации субстрата родной лингвокультуры
средствами «чужого» языка писатели русского происхождения используют также
нестандартные способы. Так, осознавая субстрат на глубинно-когнитивном
уровне, авторы, не называя прямо, что именно имеется в виду, обращаются к косвенным способам: создают образное описание ситуации, описывают поведение
человека в данной ситации и т.п. Анализ произведений, созданных авторами русского происхождения, позволяет сделать вывод о том, что широкий контекст является одним из способов актуализации субстрата в интерлингвокультурных произведениях. Стратегия номинативной и семиотической точности в данном случае
не является доминантной.
326
ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ
Эмпирический материал настоящей работы отличается особой спецификой:
текст продуцируется, главным образом, на английском языке и нацелен на мир
другой лингвокультуры; при этом автор находится между лингвокультурами, способствуя их взаимопониманию. Словесное произведение подобного типа в работе
получило обозначение «интерлингвокультурное произведение», которое создается билингвальной языковой личностью, отличающейся интерлингвокультурной
языковой картиной мира, позволяющей выявить лакуны, предвидеть концептуальную асимметрию и предотвратить коммуникативный сбой адекватными вербальными средствами.
Задача актуализации субстрата описываемой лингвокультуры является одной из основных в исследованных произведениях. Стратегии ее решения формируются на стадии замысла: автор определяет возможные способы объективации
российской действительности, учитывая жанр, целевую аудиторию, картину мира
языка общения. Естественно, что все это определяется интерлингвокультурной
картиной мира самого автора.
В макроисториографии в большей степени, чем в микроисториографии,
беллетристике или мемуарной литературе, приоритет отдается реализации стратегии концептуальной, номинативной и семиотической точности, объективируемой
комплексной номинацией с привлечением ширкого контекста. Уровень ксенонимической плотности различен в проанализированных текстах: учитывая мнение
читателей, считающих, что такие номинации затрудняют восприятие, авторы в
ряде случаев избегают ксенонимов, предпочитая локализацию, культурные аналоги или генерализацию. Ксеноним используемый для актуализации субстрата, способствует созданию колорита, но после первичного введения его в текст в дальнейшем чаще используются другие способы актуализации субстрата. Автор вынужден идти на своего рода компромисс, выбирая между номинативной точностью (транслитерацией ксенонима) и доступностью номинации для читателя.
327
Определенной идеологизированностью, как следует из корпуса эмпирического материала, отличается не только политический лексикон, но и отдельные
артефакты, что наиболее очевидно при описании российской действительности
носителями английского языка. Контраст сопоставляемых картин мира позволяет
выделить идеологизированность ряда феноменов, далеко не всегда осознаваемых
таковыми в контексте родной лингвокультуры.
Анализ
научных работ позволяет утверждать, что используемые в них
средства актуализации субстрата нацелены на максимальную терминологическую
точность. Языковое оформление текстов отличается ксенонимической насыщенностью, терминологичность научных работ, в которых актуализируется идеологизированный субстрат российской действительности, позволяет сделать вывод о
том, что в данном случае фактически используется язык для специальных целей.
Стратегия реализации номинативной и концептуальной точности предопределяет
ксенонимическую плотность, способствующую актуализации субстрата инолингвокультуры, в том числе и малоупотребительным приемом «трансплантация».
Создавая текст на английском языке о родной лингвокультуре, носители
русского языка стремятся передать российский субстрат и сохранить свою идентичность в другом семиотическом пространстве. На вербальном уровне это не
всегда выражено эксплицитно, конкретной номинацией, но реализуется на глубинно-когнитивном уровне, путем описания ситуаций и привлечением широкого
контекста. Способствуют созданию колорита и лексические средства, главным
образом, практическая транскрипция или калькирование с использованием разнообразных способов семантизации, что не только передает национальную специфику, но и обеспечивает информативную насыщенность текста, его достоверность. Таким образом, стратегии актуализации инолингвокультурного субстрата
обусловлены рядом факторов: жанром, целевой аудиторией, политической ситуацией, коммуникативными интенциями социума, политикой издательства; ведущая
роль при этом принадлежит языковой личности, автору, свобода выбора лексической единицыа которого ограничена не только языковой системой, но и перечисленными параметрами.
328
ГЛАВА 4 АКТУАЛИЗАЦИИ ИДЕОЛОГИЗИРОВАННОГО
СУБСТРАТА РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
4.1. Основные подходы к составлению словарей
4.1.1. Отечественная лексикография
Решение задачи разработки модели русско-английского интерлингвокультурного словаря политического лексикона требует лексикографического фундамента, что обусловливает обращение к апробированному на практике опыту отечественных и зарубежных научных школ. Сопутствующей задачей при этом является выявление коммуникативных потребностей пользователя словаря.
Роль и функции словаря в обществе определяются национально-языковой
политикой, выделяющей приоритетным направлением сохранение национального
языка и культуры народа, существенная часть которой «реализуется через язык, а
язык во всѐм его богатстве закрепляется, прежде всего, в словаре», подчеркивает
Ю.Д. Апресян [14, c. 399]. Первоочередной функцией словаря считается прескриптивная, которая способствует сохранению и развитию литературного языка,
что реализуется, в первую очередь, на уровне кодификации, под которой понимается упорядочение орфографии, орфоэпической, синтаксической и стилистической нормы, словообразования, словоупотребления, семантики. В полном объеме
перечисленные аспекты отражают только академические словари; остальные издания (учебные, толковые и специальные словари, справочники), как правило,
ограничены определенным направлением. Терминологические словари объективируют термины соответствующей сферы науки или деятельности, в учебных изданиях фиксируется базовая лексика, обобщаются значимые грамматические правила, приводятся рекомендации по использованию отдельных лексем и пр.
329
Для лингвистического исследования наибольшую значимость представляет
толковый одноязычный словарь, который не только кодифицирует лексику, являющуюся компонентом системы языка, но и отражает адаптацию разных уровней,
семантического, орфографического, прагматического и пр., обусловленную
внешним воздействием (социальным, информационным и т.п.). Одним из наиболее значимых параметров, способствующих выявлению статуса новой единицы
или нового словозначения в лексико-семантической системе, выступает кодификация данного элемента. Именно словарь подтверждает статус слова как полноправного элемента лексико-семантической системы языка.
Социальное предназначение толкового словаря невозможно переоценить: кодифицируя отраженные в лексике устоявшиеся характеристики социума, новшества, он организует диалог. «Слово «толковый» предполагает две стороны, двух
участников», подчеркивает И.В. Арнольд: «Того, кто толкует» (объясняет) и того,
«кому что-то толкуют. Толковый словарь – словарь одноязычный, он позволяет
понять значение того или иного слова при помощи определения, знакомит на
примере с употреблением слова и позволяет показать его связи в языке и суть
концепта, им выраженного» [18, c. 3].
В отечественной лексикографии на основе теоретического осмысления подходов к словарю, апробированных на практике, сложились четкие принципы типологии словаря и его структурной системы, описанные Л.П. Ступиным [329];
В.П. Берковым разработан системный подход к двуязычной лексикографии [43].
Решаются и новые проблемы, обусловленные потребностями пользователя, в
частности, меняется типология отечественных словарей: традиционное разделение на лингвистические (толковые) и энциклопедические (включающие имена
собственные) постепенно стирается, что позволяет получить необходимую информацию в одном источнике. В парадигме антропоцентризма разрабатывается
словарь активного типа, который, как отмечает Ю.Д. Апресян, отличается «синтезом филологии и культуры», «для того, чтобы научить человека не только понимать тексты на данном языке, но и правильно говорить на нѐм» [14, c. 399].
330
Современная лексикография опирается на научную парадигму, сочетающую
антропоцентризм, когнитивный и концептуальный анализ, способствующий полному описанию значения лексемы или заглавного слова, одного из основных компонентов словаря (толкового, терминологического, культурологического и пр.).
Этот этап лексикографического проекта, по мнению В.Г. Дудкиной, самый наукоемкий; он заключается в упорядочении семантического метаязыка (языка дефиниции), функцией которого «является не только объяснение значения языковой
единицы, но и создание основы для «установления ее места в семантической системе языка» [133, c. 566–567]. Ученым разработана системная классификация
лексикографических дефиниций на основе структуры лексического значения, выделены следующие дефиниции: 1) денотативная (предметно-понятийная информация: отражение внеязыковой действительности); 2) коннотативная (экспрессивная, стилистическая информация); 3) метаязыковая (соотнесение определяемого
понятия с близкими к нему словами через лексико-грамматические отношения) и
4) трансформационная (синонимы, антонимы и перифраз) [133, c. 569–571].
Следует особо подчеркнуть, что наибольшую трудность представляет именно стадия понятийного анализа и составления определений. Так, по оценкам специалистов финского Центра терминологической работы, на данный этап приходится почти половина от общего времени работы над терминологическим словарем. Соответственно, трудоемкая задача упорядочения дефиниций требует увеличения периода подготовки, обусловливает ограничение словарных статей, за отведенный период времени авторский коллектив в состоянии обработать определенное количество толкований, при этом также возрастает стоимость каждой словарной статьи, а значит и словаря [216, c. 275].
Значимой составляющей дефиниции, по мнению Д.О. Добровольского, являются «прагматические правила», неотъемлемая часть «семантики целого ряда
языковых единиц» и одна из разновидностей пресуппозиции, включая социальный статус участников общения и коммуникативную ситуацию [126, c. 5]. Данное
утверждение представляется весьма значимым и согласуется с приведенным вы-
331
ше высказыванием Ю.Д. Апресяна о том, что словарь должен способствовать как
пониманию, так и умению говорить на данном языке.
Прагматическая составляющая системного описания включает стилистический компонент, необходимый пользователю, чтобы сформировать целостное
представление о слове; данный параметр реализуется маркерами, позволяющими
определить регистр и речевую ситуацию функционирования лексической единицы. Проект прагматического словаря разработан А.В. Прошиным на основе авторской концепции «стилистическое значение как системное явление»; словарь
данного типа фиксирует, классифицирует и толкует стилистические качества
«лексических единиц как содержательных категорий» [291, c. 17].
Прескриптивной функции толкового словаря сопутствует дескриптивная: с
одной стороны, словарь отражает представление данного лингвокультурного сообщества о мире, фиксируя адаптированные лексемы и объективируя в дефинициях результаты познавательной деятельности языкового коллектива. С другой
стороны, языковая картина мира влияет в той или иной степени на мировосприятие, значит, и на осмысление слова.
В отличие от толкового словаря, кодифицирующего слова общего языкового
фонда, наивную языковую картину мира, терминологические словари фиксируют
результаты научной деятельности и, соответственно, научную картину мира.
Иначе говоря, в словаре «знаковыми средствами языка объективизируется» (sic)
знание, под которым понимается «форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности человека» [БЭС].
Словарь представляет собой целостное «произведение» особой структуры,
отличающееся типологическими качествами и важным социальным предназначением, в частности, функцией актуализации знания. Специфические характеристики словаря определяются тем, что он объективирует как старую, так и новую информацию, передает ее разным поколениям, хранит «культурную память». Таким
образом, словарь как средство накопления и объективации знания, в соответствии
с когнитивно-дискурсивным подходом, может быть классифицирован как особый
формат знания (термин Е.С. Кубряковой). По определению Н.Н. Болдырева под
332
форматом знания понимается определенная форма представления знания на языковом уровне. Специфика словаря как формата знания заключается в типологической структуре и системной организации представления знания, что способствует
реализации основной задачи: фиксации осмысления «мира в языке» [47, c. 5].
Применительно к лексикографическим изданиям термин «формат знания, как
представляется, отражает современный подход к словарю нового типа, объективирующего языковыми средствами результаты познания меняющегося мира на
основе системного описания в четко структурированном формате в соответствии
с коммуникативными потребностями современного пользователя.
Наиболее полно отражают новые научные подходы терминологические словари: обосновывая издание нового словаря терминов, В.Ю. Михальченко, подчеркивает, что социолингвистика меняется, «постепенно уходит публицистичность ее
терминологии и совершенствуется понятийный аппарат. Такие качества, как подвижность и временная зависимость данного научного направления, требуют постоянного обновления и переосмысления социолингвистических терминов» [251,
c. 5]. Перечисленные характеристики свойственны и многим другим наукам.
Вышесказанное подтверждается интенсивным развитием культуроведческого
направления лексикографии, разрабатывающего принципы отражения в словарях
знания культуры. Следует особо выделить вклад в развитие отечественной лексикографии, в формировании научного подхода к культурологическим словарям
профессора О.М. Карповой, которая сформулировала концепцию культуроведческой лексикографии, обосновав необходимость комплексного филологического и
культурного описания «слова-вещи, слова-понятия с привлечением элементов этнолингвистического знания» [175, c. 192]. Значимость словаря в жизнедеятельности индивида, в том, что словарь воздействует «на когнитивный уровень пользователя», значит, и на его мировоззрение, формирующееся при «соединении когнитивного уровня с прагматическим» [175, c. 192–193].
В процессе осмысления мира на когнитивном уровне образуются, как было
рассмотрено ранее, ментальные единицы – концепты, включающие определенные
признаки и характеристики. Для словаря культуры интерес представляет, главным
333
образом, лингвокультурное содержание, объективируемое различными средствами вербализации. Культурологический словарь в терминологии В.И. Карасика
представлен «концептуарием культуры» [170], в концепции Ю.С. Степанова выделены «словарь концептов» [325] и «словарь культуры» [326], коллективом ученых составлен словарь «Русское культурное пространство» [РКП]. Современный
словарь представляет собой многофункциональную систему лексически объективированных концептов (слов); его дополнительные функции, как подчеркивает
А.Л. Шарандин, включают те, «которые обслуживают эту лексическую объективацию, внося специальную семантическую информацию, предназначенную для
реализации и актуализации концепта» [370, c. 304].
В центре внимания отечественной культуроведческой лексикографии выделена проблема усовершенствования апробированных на практике культурологических словарей, формирование новых подходов и принципов организации словаря данного типа: О.А. Карпова [175], В.В. Красных [200, с. 49], О.А. Ужова
[344]. Меняется подход и к составлению двуязычных лингвострановедческих словарей: О.Н. Иванищева [151; 152; 153], М.С. Колесникова [183]; ученые, в частности, отмечают необходимость особого внимания к специфике не только национально маркированных и культурно самобытных реалий и слов, «но и тех лексических единиц, которые обычно считались «простыми» [183, с. 49].
Новый культурологический подход представлен Т.В. Евсюковой, обосновавшей принципы характерологического описания «словаря культуры (русской,
китайской и японской). Ученый приходит к выводу, что основой формирования
«словаря культуры» должны быть ценности той культуры, которую он представляет, и в которой реализуется [137].
Особую значимость в процессе межкультурной коммуникации имеют двуязычные словари, в том числе двуязычные культурологические или лингвострановедческие, которые помогают понять окружающую индивида действительность
через код другого языка. Следует помнить, однако, что мир, создаваемый словарем, передается под влиянием родной лингвокультуры составителя словаря, значит, словарь не лишен некоторой субъективности. Языковое сознание читателя,
334
как и сознание составителя словаря, во многом зависит от стереотипов, культурных концептов, языковой картины мира родной лингвокультуры, что и предопределяет пересмотр концепции двуязычного словаря, выделяя необходимость культурологического подхода к описанию лексемы.
Основные требования к двуязычному словарю, обобщающие апробированный на практике опыт, в том числе и авторский подход, изложены В.П. Берковым
в ставшем классическим учебнике «Двуязычная лексикография». Ученый, в частности, отмечает потребность в создании оптимальных словарей-эталонов, поскольку это позволит «осуществить …стандартизацию словарей, что явилось бы
большим удобством для пользователей разных стран» [43, c. 5].
Рассуждая о значимости двустороннего семантического анализа для составления двуязычных словарей, И.Р. Гальперин подчеркивает, что он «должен показать не только подобие, но и расхождение в семантике лексем (выделено мною –
Н.Ю.), освещая и определяя условия их появления» [99, c. 217]. Ученый подчеркивает, что слово хранит «культурную память»: «В толковании значений слов, в
их употреблении, в описании их семантической структуры, даже в иерархии расположения отдельных подзначений порой отчетливо видны следы историкокультурных и социальных отношений, господствующих в данном обществе в
данную конкретную эпоху» [99, c. 217]. Эту точку зрения разделяют и другие
ученые: национально-культурная специфика слова, по мнению Е.Г. Беляевской,
хранит информацию «о том видении обозначаемого, которое сформировалось в
данном социуме в контексте его культуры» [39, c. 34].
Обосновывая важность культурологического комментария переводного варианта лексики, отличающейся культурными коннотациями, О.Н. Иванищева отмечает необходимость выделения того «минимума культурной информации, который необходимо знать, чтобы правильно воспринимать и употреблять слова
чужого языка» [151, c. 43].
Значимость текстовых иллюстраций в двуязычном словаре не вызывает сомнения, однако практическая реализация этого требования затруднительна, поскольку подбор и пересмотр (обновление) примеров является трудоемким процес-
335
сом, и увеличение объема словаря требует дополнительного финансирования. Иллюстративный материал, выражающий «понятия идеологического, этического,
морального и тому подобных планов» необходимо вводить с особой осмотрительностью, подчеркивает И.Р. Гальперин [99, c. 223], т.к. словарь призван быть
максимально беспристрастным. В середине прошлого столетия наиболее релевантными текстовыми иллюстрациями считались литературные цитаты, которые,
по мнению А. М. Бабкина, «подкрепляют толкование и оправдывают стилистическую квалификацию слова в словаре» [23, c. 95]. В современном общении в большей степени значимы политический, публицистический, медийный и т.п. дискурсы, поэтому в словаре необходимы примеры из разнообразных источников.
Особое место среди двуязычных словарей занимают лингвострановедческие
словари, автором первого «Великобритания. Лингвострановедческий словарь»
(1978 г.) является англичанин А. Рум. Объясняя новаторство словаря, А. Рум отмечает сочетание «словаря и энциклопедии»: определения и этимология сопровождаются фактами и цифрами, что свойственно справочным изданиям [303, с.9].
Первое отечественное издание подобного типа представлено «Американа»
под редакцией Г.В. Чернова (1996 г.). Содержание многих статей электронного
формата «Американа-II» переработано, «изменилось информационное наполнение и включено большое количество новых словарных единиц» [Американа-II].
Отечественной лексикографией накоплен значительный опыт составления
англо-русских лингвострановедческих словарей, наиболее известны «США.
Лингвострановедческий словарь» (1999 г.), «Лингвострановедческий словарь Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии» (2003), составленные Г.Д. Томахиным и «Австралия и Новая Зеландия. Лингвострановедческий
словарь» (1998 г.) В.В. Ощепковой и А.С. Петриковской и пр.
Следует отметить, что данный список постоянно пополняется новыми словарями, составленными на основе современных подходов, разрабатываемых отечественными учеными. Например, О.А. Ужовой разработана модель словаря концептов и лингвокультурем «Великобритания. История и культурные ассоциации»,
целью которого является «имплицитное формирование знания пользователя о
336
британце как личности, сформировавшейся, в том числе, под влиянием реалий
национальной истории, что содействует общему культуроведческому образованию читателей, обучению их межкультурной коммуникации» [344, c. 6–7]. Несомненным достоинством данного словаря являются указания об употреблении
лексической единицы, которые приводятся в словарной статье.
Несмотря на интенсивное развитие культуроведческой лексикографии ряд
проблем находится все еще на стадии разработки, что обусловлено изменением
социальных условий, формированием новых научных концепций, которые влияют
на концептуальные системы и требуют своей фиксации в языке. Формирование
глобального социума предъявляет особые требования к терминологическим словарям, составление которых осложнено концептуальной асимметрией контактирующих лингвокультур, что также необходимо отразить в специальных словарях
нового поколения. Традиционно двуязычные словари специальной отрасли какойлибо науки предлагают межъязыковые соответствия, которые далеко не всегда
можно отнести к эквивалентам, поэтому ученые действительно говорят на разных
языках, вкладывая в одну и ту же форму иное содержание, или используя новый
термин без адекватных средств экспликации.
В.В. Акуленко отмечает, что составители словарей не актуализируют разницу сочетаемости слов в русском языке и их английских соответствий, и это создает серьезные переводческие трудности, которые «не находят достаточного отражения в двуязычных словарях» [7, c. 383]. Решение данной проблемы введением
в словарную статью соответствующих иллюстративных примеров, как отмечалось
выше, не всегда реализуется в полной мере по объективным причинам (ограниченность времени и финансирования и т.п.).
Современные подходы к созданию специализированных словарей и новые
концепции оптимизации терминологических словарей обсуждаются на международных конференциях. В совместном докладе И.С. Кудашева и И.О. Кудашевой,
на конференции «Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии».было высказано предложение о включении в словарную статью научных
определений, позволяющих сопоставить объем понятийного содержания термина
337
в разных языках, что способствует осмыслению концептуального содержания и
актуализации переводимого термина. Актуальность данного предложения обусловлена, в частности, тем, что далеко не все переводчики являются специалистами-предметниками, т.е. не обладают высокой профессиональной компетенцией
научной или технической сферы, что может привести к искажению смысла, аберрации, результатом которой выступает неточный перевод. Научное определение
как компонент словарной статьи позволит переводчику сэкономить время, необходимое на консультацию со специалистом и т.п., и сопоставить словарное определение с контекстуальным. «Это крайне важно, поскольку значение терминов
может варьироваться от одного текста к другому». Трудность в реализации этой
идеи в том, что, как неоднократно отмечалось другими лексикографами, «составление определений является наиболее трудоемкой частью проекта» [216, c. 275].
Данное предложение по оптимизации специализированного словаря представляется весьма значимым и для реализации одной из задач настоящего исследования: разработки модели словаря политического лексикона, предназначение
которого способствовать эффективности межкультурного общения, отражая
научные определения лексемы и ее использование в речевой практике, способствуя актуализации идеологизированного субстрата на разных уровнях.
Другим важным положением вышеупомянутого доклада, полностью разделяемым автором данной работы, выступает требование указывать источник используемого материала и приводимых сведений, что, по мнению ученых, служит
«своего рода «индексом надежности» и индексом свежести» информации, которые подсказывают, где можно «получить дополнительную информацию» об объективируемом концепте; «указание на источник позволяет также определить, является ли переводное соответствие реально использующимся или искусственно
созданным» [216, c. 277].
Следует признать, однако, что в ряде случаев составители специальных словарей считают единственно правильным пересказывать, толковать информацию,
не подкрепляя ее прямыми цитатами. В данном случае создается эффект субъективности, препятствующий реализации параметра достоверности. Стратегия «ре-
338
феративного» изложения определения представляется оправданной в учебном
словаре, целевая аудитория которого не специалисты-профессионалы.
Проанализировав основные научные труды по лексикографии, целесообразно
обратиться к обобщению результатов анализа адекватности межъязыковых соответствий, предлагаемых отечественными словарями. Как показало изучение текста словарных статей, в ряде случаев игнорируется концептуальная асимметрия,
предопределяющая семантическую аберрацию при передаче лексемы на другой
язык, что наиболее актуально для единиц интернационального характера или политической лексики. Данный вывод основан на выявлении погрешностей отдельных русско-английских словарей. Выделялись, главным образом, коммуникативно-значимые отклонения, которые обусловлены, как представляется, спецификой
контактирующих концептуальных систем. «Конфликтная ситуация» возникает,
если англоязычное соответствие искажает, в некоторой мере, концепт российской
лингвокультуры, т.е. концептуальная система родной лингвокультуры вступает в
противоречие с «чужой». Формируемая при этом семантическая аберрация проявляется на денотативном, коннотативном и/или прагматическом уровне, или на
каждом из них, препятствуя эффективности межкультурного общения.
Как отмечено выше, доминантной лнгвокультурой (языком и менталитетом)
выступает первая (родная). Соответственно, при написании научных текстов разного рода, в том числе учебников, отечественные авторы, подчас неосознанно,
объясняют понятийную сущность каких-либо аналогичных, на первый взгляд,
терминов в соответствии с традициями отечественной науки. Такой подход предопределяет концептуальную асимметрию, препятствующую взаимопониманию
ученых на международных конференциях, публикации статей в международных
научных изданиях и т.п. Классическими примерами, иллюстрирующими данный
вывод, являются «псевдо-интернациональные» термины «концепт» и concept,
«номинализация» и nominalization, «культура» и culture и пр.
Обратимся к словарям, так, на первый взгляд единицы культура и culture эквивалентны: «Культура: совокупность материальных и духовных ценностей, со-
339
зданных человеческим обществом; совокупность таких достижений в определенную эпоху какого-либо народа» [БСТСРЯ].
“Culture: the total of the inherited ideas, beliefs, values, and knowledge, which
constitute the shared bases of social action” [Collins].
Следует учитывать, однако, что в бытовом дискурсе наблюдается определенное семантическое выхолащивание понятия в производных некультурно, культурно, означающих (не)воспитанно, что не соответствует понятию culture. Адекватное соответствие представлено номинациями ill-mannered, impolite (“having bad
manners; rude”) [Collins]. Необычное, с точки зрения англоязычного мира, функционирование слова «культурно» в русском языке, способствовало выявлению его
лакунарности и заимствованию, зафиксированному академическим словарем:
“kulturny < Russ kul‟turny (in the Soviet Union) cultured” [OED VIII, с. 544].
Данный пример концептуального и семантического расхождения номинаций
«культура» и culture иллюстрирует проблему «ложных друзей переводчика». Невзирая на множество исследований, издание специализированных словарей, концептуальное несовпадение сходных по форме номинаций достаточно распространено [7; 52; Словарь ЛДП; 373]. Одна из основных причин заключается в доминировании концептуальной системы родной лингвокультуры, в ее влиянии на вербализацию концепта средствами другого языка.
Обобщение направлений развития отечественной лексикографии, в частности достижений в реализации инновационных подходов к составлению словарей,
позволяет сделать вывод о совершенствовании отечественных словарей. Современные лексикографы опираются на апробированный практикой опыт, стремясь
при этом учитывать интересы современного пользователя. Практическим результатом разрабатываемых новых подходов к составлению словарей являются словари нового типа, соединяющие в единое целое функции толковых, энциклопедических и специальных словарей.
340
4.1.2 Зарубежная лексикография
Пересмотр традиционных подходов к словарям разного рода находится в
центре внимания практически всех лексикографических школ: среди ведущих
направлений, разрабатываемых отечественными и зарубежными лексикографами,
находится лингвокультурологическое. Совместному обсуждению и решению
проблем способствует возможность участия в дискуссии – своеобразной международной трибуне лексикографов – в периодическом издании International Journal
of Lexicography. Одним из относительно инновационных принципов выступает
включение в толковые словари, в том числе учебные, имен известных деятелей,
политиков, писателей и пр. Имена собственные (онимы разных типов), традиционно фиксировались только энциклопедиями, современные толковые словари
«позаимствовали» такой подход, отражая интересы современного пользователя.
Другой инновационный принцип представлен культурологической или фоновой
информацией, эксплицитно выражаемой в словарной статье, что также обусловлено коммуникативными интенциями индивида.
Как и отечественные ученые, зарубежные лексикографы уделяют серьезное
внимание проблеме выявления «ложных друзей переводчика» и способов их
адекватной актуализации; данное направление развивается в рамках контактологии, в частности на материале контактов таких языковых систем как «польский –
русский» [498], «польский – английский» [508], «русский – английский» [Словаоь ЛДП] ит.п. Все больше появляется работ, посвященных необходимости
культурологических комментариев, что особенно значимо при толковании инолингвокультурых номинаций. Например, Динх-Хоа Нгуен в статье On Cultural
Dictionaries in Vietnamese, описывая лексикон вьетнамского языка, выделяет политическое воздействие Китая на семантику вьетнамских слов [468]. Ученый не
обосновывает концептуальные закономерности такого воздействия, но они очевидны: политические вьетнамизмы отражают мировоззрение индивида, сформированное под влиянием идеологии, в том числе советской.
341
Получил признание англоязычный культурологический словарь Longman
Dictionary of English Language and Culture, где толкования обозначений разных
типов, в том числе имен собственных, сопровождаются культурологическими
объяснениями [Longman Culture]. Данный подход, сочетающий принципы толкового и лингвокультурологического словаря, аналогичен и разработкам отечественных лексикографов. Культурологический комментарий выступает своего
рода «предвидением» возможной аберрации при межкультурном общении, обусловленной неизбежной концептуальной деривацией русскокультурного феномена в контексте англоязычного мира. В отдельных случаях комментирование российских феноменов вызывает несогласие россиянина, поскольку в нем отражено
западное осмысление отечественного мира, что необходимо учитывать при межкультурном общении, чтобы предотвратить коммуникативный сбой.
Расширение межкультурных контактов, особенно в специализированных
сферах общения, предопределило развитие особых направлений в лексикографии,
исследующих проблемы создания разного рода дву- и полиязычных словарей.
Так, Й. Айдукович проводит исследования в рамках контактной лексикографии и
предлагает следующую модель словарной статьи контактологического словаря
русизмов: 1) описание адаптации фразеологизма на разных уровнях; 2) русская
модель; 3) варианты; 4) описание структурных, парадигматических и концептуальных свойств; 5) семантико-прагматическое описание и иллюстрации [5; 6].
Адаптация лексикографических подходов к современным условиям обеспечивается внедрением достижений лингвистических научных направлений. Так,
когнитивный подход к двуязычному словарю, обоснованный Е. Ривелисом, основан на анализе концептов и формировании связных концептуальных сетей языковых единиц, что позволяет системно отразить лексические соответствия контактирующих лингвокультур. Ученый называет свою модель «двуязычный словарь
для продуктивного понимания» [299]. Данный подход способствует отражению
концептуальной деривации, неизбежной при контакте лингвокультур на лексикосемантическом уровне.
342
Изучение фундаментальных трудов по лексикографии позволяет утверждать,
что традиционный подход к двуязычному словарю в концепциях отечественных и
зарубежных лексикографов практически идентичен: словарь такого типа не включает системное описание культурологической информации. Информация исторического плана, описание традиций, биографические справки и т.п. всегда считались задачей описания энциклопедических изданий.
Как неоднократно отмечалось в настоящем исследовании, расширение коммуникативного пространства, межкультурных контактов влияет на модификацию
разных сфер жизнедеятельности, в том числе и на лексикографию. Эффективное
общение с разнообразными лингвокультурами осуществляется, главным образом,
вербальными средствами, знания которых, однако, недостаточно. Изучение языка
означает познание лингвокультуры, что выдвигает на первый план потребность в
культурологическом описании слова в словаре.
Основная трудность, препятствующая решению указанной задачи, обусловлена ограниченностью объема печатного издания, что в современных условиях
разрешается при помощи информационных технологий, двуязычным словарем
электронного формата [495, с. 275–279].
Развитие межкультурных контактов предопределило и потребность в формировании нового направления «интерлингвальная лексикография» (interlingual
lexicography), разрабатываемого Р.Р.К. Хартманом и его коллегами. «Продуктом»
лексикографии нового типа выступает «интерлингвальный словарь», своего рода
справочное издание, включающее информацию о двух и более языках [434, с. 1],
которое, в идеале, отражает адаптацию английского языка на разных уровнях актуализации инолингвокультурного слова.
Невзирая на выдвижение задач по составлению словарей нового типа, терминологические двуязычные словари все так же остаются в центре внимания. Основными проблемами терминологической лексикографии являются пересмотр
требований к дефиниции термина и способы объективации межъязыковых соответствий. По мнению зарубежных лексикографов, одним из широко распространенных недостатков переводных терминологических словарей является подача
343
вариантов перевода через запятую или точку с запятой безо всяких комментариев
относительно характера и степени соответствия; такая практика является одним
из «смертных грехов переводной лексикографии» [451, с. 2724].
Лексикографы осторожно, точнее, с некоторым предубеждением, относятся
к тем дефинициям, где маркированы коннотации, поскольку ограниченность объема печатного словаря не позволяет предоставить достаточно полную и разностороннюю информацию. Такого рода комментарии действительно имеют смысл в
электронных словарях [495, с. 280].
Значимым фактом качества словарей выступает их регулярное обновление;
так, ежегодно переиздаются с изменениями и дополнениями учебные словари
(словари малого объема). Например, в 1991 г впервые был издан Random House
Webster‟s College Dictionary, последующие издания появились в 1991, 1995 и 1996
году. В 1997 г. было опубликовано обновленное издание с дополнениями, изменениями, учитывающее современное состояние языка, и с тех пор словарь ежегодно публикуется с изменениями (updated annually). В Предисловии к изданию
1999 года сказано следующее: «Мы надеемся, что ежегодное обновленное издание словаря станет самым надежным источником информации о нашем живом и
постоянно меняющемся языке». (We launch the annual updating of Random House
Webster‟s College Dictionary at the dawn of the 21st century in the hope that it will
serve its users as the most reliable, up-to-date guide to information about our vibrant,
ever-evolving language”) [WCD, с. VII].
Данный словарь выполняет не только нормативную функцию, но и интерпретирующую (учебную) миссию, объясняя особенности современного словоупотребления в разделах типа «Как избегать оскорбительного языка» (Avoiding
Insensitive and Offensive Language) и пр. Представлены списки неологизмов, обогатившие словарный состав языка за последние пятьдесят лет [WСD, с. xxi–xxvi].
Языковые контакты в эпоху развивающихся информационных технологий
способствуют появлению различных по форме новообразований, неологизмов,
исследование которых предопределило формирование особого научного направления neology [482], в отечественной лингвистике известного как «неология». За-
344
рубежная лексикография, как и отечественная, разрабатывает подходы к регистрации неологизмов, в частности в приложениях Новых слов к толковым словарям, например, Supplement to the Oxford Dictionary [OЕD Suppl], «Дополнение к
Большому aнгло-русскому словарю» под редакцией И.Р. Гальперина.
Следует отметить, что достоинство зарубежной лексикографической практики в ее динамичности, невзирая на значительные изменения в языке на уровне пополнения словарного состава. В определенной степени реализация стратегии новизны, т.е. своевременная фиксация новых лексем, актуализируется в словарях
новых слов: Dictionary of New Words. Одна из наиболее известных серий включает
издания Барнхарта [Barnhart; Third Barnhart 1990; Barnhart Concordance 1995]. Популярны словари Bloomsbury Neologisms [Bloomsbury 1991], Longman Register of
New Words [LRNW], The Macquarie Dictionary of New Words [Macquarie 1990] и пр.
В лексикографическом издании нового типа – The Barnhart New Words
Concordance (Конкорданс новых слов Барнхарта) – представлена выборка неологизмов, зарегистрированных в разнообразных словарях новых слов, лексикографических обзорах и т.п. По данным словаря, фиксирующим частотность новообразования, можно сделать выводы о значимости неологизма, динамичности развития языковых изменений, что дает возможность для прогностики (вероятность
перехода неологизма в словарный фонд) и отражает языковые контакты того или
иного периода. В предисловии к «Конкордонсу» отмечается, что «прежде чем делать выводы о том, что освещает или не раскрывает та или иная книга, о новизне,
исследователям необходимо ознакомиться с направлением данного издания».
(“Scholars should take note of the policies of each of the sources before drawing conclusions about what has been covered by one book and not by another or what is new –
however that term is defined”) [Barnhart 1995, c. vi].
В ряде случаев, как следует из анализа словарных статей «Конкорданса»,
речь идет скорее о проблеме разграничения полисемии и омонимии. Исследование данного идания позволяет выделить разные подходы составителей словарей к
актуализации нового слова, учитывая уровень его адаптации, в том числе прагматические характеристики. Несовпадение подходов предопределяет формирование
345
вариантов на лексическом уровне или на функционально-стилистическом, которые выявляются при сопоставлении словарных описаний одной и той же лексемы
в разных словарях. Например, Third Barnhart фиксирует единицу Af в значении an
African, маркируя его как пейоративный (derogatory); в словаре Bloomsbury аналогичная по форме номинация Af зарегистрирована как обозначение разновидности наркотика (a variety of marijuana).
Обобщая подходы, разрабатываемые современной отечественной и зарубежной лексикографией, необходимо отметить, что основные принципы, определяющие формат словаря, отбор лексем для словника и их толкование, в целом тождественны. Важным новшеством представляется изменение традиционных типов
словаря, в частности, сочетание разных типов в одном издании, что обусловлено
коммуникативными потребностями. Как следует из вышеизложенного, динамичность развития общества предопределяет и динамичность языковых изменений,
что, в свою очередь, отражается на требованиях, которые современный пользователь предъявляет словарю. Формируя модель словаря нового типа, следует опираться на апробированные практикой подходы и тщательно проанализировать
причины встречающихся в словарях погрешностей, чтобы избежать подобных.
Анализ основных достижений и проблем отечественной и зарубежной лексикографии способствует реализации одной из основных задач настоящего исследования: разработки модели словаря нового типа – интерлингвокультурного, способствующего эффективной межкультурной коммуникации в глобальном коммуникативном пространстве.
4.2. Актуализация российской идентичности в словарях
4.2.1 Идеологизированный субстрат российской действительности в
отечественных словарях
Лексикографические издания представляют собой кодифицирующие источники, отражающие наивную картину мира данного лингвокультурного сообще-
346
ства; фиксируя современные словоформы, историзмы, архаизмы и т.п., они стандартизируют языковую норму, способствуя сохранению национального языка и
обеспечению эффективного общения. В контексте глобального коммуникативного пространства переключение языковых кодов или «смена языкового кода»
(language code shifting) участников, как правило, неизбежна. Одной из значимых
преград взаимопонимания, как отмечено выше, выступает наличие лакун «множественных кодов социума и культуры в языках-коммуникантах» [84, с. 44], выявляемых при языковых контактах. Соответственно, в лингвистических научных
направлениях в качестве важнейших коммуникативных проблем, требующих
незамедлительного решения, выступают поиски способов их преодоления.
На лексическом уровне эта проблема, как правило, рассматривается в контексте заполнения лакуны вербальной формой, которая может носить окказиональный характер, созданной ad hoc в ситуации одного речевого акта. Коммуникативно значимая номинация постепенно ассимилируется в языке, и в результате
адаптации в языковой системе кодифицируется толковым словарем.
Формирование нового обозначения в ситуации межкультурных контактов
обусловлено коммуникативными потребностями социума и обеспечивается адаптивными возможностями языка, регулируемыми «а) внутренними законами, порождаемыми потребностями упорядочения системы языка, и б) различными внеязыковыми, точнее – внеструктурными, факторами социального характера. Если
первые из них действуют на структуру языка непосредственно и целиком в ней
локализуются, то действие вторых осуществляется в той или иной мере через посредство функциональной стороны языка» [2, с. 8].
Чтобы узнать, как актуализируется картина мира российской лингвокультуры, точнее картина ее политического мира в английском языке, необходимо, в
первую очередь, обратиться к словарным и терминологическим источникам.
В толковом словаре, в отличие от словаря новых слов, фиксируются только
те номинации, которые стали частью, компонентом лексико-семантической системы языка. Словари новых слов (неологизмов) включают слова, потенциально
347
близкие к тому, чтобы стать «достоянием системы языка», при востребованности
в коммуникативных актах.
Начальным этапом кодификации фактически является фиксация лексической
единицы в словарях неологизмов, специализированных терминологических словарях, глоссариях энциклопедических и научных изданий или в переводческих
комментариях. В источниках подобного рода, как правило, репрезентированы
культурно-специфические концепты, «национальность» которых актуализируется
при языковом контакте с другой лингвокультурой.
Одним из достижений современной лексикографической практики являются
одноязычные культурологические словари, в которых описаны наиболее культурно-значимые концепты, репрезентируемые словами или словосочетаниями.
Например, в первом выпуске словаря «Русское культурное пространство» описаны исторические, мифологические и пр. концепты русскоязычного культурного
сообщества, иллюстрированные множеством примеров использования, что позволяет сделать вывод о достоверности выбранных единиц. Это первый отечественный лингвокультурологический словарь фиксирующего типа (с текстовыми иллюстрациями), отражающий то, что известно о русской лингвокультуре ее членам. В отличие от «Словаря культурной грамотности» Е.Д. Хирша (Cultural
Literacy) авторы описывают «не то, что «следует знать», а то, что реально «знает»
практически любой социализированный представитель русского (в нашем случае)
национально-лингвокультурного сообщества». Другой важной характеристикой
словаря данного типа выступает то, что в нем не ставятся какие-либо воспитательные цели [РКП, с.9].
Привлечение текстов СМИ и массовой литературы для достижения объективности полностью соответствует убеждениям автора настоящего исследования:
«Эти тексты… отражают реальное состояние дискурса русского национальнолингвокультурного сообщества и представляют собой экстериоризированное воплощение русского языкового и культурного сознания, которые и являются основными объектами нашего изучения и описания» [РКП, с.10].
348
Толковые одноязычные лексикографические издания XXI века отражают
национальное культурное пространство российской лингвокультуры, развитие
языка, варьирование его лексико-семантической системы, предопределенное
лингвокультурными и социальными изменениями.
Следует особо выделить толковые словари русского языка под редакцией
Г.Н. Скляревской «Толковый словарь русского языка конца ХХ века: языковые
изменения конца ХХ столетия» [ТСРЯ ХХ 2000], «Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ столетия» [ТСРЯ ХХ 2001],
специализированные издания В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной «Толковый словарь языка Совдепии» [Совдепия 1998; Совдепия 2005].
Культурологическим подходом к описанию русизмов в английском языке отличается разработанный В.В. Кабакчи «метод опосредованного наблюдения и
экстраполяции»,
представляющий
собой
разновидность
сравнительно-
сопоставительного метода: материалом исследования являются английские аутентичные источники, что позволяет понять, какой видят российскую действительность носители английского языка. Практической реализацией данной концепции
является словарь дескриптивного типа с элементами анализа и иллюстративными
примерами The Dictionary of Russia [Dict.of Russia]. Это издание фактически можно назвать интерлингвокультурным, учитывая парадигму, в которой представлены словарные описания лексемы и его ориентирующую функцию. Русскокультурные концепты описаны через призму английского языка, что позволяет русским читателя увидеть родную культуру глазами стороннего наблюдателя. Словник включает примерно 2500 наиболее употребительных, по мнению автора, ксенонимов-русизмов, отражающих различные сферы русско-английских контактов.
Достоверность и объективность отбора лексем обеспечивается сочетанием анализа кодифицированных источников (словарей, энциклопедий и пр.) и разного рода
произведений, где функционируют ксенонимы-русизмы, что подтверждает их
коммуникативную значимость. Большое количество примеров позволяет также
выявить закономерности создания номинаций русскоязычной культуры в английском языке [DRuss].
349
Попыткой создания двуязычного словаря культурологического типа на материале российской лингвокультуры является «Россия. Русско-английский культурологический словарь», который включает свыше 1200 единиц-реалий, фразеологизмов, крылатых слов и предназначен переводчикам, гидам, преподавателям
русского языка как иностранного [Cultural Guide].
Авторы, несомненно, проделали большую работу, составляя выборку культурологических единиц на основе отечественных словарных и энциклопедических
изданий. Следует отметить, однако, что выбор ряда номинаций носит несколько
произвольный характер и, вопреки утверждениям составителей, не отражает
«наиболее яркие детали и типичные стороны» [Cultural Guide, с. 4]. Так, как показал опрос информантов (студентов высших учебных заведений), ряд зафиксированных единиц им практически не известен; во-вторых, обоснованность выбора
лексем не подтверждена примерами их функционирования в современных изданиях. Именно иллюстративный материал может показать популярность и типичность регистрируемых фраз и единиц и придает словарю характер достоверности.
Принципы выбора тематических групп не совсем понятны, включены религиозные номинации, термины искусства и литературы, национальной кухни, множество топонимов, историзмов и современных номинаций, при этом культурная
значимость практически не раскрыта. Как представляется, словарь подобного типа должен опираться на англоязычные толковые словари, где кодифицированы
русизмы и советизмы, однако, как следует из списка литературы, при составлении
данного двуязычного словаря не были использованы аутентичные английские
словари и книги о России.
Например, политический термин «культ личности» кодифицирован в английском языке словосочетанием personality cult [Longman Culture, с. 1004]. Анализируемый словарь предлагает калькирование, структурно соответствующее этимону
the cult of personality [Cultural Guide, с. 60]. На первом этапе образования инолингвокультурной вторичной номинации структура кальки действительно, как
правило, совпадает с моделью этимона, однако при частотном использовании номинация адаптируется, и ассимилированная форма кодифицируется в словаре.
350
Естественно, возникает вопрос, насколько корректно давать рекомендации
относительно перевода на английский язык культурно-специфических единиц без
учета кодифицированных английским языком русизмов и огромного корпуса текстов англоязычного описания российской культуры, написанных носителями английского языка?
Особую сложность в переводе представляет калькирование, поскольку, как
общеизвестно, калька может совпадать по форме (но не по значению) с имеющимися в языке перевода единицами. В отечественных словарях встречаются такие
досадные примеры, как некорректный перевод номинации «Дальний Восток» на
английский язык словосочетанием Far East. Этот вариант предлагает и современный НБРАС: Дальний Восток – The Far East [НБРАС, с. 101].
Если обратиться к англоязычному словарю, то концептуальное расхождение
русскоязычной единицы и ее предполагаемого коррелята в английском языке очевидно. Номинация Far East соотносится со странами Восточной Азии: Far East:
“the countries of E Asia, usually including China, Japan, North and South Korea, Indonesia, Malaysia, and the Philippines: sometimes extended to include all territories east
of Afghanistan” [Collins].
В современном использовании номинация Far East маркирована как «устаревшая» (an old-fashioned name): Far East: “a rather old-fashioned name for the
countries in Asia which are east of India, such as Japan, China, and Korea – compare
Middle East USAGE. Many people now dislike expressions such as „the East‟, „the Far
East‟, „the Middle East‟, because they are based on the old-fashioned idea that Europe is
the centre of the world” [Longman Culture, с. 467].
Досадным упущением является игнорирование коннотативной информации,
которая, по мнению большинства ученых, входит в семантическую структуру
слова. Именно коннотация, подчеркивает А.Л. Шарандин, «обеспечивает реализацию антропологического подхода к языку, поскольку неучет его особенностей
создает ситуацию остранения, отчуждения языка от его носителей, от человека.
Коннотация же, окрашивая «объективную» сторону отражаемого мира субъек-
351
тивностью, позволяет увидеть коммуникативную и когнитивную значимость объективно-субъективных отношений в семантической структуре слова» [371, c. 54].
Национально специфичные коннотации наиболее ярко выявляются при переводе этнических имен, прозвищ и шуток. Например, прагматический маркер
derogatory представляется более корректным в словарной статье этнонима чукча,
учитывая предполагаемого пользователя словаря и англоязычную традицию политической корректности.
Так, некорректное объяснение в словарной статье словаря «Новый русский
лексикон» иллюстрируется следующим примером: «чукча 1. коренной житель
Чукотки Chukchee. 2. шутливо, простодушный человек Chukchee anecdotes» [Новый лексикон, с. 192].
Представляется необходимым отметить, что объем работы, проведенной авторами данного издания с целью выделения употребительных слов из русскоязычных СМИ, очень впечатляет; однако межъязыковые соответствия и прагматические маркеры в некоторых случаях вызывают возражение. Если человек, не
обладающий достаточными фоновыми знаниями российской лингвокультуры, использует такое шутливое слово в разговоре с представителем этнической группы,
может возникнуть серьезная коммуникативная проблема. Пример подобного типа
иллюстрирует концептуальную асимметрию, выявляемую при языковых контактах, что предопределяет семантическую аберрацию этимона при его передаче
средствами другого языка.
Отсюда следует, что потребности общения требуют включения в словарную
статью лингвокультурологического комментария, чтобы предотвратить коммуникативный сбой. Например, сопоставление с другими феноменами, иллюстративные примеры из разных источников, авторский комментарий. Задача выделения
способов предотвращения семантической аберрации представляется актуальной
для разработки проекта словаря нового типа.
Необходимо особо подчеркнуть, что вышеприведенные критические комментарии ни в коей мере не умаляют значимости указанных словарей: цель поиска
352
«болевых» точек заключается в том, чтобы «найти» их сегодня и избежать последующих ошибок, что улучшит качество словарей.
Значимым фактом является свойственная отечественной лексикографии тенденция проводить четкую грань между лингвистическими и энциклопедическими
словарями при решении вопроса о включении в словарь имен собственных разного рода, личных имен, топонимов и пр. Признание важности культурологической
информации для потребителя способствует составлению словарей на основе новых подходов, что наиболее полно отражено в культурологических словарях.
Суммируя вышесказанное, следует отметить, что отечественная лексикография последних десятилетий отличается инновационными подходами к решению
актуальных проблем кодификации слова: нейтрализуется идеологизированность,
фиксируется культурологическая информация, издаются словари новых типов,
отличающиеся направленностью на потребителя.
Важным достоинством отечественной лексикографии выступает параметр
адресованности, ориентации на пользователя, что проявляется в расширении
культурологического блока в толковых словарях.
4.2.2 Идеологизированный субстрат российской
действительности в англоязычных словарях
Один из наиболее известных подходов к разработке словарей культурологического типа в лингвострановедческой парадигме разработан американским ученым Е.Д. Хиршем. Его концепция модели словаря представлена в монографии
Cultural Literacy. What Every American Needs to Know, фактически одной из первых основополагающих работ данного направления, в глоссарии которого приведены списки номинаций ряда культурных и инолингвокультурных концептов, в
том числе 57 национальных концептов российкой лингвокультуры. Данные обозначения, включенные позднее в словарь Е.Д. Хирша The Dictionary of Cultural
Literacy (Cultural Literacy), по мнению автора должны входить в тезаурус каждого
образованного американца. Это, по сути, нормативный словарь, выполняющий
353
социально-регулятивную функцию, описывая те явления, которые следует знать.
Тематически номинации, отражающие лингвосубстрат российской лингвокультуры, включают следующие группы:
политические деятели: Catherine the Great, Rasputin, Lenin, Joseph Stalin;
культура: Pushkin, Cyrillic, Crime and Punishment, War and Peace;
географические названия: Moscow, Siberia, Soviet Union, Red Square, Russia;
политика: czar, nihilism, pogrom, KGB, dissident, Yalta agreement;
наука: Mendeleev sputnik 2 [Hirsch 1987, р. 152–215].
Как следует из данного списка, зафиксирована, главным образом, политическая лексика, в том числе, и советизмы, часть которых пейоративна.
В специализированных словарях политического лексикона наиболее полно
отражен лексикон советской эпохи – советизмы, что объясняется резким противостоянием идеологических концепций и модификацией политических терминов и
лексикона. Словарь Dictionary of Soviet Terminology, Institutions and Abbreviations ”
[Crowe SovTerms] является одним из наиболее известных изданий периода холодной войны. В предисловии отмечается, что в нем зафиксированы аббревиатуры,
неологизмы, номенклатурные термины и советские обозначения зарубежных
структур. Хронологически словарь отражает период, «начиная с установления
большевистского режима и завершая полетами советских космонавтов»: “The
terms most commonly encountered in Soviet literature, from the early years of the
Bolshevik regime to the recent exploits of Soviet cosmonauts. Some are the accepted
Soviet designations of foreign institutions” [Crowe SovTerms, с. 4].
Лексемы, главным образом, представляют институциональный политический
дискурс, отражающий, в частности, деятельность советского правительства и
«советской Коммунистической партии» (the Soviet Communist Party), именно так
КПСС названа в словаре. В данном
словаре предлагаются межъязыковые
соответствия, но практически не отражена межкультурная специфика, что
несколько ограничивает его функциональность.
Важно
политической
отметить,
что
терминологии
большая
часть
прошлого
лексикографических
столетия
не
ставила
изданий
задачу
354
лингвокультурологического описания. В этой связи выделяется уникальный
трехъязычный фундаментальный труд Idee w Rosji. Ideas in Russia. Lexykon
rosyjsko-polsko-angielski (Идеи в России. Русско-польско-английский лексикон) под
редакцией А. де Лазари: Tom 1 (Warszawa, 1999. 492 p.), Tom 2 (Lódźd, 1999. 477
p.), Tom 3 ( Lódźd, 2000. 499 p.), Tom 4 ( Lódźd, 1999. 672 p.).
Междисциплинарный подход к описанию концептов России способствуют их
системному представлению, как отмечается в предисловии, «в культурном, а не в
территориальном – политическом плане – имеются в виду идеи, которые возникли
в русской культуре, в том числе и в эмиграционной» [Idee 1, с. 6].
Слово «идея» используется во множественном числе, чтобы подчеркнуть
многообразие и разнообразие русской традиции мышления:
The plural “ideas” used in the title expresses the planned openness of the lexicon to
the whole diversity of the Russian tradition of thought, richer than the current stereotype, the comprehension of which sees a single “Russian idea” [Idee 1, с. 7].
Составителями и автора являются историки, искусствоведы, религиоведы,
лингвисты из более 20 городов нескольких стран. Каждый концепт довольно подробно описан на трех языках (польском, английском, русском), т.е. предполагаемая читательская аудитория представляет несколько лингвокультур, что требует
определенной гибкости языка. Адаптивные возможности языковой системы позволяют авторам каждой статьи выразить свои мысли на языках общения: ряд текстов представлен в авторском переводе. В работе также есть переводные тексты,
причем все словарные статьи расположены параллельно, что позволяет сопоставить и проанализировать изложение на разных языках. Издание такого типа отличается не только культурологическим, но интерлингвокультурным подходом,
стратегии подачи инофрмации определяются автором как на основе ситуации
общения, так и, учитывая компетенции читателя, его лингвокультурную идентичность.
По мнению авторов, лингвокультурный концепт БАЛАЛАЙКА идеологизирован: в словарной статье он описывается как один из идеологических символов
России: балалайка – «простонародный инструмент в короткое время стал изве-
355
стен во всем мире как один из символов «русскости». Выделяется идеологизация
культуры: коммунисты «огосударствили» и советизировали как фольклорность
(народность), так и национальность» [Idee 1, с. 76–77].
В третьем томе идеологизированный субстрат «балалайка» сопоставляется с
понятием «русский фашизм», которые объединены как номинации понятий, выражающих «некие идеи или мифологемы, бытующие в русской культуре» [Idee 3].
Своеобразные маркеры, типа «мнение иностранца», позволяют не только
увидеть родную или чужую лингвокультуру со стороны, но и задуматься о значении лексической номинации, что особенно важно для вербальной репрезентации
инолингвокультурного концепта. Например, «государственный академический
оркестр» является привычной (для россиянина) номинацией известных советских
фольклорных оркестров. Перевод на английский язык калькированием без комментария обусловливает неоднозначность: по мнению иностранца, «фольклорный
оркестр не может быть одновременно «государственным» и «академическим»»
[Idee 3].
Следует отметить, что Система перекрестных ссылок на каждый том, фактически гипертекстовый формат, позволяет легко ориентироваться в словаре. Понятийные, образные и оценочные составляющие отдельных концептов в той или
иной степени раскрываются в разных статьях, способствуя системному описанию
феномена.
Лексикографических изданий, посвященных непосредственно России, публикуется относительно немного, но Россия представлена в той или иной мере в
толковых словарях. Наиболее полно российская действительность, включая историческое развитие и современность, описана в энциклопедических специализированных изданиях, как The Cambridge Encyclopedia of Russia and the Former Soviet
Union [CamEnc 1994], The Britannica Guide to Russia [BritGuide 2009] т др.
Разговорный регистр отражен в словаре Russian World War II Dictionary: A
Russian-English Glossary of Special Terms, Expressions, and Soldiers‟ Slang, составленном И. Кобылянским [RusWWII Dict].
356
Практически все политологические и историографические публикации включают глоссарий основных культурологических номинаций, используемых в издании. Толковые словари малого объема, естественно, более мобильно реагируют на
основные политические изменения, так, в издание 2005 года словаря Longman
Dictionary of English Language and Culture введена словарная статья Putin.
Данные словарей являются объективным средством верификации ксенонимической плотности. Например, популярность М.С. Горбачева среди западных
журналистов и американских людей, особенно в период перестройки, объективируется вариантами его личного имени, в том числе производных от имени собственного, которые зафиксированы в словарях новых слов: Gorbachev, М.; Gorby,
Gorbachevian, Gorbachevism, Gorbachevite, Gorbymaniac, Gorbymaniacal, Gorbasm,
Gorby fever; Gorby/ Gorbamania; Gorbylock [Concordance, c. 280].
Следует подчеркнуть, что большинство номинаций актуализирует положительную оценочную составляющую. Сокращение имени личного – Gorby – в английском языке выступает одним из признаков популярности политического деятеля, способствует неформальности тона (и не означает фамильярности). В русском языке сокращения имен политических деятелей не приняты и воспринимаются нередко пейоративно. Для западной риторики такой стиль обозначения политика традиционен, что выступает маркером популярности политика.
Ряд специализированных справочных изданий на английском и русском
языка включает публикации эмигрантов: мир русской инолингвокультуры (ино –
относительно английского языка) описывают русские философы, социологи,
интеллигенция, которые были вынуждены уехать из Советского Союза по тем или
иным причинам.
Известны, например, исследования И. Земцова, философа и социолога,
эмигрировавшего в 1973 году; члена американской Академии политических и
социальных наук (American Academy of Political and Social Science). Его работы
отличает критический подход к советской идеологии, порой резкий, что не всегда
приветствуется даже и западными учеными, которые считают это проявлением
излишней субъективности. В 1984 году был опубликован словарь Lexicon of Soviet
357
Political Terms: Manipulation of a Language, включающий 150 советизмов
[Manipulation]. Описывая понятие «советский политический язык», И. Земцов
выделяет два основных компонента: фикции, «которые коммунистическая
философия провозглашает реальностью», и реалии, которые представлены «в
виде фикций. Отсюда два различных (но не противоположных) пласта в языке.
Во-первых, слова-явления, опирающиеся на реальные факты советской
действительности (встречный план, колхоз, очковтирательство, анонимка).
Во-вторых, слова-фикции, передающие понятия, лишенные социального
смысла: авангард, дружба народов, горизонты, идейность» [ЗемцовПолит, с. 7].
Объяснение концептов отражает авторское восприятие действительности, его
индивидуальную концептуальную систему; иллюстративные примеры включают
фрагменты из прессы, политических текстов и пр. И. Земцов выделяет следующие
идеологические концепты: антикоммунизм, инакомыслящие, космополитизм;
ценностные: борьба, героизм; новообразования советской национально-языковой
политики: прописка, советский народ, спецшколы и т.п. [ЗемцовПолит].
В «Энциклопедии советской жизни» (Encyclopedia of Soviet Life), созданной
на основе «Лексикона», зафиксировано порядка 240 единиц [EncSoviet].
Советский политический язык описывается как своего рода «новояз», особый
идеологически обусловленный лексикон.
Новое поколение эмигрантов продолжает эту тему на основе нового
материала. В 1991 г. была опубликована работа И. Кортен «Лексикон советского
общества и культуры. Описание отдельных русизмов, идиом и выражений постсталинской эпохи 1953–1991», где представлены русизмы, в том числе и
советизмы, функционирующие в речи россиян, американцев, изучающих русский
язык, в прессе. Автор преподает русский язык в американском университете и
словарь предназначен для студентов, поэтому основном критерием отбора лексем
выступала их коммуникативная вострбованность [VocSoviet]. Большинство
зафиксированных в словаре единиц характеризуется идеологизированностью
(бдительность, гигантомания, культ личности, номенклатура, и пр.).
Например,
концепт
ДИССИДЕНТ
репрезентирован
номинацией
358
инакомыслящий, отсутствие свободы слова метафорой джаз КГБ (jamming of
broadcast); концепт НАРКОМАНИЯ актуализируется номинациями колесо, план,
лайва, ширяться (koleso, plan, laiva, shiryat‟sya).
Сложность перевода номинаций ряда концептов российской лингвокультуры,
с которыми столкнулась И. Кортен, подтверждается материалом настоящего
исследования. Англоязычные толковые словари малого объема фиксируют
отдельные номинации, создавая впечатление их доступности читателю в
англоязычном социуме; однако, как показывает анализ корпуса примеров, в
абсолютном большинстве случаев они функционируют как номинативный
комплекс,
с
различными
способами
экспликации,
семантизация
может
актуализироваться и в широком контексте. Авторы-билингвы вынуждены вводить
практическую транскрипцию для передачи этимона и средства семантизации;
аналоги используются реже, т.к. предопределяют семантическую аберрацию.
Концепт КРИМИНАЛ представлен как «русская мафия» – семья: semia:
1. family; 2.sl.since the mid 1980s denoting a gang of Mafiosi, often but not
always connected by family ties. Their behavior and code of honor resemble those of
the Western mafia [VocSoviet, с. 128].
Ряд номинаций, репрезентирующих концепты российской действительности,
зафиксирован словарями: glasnost (1985), gulag GULAG (1974), Kremlinologist also
Sovietologist (1960), Kremlinology (1958), perestroika (1986) [Third Barnhart].
Лексические единицы, коммуникативная потребность в которых низкая, в
толковые словари не включаются. Например, лексема droog – slang, a member of a
lawless gang; A. Burgess. A Clockwork Orange (Заводной апельсин) употребляется в
сленге и кодифицирована соответствующим словарем: droog: a young ruffian: an
accomplice of a gang leader. An adaptation of Russian drug friend, introduced by
Anthony Burgess in A Clockwork Orange [Modern Slang, с. 62].
Инновационным подходом, как было отмечено выше, отличается словарь новых слов, реализующий принцип конкорданса The Barnhart New-Words Concordance, в котором представлена выборка основных русизмов и советизмов. В частности, зафиксированы номинации, кодифицированные учебными и культурологи-
359
ческими словарями: cosmonaut, glasnost, Kalashnikov; академическими словарями:
agitprop, refusenik; а также неологизмы определенного исторического периода:
cosmodog, cosmograd, cosmonautical, beriozka, pre-perestroikian, glasnostalgia и пр.
Суммируя вышесказанное, необходимо отметить, что англоязычные толковые и специальные словари объективируют как политические термины, так и обозначения сферы искусства, отражающие российскую действительность. Наибольшее внимание уделялось и продолжает уделяться политической сфере, где выявляются расхождения политических интересов западного мира и российского. Западные ученые выявляют идеологизированный субстрат российской действительности не только в политической терминологии, где он очевиден, но и в культуре и
пр. Понимание того, как нас воспринимают со стороны крайне важно для отечественной лексикографии: зная возможные «концептуальные столкновения», предопределяющие аберрацию, составитель словаря в комментарии, иллюстративных
примерах разрешает неоднозначность, способствуя эффективности общения.
В словаре, отражающем восприятие действительности, фиксируруется знание, результат осмысления реальности и истории индивидом. В лексикографических изданиях адаптация английского языка в функции номинации инолингвокультурного субстрата проявляется на разных уровнях, что фиксируется в дефинициях, в формировании лексических вариантов и развитии семантической вариативности, обусловленной концептуальной деривацией.
4.3. Кодификация вторичной инолингвокультурной номинации
в англоязычных словарях
4.3.1 Классификация кодифицированных ксенонимов
В лингвокультурном пространстве английского языка, где пересекаются различные лингво-культурные сообщества, реализация коммуникативных потребностей предопределяет адаптацию языка общения, отражающего изменение социально-исторического контекста. Соответственно, в речевой деятельности индиви-
360
да появляются новообразования, как первичные, так и вторичные лингвокультурные номинации. Единицы, объективирующие новый феномен, могут исчезнуть
так же быстро, как и появились, но могут и остаться в терминологическом аппарате соответствующего дискурса, что обусловлено коммуникативной потребностью социума.
Задачами данного параграфа выступают выделение кодифицированных ксенонимов и выявление предпосылок семантического и лексического варьирования.
Ксенонимы, формируемые в процессе языковых контактов, как отмечено ранее, отличаются когнитивно-информационной природой, отражая опыт осмысления информации индивидом «из другого мира». Ксенонимы объективируются индивидом в результате интерпретирующего акта осмысления информации на когнитивно-вербальном уровне, что, как подчеркивает М.Н. Володина, «делает возможной передачу информации от одного носителя к другому, сохранение ее во
времени и пространстве» [88, с. 292]. В данном утверждении, по сути, речь идет
об актуализации слова в словаре, поскольку именно словарь выступает основным
средством верификации высшего уровня адаптации лексической единицы, сохраняя ее как источник информации, способствуея тем самым ее передаче другому
человеку. В настоящем исследовании словарь рассматривается не только как
средство накопления ксенонимов, но и источник выявления концептуальной деривации, отражаемой в слове и определяемой при анализе дефиниции.
Первым этапом кодификации номинации в английском языке является ее
фиксация в глоссариях специальной литературы, энциклопедических изданиях,
словарях новых слов; только наиболее значимые закрепляются в лексикосемантической системе, при этом адаптивность языка предопределяет вариативность статуса лексемы вследствие изменения коммуникативной ситуации.
При анализе дефиниций в словарях было выявлены номинации, этимологически восходящие русскому языку разных периодов, т.е. советизмы и русизмы. В
англоязычном толковом словаре объективированы основные политические термины, отражающие российскую действительность советского и предшествующих
периодов, включая и постсоветский этап. Представлены политические и фило-
361
софские термины, номинации феноменов социальной, экономической и культурной сфер, каждая из которых в той или иной степени способствует сохранению
диктатуры власти или формированию новой власти. Толковый словарь «принимает» инолингвокультурные номинации при соответствии определенным условиям,
о которых речь пойдет ниже. Для определения статуса единицы номинации в системе языка необходимо учитывать следующее:
Во-первых, значимость словаря (академический толковый, учебный толковый, терминологический и т.п.); каждому типу соответствует определенный объем и принципы отбора лексем для словника.
Во-вторых, речевую практику, т.е. анализ словарных данных в сопоставлении
с изучением функционирования слова, принимая во внимание временной период,
поскольку востребованность ксенонима меняется в зависимости от коммуникативных потребностей социума, индивида, языковой ситуации и пр.
«Словари новых слов», как отмечено ранее, отражают актуализацию политических, социальных, экономических и пр. явлений в языке в виде неологизмов,
при этом они не являются нормативными или стандартизирующими. Изучение
неологизмов дает представление о жизни англоязычного социума в указанный период, однако шанс на кодификацию в толковом словаре получают только такие
единицы, которые востребованы в практике широкого использования.
Под кодификацией (codification) понимается стандартизация, фиксирование
слова в словаре или учебниках (grammar books) [Sociolinguistics, с. 208]. Лингвистическая кодификация, т.е. эксплицитное «признание нормативности языкового
явления или факта» основана «на наличии, по крайней мере, трех признаков: на
соответствии данного явления структуре языка; на факте массовой и регулярной
воспроизводимости данного явления в процессе коммуникации; на общественном
одобрении и признании этого явления нормативным» [ССТ, с. 89].
Инолингвокультурный континуум английского языка формируется благодаря
механизму языковой адаптации, обусловленной концептуальной деривацией,
неизбежной при контакте лингвокультур, что отражается на семантическом
уровне. Неравномерность объективации инолингвокультурных феноменов в про-
362
странстве английского языка объясняется историей взаимодействия государств,
интересом к инолингвокультуре, ее литературе, искусству и пр., а также политической реальностью. Количество ксенонимов и их тематическая характеристика
позволяют сделать выводы о степени контактов.
Российская лингвокультура представлена в английском языке главным образом, политической сферой [514; 385; 387; 388], причем кодифицированы наиболее
полно номинации советского периода, включая переходный период перестройки.
Лексикографическую кодификацию не следует трактовать однозначно: зафиксированная в определенный период лексическая единица под влиянием изменившихся социальных условий оказывается практически не востребованной, при
этом сохраняют данную лексему только академические словари. В академических
словарях дефиниции иллюстрируются примерами в хронологической последовательности, что способствует выявлению актуальности слова в соответствующем
социально-историческом контексте.
Академические издания представлены Random House Unabridged Dictionary,
1993 [Random], 2-м изданием Oxford English Dictionary, 1989 (616 000 единиц)
[OED], онлайновой версией 3-его издания [OED-3 Draft]; следует отметить и приложения к первому изданию Supplement to the Oxford Dictionary 1976, 1982 [OED
Suppl].
Для
определения
статуса
номинации
в
современной
лексико-
семантической системе английского языка исследованы дефиниции кодифицированных русизмов и советизмов в культурологических и толковых учебных словарях, достаточно мобильно отражающих изменения в языковой системе. Использованы The Random House Webster‟s College Dictionary издательства Random House,
ежегодно переиздаваемый с изменениями и дополнениями [WСD]; толковый
культурологический словарь Longman Dictionary of the English Language and
Culture [Longman Culture], описывающий лингвокультурную, а также инолингвокультурную специфику многих единиц. Значимость словаря Macmillan English
Dictionary for Advanced Learners [МED] в том, что в словарных статьях маркирована частотность, основанная на данных корпусной лингвистики, онлайновая
версия словаря постоянно обновляется.
363
Основные энциклопедические издания включают The New Encyclopаedia Britannica [EncBritannica], Encyclopedia of Russian History [EncRuss], Cultural Atlas of
Russia and the Former Soviet Union [Atlas] и т.п., терминологические словари:
Concise Dictionary of Soviet Terminology… [Crowe SovTerms], Encyclopedia of
Marxism: Glossary of Terms [EncMarxism] и др.
Изменение политических условий в ряде случаев отражается на кодифицированной калькированной номинации, что предопределяет концептуальную вариативность и, соответственно, способствует развитию семантической аберрации.
Для предотвращения неоднозначности вводится новое инолингвокультурное обозначение. Например, калькированные ксенонимы White Russia и White Russian,
корреляты этимонов Белоруссия и белорус, освоились в английском языке и
успешно функционировали вплоть до 1917 года: “А sense of monstrously primeval
life … Cherkesses, Kalmuks, White Russians” [Miss Amerikanka, с. 109].
Разделение российской армии на «красных» и «белых» предопределило развитие семантической структуры англоязычного ксенонима White Russian и, как
следствие, семантической неоднозначности, обусловленной корреляцией с этимоном «белый» (белогвардеец, сторонник царской России). Концепт БЕЛОГВАРДЕЕЦ репрезентирован в английском языке номинацией White Russian, первое
значение которого «этноним белорус» препятствовало адаптации нового значения.
Разрешение неоднозначности потребовало введение топонима, причем англоязычные словари отражают варианты советского и постсоветского обозначения:
“Buelorussia, a former name of Belarus, also Byelorussia” [WCD, с.123].
Интересно отметить, что в отдельных случаях устаревшая номинация (калькирование White Russia) используется в глобальном английском и сегодня: на выставке Экспо-2000 в Германии, название «Белоруссия» передавалось именно
калькированием White Russia. Данный факт говорит о том, что адаптированная в
языке единица не исчезает мгновенно, даже и при стандартизации нового обозначения, сменившего потерявшее актуальность устаревшее.
В корпусе примеров встречается и номинация White Russians, актуализирующая содержание внутренней формы обозначения жителей страны, как в следую-
364
щем примере: “Belorussians are literally “White Russians” in English translation”
[Under Perestroika, с. 188].
Как следует из словарных определений и приведенных в предыдущих главах
разнообразных примеров функционирования инолингвокультурных номинаций,
частотность использования их в различных социально-исторических контекстах
способствует адаптации в системе и кодификации в словаре.
Необходимо подчеркнуть, что исследование лексико-семантической адаптации в словаре в когнитивно-дискурсивной парадигме предопределяет и необходимость определенного концептуального анализа, что обосновано следующим.
Адаптация языка для реализации функции инолингвокультурной идентичности,
как было выявлено ранее при описании когнитивных аспектов формирования
инолингвокультурного слова, основана на концептуальной деривации. Инолингвокультурный концепт переосмысливается в «чужой» концептуальной системе,
что «скрыто» за репрезентируемым его словом, однако выявляется при анализе
словарной дефиниции.
Следует подчеркнуть, что традиционный подход отечественной лексикографии (который постепенно пересматривается) проводил четкую грань между лингвистическими и энциклопедическими словарями, только последние фиксировали
имена собственные, топонимы и пр. Признание важности культурологической
информации для потребителя предопределило введение такого рода данных в
толковые словари, изданные в США, а позднее и в Великобритании.
Метод сплошной словарной выборки позволил выделить кодифицированные
(словарные) номинации и внести их в электронную базу данных, способствующую статистическому анализу номинации, что выступает показателем функционирования в коммуникативной практике.
Таким образом, под кодифицированными русизмами и советизмами понимаются словарные единицы (зафиксированные в словарях) и востребованные, т.е.
регулярно воспроизводимые в речевой деятельности (в дискурсе). Принимая во
внимание
тип
кодифицирующего
словаря
(академический/среднего
объе-
ма/учебный; терминологический глоссарий энциклопедических и справочных из-
365
даний) и адаптацию слова в языке (развитие семантической структуры, концептуальная деривация) представляется логичным классифицировать исследуемые номинации следующим образом:
1) универсалии – единицы, зарегистрированные практически во всех толковых словарях, этимологически восходящие к русскому языку (по данным академических словарей), функционирующие в английском языке в качестве средства
номинации феноменов англоязычного социума или других лингвокультур;
2) прецедентные – номинации инолингвокультуры, зафиксированные учебными словарями или словарями малого объема, которые регулярно используются
в разных социально-исторических контекстах, при этом практически без использования средств экспликации, что говорит об их доступности читателю;
3) специальные ксенонимы включают номинации, которые зарегистрированы
в толковых словарях, практически не функционируют в массовом политическом
дискурсе, но используются в политологической, историографической и пр. литературе. К специализированным ксенонимам относятся единицы, зафиксированные
в терминологических словарях, глоссариях академических изданий. Граница
между специальными и специализированными ксенонимами крайне подвижна,
что предопределило их объединение в одну группе, каждая номинация данной
группы требует экспликации.
4.3.1.2 Политические универсалии
Общеизвестно, что адаптируясь в принимающем языке, инолингвокультурная лексическая номинация подвергается определенным модификациям в новом
семантическом и концептуальном пространстве. Как было рассмотрено выше,
первичная лингвокультурная вербальная номинация формируется в результате
конструирования концепта как его репрезентант, в то время как вторичная инолингвокультурная номинация сначала «осваивается» в новой языковой картине
мира, что предопределяет ее переосмысление в контексте концептосферы принимающей лингвокультуры и реконструирование нового концепта. Такое пере-
366
осмысление способствует развитию концептуальной структуры, изменению ценочности и пр., что, в свою очередь, объективируется в изменении семантической
структуры (развитие полисемии, коннотативное варьирование).
В ряде случае «освоение» нового концептуального и языкового пространства
приводит к «отрыву от корней»: этимологическая связь с этимоном русской лингвокультуры подтверждается только данными академических словарей. Адаптация
такого типа является показателем коммуникативной значимости данного слова,
которое актуализируется в разнообразных дискурсивных контекстах как универсальная лингвокультурная номинация.
Высказанное положение представляется логичным, поскольку в корпусе выделенных универсалий представлены не только семантические кальки, как можно
предположить, учитывая, что интернациональность их формы не маркирована
инолингвокультурно (cadre, monolith, Thaw), но также и лексические кальки
(personality cult), заимствования (Bolshevik, politburo, troika), описательные оборот
(fellow traveller). Ассимиляция перечисленных номинаций потребовала времени и
соответствующих условий функционирования, определяемых востребованность в
социально-историческом контексте; т.е. уровень адаптации определяется, главным
образом, коммуникативной значимостью.
Универсальность названных ксенонимов, в частности, их «выход» за пределы
русской инолингвокультуры в семантическом пространстве английского языка
определяется, главным образом, кодифицированными словозначениями, актуализирующими универсальные концепты. Как отмечено выше, корреляция с русскокультурным этимоном данных единиц подтверждается академическими словарями или одним из словозначений в словарной статье учебного или культурологического словаря. Все перечисленные номинации зафиксированы культурологическим словарем Longman Dictionary of English Language and Culture, который регистрирует наиболее коммуникативно значимые номинации, на основе частотности
их использования в газетах, медиатекстах и литературе по данным Корпуса английского языка.
367
Корреляцию асимилированных ксенонимов с соответствующими политическими этимонами можно легко установить, обратившись к академическим словарям английского языка, поскольку словари малого объема, как правило, этимологию не отражают. Например, 1. “monolith {after Russian monolith; monolitnost –
monolithic unity of the party} а person or thing resembling a monolith esp., a political
or social structure presenting an indivisible or unbroken unity” [OЕD Suppl II, с. 1018];
2. “Thaw/thaw <Russ ottepel pol., a relaxation of control; a lessening of hostility,
etc., spec. that which occurred in the U.S.S.R. after the death of Stalin in 1953” [OED].
В словарной статье культурологического словаря политизированное значение
кодицифировано вторым: “thaw: 2 an improvement in relations after a period of unfriendliness, especially between countries” [Longman Culture, с. 1396].
В толковании номинации cadre нет прямого указания типа after Russian («от
русского слова»), но поскольку коммунизм в тот период связывали в первую очередь именно с нашей страной, уточнение esp. in Communist countries позволяет соотнести данный термин с политическим этимоном «кадры»:
“cadre: esp. in Communist countries a group of workers, etc., etc., acting to promote interests of the Communist Party. 1930; 2. a member of such a group also a
member of such a group, 1930” [OED II, с. 762];
“cadre: an inner group of highly trained and active people in a political party or
military force, a member of such a group” [Longman Culture, с. 172].
В современном общении данные номинации используются, главным образом
как универсалии в разнообразных дискурсах:
1. “The renewal of cadres that initially embraced the top ranks of the ministry has
also begun at the regional level” [http://www.pipss.org/document331.html]
3. “A similar invitation thawed Jimmy Carter in 1979” [BBC Dict, с. 1170].
Идеологический и функциональный дуализм наиболее ярко проявляется в
номинации czar, одном из первых заимствований (ХVI век). Первое словарное
значение определяет слово как универсалию, второе является русскокультурным,
на основе которого формируются другие значения, в том числе и метафориче-
368
ское. Вариативность графической кодификации обусловлена буквой «ц», не
имеющей однозначных графических соответствий в латинице:
“czar also, tsar or tzar 1 an emperor or king; 2 (often cap.) the former emperors
of Russia; 3 an autocratic ruler or leader; 4 any person excercising great authority or
power: a czar of industry [1545–55; <Russ tsar‟, <ORuss tsĭsarĭ, emperor, king akin to
<Old Ch.Slav. tsěsarĭ < Gothic kaisar emperor (< Greek or Latin)” [WCD, с. 333].
В американском английском форма czar предпочтительнее, особенно в разговорном регистре «тот, кто обладает властью» (one in authority) или при генерализации «тиран» (any tyrant). В славистике (Slavic studies) чаще используется tsar,
особенно при описании России.
Данное слово широко используется в разных контекстах, в том числе и в тех,
в которых идеологизированный субстрат российской лингвокультуры не актуализируется: 1. “Captains of industry are sometimes called czars; the baseball commissioner is a “baseball czar”; and the head of the Drug Enforcement Agency is the „drug
czar‟” [Its Own Words, с. 208]; \2. “Sir Alan Steer, the government‟s behaviour tsar,
paid a school visit during a mission to assess the behaviour in our schools” [GW April
28, 2009, с. 5].
Частотность использования в английском языке некоторых заимствований из
русского политического лексикона способствовала их адаптации и концептуальному переосмыслению, что подтверждается развитием семантической структуры,
новыми словозначениями. Один из основополагающих терминов советского политического дискурса Bolshevik первоначально возник в английском языке как
коррелят термина «большевик» в начале ХХ века. Словарное толкование не актуализирует пейоративность, однако иллюстративные примеры в словарной статье
маркируют негативную оценочность (cliques of Bolsheviks, inspired by a destructive
hatred of civilization), что является показателем коннотативного варьирования:
“Bolshevik a member of that part of the Russian Social-Democratic Party which
took Lenin‟s side in the split that followed the end Congress of the party in 1903, seized
in the October Revolution of 1917 and was subsequently renamed the (Russian) Com-
369
munist Party. 1926 Day Thoughts. The cliques of literary Bolsheviks, who seem to be
inspired by a destructive hatred of civilization” [OED II, с. 369].
Восприятие политических событий в России через призму англоязычной
концептосферы способствовало формированию новых ассоциативных связей,
концептуальной деривации, главным образом, оценочности. Так, концепт БОЛЬШЕВИК
в английской языковой картине представлен рядом номинаций:
Bolshevik, Communist, Red и др. Аналогично вербализуется в английском языке
концепт КОММУНИСТ: Communist, Bolshevik. Данные номинации характеризуются пейоративностью, частотность их использования способствовала развитию
полисемии: второе словозначение не маркировано как субстрат российской лингвокультуры и является универсалией с четко выраженной пейоративной аксиологичностью (an insulting word): “Bolshevik 1 a member of the political party led by
Lenin, which took power in Russia in the Russian Revolution of 1917 and later became
the Communist Party; 2 an insulting word for a Communist or anyone with strong-left
wing opinions” [Longman Culture, с. 133].
Следует учитывать, что Communist Party и the Soviet Union в стереотипах
«холодной войны» негативны: “Most people in the US and the UK think of communism in relation to the former Soviet Union and China [Longman Culture, с. 256].
Негативная окраска подобных номинаций «пропитывает», как правило, весь
контекст, большевизм представлен скорее как разрушительная, чем созидательная
сила. Высокий уровень адаптивности термина Bolshevik подтверждается его словообразовательными возможностями: образованием сокращенной номинации
bolshy/bolshie, которая не отличается идеологизированным субстратом, но сохранила негативную окраску термина Bolshevik: “bolshy, bolshie BrE infml derog
unhelpful or unwilling and tending to argue” [Longman Culture, с. 133].
В функции универсалий используются также политические номинации
apparatchik, intelligentsia, troika, Politburo, что подтверждает словарь.
Слово «интеллигенция» в 1920–30-е годы приобрело негативную окраску
(представители царской России); в англоязычном словаре кодифицировано заим-
370
ствование intelligentisia, обозначающее понятие «группа, культурная элита и пр.»
нейтральной оценочности, в отличие от пейоративного этимона:
“intelligentisia n.pl. intellectuals considered as a group or class, esp. as a cultural,
social, or political elite [1905 –10; < Russ < L. intelligentsia]” [WCD, с. 685].
Глоссарии, как правило, не выделяют русское происхождение слова, что говорит о его адаптации в языковой системе; выявляется генерализация:
“intelligentsia: intellectuals constituting the cultural, academic, social, and political elite” [S.U.].
Концептуальная деривация заимствования в английском языку способствовала актуализации негативной оценочности в контексте описания российской
действительности (но не в словаре), предопределенной необходимостью передать
коннотации этимона. Пейоративность актуализировалась, главным образом, в послевеволюционный период, поскольку интеллигентность ассоциировалась с царской Россией, где интеллигентами, образованными, были только богатые:
“Following the Bolshevik seizure of power, intelligentsia became a derogatory
word, and in the 1920s and early 1930s, the intelligentsia was discriminated against.
Since Stalin‟s cultural revolution, hence, the status of intelligentsia has grown considerably. The intelligentsia is now viewed officially as a stratum rather than a class of society [RussEnc, с. 173–174].
Изменение концепта ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ обусловлено тем, что негативные
коннотации революционного периода постепенно модифицировались, формировалась новая социальная прослойка – «советская интеллигенция»:
«С ростом советской интеллигенции, вышедшей из рабочих и крестьян, постепенно изменяется и экспрессия слов интеллигент, интеллигенция; расширяются границы сочетаемости этих слов. Стало возможным (примерно с конца 1930-х
гг.) соединить слово «интеллигенция» с такими прилагательными, как советский,
народный, трудовой [Совдепия, с. 231].
На английский язык данные словосочетания передавались калькированием,
как правило, выделенным кавычками, маркируя «инолингвокультурную принадлежность» номинации:
371
1. “Delegations of kolkhoz chairmen, trade unionists, komsomoltsy, scientists, and
certified members of the “artistic intelligentsia”… [History, c. 260].
2. “…the area of conditional freedom opened up for the „creative intelligentsia‟ by
Khrushchev” [CamEnc 1994, c. 376].
Использование кавычек в историографии, как отмечено выше, не стандартизируется, соответственно, целесообразность введения кавычек определяет автор:
1. “...Gorbachev appeals to the creative intelligentsia in his struggle against entrenched bureaucracy” [Moscow Spring, c. 111].
2. “The other social groups favored under “developed socialism” were the military
and the technical intelligentsia, the latter only so long as its political loyalty was absolute and actively demonstrated” [Atlas, c. 179].
В контексте описания сталинского периода выявляется и концептуальное
«сближение» терминов intelligentsia и apparatchiki, невзирая на то, что представители данных групп, как саркастически отмечает западный историк, were hardly intellectuals: “Stalin called this group (of apparatchiki) a stratum and bestowed on it the
Old-Regime term “intelligentsia” – though its members were hardly intellectuals” [Under Western Eyes, с. 310].
Кодификация политического термина politburo в культурологическом словаре подтверждает его коммуникативную значимость в разных контекстах, но не
выделяет русское происхождение: “politburo: the chief decision-making committee
of a Communist party or Communist government” [Longman Culture 1998, с. 1035].
Универсальность данного политического термина актуализируется в различных речевых ситуациях в прессе, в историографии и пр.
“A member of Việt Nam‟s Politburo” [VNN Jan. 16, 2006, с. 3];
“…thousands of angry Han Chinese gathered chanting for the local party boss to
resign. The boss in question was a Politburo strongman…” [ChD July 18, 2011, с. 3].
Адаптация заимствования apparatchik отличается прагматической вариативностью, игнорирование которой предопределяет коммуникативный сбой в научном межкультурном дискурсе, при общении политологов. В контексте описания
российской действительности на английском языке ксеноним apparatchik функ-
372
ционирует как в разговорном стиле, так и в официальном. Регистр использования
этимона «аппаратчик» в российском политическом дискурсе ограничен разговорным стилем. В русском языке номенклатурный термин «аппаратчик», в первую
очередь означает «рабочий, обслуживающий какое-либо техническое устройство,
аппарат». Идеологизированность данное слово актуализирует, как правило, только в разговорном регистре, поскольку специалисты (политологи, историки) не
считают его политическим термином в отличие от термина «номенклатура». Частотность использования этимона в политизированном значении способствовала
развитию и кодификации полисемии: второе словозначение (разг.) означает «работник партийного аппарата». Соответственно, в русском языке разговорное слово «аппаратчик» выступает функционально-стилистическим синонимом официального термина «номенклатура». В английском языке ксеноним apparatchik объективирует только политическое значение, т.е. в данном случае этимон отличается от коррелирующего с ним ксенонима вариативностью семантической структуры: “apparatchik pl. ~chiks/~chiki 1. a member of the Apparat” [OED I, с. 561].
Популярности ксенонима apparatchik в западном политическом дискурсе
способствовала пейоративность номинации, обусловленная негативным восприятием советской политики в послевоенный период и суффиксом славянского происхождения – chik [WСD, с. 159].
Коммуникативная востребованность данной номинации способствовала
дальнейшей адаптации ксенонима, который все чаще использовали для обозначения политических деятелей других стран. Словарь кодифицирует новые словозначения: генерализация (2) и метафорическое (3), что позволяет говорить о
«политической универсальности» номинации: “apparatchik pl. ~chiks/~chiki 2. a
Communist agent or spy. 3. Transf. A member of a political party in any country, who
is responsible for the execution of policy; a functionary of a public or private organization” [OED I, с. 561].
“apparatchik An official working for a government, esp. when considered too
ready to obey orders” [Longman Culture, с. 48]:
373
«Выход» за пределы российской действительности вышеперечисленных терминов подтверждается примерами функционирования в прессе (примеры 1–4) и в
других источниках, например, историографии (пример 5):
1. “At the hotel a senior party apparatchik was meeting with each delegate or delegation separately” [ LRB 2012, № 2, с. 34].
2. “A young apparatchik told us that under Blair the British people always came
first” [GW June 29, 2007, с. 11];
3. “At the same time, too many Chinese apparatchiks remain hidebound and defensive about foreign „meddling‟” [Nweek Dec. 25, 2006, c. 54];
4. “ S. Wender‟s still fighting Stasi apparatchiks” [Nweek Dec. 10, 2001];
5. “Social stratification remained; and workers promoted to be managers and apparatchiki became a governing group, or a “new class” [Under Western Eyes, с. 310].
В корпусе примеров выделены случае использования политического лексикона для создания прагматических эффектов посредством игры слов, аллюзии,
что способствует актуализации пейоративности. Например, заголовок газетной
статьи Party apparatchicks воспринимается как «партийные функционеры», однако слово Party в данном контексте означает «вечеринка» или, в современном лексиконе, тусовка. Номинация apparatchicks соотносится не с партийными «аппаратчиками», а с тусовщицами, т.е. «молодые женщины при аппарате», модель номинации apparatchick = apparat +chick (сленг – «девушка»):
“Party apparatchicks: The blondes who share the high life with Moscow‟s flashy
elite of billionaires and bankers differ from our own It girls in one respect – they love a
good feed” [Observer June 13, 2004].
Концептуальная и, соответственно, лексико-семантическая адаптация отличает также ксеноним troika, что, во-первых, обусловлено концептуальным варьированием этимона в исходной лингвокультуре, перенесенным в контактирующий
язык: «тройка 1. ист., Внесудебная структура: три руководителя области, города
или района (1-й секретарь ВКП(б), военком и начальник НКВД), обладавшая правами военного трибунала. 1930–50-е» [Жаргон, c. 292].
374
Во-вторых, выявляется его востребованность в политическом дискурсе в новых социально-исторических контекстах. Концептуальная деривация обусловливает развитие метафорического значения идеологизированного субстрата ксенонима troika: Troika: 3. а ruling group of three; triumvirate; 4. Any group of three.
1945. 1945 [WCD, с. 1378]; Troika: esp. as administrative council [COD, p.1148].
В современном контексте сформировано новое значение, обусловленное
коммуникативной востребованностью слова в качестве термина для обозначения
межгосударственной структуры, что зафиксировано в глоссарии британской Financial Times: “The term „Troika‟, which comes from the Russian meaning „group of
three‟, was increasingly used during the eurozone crisis to describe the European Commission, International Monetary Fund and European Central Bank” [FT Lexicon].
Приведем некоторые примеры использования термина в коммуникативной
практике, в частности, ссылки интернет-сайтов на запрос troika:
1. Greece‟s weary taxpayers are exhausted January 28, 2014: The Troika – the European Commission, the IMF and the European Central Bank...
2. The Tortus sell is Portugal January 8, 2014: ... help from the troika of the EU,
IMF and European Central bank was enough to get Portugal‟s sovereign yields down
3. Putin‟s attempt to recreate the Soviet empire is futile December 30, 2013
At a summit in Moscow, members of the founding troika reaffirmed their intention
to create a Eurasian Economic Union by 2015...
Таким образом, суммируя вышесказанное, следует подчеркнуть, политические ксенонимы могут ассимилироваться в принимающем языке и в той или иной
степени «оторваться» от своих корней, актуализируя новые ассоциативные связи.
Соответственно, языковая личность как посредник межкультурной коммуникации
непременно должна принимать во внимание уровень общих (разделенных знаний)
целевой аудитории. Необходимо учитывать, что политический лексикон характеризуется концептуальной асимметрией в межкультурном диалоге; при этом, обращаясь к массовой аудитории, так называемому «среднему» читателю не следует
забывать, что политические термины не составляют «активный» компонент его
тезауруса, что предопределяет необходимость в экспликации значения.
375
4.3.1.3 Прецедентные ксенонимы
Выделение прецедентных ксенонимов обосновано значимостью теории прецедентности, на основе которой вводится термин «прецедентная информация
инолингвокультуры», релевантный для исследования национально-культурной
специфики языковых единиц в ситуации межкультурного общения.
Прецедентная информация – это своего рода «зонтиковый» термин, актуализирующий культурно-значимые смыслы, вербализуемые прецедентными феноменами (текстами, именами и пр.), актуальность которых определяется их релевантностью для коммуникативной
практики в соответствующем социально-
историческом контексте.
Развивая мысль Д. Б. Гудкова о том, что среди прецедентных феноменов различают универсальные и национальные явления [116, с. 105], логичным представляется утверждение, что прецедентная информация может быть универсальной,
т.е. знаковой для многих лингвокультур и лингвоспецифичной (национальной). В
таком случае возникают вопросы, которые неоднократно обсуждались в том или
ином аспекте в предыдущих разделах: как осмысливается инолингвокультура в
«глазах чужой культуры», модифицируется ли при актуализации инолингвокультурного обозначения, репрезентируемый им концепт. И самое главное: что происходит с прецедентной информацией инолингвокультуры при ее «вхождении» в
систему другого языка и новую концептуальную систему.
Объективным показателем частотности являются толковые словари, которые
фиксируют именно регулярно используемые номинации, при этом следует учитывать, что словарный запас среднего читателя меньше по объему, чем словарный
тезаурус. Определенная часть зарегистрированных слов может потерять релевантность и уйти на периферию, поэтому актуальность номинации должна быть
подтверждена функционированием ее в дискурсе. В исследовании под прецедентными номинациями, актуализирующими субстрат российской лингвокультуры,
понимаются только те частотные в современном англоязычном дискурсе словар-
376
ные единицы, которые являются источниками аллюзий, ссылок и т.п., при этом их
значение, как правило, не эксплицировано в тексте.
Таким образом, выборка прецедентных номинаций осуществлялась, вопервых, из словарей малого объема и культурологических; во-вторых, из современных произведений разных жанров, главным образом, СМИ, историография и
публицистика. При этом учитывался статистический показатель, т.е. количество
примеров функционирования номинации без дополнительных средств экспликации, что подтверждает прецедентность лексической единицы.
Словарь играет важную роль в формировании концептосферы лингвокультуры, это двусторонний процесс: с одной стороны, вербализованные концепты
фиксируются лексикографическими источниками, что позволяет говорить о концептосфере данного социума. С другой стороны, толкование номинаций инолингвокультуры подвержено влиянию принимающего языка, инолингвокультурное обозначение может получить новое смысловое наполнение, чаще в оценочном аспекте, т.е. концепт формируется в процессе инолингвокультурной адаптации.
Именно словарь репрезентирует когнитивную базу социума, т.е. «совокупность знаний и представлений, которыми обладают все представители того или
иного лингво-культурного сообщества» [116, с. 92]. Словарные определения
формируют концептуальную информацию, под которой понимаются «продукты
осмысления всех поступающих по разным каналам сведений, которые в дискурсе
представляют говорящим не только собственно знания, но и убеждения, мнения и
установки» [10, с. 167].
Лексикографическое описание обозначений инолингвокультуры определяется в большей степени принимающей лингвокультурой, чем семантикой исходной номинации (этимона). Такая вариативность наиболее ярко проявляется в
лексиконе политического дискурса: терминах и артефактах, идеологически коннотативных единицах, дефиниции которых в англоязычном словаре отражают
концептосферу принимающего языка, влияя на концептуальное содержание новых инолингвокультурных элементов.
377
Методом сплошной выборки из Longman Dictionary of Language and Culture и
The New Dictionary of Cultural Literacy выделены номинации, актуализирующие
идеологизированный субстрат российской действительности: Gulag, Kalashnikov,
KGB, Kremlin, Soviet Bloc, sputnik, а также имена известных политиков, деятелей
культуры, топонимы, эргонимы, названия литературных произведений: Joseph
Stalin, Mikhail Gorbachev, the Bolshoi Ballet, War and Peace и др. Словари также
включают туристические символы России: dacha и Russian dolls.
Прецедентное имя, как важный компонент национальной картины мира, актуализирует в контексте родной лингвокультуры идентифицирующую и характеризующую функцию, наполняясь значимыми коннотациями, оценочностью и дополнительными смыслами, определенным символизмом.
Данные положения обоснованы в трудах известных отечественных ученых:
Д.Б. Гудкова [115], Ю.Н. Караулова [174], В.В. Красных [199], Е.А. Нахимовой
[256], Г.Г. Слышкина [318] и др.
Как отмечалось выше, значимость прецедентности имен собственных подтверждается тем, что англоязычная лексикографическая практика фиксирует имена собственные в толковых словарях, что соответствует потребностям социума.
Сопоставление словарных описаний прецедентных номинаций российской
лингвокультуры в отечественных словарях с их англоязычными коррелятами позволяет выявить как адекватные корреляты, так и концептуально модифицированные, что представлено на уровне лексико-семантической адаптации, главным образом, при актуализации оценочности. Как показал анализ, только относительно
небольшая часть выделенных номинаций характеризуется прецедентностью в англоязычном лингвокультурном пространстве, причем аксиологичность некоторых
из них пейоративна.
Наиболее яркий пример: концепт КАЛАШНИКОВ репрезентируется в родной лингвокультуре инициальным сокращением А(втомат)К(алашникова)-47 и
эпонимом Калашников, что отражено и в английском языке, где кодифицированы
два обозначения, коррелирующие с названными этимонами:
378
AK-47, pl., AK-47’s: a kalashnikov assault rifle first made in 1947. 1965–70;
<Russ [WCD, с. 30].
Пейоративность термина эксплицирована в словарной дефиниции культурологического словаря (used by terrorists and anti-government armed groups): Kalashnikov: a type of quick-firing rifle made in the former Soviet Union. Kalashnikovs have
been sold all over the world, especially in many poorer countries, and they are often
used by terrorists and anti-government armed groups [Longman Culture, с. 716]:
Актуализируется пейоративность в многочисленных примерах использования
данных ксенонимов в речевой практике, в которых практически всегда эксплицитно выражена связь этого оружия с терроризмом:
1. “AK-47s were used to mow down anti-Soviet demonstrators in Hungary and
other satellite states; to prop up Soviet allies; by anti-Soviet rebels, when they managed
to get hold of them; and lastly – and currently – to enable terrorism, genocide and the
bloodiest forms of criminal activity” [LBR. 2011, No. 1, c. 23].
2. The killers escaped, leaving Kalashnikov rifles behind [SPT July 7 2000].
3. Black-masked men carrying Kalashnikovs… [Time Nov. 4, 2002].
В речевой деятельности данные ксенонимы функционируют в ряде случаев
параллельно: Kalashnikov AK-47, что усиливает эффект пейоративности:
Iraq: an order that …every man and woman 25 and older with a “good reputation
and character” was entitled to own one firearm, including a fully automatic AK-47 assault rifle, the world‟s most popular killing machine. The price for a Russian-made Kalashnikov AK-47 assault rifle… jumped to $290 [IHT April 4, 2006].
Неоднозначно воспринимают в западном мире технический термин «спутник», который политизировался и актуализируется как политический концепт
SPUTNIK, репрезентируемый заимствованием Sputnik. Уникальность данной номинации в том, что в 1957 году она стала частью языковой системы буквально за
несколько часов:
sputnik (also Sputnik) (lit., „travelling companion‟). An unmanned artificial earth
satellite, especially a Russian one; specifically each of a series of such satellites
launched by the Soviet Union between 1957 and 1961 [ОDictF, с. 408 ].
379
Этот факт неоднократно эмоционально описывался в отечественных исследованиях, при этом авторы не принимали во внимание прагматический пейоративный эффект, нередко актуализируемый в речевой практике словом Sputnik. Запуск советского спутника означал техническую мощь СССР и победу в техническом «противоборстве». Технические достижения советского государства в период холодной войны было неожиданностью для западных стран, поскольку означали несбывшиеся надежды на первенство в покорении космоса (to the surprise of the
Western scientific and defense communities):
“Sputnik: In the West, the term Sputnik (capitalized) was used to refer to the first
man-made earth satellite, was launched by the Soviet Union in 1957 to the surprise of
the Western scientific and defense communities” [S.U.].
Запуск спутника официальные деятели западного мира использовали как основание для усиления милитаризации, «гонки вооружений» (the US-USSR arms
race), чтобы защищаться при нападении:
“Sputnik signaled the Soviet Union‟s growing technical capability and helped to
precipitate a new phase in the US-USSR arms race” [Times Atlas].
Ксеноним Sputnik (с заглавной буквы) употребляется только в значении Soviet
satellite. Заимствование стало частью системы английского языка практически за
сутки, как утверждает известный лексикограф К. Барнхарт:
“Some new words take years to get into the language,” said lexicographer Clarence L. Barnhart at the time. “She‟s a record-breaking word.” He was so sure of it that
twenty-four hours after the launch of Sputnik he called his printer to dictate a definition
to be added in the next edition of Thorndike-Barnhart‟s Comprehensive Desk Dictionary. Barnhart and other dictionary makers defined the word generically as meaning
“Earth satellite” [Shock of the Century с. 249].
Ксеноним-заимствование способствовал восстановлению на некоторый период продуктивности суффикса –nik, причем для образования слов, главным образом, пейоративной оценочности:
“The -nik suffix is ultimately from Russian, popularized by the Soviets‟ famous
satellite, Sputnik” [In Other Words, c. 261].
380
По данным А.М. Винокурова «наибольшее количество образований с –nik
приходится на 1960-е гг. Он приобретает значение «приверженец к.-л. течения,
увлечения; лицо, следующее тому или иному образу жизни» [82, с. 106]. Например, американские журналисты при помощи суффикса –nik образовали номинации собственных неудачных попыток освоения космоса:
Pfuttnik, dudnik (also with less printable congeners) for the unsuccessful early
American attempts [460, с. 109].
Популярность ксенонима способствовала также адаптации на морфологическом уровне: актуализируемая в речевой практике пейоративность суффикса -nik
(usually derogatory) кодифицирована академическими словарями, которые фиксирует его этимологию (Slavic: a personal suffix):
-nik – a suffix of nouns that refer usually derogatory to persons who support a particular political cause or group, cultural attitude or the like: no-goodnik, peacenik <
Slavic, a personal suffix in Slavic languages [Random, с. 1300].
Новообразования с данным суффиксом характеризуют поведение или качества человека; в современном английском языке он малопродуктивен, но, тем не
менее, кодифицируется учебными словарями:
–nik – suffix of nouns that refer, often in a derogatory way, to persons who represent a cultural attitude, or are ardent enthusiasts of a thing or phenomenon: beatnik,
computernik; filmnik; peacenik [WCD, с. 893].
В межкультурном политическом дискурсе ксеноним Sputnik используется в
различных контекстах, способствуя реализации замысла автора. Например, противопоставляя Sputnik, символ мощи СССР и победы в космической гонке, китайскому феномену учебным заведениям the Confucius Institutes, автор создает цепочку ассоциаций позитивного плана (elevating China‟s prestige). При этом выявляются и пейоративные коннотации: напоминание о тревожных временах эпохи
спутника (“Sputnik fed a sense of alarm in the United States):
“China‟s latest successful export: Its language
But where Sputnik fed a sense of alarm in the United States and elsewhere about
the rise of an aggressive new superpower, the Confucius Institutes are intended to do
381
almost the opposite, elevating China‟s prestige while easing anxieties over the arrival of
a new power” [IHT Jan. 12, 2006, с. 4].
Аллюзия на чувство удивления, вызванное запуском спутника (совершенно
неожидаемого западным миром) актуализируется во фразе Sputnik moment, построенного по модели аллюзивной фразы Kodak moment:
“Mr. Obama laid out his new economic direction during a speech last month... He
declared that “the threat of a depression has passed” and offered a vision for rebuilding
by improving U.S. competitiveness, calling it “our generation‟s Sputnik moment” [NYT
Jan. 22–23, 2011, c. 13].
Прецедентные имена собственные российской лингвокультуры характеризуются определенной вариативностью, главным образом, модификации аксиологичности. Например, War and Peace. Роман Война и мир Л. И. Толстого изучается
в курсе школьной программы как одно из величайших произведений классики.
Аксиологическая характеристика в словаре несколько пейоративна, она достигается не введением эксплицитной лексики, а культурологическим комментарием:
“War and Peace is sometimes mentioned as being a very typical example of an extremely long book [Longman Culture, с. 1500].
Ироничное отношение носителей английского языка к большому объему романа Л. Толстого неоднократно проявляется в дискурсе. Например, в произведении And Quiet Flows the Vodka: or When Pushkin Comes to Shove: The Curmudgeon‟s
Guide to Russian Literature with the Devil‟s Dictionary of Received Ideas профессора
Г.С. Морсона обыгрывается в шуточной форме фамилия писателя как мера измерения длины романа:
“Tolstoy decided to distract himself from diary keeping by writing the longest
book in world literature, The Universe and All That Surrounds It. This book established
the Russian tradition of evaluating novels by sheer bulk, and a new unit of measurement
was developed. One tolstoika is defined as the length of one volume of this masterpiece. Since the book contains four volumes, and two epilogues of two hundred pages
each, it is officially listed at 4.7 tolstoikas [Quiet Flows, с. 66].
382
Необходимо отметить, что книга профессора литературы нацелена на интеллектуального индивида, он не стремится к реализации принципа доступности,
ориентируясь на массового читателя. Языковая игра, основанная на фамилии русского классика, не является типичным примером адаптации.
Социально-политические изменения последних двух десятилетий отразились
на оценке деятельности ряда русских политических деятелях, происходит процесс
пересмотра исторических событий, их оценки. Переосмысление российской истории в англоязычном контексте отражено далеко не всегда.
Так, ассоциативные связи имени И.В. Сталина в контексте российской лингвокультурной среде нетождественны аксиологической составляющей личного
имени Stalin. В англоязычных словарях в большей степени выделена негативная
оценка деятельности Сталина, что отражено прямыми номинациями и грамматической формой настоящего времени, в то время как о достижениях говорится в
прошедшем времени: “Although Stalin was responsible for successfully leading in the
war against Germany (1941–45), he is now remembered also for his great cruelty
[Longman Culture, с. 1315–1316].
Следует подчеркнуть, что в современной России, сталинисты не согласятся с
такой оценкой, однако в английском языке имя Сталин, в целом, маркировано
пейоративно, что подтверждается также и литературными словарями, например,
The Concise Oxford Companion to English Literature, поскольку идеологизация
всех сфер жизни россиян, негативно отразилась на мире искусства:
“Under Stalin‟s tyranny, the doctrine was employed as a pretext for the persecution
and silencing of non-conformist writers (Akhmatova, Mandelstam, Pasternak) [Oxford
Companion, с. 667].
Прецедентные имена собственные включают имена не только политических
деятелей, но и писателей, художников и т.п., которые в своих произведениях объективировали идеологизированный субстрат, противопоставленный советской
идеологии.
При анализе словарных дефиниций ряда имен собственных выявляется идеологически обусдлвленная концептуальную асимметрию. Например, Н. С. Хрущев,
383
чье имя в российской лингвокультуре имя нередко связывается с хрущобами,
хрущевками, т.е. носит пейоративный характер, в то время как в Longman
Dictionary of Language and Culture подчеркивается его значимость как политика,
его роль в разоблачении деятельности И. В. Сталина (publicly criticized Stalin):
“Khrushchev, Nikita (1894–1971) a Russian politician who was leader of the
former Soviet Union from 1953 to 1964. He publicly criticized Stalin and his policies
after Stalin‟s death in 1953 [Longman Culture, с. 721].
Знаковым именем является имя писателя А. И. Солженицына, известного на
Западе как диссидента, высланного из СССР за «антисоветские произжведения»,
рассказывающие о гулаге и тоталитаризме:
“Solzhenitsyn, Alexander (Isayevich): Russian prose writer. He joined the Red
Army in 1941. Arrested in 1945 for remarks critical of Stalin, he was sent to a labour
camp where in 1952 he developed stomach cancer. In 1953 he was released into „administrative exile‟. The appearance abroad of the first volume of The Gulag Archipelago (1973–5), an epic „history and geography‟ of the labour camps, caused the Soviet authorities to deport Solzhenitsyn to West Germany on 13 February 1974. He settled in
the United States, where he continued a series of novels begun with August 1914
(1971), offering an alternative picture of Soviet history. He returned to Russia in 1994
[Oxford Companion, с. 668].
Определенная пейоративность свойственна географическому имени «Сибирь»; для носителей русского языка это не просто регион, но место ссылки. Эти
коннотации актуализируются также и в описании ксенонима в англоязычном
культурологическом словаре (prisons to which they used to send anyone who
disagreed with them), т.е. в данном случае концептуальная асимметрия отсутствует: “Siberia: a very large area in Russia, between the Ural mountains and the Pacific
Ocean where there are many minerals but very few people. It is known for being extremely cold, and for being the place where Soviet governments had prisons to which
they used to send anyone who disagreed with them [Longman Culture, с. 1251].
Важно подчеркнуть, что прецедентная информация инолингвокультуры динамична, и ее релевантность определяется относительно определенного историче-
384
ского периода, что, в свою очередь, зависит от межкультурных контактов и социальных изменений. Новая политическая, экономическая и т.п. ситуация предопределяет варьирование прецедентной информации. Ярким примером динамичности
является русизм glasnost.
Этимон гласность, социальное значение которого утрачено в советский период, был реставрирован в русском языке в постсоветский период: новое словозначение – политика, проводимая М. С. Горбачевым, – обусловило заимствование и образование номинации glasnost, зарегистрированного словарями неологизмов 1987 года [Oxford NW, p. 109]. Было зафиксировано и заимствование второго
ключевого слова perestroika [Oxford NW, p. 203].
Данные русизмы как символы значительных перемен в политике СССР были
в центре внимания западной прессы, частотность их использования подтверждается узуальными примерами из устной речи. Гордон Шаффер из Лондона писал:
“Glasnost and perestroika have already injected themselves into the English language. You may be standing in a queue faced with some blatant example of bureaucracy
and some will say, “They can do with a bit of glasnost around here.” They may talk the
same way about perestroika, for it must be confessed that few understand the difference, or have the opportunity to analyze the impact of these changes on Soviet society
[XX Century and Peace No 2, 1988].
В период конца 1980-х – начала 1990-х ксенонимы glasnost и perestroika актуализировали прецедентную информацию российской лингвокультуры в англоязычном мире: они функционировали в дискурсе без каких-либо средств экспликации, т.е. были доступны массовому читателю. В современном межкультурном
политическом дискурсе, как символы российской инолингвокультуры, они практически не актуальны; в сситеме языка они относятся к историзмам, что подчеркивается в словарных определениях:
“glasnost:– the willingness of an organization, especially the government of the
former USSR, to act openly and discuss its behaviour and actions publicly – compare
perestroika [Longman Culture, с. 556].
385
“perestroika – a Russian word meaning rebuilding; the term used to describe the
economic, political, and social changes started by Mikhail Gorbachev in the USSR
[Longman Culture, с. 999].
В прецедентную информацию русской инолингвокультуры в английском
языке входят также элементы, формально этимологически не связанные с русским языком, не имеющие исходных номинаций в русском языке, где они коррелируют со своими переводными эквивалентами. Многие из таких номинаций актуализируют негативные смыслы и способствуют стереотипизации.
Пример такого рода представлен сатирическим произведением Скотный
двор, пародирующим русскую революцию и борьбу за власть между Сталиным и
Троцким, в англоязычном мире известном как сатира на русскую революцию (a
satire on the Russian revolution and Communist society):
“Animal Farm 1946: a novel by George Orwell, a satire on the Russian revolution
and Communist society. In the book, a group of animals take control of a farm so that
they can establish a society where they are all equal. The pigs, however, soon become
the leaders and say that they are more important, using the phrase “All animals are equal
but some are more equal than others” [Longman Culture, c. 41].
Фраза All animals are equal but some are more equal than others известна на
Западе и представляет собой в англоязычном мире, по сути, афоризм.
Афористичными являются названия некоторых книг и фильмов периода «холодной войны. Подробный анализ прецедентности фразы From Russia with Love
представлен О. А. Леонтович, подчеркивающей, что «ассоциативные связи коммуникантов, воспринимающих фразу From Russia with Love, предопределены тем,
к какому поколению они принадлежат и какой из прецедентных текстов доминирует в их восприятии» [229, c. 21].
Данные выводы актуальны и относительно названия комедии “The Russians
Are Coming, the Russians Are Coming, актуализирующей прецедентную информацию российской лингвокультуры в английском языке, что подтверждается как
востребованностью фразы в СМИ, так и трансформациями: “The Russians are
coming, but with news or propaganda? [Independent.co.uk] и пр.
386
Прецедентное название the Russians Are Coming используется в разных контекстах, адаптируясь в зависимости от авторских интенций и, актуализируя соответствующую образность и оценочность. Например, в аллюзиях на период холодной войны подчеркивается пейоративная аксиологическая составляющая:
The Russians are coming 9 Sep 2008 The thought of Russian warships cruising the
waters of the Caribbean instinctively revives memories of such Cold War episodes as
...blogs.reuters.com/.../the-russians-are-coming-caribbean-crisis-redux/
Положительные ассоциации актуализируются в таких контекстах, как инновационные достижения, искусство, спорт:
Nanotechnology Now - News Story: 23 Dec 2009 The Russians are Coming With
a More Energy Efficient Ceramic Nanocoating. ...www.nanotech-now.com ›
The Russians are coming.. 5 Apr 2011 ... ReadySteadyBlog: Russia will be the
Market Focus of the London Book Fair 2011. www.readysteadybook.com/Blog.aspx?
Выделяются и так называемые «пограничные» номинации, прецедентность
которых на данный момент не подтверждается убедительным количеством примеров использования в коммуникативной практике, в отличие от единиц, представленных в процитированных выше примерах. В данном случае, выявляется
несоответствие между стандартом и реальной речевой деятельностью, однако, как
отмечалось выше, факт ее регистрации в культурологическом словаре является
показателем востребованности слова в англоязычном мире. Например, гибридная
номинация refusenik: лексическое калькирование refuse (< отказ) + заимствованный суффикс –nik: “refusenik a Jew in the former USSR who has been refused
permission to emigrate, especially to Israel [Longman Culture, с. 1104].
Предположительно, причиной такого забвения является тот факт, что коррелирующий с английским словом этимон потерял актуальность именно в данном
значении и относится к группе историзмов. В корпусе эмпирического материала
фрагментов использования данной номинации в ином, чем социальноисторический контекст советского периода, выявлено всего три. Например,
“Yeltsin issued a decree handing over the offices of Gorbachev‟s foundation (a
think tank) to a new academy. The newest refusenik has a few on his own conscience: a
387
stunned Gorbachev finds that his think-tank office has been sealed. The man who now
calls himself a refusenik (because Yeltsin won‟t let him travel to South Korea this
week) has a few refuseniks on his own conscience” [Nweek Oct. 19, 1992].
Следует отметить, что лексикографы-составители академических словарей
сомневаются в русском происхождении данной номинации, предполагая перевод
с английского языка на русский: “refusenik; < Russ otkaznik (unless the Russian
word is itself a translation of refusenik) 1970–75” [Random, с. 1622].
В дискурсе номинация актуализировала и другие значения, в частности, в
1990-х гг. вследствие тяжелых экономических условий родственники не всегда
могли заплатить за похороны, оставляя тело усопшего в морге, что получило метафорическое обозначение «отказник»: “Those who cannot pay for the funeral
simply leave the bodies of family members at a government morgue. Russians mordantly described the abandoned bodies as otkazniki, or refuseniks” [Nweek Jan. 11, 1993].
В более поздних изданиях примеров модификации не выявлено, номинация,
главным образом, актуализирует идеологизированный субстрат:
“…the Soviet Union allowed only Jews – whom authorities had identified as troublesome refuseniks – to emigrate in large numbers” [Nweek Oct. 2, 1995].
Один из немногочисленных примеров прецедентности ксенонима refusenik,
актуализирующего субстрат британской лингвокультуры council tax refuseniks,
благодаря метафорическому трансферу представлен ниже:
“73-year-old Sylvia Hardy is livid about being released from prison. She had gone
there because she refused to pay ₤53.71 of her council tax demand… The logic seems to
be that local authorities must not waste taxpayers‟ money, while council tax refuseniks
can [GW Oct. 7–13, 2005, с.8].
В данном примере номинация refusenik в значении «гражданин, отказывающийся платить налог», используется в прагматической функции для создания
пейоративности. Это окказиональное употребление стилистического характера,
однако, оно подтверждает адаптивные возможности английского языка, «принимающего» обозначения инолингвокультурных феноменов.
388
Суммируя вышесказанное, следует уточнить, что прецедентная информация
российской действительности формирует образ нашей лингвокультуры в англоговорящем мире, отражая при этом и международную ситуацию: динамичность
международных процессов, переосмысление
роли России на международной
арене. В английском языке прецедентная информация российской лингвокультуры вербализуется релевантными и значимыми для данного периода номинациями,
доступными массовому читателю – прецедентными ксенонимами. В политическом дискурсе концептуальное содержание англоязычной номинации российского
феномена в ряде случаев характеризуется варьированием, выделяемым при сопоставлении с этимоном; при этом, как правило, фиксируются пейоративные коннотации. Таким образом, приходится признать, что актуализируемые в коммуникативной практике новые смыслы нередко формируют такие ассоциативные связи, которые способствуют закреплению негативных стереотипов российской действительности.
4.3.1.4 Специальные и специализированные ксенонимы
Основными критериями выделения отдельной группы «специальные и специализированные ксенонимы» выступают 1) кодификация номинаций в толковых
словарях и/или глоссариях, что подтверждает их статус как компонентов системы
языка; 2) коммуникативная востребованность. Практически все представленные в
данном параграфе ксенонимы не отличаются частотным функционированием в
межкультурном политическом дискурсе; они редко встречаются в современной
прессе. Высказанное утверждение, однако, не означает их абсолютной нерелеватности: они используются в историографической и политологической литературе, публицистике и, как правило, требуют экспликации.
Тематически ксенонимы данной группы включают следующие направления:
- военную терминологию: “Stavka <Russ stavit‟ to put, place. The general headquarters of the Russian Army” [OED XVI, с. 579];
389
- лексику Гулага: “sharashka. In the U.S.S.R.: a prison camp in which scientists
and other specialists were held in conditions thought comfortable or luxurious by others
in the prison system” [OED Additions 1993];
- номинации социальных явлений советского общества: “stilyaga <Russ coll
stilyaga, lit, „stylish person‟. In the USSR: a young person who affects stylish dress as
an expression of rebellion, nonconformity, etc. 1955” [OED XVI, с. 701];
“kulak – a comparatively wealthy Soviet peasant who, during the Communist
drive to collectivize agriculture in 1929–33, was viewed as an oppressor, and class enemy” [WCD, ср. 736].
- номинации атрибутов власти: “ukase 1. (in czarist Russia) an edict having the
force of law. 2. any order by an absolute authority, 1925–30” [WCD, с. 1413].
- обозначения традиций: “Subbotnik. In the Soviet Union, the practice of working voluntarily on a Saturday, for the benefit of the collective. 1920” [OED XVII, с. 16].
Важно отметить, что в приведенных выше словарных дефинициях воспроизводится графическая маркировка, т.е. кодифицированные ксенонимы, в ряде случаев, выделены курсивом, что позволяет сделать вывод об их низком уровне адаптации в системе. Значимым критерием адаптивности выступает и лексикографический источник, данные ксенонимы фиксируются самым авторитетным академическим словарем, в словарях учебного типа подобные примеры не выявлены. Следует подчеркнуть, однако, что коммуникативная востребованность определяется,
главным образом, социально-историческим контекстом, поэтому академические
словари, как правило, сохраняют в своем тезаурусе ксенонимы, потерявшие актуальность в современном дискурсе.
Важно отметить, что выявлены ксенонимы, кодифицированные словарем малого объема, однако не восстребованные в прессе. Например, ксенонимы kulak и
ukase, т.е. традиционный подход, в соответствии с которым, слова, зарегистрированные учебными словарями, общедоступны и формируют базовый словарь, в
данном случае не актуален. Они, однако, частотны в историографии, где практически всегда эксплицируются посредством описания ситуации или других средств
экспликации: “It was not just „non-Russians‟ who were rounded up by the labour army.
390
Former „kulaks‟ were also vulnerable to conscription. …he had been exiled as a „kulak‟
to a „special settlement‟ at Krasnokamsk near Perm” [Whisperers, с. 424]
Как следует из вышеприведенного примера, ксеноним маркирован кавычками, что характерно для данной номинации, отличающейся модификацией оценочности вследствие вторичной культурной концептуализации. В советском дискурсе
этимон «кулак» имплицировал характеристики «зажиточный» (по сравнению с
другими крестьянами), что считалось негативным; в западном мире названные качества пороком не являлись. Соответственно, в англоязычной речевой практике
ксеноним kulak требует экспликации аксиологической составляющей.
Следующий пример подтверждает динамичность социально-исторического
контекста, предопределяющую изменения состава лексико-семантической системы. В первые годы постсоветского периода этимон ГТО потерял актуальность как
феномен «прошлой жизни», в 2014 г. ГТО восстановлен Указом Президента РФ:
“GTO < G(otov k) t(rudu)) (i) O(borone) (Ready for labour and defence), the national fitness programme” [CamEnc. 1994, Glossary].
Данный пример позволяет утверждать, что выбор лексем для словника определяется частотностью слова в речевой практике; невостребованные прессой для
обозначения феноменов реальности, историзмы характерны для публицистики,
научных исследований, историографии, что предопределяет их кодификацию. Такой параметр, как корреляция с этимоном, в таких случаях не реализуется, поскольку потеря актуальность русского термина далеко не всегда отражается на соответствующем ксенониме. Большую роль в формировании русскокультурного
политического лексикона в английском языке играло диссидентское движение.
Популярность литературы Гулага, главным образом, переводов на английский
язык произведений А. Солженицына, а также энциклопедической истории Гулага,
написанной французским коммунистом
Дж. Росси, обусловила кодификацию
криминального сленга. Например: “zek <Russ reproduction of pronunciation z/k,
abbr. of zaklyuchennyi prisoner. In the U.S.S.R., a prisoner confined in a prison or
forced labour camp. 1968. Solzhenitsyn First Circle. 1977 GW 26 June …sharashka or
Island of Paradise as the zeks called their „soft‟ research camps” [OED XX, р. 798].
391
В энциклопедических изданиях зафиксированы и другие номинации, связанные с диссидентским
движением, обозначения анти-советских организаций:
“Moscow Tribune, group founded in 1988 to press for political reform in the USSR. The
members were mainly intellectuals and included Sakharov [RussEnc, с. 267].
Анализ корпуса примеров позволил выявить тенденцию, свойственную западным журналистам и историкам, фиксировать историзмы, этимоны которых
«остались в прошлом»: увеличивается количество зарегистрированных советизмов и сокращений-заимствований, которые способствуют реализации принципа
экономии, равно как и обратимости: “RKKA < R(aboche)-K(rest‟yanskaya)
K(rasnaya) A(rmiya) Workers‟ and Peasants‟ Red Army” [CamEnc. 1994, Glossary].
Вариативность российского политического лексикона обусловлена нестабильностью и изменчивостью социально-исторической ситуации: так, восстановление ряда явлений и ритуалов советского периода, предопределяет и актуализацию советизмов. В глоссариях энциклопедических, историографических, академических и справочных изданий представлен значительный пласт историзмов и
советизмов, ушедших на периферию языка в 1990-е гг., включая названия различных лозунгов советской идеологии, административных структур и т.п. Так,
Encyclopedia of Russian History фиксирует ксенонимы, актуализирующие идеологизированный субстрат советского периода:
1. “socialism in one country: policy inaugurated in the 1920s by Stalin when he
announced that the Soviet Union could build socialism without help from other countries” [RussEnc, с. 374].
2. “Soviet man: in the eyes of the party, the ideal Soviet man was devoted to
communism and had a Communist attitude toward work and to the social economy, thus
putting the collective before his individual desires” [RussEnc, с. 378].
Следует отметить межкультурность континуума российского политического
лексикона, включающего идеологизированные номинации западных феноменов,
так или иначе связанных с Россией. Так, идеологическим субстратом программы
гуманитарной помощи «ленд-лиз» является политическое влияние западной идеологии на СССР, победа которого во второй мировой войне означала «угрозу» рас-
392
пространения коммунизма. Идеологизированный субстрат в дефиниции англоязычных словарей, естественно, не выражен:
“lend-lease, aid given during WW II by the US Land-lease programs and the British and Canadian Mutual Aid programs to the Soviet Union” [RussEnc, с. 235].
В современном английском языке выявляется тенденция, характерная практически для любого национального политического дискурса, но наиболее заметная в контексте межкультурного общения: семантическое варьирование терминов-интернационализмов, обусловленное вторичной лингвокультурной концептуализацией в результате которой выявляется концептуальная асимметрия, неизбежная при языковых контактах идеологически нетождественных лингвокультур.
Наиболее коммуникативно востребованные номинации фиксируются в словаре.
Например, oligarch в значении феномена российской действительности образован в результате концептуальной асимметрии отличающей концепт ОЛИГАРХ
в российской лингвокультуре и концепт OLIGARCH в западной коммуникативной практике. В советский период данный концепт объективировал класс эксплуататоров в капиталистическом мире: «олигархия политическое и экономическое
господство небольшой группы эксплуататоров» [СИС, с. 345]. В постсоветский
период появились олигархи в отечественном социуме, что отражено в иллюстративном примере: «Олигарх (публ.): представитель крупного монополистического
капитала. Олигархия 1. Политическое и экономическое господство монополизированного капитала. Особенности российской олигархии. 2. Собир. Наиболее влиятельные представители монополизированного капитала» [ПолитЯзык, с. 126].
В российском политическом дискурсе актуализируется когнитивная информация, не отмеченная в словаре, но выявляемая в речевой деятельности журналистов. Во-первых, актуализируется «элитарность»: “Making a land fit for oligarchs:
Russia‟s island of the super-rich” [Independent Sep. 26, 2007].
Во-вторых, выявляется «связь с криминалом»: Oligarchy: What “Forbes” calls
Russia‟s 100 wealthiest individuals, is society‟s “100 Most Wanted” [Untimely].
Адаптация английского языка в качестве актуализации данного субстрата
российской действительности обусловила кодификацию номинации в британской
393
энциклопедии: “Oligarchy: a small group of people with much economic power.
Known as the nomenklatura (the list of nominees), it remained effectively a political
and social oligarchy, living separate from the rest of the population and enjoying luxuries and privileges unavailable to others” [Atlas, c. 179].
Зафиксирована данная единица и в глоссариях, коммуникативная востребованность слова позволяет прогнозировать его дальнейшую адаптацию в языке:
“oligarchs: Colloquial term for a small number of superrich businessmen who
dominate Russia‟s exclusionary markets and acquired their wealth undeservingly
through spontaneous privatization, other forms of asset seizing, asset stripping, presidential largesse, rent seeking, and a host of criminal activities” [21 st Century, c. 143].
Высказанное мнение в полной мере относится и к этимону «силовики», который коррелирует с ксенонимом siloviki, частотным в западных СМИ. В данном
случае кодифицированы и пейоративные аксиологические характеристики:
“siloviki: A shadowy power clique that has been active in the past two or three
years and has influenced Putin‟s personnel appointments” [21st Century, c. 145].
Обращение в историографии к советизмам в качестве средств номинации современных явлений или при описании исторических предпосылок предопределяет
процесс кодификации в словаре номинаций предшествующего периода, этимоны
которых в русскоязычном дискурсе практически не используются:
“red directors: Soviet era term for enterprise managers who supervised and commanded instead of responding to market signals and attempting to maximize profits: 59
“red directors” are state enterprise managers” [21st Century, c. 144].
Важно отметить, что группа специализированных ксенонимов включает также названия направлений сферы искусства и литературы, формирование которых
обусловлено идеологизацией общества, в том числе личные имена писателейдиссидентов. Политический лексикон включает термины сферы искусства, которые образованы, как правило, посредством практической транскрипции или калькирования и сопровождаемый средствами параллельного подключения.
В нижеприведенном примере представлена транслитерация инициального
сокращения, способствующего реализации принципа экономии, и параллельное
394
подключение в виде калькирования. В словарной статье оба ксенонима функционируют параллельно, но номинативную функцию выполняет именно сокращение.
В статье эксплицитно выражено авторское отношение к политизированности советского искусства: “socially constructive”. Как было отмечено ранее, кавычки изменяют смысловое содержание текста, актуализируют результат вторичной культурной концептуализации и маркируют пейоративные аксиологические характеристики феномена с точки зрения западного мира:
“LEF (Left Front of Art). Literary organization named after the journal founded
by Vladimir Mayakovsky in 1922. In 1926 LEF abandoned revolutionary Futurism for a
more “socially constructive” program” [RussEnc, с. 233].
В словаре The Concise Oxford Companion to English Literature зарегистрированы литературные термины, характеризующиеся идеологизированным субстратом (примеры 1 и 2), и имена писателей-диссидентов (пример 3):
3. “Nihilism: originally a movement in Russia repudiating the customary social institutions, such as marriage and parental authority. The term was introduced by Turgenev. It was extended to a secret revolutionary movement, social and political, which developed in the middle of the 19th century” [Oxford Companion, р. 507].
2. “Socialist Realism: the official artistic and literary doctrine of the Soviet Union,
promulgated in 1934 at the First Congress of Soviet Writers with the encouragement of
the dictator Stalin and of Gorky, whose early novel The Mother (1906–7) was held up
as a model. The doctrine condemned Modernist works such as Joyce or Kafka as symptoms of decadent bourgeois pessimism, and required writers to affirm the struggle for
socialism by portraying positive, heroic actions” [Oxford Companion, р. 667].
3. “Zamyatin, Evgeny (Ivanovich) (1884–1937), Russian prose writer, critic and
playwright. He is best known for his anti-Utopian novel We (1920–1), which was influenced by H. G. Wells and in turn influenced Orwell. Zamyatin … eventually emigrated
to Paris, partly as a result of the vicious campaign against him occasioned by the publication (abroad) of We in the late 1920s” [Oxford Companion, р. 795].
Суммируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что границы между специальными и специализированными ксенонимами подвижны, как впрочем, и между
395
прецедентными. Принадлежность ксенонима к той или иной группе определяется
социально-экономическими и политическими условиями и коммуникативными
потребностями общества. Ряд ксенонимов, отличающихся наибольшей коммуникативной активностью в современном дискурсе, как представляется, адаптируется
в дальнейшем в английском языке.
Важно также особо выделить, что зарегистрированные академическими словарями номинации не исчезают из английского языка при изменении статуса этимонов, с которыми они коррелирует, поскольку, как показано выше, слово может
снова оказаться коммуникативно востребованным.
4.4 Интерлингвокультурный двуязычный словарь
политического лексикона: системный подход
В настоящем исследовании предлагается описание разрабатываемой модели
интерлингвокультурного двуязычного словаря политического дискурса «Запад –
Россия», концептуальная система которого формируется пересечением, переосмыслением картины мира и концептосферы русскоязычного политического
дискурса в призме английской картины мира и концептосферы Запада.
Понятие «интерлингвокультурный», как отмечалось выше, выделяет посредническую функцию английского языка (intermediary), связывающего контактирующие лингвокультуры (единство языка и культуры). Глобальные изменения в современном мировом сообществе влияют на языковую картину мира, концептосферу и на динамичность развития науки, способствуя формированию системной
лексикографии, первоочередной задачей которой является «систематизация элементов когниции» [380, с. 157], что необходимо для совершенствования и обновления понятийного аппарата (совокупности понятий данной научной сферы). Системный подход требуется «в лексикографических системах идеографического
типа, воспринимаемых как концептуальные модели определенных концептосфер,
основывающихся на представлениях современных лингвистов о соотношении понятий «картина мира», «языковая картина мира», «концептуальная картина мира»
396
[380, с. 157]. Это требование актуально для современных специализированных
словарей, поскольку концептосфера определенной отрасли знаний вербализируется, в первую очередь, ее терминологическим аппаратом.
Как было рассмотрено выше, восприятие действительности определяется
концептосферой родной лингвокультуры и в определенной степени языковой картиной мира; соответственно, коммуникативный сбой в межкультурном политическом дискурсе может происходить на любом уровне.
Гармонизация политического лексикона, унификация терминологии в политическом дискурсе при контакте идеологически разных лингвокультур на данный
момент вряд ли возможна. Представляется реальной задачей, однако, упорядочение политического тезауруса, основываясь на когнитивно-дискурсивном подходе,
позволяющим учитывать потребности пользователя.
В исследовании предпринимается попытка разработки модели интерлингвокультурного словаря политического лексикона, задача которого заключается в сопоставительном описании политического лексикона российского дискурса с их
коррелятами, актуальными в англоязычном дискурсе в контексте описания российской действительности.
Данный словарь представляет собой сравнительно-сопоставительный дескриптивный словник: толкования лексемы соответствуют разным идеологическим воззрениям, соответственно, подбираются текстовые иллюстрации; словарная статья включает комментарий, объективирующий концептуальное, семантическое и прагматическое варьирование, которое актуализируется при сопоставлении контактирующих лингвокультур.
Именно интерлингвокультурный подход позволяет «увидеть» русскоязычный политический лексикон через призму родной и англоязычной картин мира.
Использование политического лексикона в другом лингвокультурном контексте
предопределяет не просто наложение на другую картину мира, но определенное
концептуальное переосмысление. Разрабатываемый словарь предоставляет возможность предвидеть проблемы восприятия политических русизмов и советизмов
в англоязычном дискурсе, реализуя функцию прогностики и показать на примерах
397
способы разрешения неоднозначности в ситуации варьирования разных уровней,
способствуя эффективности межкультурного общения.
Концепция интерлингвокультурного словаря формировалась на протяжении
значительного периода исследования функционирования русизмов и советизмов в
английском языке как проявление вариативности языка; в дальнейшем в когнитивно-дискурсивной парадигме анализировались способы актуализации субстрата
лингвокультуры в иноязычном дискурсе, учитывая опыт исследователей других
сфер дискурса, а также русскоязычной национальной (субстратной) литературы.
Во-первых, следует выделить коммуникативные проблемы, с которыми сталкивается специалист на международных конференциях, деловых встречах и т.п., а
также при общении с англоязычными туристами в качестве гида-переводчика.
Основной причиной, как правило, является концептуальное расхождение русского
термина и его предполагаемого англоязычного коррелята. Например, «ядерная
атака» в российском политическом дискурсе означает «военные действия», т.е.
начало войны, в то время как под nuclear threat понимается «любая попытка приблизиться к ядерному объекту, проникновение на объект» и т.п. Соответственно,
калькирование без каких-либо пояснений объективирует разные концепты, что
создает не столько коммуникативные, сколько политические проблемы.
Во-вторых, концепция вырисовывалась при сопоставительном анализе дефиниций русизмов и советизмов в англоязычных академических и учебных толковых словарях, изданных в США и Великобритании со словарными статьями в
отечественных словарях, что позволило выделить как точки соприкосновения, так
и лакуны, в том числе концептуальные расхождения.
В-третьих, осознанию специфики идеологизированного субстрата родной
лингвокультуры при его наложении на англоязычную лингвокультуру способствовал анализ англоязычного эмпирического материала; это советологические
работы, зарубежная периодика и переводы на английский язык так называемой
диссидентской литературы (что в советское время требовало допуска в спецхран
библиотеки имени Салтыкова-Щедрина по специальному разрешению).
398
Формирование когнитивно-дискурсивного подхода в русле когнитивной
лингвистики позволяет исследовать коммуникативные проблемы межкультурного
политического дискурса на глубоком уровне, поскольку семантическое варьирование предопределено асимметрией контактирующих концептуальных систем.
Препятствует общению также идеологизированность ряда номинаций, что, в ряде
случае, фиксируется в англоязычном толковом словаре; однако далеко не всегда
маркирована концептуальная и прагматическая вариативность, свойственная этимонам данных номинаций.
Если в советский период предвидеть возможные коммуникативные проблемы было крайне затруднительно, поскольку англоязычные словари и зарубежные
публикации были практически недоступны, за исключением советских англоязычных изданий АПН пропагандистского характера, то сегодня данной проблемы не существует. Возникает другая сложность: обилие эмпирического материала
и словарей, что, с одной стороны, позволяет систематизировать русский политический лексикон в английском языке, с другой стороны, требует значительного
времени на обработку данных.
Первая попытка создания подобного лексикографического источника реализована в формате печатного русско-английского словника советизмов, цель которого заключалась в сопоставительном описании номинаций политической лексики советской истории в английском языке, культурологическом комментарии и
выборке иллюстративных примеров из разнообразных источников. Словарь был
опубликован в качестве приложения монографии «Русскоязычная политическая
лексика советского периода в английском языке» [383]. Из 5000 словоупотреблений корпуса данных, собранных на тот момент, в приложении к настоящему исследованию «Материалы к словарю» (Том 2) представлено порядка тысячи лексем
с дефинициями из англоязычных и русскоязычных толковых словарей с иллюстративными примерами. Корпус данных создавался на основе английских словарей и справочников, специальной литературы о российской культуре, периодики
и переводов диссидентской литературы. Для сопоставления использовались советские источники, включая публикации на английском языке издательства АПН
399
и Moscow News, моноязычные толковые словари и публикации западных журналистов, придерживающихся социалистических взглядов.
При составлении приложения учитывалось то, что общение на политические
темы представляет определенную сложность даже в рамках одной культуры: каждый человек воспринимает окружающий мир, исходя из личного опыта и личных
ассоциаций. Так, концепт ДЕМОКРАТИЯ для советского человека означал только «СССР», в то время как для американца – «США». Концепт СОВЕТСКИЙ
НАРОД был актуальным в начале столетия как национальный концепт, однако и
сегодня он обладает значимостью, проявляясь как определенное состояние сознания, установка на поведение, индивидуальный концепт определенного ряда представителей социума.
Достижение лексикографической объективности достигалось включением в
словарную статью как толкований вокабулы в разных научных концепциях и
идеологиях, так и соответствующих текстовых иллюстраций. Примеры функционирования описываемой номинации особенно важны: они позволяют определить
тональность и прагматические характеристики в данном контексте, лексическую
сочетаемость, адекватность переводного эквивалента с учетом ситуации общения
и типа текста.
Наиболее сложной частью словаря, как отмечают многие ученые, является
разработка толкования, дефиниции, поскольку это требует совместной работы с
политологами, историками и т.п., поэтому дефиниция в разрабатываемой модели
представляет собой цитацию из толковых словарей на русском и английском языках с обязательным указанием источника. Во-первых, такой подход способствует
объективности толкования; во-вторых, достоверности информации; и, в третьих,
пользователь сможет обратиться непосредственно к первоисточнику при необходимости уточнения и т.п.
По мнению Е. Ривелиса, дефиниция должна содержать компоненты, позволяющие пользователю узнавать чужое слово как свое и порождать равноценный
текст на родном языке. Это возможно при концептуальном подходе: дефиниция
должна представлять «когнитивно внятное, то есть узнаваемое, и психологически
400
реальное единство языковой единицы во всех ее реализациях в речи» [299, с. 13].
Он подчеркивает далее, что в словарную статью необходимо включить все, «что
может способствовать у з н а в а н и ю концепта слова. Мы имеем в виду не
столько процедуры понятийного освоения концепта, хотя и это тоже, сколько выработку у пользователя целостного, может быть, образного представления о слове
и о характере его поведения в речи» [299, с. 116].
Данные положения представляются весьма важными для разрабатываемого
словаря, и в какой-то степени они решаются при введении разноплановых иллюстративных примеров или указаний на возможные дополнительные источники
(перекрестные ссылки, в идеале интернет-сайты).
Важность когнитивного подхода к дефиниции подчеркивается многими
лингвистами, поскольку словарная дефиниция призвана актуализировать сущностное содержание концепта и отражаться в его вербальном репрезентанте. Так,
В.Б. Гольдберг отмечает, что «содержание концепта становится известным из
опыта или из языковых источников: контекстов, словарей» [109, с. 111]. Эффективность межкультурного общения, определяемая наличием общего (разделенного) знания, во многом зависит от толкового и культурологического словаря.
Определенную сложность представляет выбор лексем; в данном случае фиксируются именно те номинации, которые наиболее востребованы в англоязычном
политическом дискурсе в XXI веке. Одна из основных задач – это не перевод с
русского языка на английский, а сопоставление англоязычного имени русской
лексической единицы с ее этимоном. Такой подход позволяет осмыслить, какой
идеологизированный субстрат российской действительности представляется
наиболее значимым в контексте англоязычного дискурса и почему.
Разрабатываемый словарь включает как советизмы, так и номинации последнего десятилетия; фиксирование кодифицированных советизмов обусловлено тем,
что адаптируясь в английском языке, они нередко живут другой жизнью, отличаясь от своего этимона. Пользователь словаря должен знать, соответствует ли англоязычная номинация своему корреляту в русском языке, что предопределяет
401
включение дефиниций из разных словарей; раскрытию концептуального содержания способствуют текстовые примеры из разнообразных источников.
Ряд лексикографических проблем, в частности орфографической кодификации, не решен и в настоящее время: определенные сложности существуют при
использовании практической транскрипции, что объясняется отсутствием единой
системы перекодирования, поэтому представляется целесообразным включать в
словарь все кодифицированные варианты с обязательными ссылками на словарьисточник.
Структура словарной статьи отражает основные лексикографические положения: единица номинации (и все зафиксированные варианты ее написания и
грамматических форм);
этимология русизма (в форме практической транскрипции);
определение по английскому аутентичному словарю (или словарям) и соответствующие ссылки;
в случае концептуального, семантического или прагматического расхождения – дефиниция по русскоязычному словарю и соответствующая ссылка;
(по возможности) степень ассимиляции в языке на данном синхронном срезе;
иллюстративные примеры (текстовые фрагменты, прецедентные тексты);
при необходимости, рекомендуемые дополнительные источники информации
(как печатные, так и в режиме он-лайн).
Следуя опыту англоязычной лексикографической практики, отличающейся
энциклопедичностью, представлены наиболее значимые топонимы, антропонимы,
прецедентные названия и т.п., актуализирующие идеологизированный субстрат
российской действительности.
Анализ эмпирического материала доказывает, что в англоязычном дискурсе
нередко используется практическая транскрипция культурно значимой единицы
инолингвокультуры, что естественно предопределяет необходимость дополнительных способов семантизации (объяснение, описательный оборот, калькирование и пр.) – и создается сложный номинативный комплекс. Данный подход является распространенной практикой в таких типах текстов как историография,
402
научные политические исследования (глава 3). Такое сложное по структуре обозначение способствует семиотической и концептуальной точности, создает эффект достоверности информации, однако переводчик должен учитывать все факторы, прежде чем вводить в текст неосвоенный элемент, предпочитая его аналоговым формам.
Языковой личности как посреднику межкультурного общения необходимо
знать, например, что популярная в прошлом веке экранизация романа Б. Пастернака Doctor Zhivago в англоязычном социуме известна как love story:
Doctor Zhivago: a book by the Russian writer Boris Pasternak about a doctor in
Russia during World War I and the Russian Revolution. It was made into a successful
romantic film in 1965 [Longman Culture, с. 383–384].
В советской ментальности, которая свойственна отдельным россиянам и сегодня, Б. Пастернак является антисоветским писателем; в советское время его исключили из Союза писателей за «антисоветский» роман Доктор Живаго и выслали из СССР. Книга была запрещена, но ее читали в самиздате и в тамиздате, и
только в период перестройки роман стал доступен массовому читателю.
В разрабатываемом проекте интерлингвокультурного словаря представлены
все трактовки (просоветская и постсоветская, а также западная) с соответствующим комментарием, который поможет участникам межкультурного диалога понять друг друга.
Определенная часть проекта, как отмечено выше, реализована в приложении
к монографии на материале советизмов, толкования которых отражают изменения
в русском языке на тот период, но нуждаются в определенной корректировке,
учитывая современные требования к политическому переводу, средствам актуализации субстрата и метаязыку словарной статьи. Обновления требуют и иллюстративные примеры.
В качестве примера, приведем фрагмент словарной статьи cosmopolitan, которая включает сопоставительное описание кодифицированных номинаций в англоязычном словаре, который отражает значение советизма и универсалии:
403
cosmopolitan: usually appreciatively a person who has travelled widely and feels
equally at home everywhere [Longman Culture, с. 291].
cosmopolitanism. In Soviet usage, disparagement of Russian traditions and culture (equivalent with disloyalty) [OED].
Комментарий: «космополитизм» в советском дискурсе имплицировал частичный или полный отказ от родной культуры и приобретение культуры другой
страны; противопоставлен «патриотизму»/ В англоязычном мире актуализирует
положительные или нейтральные коннотации.
Иллюстративные примеры: The aim was to root out “cosmopolitanism”, seen as
any hint of disposition towards contemporary European culture [Atlas, с. 175].
“These (the „new Russians‟) were people who already had it all right back home
and were quite – not totally, but quite – cosmopolitan. They felt comfortable anywhere
in the world” [Guardian April 12, 2004].
Фрагмент словарной статьи «бюрократ»:
бюрократ: слой крупных чиновников, работников государственного аппарата, служащих [РЯ ХХ, с. 117]; bureaucrat: „an official‟ and it is not necessarily pejorative. But when applied to officials who take refuge behind „Red Tape‟ it is a term of
abuse [Barnhart, с. 17].
Комментарий: в русском языке советского периода, в первую очередь, негативные коннотации («канцелярщина»), в английском языке – «чиновники» (коннотации нейтральные иногда негативные). В современном русском языке наблюдается сближение понятийно составляющей с английской лексемой. Cp. номенклатура. Иллюстративные примеры: Bureaucrats (are) “privileged persons divorced
from the masses and standing above the masses” [Political, с. 131].
Основным подходом к современному словарю нового типа, как неоднократно
подчеркивалось выше, является интерлингвокультурный. Если в советское время
основная задача словаря заключалась в формировании нового мировоззрения, т.е.
соответствующего советской идеологии, то сегодня словарь призван быть максимально идеологически нейтральным, в то же время максимально культурологически информативным.
404
Созданию словаря нового типа в электронном формате способствует развитие информационных технологий и, в частности, формирование когнитивной лексикографии, в рамках которой сформулирована «теория лексикографических систем», позволяющая разработать методологию компьютерного лексикографирования [377, с. 27].
Отличие электронного словаря, по сути, печатного словаря в цифровом формате, от традиционного печатного издания, в увеличении объема (количества лексем, толкований, иллюстративного материала) и в информационном потенциале,
возможности включить лексикографические мультимедийные источники, такие
как анимация, видео и пр. Словарь такого типа представлен в автономном режиме, т.е. для его использования не требуется интернет.
Неизмеримо большим потенциалом по всем характеристикам обладает электронный словарь в формате сетевого программного продукта: он предназначен
для использования в глобальной сети, и его гипертекстовая структура делает информационное поле практически неограниченным.
Одним лингвистам не под силу создание словаря нового типа; компьютерное
лексикографирование требует объединения лексикографов, лингвистов и программистов для создания корпусов текстов, параллельных корпусов для двуязычных словарей, систематизации структуры и пр.
На данном этапе разработки модели словаря формируется метаязык словаря,
структуры словарной статьи, пополняется и обрабатывается электронная база
данных. Одним из основных компонентов микроструктуры словаря является толкование заглавного слова; системное определение обеспечивается когнитивным
анализом, наиболее сложным этапом лексикографического проекта, наукоемким и
трудоемким. Двуязычный словарь опирается на двусторонний концептуальный и
семантический анализ, способствующий получению системной информации о
слове, в том числе о его потенциальной дискурсивной вариативности, что позволит идентифицировать слово в новом языковом пространстве.
Таким образом, современные подходы к теоретическому осмыслению словаря основаны на научной методологии XXI в., сочетающей когнитивный и концеп-
405
туальный анализ и антропоцентрический подход, позволяющей учитывать интересы пользователя: предоставлять лингвокультурное описание, прагматическую
информацию, иллюстрации потенциальных возможностей слова в других контекстах и возможность обновления информации.
Учитывая описанные выше подходы к лексикографированию, обратимся
непосредственно к описанию проекта интерлингвокультурного двуязычного словаря политического лексикона, как словаря нового типа, в современной терминологии, формата знания; его основные специфические характеристики определяются интерлингвокультурной направленностью. Как принято считать, толковый
словарь фиксирует коллективный опыт, реконструирует знания, разделяемые социумом, и национальную картину мира. В данном случае задачей является реконструкция политической картины мира российского социума через призму восприятия англоязычного мира, что требует интерлингвокультурного комментария, выделяющего точки соприкосновения и расхождения концептов. При этом необходимо описать и функционирование кодифицированных русизмов и советизмов в
лингвокультурном пространстве английского языка, а также их вариативность.
Входной язык словаря – русский, но выборка заглавных слов осуществляется
в обратном порядке: из англоязычного корпуса текстов о России, что позволит
более точно представить, какими нас «видит» англоязычный мир.
Словарь характеризуется прагматической направленностью, он призван способствовать реализации коммуникативных потребностей пользователя. Корпус
текстов включает англоязычные издания о России, главным образом, за последние
20 лет: историография, академические исследования, публицистика, пресса, художественная литература.
Заглавное слово представлено политическим термином или идеологизированной лексической единицей, в том числе из смежных с политическим дискурсом сфер. Как было отмечено ранее, политический дискурс представляет собой
доствточно разнородное коммуникативное пространство, в нем пересекаются разнообразные социально значимые сферы. Учитывая прагматическую направленность, ориентацию на пользователя, словарь включает также информацию, тради-
406
ционно относящуюся к энциклопедическим изданиям, в том числе прецедентные
имена собственные. Такой комбинированный тип словаря востребован в современном коммуникативном пространстве как наиболее полно соответствующий
потребностям пользователя.
Мегаструктура словаря:
1. Вводная часть (предисловие):
обосновываются принципы отбора лексем, которые отражают политическую
картину российской действительности на разных этапах, в частности, советского
периода и современную реальность;
приводится характеристика корпуса исследованного эмпирического материала; обосновывается использование определений отечественных толковых словарей и зарубежных, «взгляд извне»;
объясняются подходы к интерлингвокультурному комментарию;
приводится описание структуры словарной статьи с объяснением помет;
представлены рекомендации пользователю и условные сокращения.
2. Словник алфавитного типа.
3. Список использованных словарей.
4. Список цитируемых источников иллюстративного материала.
5. Рекомендуемые сайты Интернета.
Указание на ссылки дает представление пользователю об уровне адекватности и полноте описания лексикона, способствует достоверности информации.
Макроструктура собственно словаря или словника по форме представления
заглавных слов – алфавитная. При наличии технических возможностей данная
структура преобразуется в гипертекстовую, что позволит использовать отсылочные ссылки как гиперссылки, увеличивая объем информации.
Микроструктура словаря включает словарную статью, содержащую системное описание заглавного слова, основанного на когнитивном анализе и концептуальном подходе:
заглавное слово на русском языке и его англоязычные корреляты;
этимология, толкование/отсылочное толкование (с указанием источника);
407
дефиниции русского слова и его англоязычного коррелята приводятся по
академическим словарям с указанием ссылок;
интерлингвокультурный комментарий содержит описание различий и сходных элементов, позволяющих сформировать образ слова в его реализациях в речи,
учитывая идеологический контекст;
прагматические (стилистические) пометы;
историческая справка (при необходимости);
иллюстративные текстовые примеры (с указанием источника).
Представляется целесообразным при описании вербальных репрезентантов
концептов опираться на авторитетные лексикографические издания, как на русском, так и на английском языке, и официальные сайты Интернета. Такой подход
способствует объективности толкования, практически каждый человек является
участником политического диалога, его мировоззрение, ценности и пр. во многом
определяют восприятие лексической единицы. Политические термины и лексика,
как универсалии, так и инолингвокультурно маркированные, могут восприниматься излишне субъективно; адекватная актуализация высказывания требует информации об идеологической позиции говорящего, что обосновывает значимость
прагматических помет. Иллюстративные примеры описывают слово в лингвокультурном пространстве чужого языка и актуализируют его семантический и
прагматический потенциал.
Представленная модель словаря делает возможным системное описание политической картины мира российской действительности через призму английского языка. Понятийно-концептуальное толкование слова, сопоставление идеологически разных концептуальных сфер, прагматическая информация позволят пользователю «проникнуть» вглубь слова, способствуя эффективному межкультурному общению.
408
ВЫВОДЫ ПО ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ
Словарь, как и языковая система в целом, отличается определенным функциональным дуализмом: с одной стороны, он дескриптивен, регистрируя наиболее значимые и частотные обозначения и отражая изменения в социуме. С другой
стороны, он прескриптивен, фиксируя норму языка и стандарт использования,
упорядочивая системные характеристики.
Лексикографические источники представляют собой объективный показатель статуса инолингвокультурной номинации в системе языка. Изменения научной лингвистической парадигмы предопределяют и новые подходы к кодификации. В современной терминологии словарь классифицируют как формат знания,
под которым понимается лексикографический источник, отличающийся особым
содержанием и типологической структурой, задача которого объективировать
концепты и способствовать формированию знания потребителя.
Словарь нового типа в условиях глобального мира характеризуется особым
форматом, отличающимся от традиционной модели: это сочетание толкового и
культурологического словаря с иллюстративными примерами, позволяющими
описать лексему во всем многообразии. Аналогичный подход требуется и при составлении двуязычных словарей, задача которых, в отличие от моноязычных, не
только объяснять фиксированные единицы номинации, но и способствовать эффективному межкультурному общению, помогая индивиду перейти на код другого языка.
Классификация кодифицированных обозначений, актуализирующих идеологизированный субстрат российской лингвокультуры, основана на анализе данных
толковых и терминологических англоязычных словарей и на исследовании функционирования описываемых номинаций в речевой практике. Это позволило выделить универсалии, прецедентные ксенонимы, а также группу специальных и специализированных ксенонимов.
Следует особо подчеркнуть, что представленная классификация достаточно
условна, поскольку статус инолингвокультурной лексической единицы в языко-
409
вой системе определяется в большей степени ее коммуникативной потребностью,
которое не отличается стабильностью. Расширение информационного пространства, метафорически говоря, «стирание» коммуникативных границ в глобальном
общении, влияет на модификацию лексикона, отражение вариативности лексикосемантических единиц в печатном словаре в полном объеме практически невозможно.
Отсюда следует, что коммуникативные потребности глобального социума
настоящего столетия в большей степени может удовлетворить словарь нового
формат: «электронный словарь – сетевой программный продукт», гипертекстовая
структура которого расширяет его информационное поле, практически не ограничивая, что возможно только в глобальной сети.
Создание словаря в электронном формате требует объединения лексикографов, лингвистов и программистов; при этом именно лингвистам отводится основная роль в отборе языкового материала, т.е. выборе заглавного слова на основе
анализа корпусов текстов, иллюстративных примеров и т.п. Для словаря любого
формата принципиально важным является требование системности словарного
описания, что означает требование включать в словарную статью не только дефиниции и иллюстративные примеры, но и отражать потенциальную дискурсивную
вариативность, что позволит идентифицировать лексическую единицу, как в привычном контексте, так и в новом межкультурном языковом пространстве.
410
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование межкультурного дискурса в условиях глобального коммуникативного пространства, основным средством общения которого выступает английский язык, является реальностью настоящего тысячелетия. При этом именно
политическая сфера общения выступает ведущей, регулируя структуру государственной власти, влияя на жизнедеятельность общества, экономику, социальную
жизнь, образование и мировоззрение индивида. Соответственно, национальный
политический дискурс в контексте мультикультурной социально-исторической
ситуации переструктурируется для решения межгосударственных проблем, соединяясь в единой информацонной среде с другими национальными политическими дискурсами, пересечение которых образует межкультурный политический
дискурс.
В настоящем исследовании под межкультурным политическим дискурсом
понимается коммуникативная сфера, где пересекаются не только национальные
политические дискурсы разных стран, но и другие дискурсы (экономический, педагогический, художественный, медийный и пр.), что обусловлено регулятивной
функцией политического дискурса.
Образование глобального английского языка, основного средства межкультурного общения разнообразных лингвокультур, предопределено не только его «внутренними» качествами (адаптивностью, вариативностью, динамичностью), но и
экстралингвистическими предпосылками, в числе которых и распад социалистического лагеря, ведущим средством общения в котором был русский язык.
Расширение лингвокультурного пространства английского языка означает и
расширение его функций: во-первых, он адаптируется в соответствии с коммуникативными потребностями транснациональных объединений, что предопределяет
выдвижение на первый план принципа максимальной доступности. Во-вторых,
как средство выражения национальной идентичности, инокультурной относительно языка общения, английский язык «принимает» новые элементы, «ищет»
411
возможные способы «переориентации», что отражается и на его лингвокультурной идентичности.
Соответственно, глобализация английского языка вызывает опасения не только
лингвокультур, опасающихся быть «поглощенными» английским, но и непосредственно носителей языка, родной язык которых вынужден модифицироваться, отвечая на запросы современного пользователя.
«Межкультурность» политического дискурса в глобальном коммуникативном пространстве означает многообразие участвующих в общении лингвокультур, каждая из которых имеет свой «голос» при описании российской действительности, при этом средством общения выступает глобальный английский язык.
Объективной сложностью лексико-семантической адаптации языка в контексте межкультурного политического дискурса является асимметричность картин мира контактирующих лингвокультур, взаимодействие идеологически несовпадающих политических систем, специфичность языковых картин мира.
Системное изучение механизма адаптации глобального английского для
вербализации идеологизированного субстрата в контексте межкультурного политического дискурса выступает одной из основных задача междисциплинарного
направления «политическая интерлингвокультурология», которое занимается исследованием политического дискурса на основе интерлингвокультурного подхода. Актуализация идеологизированного субстрата российской действительности,
иначе говоря, «Россия через призму Запада», способствует формированию интерлингвокультурного коммуникативного пространства. При этом глобальный английский язык, представляющий собой динамическую и самонастраивающуюся
систему, выступает средством общения носителей разных языков с разнообразными идеологическими воззрениями и ментальностью, что, несомненно, влияет
на восприятие информации, ее концептуализацию и последующий выбор средств
номинации для вербальной актуализации идеологизированного субстрата инолингвокультуры.
Политическая интерлингвокультурология исследует, главным образом, неофициальный политический дискурс, что представляется весьма актуальным,
412
массовый читатель, как правило, не проявляет особого интереса к политике, но
именно массовый читатель формирует электорат, участвует в выборах, значит, его
мнение оказывает опредделенное воздействие на институциональный дискурс.
Основным итогом настоящего диссертационного исследования является
научное описание механизма лексико-семантической адаптации английского языка в функции актуализации инолингвокультурного субстрата, что обусловлено
вторичной лингвокультурной концептуализацией, предопределяющей вариативность способов номинации и экспликации.
Представленная работа вносит вклад в развитие политической интерлингвокультурологии, политической лингвистики, интерлингвокультурологии, лексикологии, лексикографии, лингвистики текста и дискурса.
В рамках политической интерлингвокультурологии перспективными представляются следующие междисциплинарные лингвистические исследования:
- сопоставительное изучение языковых средств институционального дискурса и результата его воздействия на формирование мировоззрение индивида,
что отражено в политическом дискурсе, понимаемом в широком смысле;
- исследование механизма лексико-семантической адаптации английского
языка в функции актуализации идеологизированного субстрата российской действительности на материале англоязычных произведений других жанров (учебников истории, официальных документов, рекламных текстов и т.п.);
- межъязыковое сопоставление способов и средств реализации механизма
лексико-семантической адаптации на материале разных языков;
- исследование механизма лексико-семантической адаптации английского
языка в функции актуализации идеологизированного субстрата других лингвокультур;
- изучение механизма лексико-семантической адаптации английского языка
на материале других европейских языков;
- формирование электронной базы данных, включающей не только текстовые фрагменты, но и параллельные тексты для создания лексикографического
продукта нового типа.
413
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Авербух К.Я. Средства специальной номинации и проблема их описания в словарях разных типов // Ивановская лексикографическая школа: традиции и инновации: сб.науч.ст., посвященный юбилею д.ф.н., профессора О.М. Карповой. –
Иваново: Иван.гос.ун-т, 2011. – 428. – С. 258–269.
2. Аврорин, В.А Ленинские принципы языковой политики / В.А. Аврорин // Вопросы языкознания. – 1970. – № 2. – С. 6–16.
3. Аврорин, В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка (к вопросу
о предмете социолингвистики) / В.А. Аврорин. – Л.: Наука, 1975. – 276 с.
4. Азнаурова, Э.С. Прагматика художественного слова / Э.С. Азнаурова. – Ташкент: Изд-во Фан Узбекской ССР, 1988. – 119 с.
5. Айдукович, Й. Основные понятия лексической контактологии (на материале
русизмов в славянских языках) (2006) [Электронный ресурс] / Й. Айдукович. –
Режим доступа: http://www.russian.slavica.org/article19.html.
6. Айдукович, Й. Структура и основное содержание монографии «Введение во
фразеологическую контактологию. Теория адаптации фразеологических русизмов» [Электронный ресурс] /Й. Айдукович. – Режим доступа: http://rspu.edu.ru.
7. Акуленко, В.В. О «ложных друзьях переводчика» / В.В. Акуленко
//
Англо-русский и русско-английский словарь «ложных друзьях переводчика». –
М.: Советская энциклопедия, 1969. – С. 371–384.
8. Алексеева, И.С. Текст и перевод. Вопросы теории / И.С. Алексеева. – М.:
Международные отношения, 2008. – 184 с.
9. Алефиренко, Н.Ф. Языковое сознание и менталитет / Н.Ф. Алефиренко // VI
Международная научная конференция «Филология и культура». 17–19 октября
2007. – Тамбов: ТГУ, 2007. – С. 228–235.
10. Алефиренко, Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство
языка: учеб.пособие / Н.Ф. Алефиренко. – М.: Флинта, 2010. –
288 с.
414
11. Алпатов, В.М. 150 языков и политика. 1917–2000. Социолингвистические
проблемы СССР и постсоветского пространства / В.М. Алпатов. – 2-е изд., доп. –
М.: Крафт+, Институт востоковедения РАН, 2000. – 224 с.
12. Амалбекова М.Б. Феномен билингвальной личности публициста (лингвокогнитивный и сопоставительный аспекты):
автореф. дис. …д-ра филол. наук:
10.02.20 / Амалбекова Марал Бимендиевна. – Астана, 2010. – 40 с.
13. Анисимова, А.Г. Методология перевода англоязычных терминов гуманитарных и общественно-политических наук:
автореф. дис. …д-ра филол. наук:
10.02.04 / Анисимова Александра Григорьевна. – М., 2010. – 40 с.
14. Апресян, Ю.Д. Теоретические основы активного словаря русского языка
/
Ю.Д. Апресян // Вестник РАН, 2008. – Том 78. – № 5. – С. 399–403.
15. Аракин, В.Д. История английского языка: учеб.пособие / В.Д. Аракин. – 2-е
изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 272 с.
16. Арнольд, И.В. Семантическая структура слова в современном английском языке и методика ее исследования / И.В. Арнольд. – Л.: Просвещение, 1966. – 189 с.
17. Арнольд, И.В. Основы научных исследований в лингвистике: учеб.пособие
/И.В. Арнольд. – М.: Высш. шк., 1991. – 140 с.
18. Арнольд, И.В. О роли толковых словарей в обучении английскому языку
/И.В. Арнольд // Studia Linguistica XVI. Язык. Текст. Культура: сборник статей. –
СПб.: Борей Арт, 2007 – С. 3–6.
19. Арутюнова, Н.Д. Дискурс / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь – М.: Советская энциклопедия, 1996. – C. 136–137.
20. Архипов, И.К. Человеческий фактор в языке (материалы к спецкурсу)
/ И.К. Архипов. – СПб: Невский ин-т языка и культуры, 2001. – 108 с.
21. Архипов, И.К. Имплицитные и эксплицитные значения, или парадокс обыденного сознания / И.К. Архипов // Studia Linguistica. Вып. XXII. Язык. Текст. Дискурс. Современные аспекты исследований: сб. науч.трудов. – СПб.: Политехникасервис, 2013. – С. 5–10.
22.Бабина, Л.В. Проблемы концептуальной деривации / Л.В. Бабина // Вопросы
когнитивной лингвистики. – 2007. – № 4. – С. 86–91.
415
23. Бабкин, А.М. Лексикографические заметки /А.М. Бабкин // Вопросы языкознания. – 1955. – № 2. – С. 90–97.
24. Бабушкин, А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка: монография / А.П. Бабушкин. – Воронеж: Изд-во Воронежского унив-та, 1996.
– 104 с.
25. Бабушкин, А. П. Концепты разных типов в лексике и фразеологии и методика
их выявления / А.П. Бабушкин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики: научное издание/ под ред. И.А. Стернина, 2001. – С. 52–58.
26. Багдасарова, Н.А. Новая ситуация в статусе английского языка и публичные
выступления в контексте межкультурной коммуникации [Электронный ресурс]
/ Н.А. Багдасарова // Материалы межвузовского семинара по лингвострановедению. МГИМО МИД РФ. 2008. – Режим доступа: www.mgimo.ru/files.pdf.
27. Базылев, В.Н. Российская лингвистика XXI века: традиции и новации
/ В.И. Базылев. – М.: Изд-во СГУ, 2009. – 380 с.
28. Балль, Г.Ю. Влияние русского языка послеоктябрьской эпохи на словарный
состав английского языка: автореф. дис. …д-ра филол. наук. – М., 1952. – 21 с.
29. Баранов,
А.Н.
Введение
в
прикладную
лингвистику:
учеб.
пособие
/А.Н. Баранов. – 2-е изд. – М.: УРСС, 2003. – 360 с.
30. Баранов, А.Н. Русская политическая
метафора (материалы к словарю)
/ А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов. – М.: Инс-т русского языка РАН, 1991. – 193 с.
31.Баранов, А.Н. Постулаты когнитивной семантики / А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский // Известия АН. Серия Литературы и языка. – 1997. –Том 56. – № 1. –
С. 11–21.
32.Баранов, А.Н. Некоторые константы русского политического дискурса сквозь
призму политической метафорики («взаимоотношения бизнеса и власти», «коррупция») / А.Н Баранов, О.В. Михайлова, Е.А. Шипова. – М.: Фонд ИНДЕМ, 2006.
– 84 с.
33.Бахтикиреева, У.М. Творческая билингвальная личность: национальный русскоязычный писатель и особенности его русского художественного текста: монография /У.М. Бахтикиреева. – М., Триада, 2005. – 192 c.
416
34. Бахтин, М. Ответ на вопрос редакции «Нового мира» / М.М. Бахтин // Собрание сочинений в 7 томах. – Т. 5. – М.: Русские словари, 1997. – С. 451–457.
35. Бахтин, М.М. Проблема речевых жанров / М.М. Бахтин // Собрание сочинений
в 7 томах. – Том. 5. – М.: Русские словари, 1997. – С. 159–206.
36. Бахтин, М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа /М.М. Бахтин // Собрание сочинений
в 7 томах. – Том. 5. – М.: Русские словари, 1997. – С. 306 –328.
37. Белодед, И.К. Язык и идеологическая борьба / И.К. Белодед. – Киев: Наукова
думка, 1974. – 86 с.
38. Беляева, И.В. Феномен речевой манипуляции: лингвоюридические аспекты:
автореф. дис. …д-ра филол. наук: 10.02.19 / Беляева Ирина Васильевна.– Ростовна-Дону, 2009. – 40 с.
39. Беляевская, Е.Г. Концептуальные основания культурных языковых знаков //
Семиотическая гетерогенность языковой коммуникации: теория СЗО и практика:
Тезисы докладов Международной научной конференции, Москва, 27–28 октября
2011 г. – М.: «Рема», 2011. – С. 33–35.
40. Бердяев, Н.А. Судьба России. Самосознание / Н.А. Бердяев. – Ростов-на-Дону:
Феникс, 1997. – 544 с.
41. Бережан, С. Г. Об отборе научно-технических терминов для толкового словаря
языка / С.Г. Бережан, В. И. Бахнарь // Терминоведение и терминография в индоевропейских языках. – Владивосток: ДВО АН СССР, 1987. – С. 46 – 55.
42. Березович, Е.Л. К этнолингвистической интерпретации семантических полей /
Е.Л. Березович // Вопросы языкознания. – 2004. – № 6. – С. 3–24.
43. Берков, В.П. Двуязычная лексикография: учебник /В.П. Берков. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: Астрель, 2004. – 236 с.
44. Бодрова-Гоженмос, Т. Концепция М.М. Бахтина и интерпретативная теория
перевода; пер.с француз. Н.А. Фененко // Вестник ВГУ, Серия лингвистика и
межкультурная коммуникация. – 2002. – № 3. – С. 72–79.
45. Бойко, Б.Л. Единицы социально-группового диалекта в языковой картине
мира взаимодействующих культур (на материале русского и немецкого военного
417
жаргона 1941–1945 гг.) / Б.Л. Бойко // Вестник Московского университета. – Сер.
22. – Теория перевода. – 2008. – № 1. – С. 99–108.
46. Бойко, Б.Л. Основы теории социально-групповых диалектов: автореф…. дис.
…д-ра филол…наук: 10.02.19 / Бойко Борис Леонидович. – М., 2009. – 56 с.
47. Болдырев, Н.Н. Языковые
категории как формат знания / Н.Н. Болдырев
// Вопросы когнитивной лингвистики. – 2006. – № 2. – С. 5–22.
48. Болдырев, Н.Н. Принципы и методы когнитивных исследований языка
/
Н.Н. Болдырев //Принципы и методы когнитивных исследований языка:
сб.науч.трудов. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2008. – С. 11–29.
49. Болдырев, Н.Н. Проблемы концептуального взаимодействия в процессе
вербальной коммуникации / Н.Н. Болдырев // Когнитивные исследования языка.
Международный конгресс по когнитивной лингвистике 10–12.10.2012. –Вып. XI.
– С. 39–45.
50. Болдырев, Н.Н. Когнитивный аспект эвфемизации (на материале английского
языка / Н.Н. Болдырев, Ю.В. Алексикова // Вопросы когнитивной лингвистики. –
2010. № 2. – С. 5–11.
51. Болдырева, А.А. Категория авторитетности в научном дискурсе
/
А.А. Болдырева, В.Б. Кашкин // Язык, коммуникация и социальная среда : сб.
науч. тр. – Воронеж: ВГТУ, 2001. – Режим доступа: http://tpl1999.narod.ru/
52. Борисова, Л.И. «Ложные друзья переводчика»: уч.пособие по научнотехническому переводу / Л.И. Борисова. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2002. – 212 с.
53. Брагина, А.А. Значение и оттенки значения термина /А.А. Брагина // Терминология и культура речи. – М.: Наука, 1981. – С. 37–47.
54. Брунер, К. История английского языка; пер.с немецкого С.Х. Васильевой
/ К. Брунер. – М.: Изд-во Иностр.литература, 1955. – 323 с.
55. Будагов, Р.А. Развитие французской политической терминологии в 18 веке
/ Р.А. Будагов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1940. – 122 с.
56. Будагов, Р.А. Человек и его язык / Р.А. Будагов. – М.: Изд-во Москов.ун-та,
1974. – 261 с.
418
57. Будаев, Э.В. Сопоставительная политическая метафорология: автореф. дисс…
док. филол…наук: 10.02.20; Будаев Эдуард Владимирович. – Екатеринбург, 2010.
– 49 с.
58. Будаев, Э.В. Постсоветская действительность в метафорах российской и британской прессы /Э.В. Будаев. – Нижний Тагил: Нижнетагильская государственная
социально-педагогическая академия, 2007. – 149 с.
59. Будаев Э.В. «Metaphors We Live by»: трансформации прецедентного названия
/ Э.В. Будаев, А.П. Чудинов // Вопросы когнитивной лингвистики. 2006. – № 3. –
С. 78–83.
60. Будаев Э.В. Современная политическая лингвистика / Э.В. Будаев, М.Б. Ворошилова, Е.В. Дзюба, Н.А. Красильникова; отв. ред. А. П. Чудинов. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2011. – 252 с.
61. Буркова, Т.А. Функционально-стилистическое варьирование антропонимов в
немецком языке: дис. …д-ра филол. наук: 10.02.04 / Буркова Татьяна Александровна. – Уфа, 2011. – 438 с.
62. Бурцева, Ж.В. Транскультурная модель якутской русскоязычной литературы:
художественно-эстетические особенности:
кандидат филологических наук:
10.01.02 / Бурцева Жанна Валерьевна. – Якутск 2008. –205 с.
63. Бушев, А.Б. Русская языковая личность профессионального переводчика: автореф. дис. …д-ра филол. наук: 10.02.01 / Бушев Александр Борисович. – М.,
2010. – 48 с.
64. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие /У. Вайнрайх // Новое в зарубежной
лингвистике. – Вып. VI. Языковые контакты. – М., 1972. – С. 25–60.
65. Вайсгербер, Й.Л. Родной язык и формирование духа; перевод с немецкого
О.А. Радченко / Й.Л. Вайсгербер. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 224с.
66. Валгина, Н.С. Теория текста: учеб. пособие
[Электронный ресурс]
/ Н.С. Валгина. – М.: Логос, 2003. Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text14.
67. Валиев, А.Г. Формирование иноязычного речевого механизма /А.Г. Валиев //
III Международные Бодуэновские чтения (Казань, 23 –25 мая 2006 г.): труды и
материалы: в 2 т. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2006. – Т.2.– C. 3–5.
419
68.
Ван Дейк Т.А. К определению дискурса. Из книги: Van Dijk, T. Ideology: A
Multidisciplinary
Approach
(1998);
перевод
с
английского
А.
Дерябина
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://psyberlink.flogiston.ru.
69. Василенко, И.А. Политическая глобалистика / И.А. Василенко. – М.: Логос,
2000. – 360 с.
70. Вежбицка, А. Антитоталитарный язык в Польше: механизмы языковой самообороны // Вопросы языкознания. – 1993. – № 4. – С. 107–125.
71. Вежбицкая, А. Понимание культур через посредство ключевых слов / А. Вежбицкая. – М.: Языки славянской культуры, 2001а. – 287 с.
72. Вежбицкая, А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики
/ А. Вежбицкая. – М.: Языки славянской культуры, 2001б. – 272 с.
73. Верани, А. Роль внутренней речи в высших психических процессах /А. Верани // Культурно-историческая психология. 2010.– № 1.– С. 7–17.
74. Верещагин Н.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение в
преподавании русского языка как иностранного / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Русский язык, 1976. – 248 с.
75. Верещагин, Е.М. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании
русского языка как иностранного / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – 3-е изд. –
М.: Русский язык, 1983. – 269 с.
76. Верещагин, Н.М. Дом бытия языка. В поисках новых путей лингвострановедения: концепция логоэписистемы / Н.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М.: Изд-во
ИКАР, 2000. – 124 с.
77. Виноградов, В.А. Языковые заимствования в аспекте «своего» и «чужого» //
Проблемы билингвизма в современном межкультурном дискурсе. Материалы
международного научно-методического коллоквиума (Пермь, 7–9 февраля 2011
г.) – Пермь: Изд-во Пермского гос.технического ун-та, 2011. – С. 3–10.
78. Виноградов, В.В. Основные типы лексических значений слова / В.В. Виноградов // Вопросы языкознания. – 1953. – № 5. – С. 1–29.
79. Виноградов, В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В.С. Виноградов.. – 2-е изд., перераб. – М.: КДУ, 2004. – 240 с.
420
80. Винокур, Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии / Г.О. Винокур // Труды Моск.инс. истории, философии и литературы. – М., 1939. – С. 3–55.
81. Винокур, Т.Г. Толковый словарь и языковое употребление / Т.Г. Винокур
// Вопросы языкознания. – 1986. – № 4. – С. 16–26.
82. Винокуров, А.М. Словоообразование в периферийных словах лексики современного английского языка / А.М. Винокуров // Вопросы языкознания. – 1983. –
№ 2. – С. 102–110.
83. Власенко, С.В. Русский как язык перевода современного глобального языкового кода / С.В. Власенко // Русский язык за рубежом. – 2009. – № 3. – С. 63–68.
84. Власенко, С.В. Референционные сдвиги при смене языкового кода / С.В. Власенко // Семиотическая гетерогенность языковой коммуникации: теория СЗО и
практика. Тезисы докладов Международной научной конференции, Москва, 27–
28.10.2011. – М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2011. – С.44–45.
85. Водак, Р. Взаимосвязь «дискурс – общество»: когнитивный подход к критическому дискурс-анализу; перевод О.А. Солоповой /Р. Водак // А.В. Будаев,
А.П. Чудинов. Современная политическая лингвистика. – Екатеринбург 2006. –
С. 122–134.
86. Володина, М.Н. Когнитивно-информационная природа термина / М.Н. Володина. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 128 с.
87. Володина, М.Н. Роль общественно-политической терминологии в концептуализации мира / М.Н. Володина // Современная политическая лингвистика: Материалы межд. науч.конференции. – Екатеринбург, 2003. – С. 189–190.
88. Володина, M.H. Язык как социальная и культурно-историческая среда
/ M.H. Володина // Язык. Культура. Общение: сб.науч.трудов в честь юбилея
С.Г. Тер-Минасовой. – М: Гнозис, 2008. – С. 292–298.
89. Володина, М.Н. О роли СМИ в процессе политической коммуникации (на материале немецких массмедиа) / М.Н. Володина // Политическая лингвистика. –
2010. – № 4 (34). С. 9–12.
421
90. Вольф, Е.М. Варьирование в оценочных структурах / Е.М. Вольф // Семантическое и формальное варьирование. – М.: Наука, 1979. – С. 200–295.
91. Воркачев, С. Г. «Быдло» как ключевое слово Рунета / С.Г. Воркачев // Политическая лингвистика. – 2012. – Вып. 3 (41). – С. 16–26.
92. Воробьев, В.В. Лингвокультурология: монография / В.В. Воробьев. – М.:
РУДН, 2008. – 336 с.
93. Ворожцова, О.А. Лингвистическое исследование прецедентных феноменов в
дискурсе российских и американских президентских выборов 2004 года: автореф.
дис. … канд. филол.наук: 10.02.20 / Ворожцова Ольга Александровна. – Екатеринбург, 2007. – 23 с.
94. Воронцов, Р.И. Ономастическая метафора и контекст // Язык. Текст. Дискурс:
научный альманах Ставропольского отделения РАЛК / под ред. проф. Г.Н. Манаенко. – Вып. 8. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2010. – С. 558 –565.
95. Воронцова, Т.И. Текст баллады. Языковая картина мира (на материале английских и шотландских баллад): монография / Т.И. Воронцова. – СПб.: Северная
звезда, 2003.–228 с.
96. Воронцова, Т.И. Текст баллады. Концептуальная картина мира: монография
/Т.И. Воронцова. – 2-е изд. перераб. – Хабаровск, 2004. – 139 с.
97. Выготский, Л.С. Мышление и речь /Л.С. Выготский. – М.: Лабиринт, 2005.–
352 с.
98. Гаврилова, М.В. Когнитивные и риторические основы президентской речи (на
материале выступлений В.В. Путина и Б.Н. Ельцина) / М.В. Гаврилова. – СПб.:
Филологический факультет СПбГУ, 2004. – 296 с.
99. Гальперин, И.Р. Гносеологический аспект двуязычных словарей и проблемы
контрастивной лексикографии // И.Р. Гальперин. Избранные труды. – М.: Высшая
школа, 2005. – С . 214–230.
100. Гальперин, П.Я. К вопросу о внутренней речи [Электронный ресурс]
/ П.Я. Гальперин // Доклады АПН РСФСР, 1957. – № 4. – Режим доступа:
http://flogiston.ru/library/galperin.
422
101. Гарбовский, Н.К. Теория перевода / Н.К. Гарбовский. – М.: Изд-во Моск.
ун-та, 2004. – 544 с.
102. Гачев, Г.Д. Национальные образы мира: курс лекций / Г.Д. Гачев. – М.:
Академия, 1998. – 432 с.
103. Гвоздев, Е. Предисловие / Е. Гвоздев, Д. Костыгин // Рэнд Э. Мы – живые. –
СПб.: Издательский отдел «Призма-15», 1993. – С. 7–9.
104. Глухов, В.П. Основы психолингвистики: учеб. пособие для студентов педвузов / В.П. Глухов. – М.: ACT: Астрель, 2005. – 351,[1] с.
105. Голованевский, А.Л. Социальная и идеологическая дифференциация и оценочность общественно-политической лексики русского языка / А.Л. Голованевский // Вопросы языкознания. – 1987. – № 4. – С. 35–42.
106. Голованевский, А.Л. Оценочность и ее отражение в политическом и лексикографическом дискурсах (на материале русского языка) / А.Л. Голованевский //
Филологические науки. – 2002. – № 3. – С. 78–87.
107. Голованевский, А.Л. О принципах исследования общественно-политической
лексики / А.Л. Голованевский, H.A. Кондрашов // Проблемы лексики и словообразования русского языка. – М., 1982. – С. 15–38.
108. Голованова, Е.И. Ориентирующая функция термина / Е.И. Голованова // С
любовью к языку: сб.науч.тр. Посвящается Е.С. Кубряковой. – Москва-Воронеж:
ИЯ РАН, Воронежский гос.ун-т, 2002. – С. 180–187.
109. Гольдберг, В.Б. Моделирование идеогруппы как прием функционального
подхода к систематизации словаря / В.Б. Гольдберг // Принципы и методы когнитивных исследований языка: сб.науч.трудов. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2008. – С. 111–127.
110. Гольдберг В.Б. Заимствованные термины в профессиональной и непрофессиональной Коммуникации / В.Б. Гольдберг // Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 24 (239). Филология. Искусствоведение. – Вып. 57.
– С. 17–19.
111. Гончарова, Е.А. Когнитивно-коммуникативные параметры ситуации порождения, восприятия и интерпретации литературного текста / Е.А. Гончарова // Studia
423
Linguistica XVI. Язык. Текст. Культура: сб. науч.трудов. – СПб.: Борей Арт, 2007. –
C. 6–15.
112. Григорьева, В.С. Дискурс как элемент коммуникативного процесса: прагмалингвистический и когнитивный аспекты: монография / В.С. Григорьева. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 288 с.
113. Гришаева, Л.И. Индивидуальное использование языка
и когнитивно-
дискурсивный инвариант «языковая личность» /Л.И. Гришаева // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2006. – № 1. – С. 16–22.
114. Грушина, О. Интервью Русской службе Голоса Америки. 30.12.2006 [Электронный ресурс] / О. Грушина. – Режим доступа: http://www.golos-ameriki.ru.
115. Гудков Д.Б. Прецедентное имя и проблемы прецедентности / Д.Б. Гудков. –
М.: Изд-во МГУ, 1999.
116. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации /Д.Б. Гудков.
– М.: Гнозис, 2003. – 288 с.
117. Гумбольдт, В. Фон. Избранные труды по языкознанию: перевод с немецкого
и общая ред. Г.В. Рамишвили / В. Фон Гумбольдт. – М.: ОАО ИГ «Прогресс»,
2000. – 400 с.
118. Гуревич, П.С. Культурология: учебник / П.С. Гуревич. – 3-е изд., перераб.и
доп. – М.: Гардарики, 2002. – 280 с.
119. Гусейнов, Г. Интервью ИА «Пресс-Лайн» 13.06.2012. [Электронный ресурс]
/ Г. Гусейнов. – Режим доступа: www.press-line.ru/.../rossiyskiy-polit.
120. Даниленко В.П. Еще раз к вопросу о кратких вариантах терминов / В.П. Даниленко // Культура речи в технической документации. – М.: Наука, 1982. – С. 35–
44.
121. Данилова, А.А. Манипулирование словом в средствах массовой информации
/ А.А. Данилова. – М.: Добросвет, 2009. – 234 с.
122. Дементьев, В.В. Непрямая коммуникация / В.В. Дементьев. – М.: Гнозис,
2006. – 376 с.
424
123. Демьянков, В.З. Продуцирование, или порождение речи // Кубрякова Е.С. [и
др.] Краткий словарь когнитивных терминов / под общей ред. Е.С. Кубряковой. –
М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, филол.фак., 1996. – С.129–134.
124. Демьянков, В.З. Интерпретация политического дискурса в СМИ / В.З. Демьянков // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования: учебное пособие / отв. ред. М.Н. Володина. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – С. 116–133.
125. Дешериев, Ю.Д. Теоретические аспекты социальной обусловленности языка /
Ю.Д. Дешериев // Влияние социальных факторов на функционирование и развитие
языка. – М.: Наука, 1988. – С. 5–40.
126. Добровольский,
Д.О.
Идиоматика
в
тезаурусе
языковой
личности
/ Д.О. Добровольский, Ю.Н. Караулов // Вопросы языкознания. – 1993. – № 2. –
С. 5–16.
127. Добровольский, Д.О. Двуязычная фразеография: о новом немецко-русском
фразеологическом словаре / Д.О. Добровольский // Ивановская лексикографическая школа: традиции и инновации: сб.науч.ст., посвящ.юбилею проф. О.М. Карповой. – Иваново: Иван.гос.ун-т, 2011. – С. 295–313.
128. Добросклонская, Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению
языка СМИ: современная английская медиаречь: учеб.пособие / Т.Г. Добросклонская. – М.: Флинта: Наука, 2008. – 264 с.
129. Домашнев, А.И. Национально-региональная вариативность и австрийский
национальный вариант современного немецкого литературного языка: автореф.
дис. д-ра филол. наук / Домашнев Анатолий Иванович. – Л.:ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1970. – 50 с.
130. Домашнев, А.И. Типология сходств и различий языковых состояний в странах
немецкой речи / А.И. Домашнев, Л.Б. Копчук – СПб: Наука, 2001. – 165 с.
131. Дридзе Т.М. Язык и социальная психология /T.M. Дридзе. – М.: Высшая
школа, 1980. – 224 с.
132. Дубинская, И. Voice of America: Айн Рэнд [Электронный ресурс] / И. Дубинская. – Режим доступа: http://www.peoples.ru/art/literature.
425
133. Дудкина, В.Г. Семантизация лексики и типы лексикографических дефиниций / В.Г. Дудкина // Язык. Текст. Дискурс: научный альманах. – Вып. 8. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2010. – C. 566–575.
134. Дуличенко, А.Д. Русский язык конца ХХ столетия /А.Д. Дуличенко. –
München, 1994. – 347 с.
135. Дуличенко, А. Д. Международные искусственные языки: объект лингвистики
и интерлингвистики /А.Д. Дуличенко // Вопросы языкознания. – 1995. –
№ 5. –
С. 39–55.
136. Дюжикова Е.А. Аббревиация сравнительно со словосложением: структура и
семантика (на материале современного английского языка): Автореф. …дис. д-ра
филол. наук. – М.: МГУ, 1997. – 50 с.
137. Евсюкова, Т.В. Лингвокультурологическая концепция «словаря культуры»:
дис. …доктора филол.наук: 10.02.19 / Евсюкова Татьяна Всеволодовна. – Нальчик, 2002. – 304 c.
138. Ермолович, Д.И. Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи /Д.И. Ермолович. – Р.: Валент, 2005. – 416 с.
139. Жинкин, Н.И. О кодовых переходах во внутренней речи / Н.И. Жинкин
// Вопросы языкознания.– 1964. – № 6. – С.26–38.
140. Жирмунский,
В.М.
Проблемы
социальной
дифференциации
языков
/ В.М. Жирмунский // Язык и общество. – М.: Наука, 1968. – C. 23–38.
141. Жлуктенко, Ю.А. Лингвистические аспекты двуязычия / Ю.А. Жлуктенко. –
Киев: Вища школа, 1974. – 176 с.
142. Завьялова, М.В. Исследование речевых механизмов при билингвизме (на
материале ассоциативного эксперимента с литовско-русскими билингвами)
/ М.В. Завьялова // Вопросы языкознания. 2001. – № 5. – С. 60–80.
143. Залевская, А.А. Вопросы теории и практики межкультурных исследований
// А.А. Залевская Психолингвистические исследования. Слово. Текст: избранные
труды. – М.: Гнозис, 2005. – С. 194–203.
426
144. Залевская, А.А. Значение слова и возможности его описания // А.А. Залевская. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: избранные труды. – М.:
Гнозис, 2005. – С. 215–233.
145. Залевская, А.А. Проблемы организации внутреннего лексикона человека
//
А.А. Залевская. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: избранные
труды. – М.: Гнозис, 2005. – С. 31–85.
146. Залевская, А. А.
Психолингвистический подход к проблеме концепта
/ А.А. Залевская // Методологические проблемы когнитивной лингвистики:
межвуз. сб.научн.тр. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. – С. 36–44.
147. Захаренко И.В. и др. Прецедентное высказывание и прецедентное имя как
символы прецедентных феноменов /И.В. Захаренко // Язык, сознание, коммуникация.– Вып. 1. М., 1997. – С. 82–103.
148. Звегинцев, В.А. Семасиология. – М.: Изд-во Москов.ун-та, 1957. – 260 с.
149. Звегинцев, В.А. Очерки по общему языкознанию / В. А. Звегинцев. – 2-е
изд., испр. – М.: URSS, 2009. – 383 с.
150. Зеленин, А.В. Типология лексических заимствований в эмигрантской прессе
(1919–1939) // Вопросы языкознания. – 2008. – № 1. – С. 85–120.
151. Иванищева, О.Н. Соотносимые и несоотносимые реалии как объект двуязычного словаря / О.Н. Иванищева // Вестник ОГУ. – 2003. – № 4. – С. 42 –47.
152. Иванищева, О.Н. Два ракурса восприятия реалии как основа содержания
толкования культурно-коннотированных слов в лингвострановедческом словаре /
О.Н. Иванищева // Изменяющаяся Россия: новые парадигмы и новые решения в
лингвистике: Мат-лы I Международной науч.конференции (Кемерово, 29–
31.08.2006 г.). – Кемерово: Юнити, 2006. – Ч. 3. – С. 56–60.
153. Иванищева, О.Н. Язык и культура: учеб.пособие / О.Н. Иванищева. –
Мурманск, 2007. – 191 с.
154. Ивина, Л.В. Лингво-когнитивные основы анализа отраслевых терминосистем
(на примере англоязычной терминологии венчурного финансирования): учебнометод.пособие /Л.В. Ивина. – М.: Академический проект, 2003. – 304 с.
427
155. Иванова, Е.В. Мир в английских и русских пословицах / Е.В. Иванова. – СПб.:
Изд-во С.-Петерб.ун-та; Филол.ф-т СПбГУ, 2006. – 280 с.
156. Кабакчи, В.В. Внешнекультурная коммуникация (проблемы номинации на
материале англоязычного описания советской культуры): автореф. дис. …д-ра филол. наук: 10.02.19 / Кабакчи Виктор Владимирович. – Л., 1987. – 31 с.
157. Кабакчи,
В.В.
Основы
англоязычной
межкультурной
коммуникации
/ В.В. Кабакчи. – СПб., 1998. – 232 с.
158. Кабакчи, В.В. Инолингвокультурный субстрат в межкультурной коммуникации / В.В. Кабакчи, Н.Г. Юзефович // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2007. –
№ 3. – С. 95–101.
159. Кабакчи, В.В. Транслитерация русизмов в англоязычном описании русской
культуры / В.В. Кабакчи, Н.Г. Юзефович // Социальные и гуманитарные науки на
Дальнем Востоке. – 2007. – № 3 (15). – C. 115–124.
160. Кабакчи, В.В. Метод опосредованного наблюдения и экстраполяции (опыт
применения в исследовании межкультурной коммуникации) / В.В. Кабакчи,
Н.Г. Юзефович // Проблемы филологии и методики преподавания иностранных
языков на рубеже веков: сборник научно-методических статей. – Псков: ПГПУ им.
С.М. Кирова, 2009. – Вып.9.– С. 69–83.
161. Кабакчи, В.В. Введение в интерлингвокультурологию / В.В. Кабакчи,
Е.В. Белоглазова. – CПб.: изд-во СПбГУЭФ, 2012 г. – 255 с.
162. Кабакчи, В.В. Переводчик и английский язык вторичной культурной ориентации в эпоху «глобанглизации» / В.В. Кабакчи // Фаховий та художній переклад:
теорія, методологія, практика Матеріали доповідей VI Міжнародної науковопрактичної конференції. – Київ: Аграр Медіа 2013. – С. 159–170.
163. Казакова,
Т.А.
Переводческий
комментарий:
структура
и
функция
/ Т.А. Казакова // Университетское переводоведение. Федоровские чтения. – СПб.:
СПбГУ, 2003. – Вып. 4. – С. 169–178.
164. Казакова, Т.А. Художественный перевод. Теория и практика / Т.А. Казакова.
– СПб.: Инъязиздат, 2006. – 544 с.
428
165. Калакуцкая, Л.П. Имена собственные в орфографическом словаре русского
языка и других лингвистических словарях / Л.П. Калакуцкая // Вопросы языкознания. – 1993. – № 3. – С. 59–75.
166. Канделаки, Т.Л. Семантика и мотивированность терминов / Т.Л. Канделаки. –
М.: Наука, 1977. – 167 с.
167. Кара-Мурза, С.Г. Истмат и проблема восток – запад / С.Г. Кара-Мурза. – М.:
ЭКСМО, 2002.– 256 с.
168. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием [Электронный ресурс] / С.Г. КараМурза. – Режим доступа: http://www.kara-murza.books.ru.
169. Карасик, В.В. Языковой круг: личность, концепты, дискурс: монография
/ В.И. Карасик. – Москва: Гнозис, 2004. – 390 с.
170. Карасик, В.И. Языковые ключи / В.И. Карасик. – Волгоград: Парадигма,
2007. – 520 с.
171. Карасик, В.И. Языковая матрица культуры / В.И. Карасик. – Волгоград: Парадигма, 2012. – 448 с.
172. Карасик, В.И. Лингвокультурный концепт как единица исследования
/ В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики: научное издание/ под ред. И.А. Стернина, 2001. – С. 76–80.
173. Караулов, Ю.Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения
/ Ю.Н. Караулов // Язык и личность. – М., 1989. – С. 3–8.
174. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – 3-е
изд. стер. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 264 с.
175. Карпова, О.М. О создании учебного культуроведческого словаря британского
варианта английского языка / O.M. Карпова, M.B. Бурлакова // Вестник МГУ. Сер.
19. Лингвистика и межкультурная коммуникация, 2005. – № 2. – С. 191–205.
176. Карцевский, С.О. Об асимметричном дуализме языковых знаков / С.О. Карцевский // Звегинцев В. А. История языкознания в очерках и извлечениях. – Ч. 2. –
М., 1965. – С. 85–87.
429
177. Катаева, С.Г. Немецкий политический язык: основные направления и тенденции развития (на материале политической лексики): автореф. дис. …д-ра филол.
наук: 10.02.04 / Катаева Сталина Гавриловна. – М., 2009. – 44 с.
178. Кацев, А.М. Эвфемизмы в современном английском языке: автореф.
дис…канд. филол. наук; Кацев А.М. – Л., 1977. – 22 с.
179. Кашкин, В.Б. Универсальные грамматические концепты / В.Б. Кашкин
// Методологические проблемы когнитивной лингвистики: межвуз. сб.научн.тр. –
Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. – С.45–52.
180. Кашкин, В.Б. Бытовая философия языка и языковые контрасты [Электронный ресурс] / В.Б. Кашкин // Теоретическая и прикладная лингвистика. – Вып. 3. –
Воронеж, 2002. – Режим доступа: http://www.philology.ru.
181. Клюев, Е.В. Речевая коммуникация: учеб.пособие для университетов и вузов /
Е.В. Клюев – М.: ПРИОР, 1998. – 224 с.
182. Кожина, М.Н. Дискурсный анализ и функциональная стилистика с речеведческих позиций / М.Н. Кожина // Текст – Дискурс – Стиль: межвуз. сб. науч. тр. –
СПБ.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – С. 9–33.
183. Колесникова, М.С. Лексические параллели в межкультурной коммуникации
как лексикографическая проблема /М.С. Колесникова // Вестник ОГУ. – 2003. –
№ 4. – С. 48–52.
184. Колесов, В.В. Ментальные характеристики русского слова в языке и в философской интуиции // Язык и этнический менталитет. – Петрозаводск, 1995. –
С. 13–24.
185. Колесов, В.В. Язык и ментальность / В.В. Колесов. – СПб.: Петербургское
Востоковедение, 2004. – 238 с.
186. Колшанский, Г.В. Объективная картина мира в познании и языке: монография
/ Г.В. Колшанский. – М.: Наука, 1990. – 107 с.
187. Комарова З.И. О гибридности политического термина // Современная политическая лингвистика: Материалы международной научной конференции. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та, 2003. – С. 79–81.
430
188. Комиссаров, В.Н. Современное переводоведение: учеб.пособие / В.Н. Комиссаров. – М.: ЭТС, 2002. – 424 с.
189. Кондаков, И.В. Культура России / И.В. Кондаков. – М.: Университет, 1999. –
360 с.
190. Конецкая, В.П. Аксиомы, закономерности и гипотезы в лексикологии
/ В.П. Конецкая // Вопросы языкознания. – 1998. – № 2. – С. 22–37.
191. Конецкая, В.П. Лексико-семантическая характеристика языковых реалий
/ В.П. Конецкая // А.Р.У. Рум. Великобритания. Лингвострановедческий словарь.
– М.: Русский язык, 1999. – С. 532–538.
192. Корнилов, О.А. Языковые картины мира как производные национальных
менталитетов / О.А. Корнилов. – 2-е изд., испр.и доп. – М.: ЧеРо, 2003. – 349 с.
193. Костиков, В. Трудно быть Путиным / В. Костиков // Аргументы и факты. –
2014. – № 11. – С. 9.
194. Костиков, В. Иван-царевич на сером волке. Из чего растет национальная
гордость? / В. Костиков // Аргументы и факты. – 2014. – № 16. – C. 7.
195. Костомаров, В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа / В.Г. Костомаров. – СПб.: Златоуст, 1999. – 320 с.
196. Котелова, Н.З. Значение слова и сочетаемость (к формализации в языкознании) /Н.З. Котелова. – Л.: Наука, 1975.– 164 c.
197. Котелова, Н.З. Неологизмы / Н.З. Котелова // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1996. – С. 331.
198. Кочетова, Л.А. Английский рекламный дискурс в динамическом аспекте: автореф. дис. …д-ра филол. наук: 10.02.04 / Кочетова Лариса Анатольевна. – Волгоград, 2013. – 39 с.
199. Красных, В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / В.В. Красных –
М.: Гнозис, 2003. – 375 с.
200. Красных, В.В. Теоретические положения. Принципы описания // И.С. Брилева [и др.] Русское культурное пространство: лингвокультурологический словарь. –
М.: Гнозис, 2004. – С. 7–54.
431
201. Красных, В.В. Единицы языка vs. единицы дискурса и лингвокультуры (к
вопросу о статусе прецедентных феноменов и стереотипов) / В.В. Красных // Вопросы психолингвистики. – 2008. – № 7. – С. 53–58.
202. Кристал, Д. Английский язык как глобальный; перевод с английского
Н.В. Кузнецовой. – М.: Изд-во «Весь мир», 2001. – 240 с. (Весь Мир Знаний)
203. Крысин, Л.П. Эвфемизмы в современной русской речи / Л.П. Крысин // Русистика. – 1994. № 1–2. Берлин. – С. 28–49.
204.
Крючкова, Т.Б. К вопросу о многозначности «идеологически связанной»
лексики / Т. Б. Крючкова // Вопросы языкознания. – 1982. – № 1. – С. 28–36.
205. Крючкова, Т.Б. Стихийное и целенаправленное в развитии общественнополитической лексики и терминологии на материале немецкого языка ГДР и ФРГ /
Т.Б. Крючкова // Влияние социальных факторов на функционирование и развитие
языка. – М.: Наука, 1988. – С. 68–84.
206. Крючкова, Т.Б. Особенности формирования и развития общественнополитической лексики и терминологии / Т.Б. Крючкова. – М.: Наука, 1989. – 149 с.
207. Крючкова,
Т.Б. Языковая политика и реальность [Электронный ресурс]
/ Т.Б. Крючкова // Вопросы филологии. – 2010. – №1 (34). –Режим доступа:
http://journal.mosinyaz.com/page_30_34.
208. Кубрякова, Е.С. Роль словообразования в формировании языковой картины
мира / Е.С. Кубрякова // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. – М.: Наука, 1988. – С.141–72.
209. Кубрякова, Е.С. Возвращаясь к определению знака / Е.С. Кубрякова // Вопросы языкознания. – 1993. – № 4. – С. 18–28.
210. Кубрякова, Е.С. Концепт / Е.С. Кубрякова // Кубрякова Е.С., Демьянков
В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. – М.:
Изд-во Моск. ун-та, 1996. – С. 90–93.
211. Кубрякова, Е.С. Язык и знание. На пути получения знаний о языке. Части
речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е.С. Кубрякова. –
М.: Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.
432
212. Кубрякова, Е.С. К определению понятия имиджа / Е.С. Кубрякова // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2008а. – № 1. – С. 5–11.
213. Кубрякова, Е.С. О методике когнитивно-дискурсивного анализа применительно к исследованию драматургических произведений (пьесы как особые форматы знания) / Е.С. Кубрякова // Принципы и методы когнитивных исследований
языка: сб.науч.трудов. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2008б. – С. 30–
45.
214. Кубрякова, Е.С. В поисках сущности языка / Е.С. Кубрякова // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2009. – № 1. – С. 5–12.
215. Кубрякова, Е.С. О концептах, схваченных знаком/ Е.С. Кубрякова // Studia
Linguistica. Актуальные проблемы современного языкознания. Вып. XVIII. – СПб:
Политехника-сервис, 2009. – С. 69–75.
216. Кудашев, И.С. Полезные дополнения к традиционной практике составления
переводных терминологических словарей (на примере двух финско-русских словарей) / И.С. Кудашев, И.О. Кудашева // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Международная конференция «Диалог» (Бекасово, 4–8
июня 2008 г.). – Вып. 7 (14). – М.: РГГУ, 2008. – С. 274–280.
217. Купина, Н.А. Тоталитарный язык: Словарь и речевые реакции / Н.А. Купина.
– Екатеринбург-Пермь: Изд-во Урал. ун-та, 1995. – 144 с.
218.
Купина, Н.А. Идеологемы как ключевые единицы политического языка //
Современная политическая лингвистика: Материалы международной научной
конференции. Екатеринбург, октябрь 2003 г. – Екатеринбург, 2003. – С. 90 –92.
219. Купина, Н. А. Советизмы: к определению понятия /Н.А. Купина // Политическая лингвистика. – Екатеринбург, 2009. Вып. 2 (28). С. 35–40.
220. Купина, Н.А. Идеологема «иностранный агент»: три дня в июле 2012 года
/Н.А. Купина // Политическая лингвистика. – 2012. – Вып. 3 (41). – С. 44–49.
221.
Кусков, В.В. О некоторых особенностях современной немецкой политиче-
ской лексики / В.В. Кусков // Общие и частные проблемы функциональных стилей.
– М.: Наука, 1986. – С. 172–187.
433
222. Лапшина, М.Н. Семантическая эволюция английского слова (изучение лексики в когнитивном аспекте) / М.Н. Лапшина. – СПб.: Изд-во С.-ПбГ ун-та, 1998. –
159 с.
223. Лассвелл, Г. Стиль в языке политики; перевод Е.Б. Матыгиной, О.А. Солоповой / Г. Лассвелл // Политическая лингвистика. – Вып. (2) 22. – 2007. – С. 165–
176.
224. Лейчик, В.М. О языковом субстрате термина / В.М. Лейчик // Вопросы языкознания. – 1986. – № 5. – С. 87–97.
225. Лейчик, В.М. Термин и его определение / В.М. Лейчик // Терминоведение и
терминография в индоевропейских языках. Владивосток: ДВО АН СССР, 1987. –
180 с. – С. 135–145.
226. Лейчик, В.М. Языки профессиональной коммуникации лингвистов
/ В.М.
Лейчик // Известия Южного Федерального университета. – 2007. – № 1–2. –
С. 96–107.
227. Левенкова, Е.Р. Конвергентные и дивергентные тенденции в политическом
дискурсе Великобритании и США: автореф. дис. …д-ра филол. наук: 10.02.04
/ Левенкова Елена Романовна. – Самара, 2011. – 31 с.
228. Леонтович, О.А. Введение в межкультурную коммуникацию: учеб.пособие
/ О.А. Леонтович. – М.: Гнозис, 2007. – 368 c.
229. Леонтович, O.A.“From Russia with Love” / О.А. Леонтович // Политическая
лингвистика. – Екатеринбург, 2011. – Вып. 1(35). – C. 20–23.
230. Леонтьев, А.А. Иноязычные вкрапления в русскую речь / А.А. Леонтьев
// Вопросы культуры речи. – Вып. 7. – М., 1966. – С. 60–68.
231. Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики / А.А. Леонтьев. – 3-е изд. – М.:
Смысл; СПб.: Лань, 2003. – 287 с.
232. Лихачев, Д.С. Концептосфера русского языка / Д.С. Лихачев // Серия литературы и языка. – Том 52. – № 1. – 1993.– С. 3–9.
233. Лотте, Д.С. Как работать над терминологией. Основы и методы: пособие составлено по трудам Д.С. Лотте и Комитета научно-технической терминологии АН
СССР. – М.: Наука, 1968. – 158 с.
434
234. Львовская, З.Д. Современные проблемы перевода / З.Д. Львовская. – М.:
ЛКИ, 2008.– 224 с.
235. Лысакова, И.П. Язык газеты: социолингвистический аспект / И.П. Лысакова.
– Ленинград: ЛГУ, 1981. – 101 с.
236. Лысакова, И.П. Пресса перестройки / И.П. Лысакова. – СПб: Астра-Люкс,
1993. – 148 с.
237. Лэнекер, Р.В. Концептуальная семантика и символическая грамматика
/ Р.В. Лэнекер // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2006. – № 3 (009). – С.
15–27.
238. Мамардашвили, М.К. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о
сознании, символике и языке / М.К. Мамардашвили, А.М. Пятигорский /ред.
Ю.П. Сенокосва. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1999. – 216 с.
239. Марковина, И.Ю. Элиминирование лакун
как
действие социально-
психологических механизмов «притяжения» и «отталкивания» [Электронный ресурс] / И.Ю. Марковина. – Режим доступа: www.iling-ran.ru/index.
240. Марковина, И.Ю. Культура и текст. Введение в лакунологию: учеб.пособие
/ И.Ю. Марковина, Ю.А. Сорокин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 144 с.
241. Маслова, В.А. Введение в когнитивную лингвистику: учеб.пособие
/ В.А. Маслова. – 3-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 296 с.
242. В. А. Маслова политический дискурс: языковые игры или игры в слова?
//Политическая лингвистика. – Вып. 1(24). – Екатеринбург, 2008. – С. 43–48.
243. Матюшенков, В.С. Предисловие / В.С. Матюшенков // Dictionary of Americanisms, Briticisms and Australianisms. – М.: Флинта: Наука, 2002. – С. 17–20.
244. Мед, Н.Г. Оценочная картина мира в испанской лексике и фразеологии (на
материале испанской разговорной речи): автореф. дис. …д-ра филол. наук:
10.02.05 / Мед Наталья Григорьевна. – СПбГУ, 2008. – 42 с.
245. Мельников, Г. П. Язык как система и языковые универсалии // Системные исследования. Ежегодник 1972. – М.: Наука, 1973. – C. 183–204.
246. Мельникова, А.А. Язык и национальный характер. Взаимосвязь структуры
языка и ментальности / A.A. Мельникова. – СПб.: Речь, 2003. – 320 с.
435
247. Мечковская, Н.Б. Язык и религия: пособие для студентов гуманитарных вузов / Н.Б. Мечковская. – М.: Агенство «ФАИР», 1998. – 352 с.
248. Мечковская, Н. Б. Социальная лингвистика: пособие для студентов гуманит.вузов и учащихся лицеев / Н.Б. Мечковская. – 2-е изд.,испр. – М.: Аспект
Пресс, 2000. – 207 с.
249. Микулина, Л.Т. Национально-культурная специфика и перевод / Л.Т. Микулина // Мастерство перевода. – Сб. 19. – М.: Советский писатель, 1981. –
С. 79–91.
250. Минченков, А.Г. Когнитивно-эвристическая модель перевода (на материале
английского языка): автореф. дис. …д-ра филол. наук: 10.02.04; 10.02.20 / Минченков Алексей Генриевич. – СПб., 2008. – 43 с.
251. Михальченко, В.Ю. О принципах создания словаря социолингвистических
терминов: к постановке проблемы // Кожемякина В.А. Словарь социолингвистических терминов. М., 2006. – С. 5–15.
252. Моисеева, С.A. Лингвокультурологические исследования как фактор межкультурной коммуникации / С.А. Моисеева, Е.А. Огнева // Когниция, коммуникация, дискурс. – 2011. – № 3. – С. 42–52.
253. Мунэн, Ж. Теоретические проблемы перевода. Перевод как языковой контакт / Ж. Мунэн // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. – М.,
1978. – С. 36–41.
254. Наумова, И.О. VERBATIM 2007/1: моногр./ И.О. Наумова. – Харків:
ХНАМГ, 2008. – 147 с.
255. Нахимова,
E.A.
Прецедентные
имена
в
массовой
коммуникации
/ E.A. Нахимова. – Екатеринбург, 2007. – 208 с.
256. Нахимова, Е.А. Теория и методика когнитивно-дискурсивного исследования
прецедентных онимов в современной российской массовой коммуникации: автореф. дис. …д-ра филол. наук: 10.02.19 / Нахимова Елена Анатольевна Екатеринбург 2011. – 44 с.
436
257. Ненароков, А.П. Предисловие А.П. Ненароков // Карр, Э. История Советской
России. Кн. 1: Т. 1 и 2. Большевистская революция
1917–1923; пер.с англ.
А.П. Ненарокова. – М.: Прогресс, 1990. – С. С. 9–14.
258. Никитин, М.В. Основания когнитивной семантики: учеб.пособие / М.В. Никитин. – СПб: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2003. – 277 с.
259. Никитин, О.В. Афанасий Матвеевич Селищев: Очерк жизни и деятельности /
О.В. Никитин // Селищев, А.М. Труды по русскому языку. Т. 1 Язык и общество.
– М.: Языки славянской культуры, 2003. – С. 10 –21.
260. Николаев, С.Г. Феномен билингвизма: проблематика и исследовательские
перспективы / С.Г. Николаев // Известия ЮФУ. Филологические науки. – 2013. –
№ 3. – С. 87–96.
261. Оболенская, Ю.Л. Художественный перевод и межкультурная коммуникация
/ Ю.Л. Оболенская. – М.: Высшая школа, 2006. – 335 с.
262. Олешков, М.Ю. Основы функциональной лингвистики: дискурсивный аспект: учеб. пособие для студентов фак. рус. яз. и лит./ М.Ю. Олешков. – Нижний
Тагил: Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия,
2006. – 146 с.
263. Олянич, А.В. Презентационная теория дискурса: монография /А.В. Олянич. –
М.: Гнозис, 2007. – 407 с.
264. Орѐл, М.А. Перевод газетных заголовков: история, теория, культурная традиция: автореф. дис.канд. филол. наук: 10.02.20 [Электронный ресурс] / Орѐл
Максим Александрович. – М., 2009. Режим доступа: http://www.dissers.ru/
265. Ору, С. История, эпистемология, язык / С. Ору. – М.: Прогресс, 2000. – 272 с.
266. Осипова, Т.В. Стратегия переводчика: преодоление межкультурных различий этнографического и исторического характера (на материале французского и
русского языков) // Перевод: язык и культура. II форум переводчиков, писателей и
издателей стран СНГ и Балтии. – Ереван: Лингва, 2009. – С. 82–89.
267. Павлова, Е.К. Политический дискурс в глобальном коммуникативном пространстве (на материале английских и русских текстов): автореф. дис. …д-ра филол. наук: 10.02.20 / Павлова Елена Касимовна. – М., 2010. – 45 с.
437
268. Палагина, О.И. Категории текста / О.И. Палагина // Перевод: взаимосвязь и
взаимовлияние теории и практики: сб.статей. – М.: ВЦП, 2004. – С. 39–43.
269. Палажченко, М.Ю. К вопросу о политической корректности, настоящей и
мнимой, и политике двойных стандартов / М.Ю. Палажченко // Вестник МГУ. –
Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2004. – № 1. – С. 81–89.
270. Палажченко, П.P. Язык русской прессы. Глазами переводчика [Электронный
ресурс] / П.P. Палажченко. – Режим доступа: http://www.sreda-mag.ru.
271. Панько, Т.И. Методологическая концепция общественно-политического термина в аспекте культуры речи / Т.И. Панько // Языковые контакты в аспекте культуры языка. – Рига: Зинатне, 1981. – С. 64-67.
272. Паршин, П.Б. От такого и слышу: о содержании и узусе понятия манипуляции [Электронный ресурс] / П.Б. Паршин. – Режим доступа: http://www.dialog-21.
273. Пашковская, С.С. Слышу не так… (специфика перцептивной и артикуляционной базы русского языка) / C.C. Пашковская // Известия Самарского научного
центра РАН. «Педагогика и психология». – 2009. – Т. 11. – № 4 (5). – С. 1295–
1298.
274. Перотто, М. Стратегии переключения и смешения кода в устной речи русских, живущих в Италии / М. Перотто // Массовая культура на рубеже XX – XXI
веков: человек и его дискурс. сб.науч.трудов. – М.: «Азбуковник», 2003. – С. 276–
291.
275. Пиотровский, Р.Г. К вопросу об изучении термина / Р.Г. Пиотровский // Ученые записки ЛГУ.IV. – 161. – Вып. 188. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1952. – С. 30–34.
276. Пискун, Е.Е. Термидор в СССР: Идеи Троцкого Л.Д. и советская действительность 1920–1980-х гг. /Е.Е. Пискун. – Рязань: Русское слово, 1997. – 120 с.
277. Подобрий, А.В. Межкультурный диалог в русской малой прозе 20-х годов
XX века: автореф.: 10.02.01 / Подобрий Анна Витальевна. М., 2010. – 39 с.
278. Познякова, Т.А. Русскоязычие и проблемы русскоязычной идентификации
билингвов [Электронный ресурс] / Т.А. Познякова. – Режим доступа:
http://www.russian-russisch.info/articles/37.html.
279. Политология / сост. В.А. Смоляков. – Хабаровск: ХГАЭП, 1998. – 160 с.
438
280. Полюжин, М.М. О понятии языковой личности и уровнях ее структуры
/М.М. Полюжин // С любовью к языку: сб.статей. – Москва-Воронеж, 2002. –
С. 441–446.
281. Попов, П.С. Значение слова и понятие / П.С. Попов // Вопросы языкознания.– 1956. – № 6.– С. 33–47.
282. Попова, З.Д. Язык и национальная картина мира / З.Д Попова, И.А. Стернин.
– Воронеж: Истоки, 2003. – 59 с.
283. Попова, З.Д. Когнитивная лингвистика: монография /З.Д. Попова, И.А. Стернин. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. – 314 с.
284. Потапенко, С.И. Ориентационное пространство современного англоязычного медиа-дискурса (опыт лингвокогнитивного анализа): автореф. дис. …д-ра филол. наук: 10.02.04 / Потапенко Сергей Иванович. – Киев, 2008. – 36 с.
285. Почепцов, Г.Г. Теория коммуникации / Г.Г. Почепцов. – М.: Рефл-бук, 2001. –
656 с.
286. Предисловие // Сноу Ч. П. Две культуры. – М.: Прогресс, 1973. – С. 5–15.
287. Привалова, И.В. Интеркультура и вербальный знак (лингвокогнитивные основы межкультурной коммуникации): монография / И.В. Привалова. – М.: Гнозис,
2005. – 472 с.
288. Провоторов, В.И. Очерки по жанровой стилистики текста (на материале
немецкого языка) / В.И. Провоторов. – 2-е изд., испр. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС,
2003. – 140 с.
289. Протченко, И.Ф. Лексика и словообразование русского языка советской эпохи. Социолингвистический аспект / И.Ф. Протченко. – М.: Наука, 1975. – 320 с.
290. Прохоров, Ю.Е. Действительность. Текст. Дискурс / Ю.Е.
Прохоров. –
2-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2006.
291. Прошин, А.В. Стилистическое значение и семантика языковой единицы (на
материале английского языка): монография / A.B. Прошин. – Магнитогорск: Магнитогорский дом печати, 2010. –544 с.
292. Пшеницын, С.Л. Интерпретация переводного текста в свете теории интертекстуальности / С.Л. Пшеницын // Studia Linguistica XVII. Язык и текст в про-
439
блемном поле гуманитарных наук: сборник. – СПб: Политехника-сервис, 2008. –
С. 179–187.
293. Пшѐнкина, Т.Г. Психолингвистические основания вербальной посреднической деятельности переводчика: монография / Т.Г. Пшѐнкина. – Барнаул: Изд-во
БГПУ, 2005. – 240 с.
294. Пшѐнкина, Т.Г. Концептуальная интеграция как механизм реконструкции
значения фразеологических единиц /Т.Г. Пшѐнкина // Семиотическая гетерогенность языковой коммуникации: теория СЗО и практика: тезисы докладов Международной научной конференции, Москва, 27–28 октября 2011 г. – М.: Рема, 2011.
– С. 121–122.
295. Райс, К. Классификация текстов и методы перевода / K. Райс // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. – М., 1978. – С. 202–228.
296. Рахилина Е. В. Когнитивный анализ предметных имен: от сочетаемости к семантике: автореф. дис. …д-ра филол. наук: 10.02.19 / Рахилина Екатерина Владимировна. – М., 1997. – 27 с.
297. Ревзина, О.Г. Дискурс и дискурсивные формации / О.Г. Ревзина // Критика и
семиотика. – Вып. 8. – Новосибирск, 2005. – С. 66–78.
298. Революционный невроз. – М.: Ин-т психологии РАН, Изд-во КСП+, 1998. –
568 с.
299. Ривелис, Е. Как возможен двуязычный словарь: Doctoral Thesis in Slavic Languages / Е. Ривелис. – Stockholm: Stockholm University. Department of Slavic Languages and Literature, 2007. – 408 c.
300. Рикер, П. Парадигма перевода; перевод М. Эдельман [Электронный ресурс]
/ П. Рикер. – Режим доступа: http://www.langust.ru.
301. Розенцвейг,
В.Ю.
Основные
вопросы
теории
языковых
контактов
/В.Ю. Розенцвейг // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. VI. Языковые контакты. – М., 1972. – С. 5–22.
302. Руженцева, Н.Б. Деидеологизация фаршированной рыбы, или модификация
пресуппозиций в межнациональном кулинарном дискурсе / Н.Б. Руженцева //
440
Межнациональный дискурс: модель в контексте эпохи: монография. – Екатеринбург: Урал.гос.пед.ун-т, 2013. – С. 179–193.
303. Рум, А.Р.У. Введение // А.Р.У. Рум. Великобритания. Лингвострановедческий
словарь / А.Р.У. Рум. – М.: Рус.яз., 1999. – С. 7–11 .
304. Сальмон, Л. О перспективах развития переводоведения в рамках новейших
научных направлений /Л. Сальмон // Университетское переводоведение. Вып. 3.
Материалы III Международной научной конференции «Федоровские чтения» 26–
28 октября 2001г. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2002. – С. 436–449.
305. Сальмон, Л. О подсознательном в процессе перевода /Л. Сальмон // Университетское переводоведение. Вып. 5. Материалы V Международной научной конф.
по переводоведению «Федоровские чтения». – СПб: СПбГУ, 2004. – С. 302–319.
306. Самотик, Л.Г. Образ инонациональной речевой среды: концептуализация в
пространстве художественного текста: автореф. дис. …д-ра филол. наук: 10.02.01
/ Самотик Людмила Григорьевна. – Абакан, 2013. – 42 с.
307. Сводеш, М. Лексикостатистическое датирование доисторических этнических
контактов (на материале племен эскимосов и североамериканских индейцев) / М.
Сводеш // Новое в лингвистике. – Вып. 1. – М.: Изд-во Иностранная лит., 1960. –
С. 23–52.
308. Селищев, А.М. Труды по русскому языку. Т. 1 Язык и общество // А.М. Селищев / сост. Б.А. Успенский, О. В. Никитин. – М.: Языки славянской культуры,
2003. – 632 с. – (Классики отечественной филологии).
309. Семененко, И.С. Глобализация и социокультурная динамика: личность, общество, культура / И.С. Семененко // Полис. – 2003. – С. 5–23.
310. Семигин, Г.Ю. Политика: значение термина [Электронный ресурс]
/
Г.Ю. Семигин // Новая философская энциклопедия, 2003. – Режим доступа:
http://terme.ru/dictionary/979/word/politika-znachenie-termina.
311. Сеничкина, Е.П. Эвфемизмы русского языка и принципы их лексикографического описания // Сеничкина, Е.П. Словарь эвфемизмов русского языка. – М.:
Флинта, 2008. – С. 6–23.
441
312. Серебренников, Б.А. К проблеме отражения развития человеческого мышления в структуре языка / Б.А. Серебренников // Вопросы языкознания. – 1970. – №
2. – С. 29–50.
313. Серио, П. Деревянный язык, язык другого и свой язык / П. Серио // Политическая лингвистика. – 2008. – Вып. 5 (25). – С. 160–167.
314. Серио, П. Вступительная статья / П. Серио // «Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса». – М.: «Прогресс», 1999. – С. 12–27.
315. Сидорова, Н.А. Основы лингвоаксиологической концепции речевой коммуникации: автореф. дис. …д-ра филол. наук: 10.02.19 / Сидорова Наталья Анатольевна. – М.:, 2011. – 59 с.
316. Синячкин, В.П. Общечеловеческие ценности в русской культуре: лингвокультурологический анализ: автореф. дис. …д-ра филол. наук: 10.02.19 / Синячкин Владимир Павлович. – М., 2011. – 44 с.
317. Сковородников, А.П. Способы манипулятивного речевого воздействия в российской прессе / A.П. Сковородников, Г.А. Копнина // Политическая лингвистика.
– 2012. – Вып. 3 (41). – Екатеринбург, 2012. – С. 36–42.
318. Слышкин, Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе: монография / Г.Г. Слышкин. – М.:
Academia, 2000. – 128 с.
319. Смокотин, В.М. Язык всемирного общения и этнокультурная идентичность:
комплементарность в условиях глобализации: автореф. …дис.д-ра философ. наук:
24.00.01[Электронный ресурс] / Смокотин Владимир Михайлович. – Томск, 2011.
– Режим доступа: http://www.dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-filosofiya/a30.php.
320. Солганик, Г.Я. О структуре и важнейших параметрах публицистической речи
(языка СМИ) / Г.Я. Солганик // Язык современной публицистики: сб.статей. –
2-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2007. – С. 13–31.
321. Солнцев, В.М. Вариантность как общее свойство языковой системы
/ В.М. Солнцев // Вариантность. – Ч. 2. – М.: Наука, 1982. – С. 115–129.
442
322. Сорокин, Ю.А. Интерпретативная или деятельностная теория перевода?
/ Ю.А. Сорокин // Переводоведение: статус переводчика и психогерменевтические
процедуры. – М.: Гнозис, 2003. – С. 27–44.
323. Сорокин, Ю.А. Психополитология: лица и факты / Ю.А. Сорокин // Русские и
«русскость»: лингво-культурологические этюды. – М.: Гнозис, 2006. – С. 263–331.
324. Спиркин, А.Г. Знание [Электронный ресурс] / А.Г. Спиркин // Большая советская энциклопедия. – 3-е изд. – М.: Большая сов.энцикл., 1998. – 1 электрон.опт.диск (CD-ROM).
325. Степанов, Ю.С. Слово. Из статьи для Словаря концептов («Концептуария»
русской культуры) / Ю.С. Степанов // Philologica 1994. – Т. 1 – № 1/2. – С.11–31.
326. Степанов, Ю.С. Константы: Словарь русской культуры: Опыт исследования
/ Ю.С. Степанов. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. – 824 с.
327. Стернин,
И.А.
Социальные
факторы
и
публицистический
дискурс
/ И.А. Стернин // Массовая культура на рубеже XX – XXI веков: человек и его
дискурс: сборник научных трудов. – М.: «Азбуковник», 2003. – С. 91–108.
328. Стрелковский, Г.М. Теория и практика военного перевода. Немецкий язык. –
М.: Воениздат, 1979. – 272 с.
329. Ступин, Л.П. Лексикография английского языка: учеб.пособие для студентов
ин-тов и фак.иностр.яз. – М.: Высшая школа, 1985. –167 с.
330. Суперанская, А.В. Терминология и номенклатура / А.В. Суперанская
// Проблематика определения терминов в словарях разных типов – Л.: Наука,
1976. – С. 73–83.
331. Тарасов, А.Е. Национально-культурная специфика космической деятельности
[Электронный
ресурс]
/
А.Е.
Тарасов
–
Режим
доступа:
http://profteks.ru/library/psylingva/sborniki/
332. Телия, В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В.Н. Телия. – М.: Языки русской культуры, 1996. –
288 с.
333. Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / C.Г. ТерМинасова. – М.: Слово, 2000. – 261 с.
443
334. Тер-Минасова, С.Г. Война и мир языков и культур. Вопросы теории и практики
межъязыковой
и
межкультурной
коммуникации:
учеб.пособие
/ C.Г. Тер-Минасова. – М.: АСТ Астрель: Хранитель, 2007. – 286 с.
335. Тимофеева, Т.Н. Специфика прецедентных феноменов в англоязычных научных текстах экономической тематики / Т.Н. Тимофеева // Вопросы когнитивной
лингвистики. – 2007. – № 2. – С. 69–73.
336. Томахин, Г.Д. Реалии-американизмы / Г.Д. Томахин. – М.: Высшая школа,
1988. – 236 с.
337. Третьякова,
Т.П.
Опыт
лингвистического
анализа
аргументации
в политическом диалоге / Т.П. Третьякова // Коммуникация и образование:
сб.статей / под ред. С.И. Дудника. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2004. – С. 299–320.
338. Третьякова, Т.П. В поиске новых парадигм лингвистического описания (или
“Back to future”) / Т.П. Третьякова // Язык и культура в эпоху глобализации:
сб.науч.статей. Т. 1. – Вып. 1. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013. – С. 58–64.
339. Третьякова, Т.П. Проблемы составления переводного политического словаря
[Электронный ресурс] / Т.П. Третьякова. – Режим доступа: http://www.conferencespbu.ru/
340. Туксаитова, Р.О.
Речевая толерантность в билингвистическом тексте (на
материале русскоязычной казахской художественной прозы и публицистики): автореф. дис. …д-ра филол. наук (специальность 10.02.01 – Русский язык / Туксаитова Райхан Омерзаковна. – Екатеринбург, 2007. – 43 с.
341. Туксаитова, Р.О. Советизмы в публицистике современного Казахстана
/ Р.О. Туксаитова // Советское прошлое и культура настоящего: монография:
/ отв.ред. Н.А. Купина, О.А. Михайлова. – Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2009.
– Т. 2. – С. 20–27.
342. Туманова, А.Б. Контаминированная языковая картина мира как результат
взаимодействия языков и культур / А.Б. Туманова // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2008. – № 4 (017). – С. 133–137.
444
343. Туманян, Э.Г. О природе языковых изменений / Э.Г. Туманян // Вопросы
языкознания. 1999. – № 3. – С. 86–97.
344. Ужова, О. А. Лексикографическое отражение английской культуры в словарях английского языка. Историко-типологическое исследование: автореф. дисс. …
докт. филол.наук: 10.02.04 / Ужова Ольга Александровна. – Иваново, 2011. – 46 c.
345. Умерова, М.В. Непереводные тексты на языке принимающей культуры в
сравнении с переводами / М.В. Умерова // Перевод: взаимосвязь и взаимовлияние
теории и практики: сб.статей. – М.: ВЦП, 2004. – С. 22–29.
346. Уорф, Б.Л. Отношения норм поведения и мышления к языку / Б.Л. Уорф
// Новое в лингвистике. Вып. 1. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. –
С. 134–168.
347. Урысон, Е.В. Языковая картина мира vs. обиходные представления (модель
восприятия в русском языке) / E.B. Урысон // Вопросы языкознания. – 1998. –
№ 2. – С. 3–21.
348. Уфимцева, Н.В. Этнический характер, образ себя и языковое сознание русских / H.B. Уфимцева // Языковое сознание: формирование и функционирование. –
М., 1998. – С. 135–170.
349. Уфимцева, Н.В. Археология языкового сознания: первые результаты // Язык.
Сознание. Культура: сб.статей / под ред. Н.В. Уфимцевой, Т.Н. Ушаковой. – М.–
Калуга: КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2005. – С. 205–217.
350. Фененко, Н.А. Язык реалий и реалии языка / H.A Фененко / под ред. проф.
А.А. Кретова. – Воронеж: Воронежский гос.унив-т, 2001. – 140 с.
351. Фененко, Н.А. Российское переводоведение в свете интерпретативной теории перевода / H.A Фененко // Социокультурные проблемы перевода:
сб.науч.трудов. – Вып. 9. – Воронеж: Воронеж.гос.унив-т, 2010. – С. 24–33.
352. Фесенко, Т.А. Перевод в зеркале когнитивной науки / T.A. Фесенко // С любовью к языку: сб.науч.тр. Посвящается Е.С. Кубряковой. Москва-Воронеж: ИЯ
РАН, Воронеж.гос.ун-т, 2002. С. 65–71.
445
353. Фикс, У. Проявляется ли культурная специфика в типах текста? / У. Фикс
// Вестник ВГУ. Серия лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2001. –
№ 2. – С. 100–107.
354. Фицпатрик Ш. Введение / Ш. Фицпатрик // Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город; пер. с англ. Л.Ю. Пантина. –
2-е изд. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. –
С. 7–10. (История сталинизма).
355. Халеева, И.И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи
/
И.И. Халеева. – М.: Высшая школа, 1989. – 233с.
356. Халеева, И.И. Интеркультура – третье измерение межкультурного взаимодействия (из опыта подготовки переводчиков) / И.И. Халеева //Актуальные проблемы межкультурной коммуникации: сб.науч.трудов. – Вып. 444. – М.: Московск. гос. лингвистический ун-т, 1999. – С. 5–14.
357. Хауген, Э. Языковой контакт / Э. Хауген // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. VI. Языковые контакты. – М., 1972. – С. 61–80.
358. Хроленко, А.Т. Основы лингвокультурологии: учеб.пособие / А.Т. Хроленко. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 184 с.
359. Хугаев, И.С. К проблеме этнокультурной идентичности транслингвального
текста (этнический субстрат литературного осетинского русскоязычия) / И.С. Хугаев // Вестник МГОУ. Серия «Русская филология». – 2010. – № 1. – С. 168 – 178.
360. Черникова Н.В. Лексико-семантическая актуализация как средство отражения изменений в русской концептосфере (1985 – 2008 гг.): автореф. дис. …д-ра
филол. наук: 10.02.01 / Черникова . – , 2008. – 37 с.
361. Чернов, Г.В. Вопросы перевода русской безэквивалентной лексики на
английский
язык
(на
материале
переводов
общественно-политической
литературы): автореф. дис. …канд. филол. наук / Чернов Гелий Васильевич. – М.:
Изд-во МГУ, 1958. – 18 с.
362. Чернявская, В.Е. Дискурс / В.Е. Чернявская // Стилистический энциклопедический словарь русского языка. М.: Наука, 2003. – С. 54–55.
446
363. Чернявская, В.Е. Лингвистика текстa. Лингвистика дискурса: учебное пособие / В.Е. Чернявская. – М.: ФЛИНТА : Наука, 2013. – 208 с.
364. Чернявская,
В.Е.
Фантомы
и
синдромы
дискурсивной
парадигмы
/В.Е. Чернявская // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2014. – № 1. – С. 54–61.
365. Чиршева, Г.Н. Отношение к детскому билингвизму [Электронный ресурс] /
Г.Н. Чиршева. – Режим доступа: http://iling.spb.ru/grammatikon.
366. Чудинов, А.П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации: монография: монография / А.П. Чудинов. – Екатеринбург: Урал. гос.
пед. ун-т, 2003. – 238 с.
367. Чудинов, А.П. Политическая лингвистика: учеб.пособие /А.П. Чудинов. –
4-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2012. – 256 с.
368. Чудинов, А.П. Очерки по современной политической метафорологии: монография / А.П. Чудинов. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2013. – 176 с.
369. Шапочкин, Д.В. Политический дискурс: когнитивный аспект: монография. –
Тюмень: Изд-во Тюменского государственного унив-тета, 2012. – 260 с.
370. Шарандин, А.Л. Словарь как отражение категоризации //Концептуальное
пространство языка: сб.науч.тр. /под ред. Е.С. Кубряковой. – Тамбов: Изд-во ТГУ
им. Г.Р. Державина, 2005. – С. 302–309.
371. Шарандин, А.Л. Интеграция как когнитивный принцип описания языкового
знака /А.Л. Шарандин // Принципы и методы когнитивных исследований языка:
сб. науч. трудов. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2008. –
С. 46–60.
372. Шаховский, В.И. Текст и его когнитивно-эмотивные метаморфозы (межкультурное понимание и лингвоэкология) / В.И. Шаховский, Ю.А. Сорокин,
И.В. Томашева. – Волгоград: Перемена, 1998. – 149 с.
373. Шахрай, О.В. «Ложные друзья» переводчика (Pathos, pathetic – пафос, патетический) / О.В. Шахрай // Вопросы языкознания. – 1955. – № 2. – С. 107–111.
374. Швейцер, А.Д. Социальная дифференциация литературного английского
языка в США /А. Д Швейцер. – М., 1983. – 216 с.
447
375. Швейцер, А.Д. Американский вариант литературного английского языка: пути формирования и современный статус /А.Д Швейцер // Вопросы языкознания. –
1995. – № 6. – С. 3–15.
376. Шейгал, Е.И. Семиотика политического дискурса / Е.И. Шейгал. – М.:
ИТДГК «Гнозис», 2004. – 326 с.
377. Широков, В.А. Когнитивная лексикография и национальная словарная база
Украины / В.А. Широков // Лексикография: информационный бюллетень. – СПб.,
2004. – С. 22–40.
378. Шмелев, А.Д. Русская языковая модель мира. Материалы к словарю
/ А.Д. Шмелев. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 224 с.
379. Шмелев, А.Д. Эволюция русской языковой картины мира в советскую и постсоветскую эпоху /А.Д. Шмелев // Советское прошлое и культура настоящего: монография: / отв.ред. Н.А. Купина, О.А. Михайлова. – Екатеринбург: Изд-во
Урал.ун-та, 2009. – Т. 2. – С. 171–185.
380. Шульгина, В.И. Вербализированный концепт как единица лексикографической системы / В.И. Шульгина // Семиотическая гетерогенность языковой коммуникации: теория СЗО и практика: Тезисы докладов Международной научной конференции, Москва, 27–28.10.2011. – М.: МГЛУ, 2011. – С. 157–158.
381. Щерба, Л.В. О понятии смешение языков / Л.В. Щерба // Избранные работы
по языкознанию и фонетике. – Т. 1. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та,
2004. – С. 40–53. (Яфетический сборник, V, 1925, с. 1–19).
382. Щирова, И.А. Наука о текстах, теория текста, лингвистика текста: проблемы
терминологии и дисциплинарного статуса / И.А. Щирова // Studia Linguistica XVI.
Язык. Текст. Культура: сб. науч.трудов. – СПб.: Борей Арт, 2007 – С. 75–82.
383. Юзефович, Н.Г. Отражение российского политического дискурса в английских лексических номинациях и текстах / Н.Г. Юзефович // Вестник НГУ. – 2007.
– Т. 5. – Вып. 2. – С. 118–123.
384. Юзефович, Н.Г. Русскоязычная политическая лексика советского периода в
английском языке: монография / Н.Г. Юзефович. – Хабаровск: Изд-во ДВГГУ,
2006. – 271 с.
448
385. Юзефович, Н.Г. Интерлингвокультурная языковая
личность билингва-
посредника межкультурного общения / Н.Г. Юзефович // Вопросы когнитивной
лингвистики. – 2011а. – № 3. – С. 159–165.
386. Юзефович, Н.Г. Российская лингвокультура в произведениях Орландо Файджеса / Н.Г. Юзефович // Политическая лингвистика. – 2011б. – Вып. 2 (36). –
С. 244–249.
387. Юзефович, Н.Г. Лексика русского политического дискурса в лингвокультурном пространстве английского языка: монография / Н.Г. Юзефович. – Saarbrücken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing, 2011в. – 169 с.
388. Юзефович, Н.Г. Интерлингвокультурный двуязычный словарь политического лексикона: системный подход / Н.Г. Юзефович // Когнитивные исследования
языка. Вып. XII: Теоретические аспекты языковой репрезентации: сб.науч.тр. –
М.: Институт языкознания РАН, 2012б. – С. 564–575.
389. Юзефович, Н.Г. Прецедентная информация политической сферы русской
инолингвокультуры в английском языке / Н.Г. Юзефович // Вопросы когнитивной
лингвистики. – 2012в. – № 4. – С. 139–144.
390. Юзефович, Н.Г. Типология письменных текстов англоязычного межкультурного общения / Н.Г. Юзефович // Вестник ВГУ. – 2012а. – № 1. – С. 200–206.
391. Юзефович, Н.Г. Японские заимствования в контексте внутренней и внешних
культур /Н.Г. Юзефович, А.В. Бордиловская // Социальные и гуманитарные науки
на Дальнем Востоке. – 2006. – № 4 (12). – С. 133–138.
392. Юзефович, Н.Г. Репрезентация прецедентных имен китайской и русской
инолингвокультур в английском языке / Н.Г. Юзефович, К.В. Бордиловский // Когнитивные исследования языка. Вып. XI: Международный конгресс по когнитивной лингвистике. 10–12.10.2012. – М.: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: ТГУ им.
Г.Р. Державина, 2012. – С. 611–613.
393. Яковлева, Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия) / Е.С. Яковлева. – М.: Гнозис, 1994. – 343 с.
394. Ярцева, В.Н. История английского литературного языка IX–XV вв.: монография / B.H. Ярцева. – М.: Наука,1985. – 247c.
449
395. Adler, P.S. Beyond Cultural Identity: Reflections on Multiculturalism / P.S. Adler
// Basic Concepts of Intercultural Communication. – USA: Intercultural Press, 1998. –
P. 225–245.
396. Agar, M. Language Shock. Understanding the Culture of Conversation / M. Agar.
– NY: William Morrow and Co, Inc., 1994. – 276 p.
397. Aixela, J.F. Culture-Specific Items in Translation / J.F. Aixela // Translation,
Power, Subversion. – Clevedon, UK: Multilingual Matters, 1996. – P 52–79.
398. Alawneh, Т. Translation of Neologisms of the Two Palestinian Intifadas the First
(1987–1993) and the Second (2000–2005). – Nablus, Palestine: An-Najah National
University, 2008. – 177 p.
399. Allan, K. Forbidden words. Taboo and the Censoring of Language / K. Allan,
K. Burridge. – Cambridge: CUP, 2006. – 303 p.
400. Allport, G. The Nature of Prejudice [Электронный ресурс] / G. Allport. – N.Y.:
Anchor Books Doubleday, 1991. – Режим доступа: http://www.books.google.com/
401. Anderson, R. The Casual Power of Metaphor: Cueing Democratic Identities in Russia and Beyond [Электронный ресурс] / R. Anderson. – Режим доступа:
http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/anderson.
402. Arnold, I.V. The English Word /I.V. Arnold. – М.: Vyssh.shkola, 1986. – 295 p.
403. Ayn Rand Institute, The. Frequently Asked Questions about Ayn Rand [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.aynrand.org.
404. Bamiro, E.O. Transcultural Creativity in World Englishes: Speech Events in Nigerian English literature / E.O. Bamiro // International Journal of Linguistics. – 2011. –
Vol. 3 (1). – P. 1–16.
405. Bassnett, S. Culture and Translation / S. Bassnett // A Companion to Translation
Studies. – L.: Multilingual Matters Ltd 2007. – P. 13–23.
406. Bennett, M.J. Intercultural Communication: A Current Perspective / M.J. Bennet //
Basic Concepts of Intercultural Communication. – USA: Int. Press, 1998. – P.1–34.
407. Benet-Martinez, V. Bicultural Identity Integration (BII): Components and Psychosocial Antecedents / V. Benet-Martinez, J. Haritatos // Journal of Personality. –2005. –
73. – Р. 1015–1050.
450
408. Berghammer, G. English as the Lingua Franca of science: a translators view on
what‟s lost – and what‟s gained – in translation / G. Berghammer // The Journal of European Medical Writers Association. – 2008. – Vol. 17. – No 4. – P. 213–219.
409. Bilingualism and Identity: Spanish at the crossroads with other languages / ed.
M. Niño-Marcia, J. Rothman. – Amsterdam: John Benjamins, 2008. – 365 p.
410. Bolinger, D. The Loaded Weapon. The Use and Abuse of Language Today
/ D. Bolinger. – L.: Longman, 1980. – 214 p.
411. Cap, P. Proximization. The pragmatics of symbolic distance crossing / P. Cap. –
Amsterdam: John Benjamins Publ. Co., 2013 – 220 p.
412. Cashman, H.R. Accomplishing identity in bilingual interaction / H. R. Cashman,
Ashley M. Williams // Multilingua. – 2008. – 2. – Р. 1–12.
413. Charskikh, I.Y. Ideological Conflict in the So-Called Socialist System
[Элек-
тронный ресурс] / I.Y. Charskikh. – Режим доступа: http://www.iatp.
414. Chase, St. The Tyranny of Words / St. Chase. – L., 1938. – P. 3–89.
415. Chen, S.X. Bicultural Identity, Bilingualism, and Psychological Adjustment in
Multicultural Societies [Электронный ресурс] / S.X. Chen // Journal of Personality. –
2008. – 76 (4). – Режим доступа: http://biculturalism.ucr.edu/pdfs/Chen.pdf.
416. Conquest, R. Orwell, Socialism and the Cold War / R. Conquest // The Cambridge
Companion to George Orwell. – Cambridge: CUP, 2007. – P. 126–132.
417. Critchfield, R. An American Looks at Britain / R. Critchfield. – N.Y.: Anchor
Books, Doubleday, 1990. – 502 p.
418. Crystal, D. English as a Global language / D. Crystal. – Cambridge: CUP, 1997. –
150 p.
419. Crystal, D. English as a Global language / D. Crystal. – 2nd ed. – Cambridge: CUP,
2003. – 212 p.
420. Crystal, D. Language and the Internet / D. Crystal. – CUP, 2004. – 284 p.
421. Crystal, D. Back to the Future/ D. Crystal // The Linguist. – 2010. – Vol. 49 (6). –
P. 10–13.
422. Davies, N. Preface / N. Davies // Lucas, E. The New Cold War: How the Kremlin
Menaces both Russia and the West. – L.: Bloomsbury, 2009. – Р. IX–XIV.
451
423. Dohan, D. Barriers Beyond Words: Cancer, Culture, and Translation in a Community of Russian Speakers [Электронный ресурс] / D. Dohan, M. Levintova // Режим
доступа: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2078549.
424. Eco, U. Mouse or Rat? Translation as Negotiation / U. Eco. – L.: Phoenix, 2004. –
200 p.
425. Esposito, J. Euphemisms and doublespeak on parade [Электронный ресурс]
/ J. Esposito. – Режим доступа: http://www.newjerseynewsroom.com.
426. Fairclough, N. Analyzing Discourse. Textual Analysis for Social Research
/ N. Fairclough. – L.-N.Y.: Routledge, 2003. – 270 p.
427. Fairclough, N. Language and Globalization / N. Fairclough. – L.-N.Y.: Routledge,
2006. – 186 p.
428. Friedrich, P. Language, ideology and political economy / P. Friedrich // American
Anthropologist. – Vol. 91. – 1989. – P. 295–312.
429. Garner, J. Politically Correct Bedtime Stories / J. Garner. – N.Y., 1994. – 120 р.
430. Graddol, D. English Next / D. Graddol. – British Council, 2006. – 132 р.
431. Gupta, A. Colonisation, migration and functions of English / A. Gupta // Englishes
around the World 1. – Amsterdam: John Benjamins, 1997. – P. 47–58.
432. Gupta, А. Teaching World English [Электронный ресурс] / A. Gupta. – Режим
доступа: http://www.leeds.ac.uk/english/staff/afg/antheab.html.
433. Hartmann, R. Contrastive textology and corpus linguistics: On the value of parallel
texts / R. Hartmann // Language Science. – 1996. – Vol.18 (3–4). – Р. 947–957.
434. Hartmann, R. Interlingual Lexicography. Selected Essays on Translation Equivalence, Contrastive Linguistics and the Bilingual Dictionary / R. Hartmann, R. Rudolf,
K. Hartmann. – Tubingen: Max Niemeyer Verlag, 2007. – 246 p.
435. Hayward, M. Introduction / M. Hayward, L. Labedz // Solzhenitsyn. One Day in
the Life of Ivan Denisovich. – N.Y.: Bantam Books, 1990. – P. V–XX.
436. Heim, М. Guidelines for the Translation of Social Science Texts [Электронный
ресурс] / M. Heim, A. Tymowsk. – Режим доступа: http:// www.acls.org/sstp.htm.
437. Heisig, J.W. Desacralizing Philosophical Translation in Japan / J.W. Heisig //
Nanzan Bulletin. – 2003. – 27. – P. 46–62.
452
438. Hirsch, E.D., Jr. Cultural Literacy. What Every American Needs To Know
/ E.D. Hirsch, Jr. – Boston: Houghton Mifflin Company, 1987. – 251 p.
439. Holborow, M. The Politics of English / M. Holborow. – L.: SAGE Publications,
1999. – 219 p.
440. Hornadge, B. Australian Slanguage. A look at what we say and how we say it
/ В. Hornadge. – Melbourne: Mandarin Australia, 1989. – 306 p.
441. Horner, B. [et.al]. Language Difference in Writing: Toward a Translingual Approach /B. Horner [et.al] // College English. – 2011. – Vol. 73. – Nо 3. – P. 299–317.
442. Jaconbson, R. On Linguistic Aspects of Translation /R. Jaconbson // The Translation Studies Reader / ed.by L. Venuti. – L.-N.Y.: Routledge, 2004. – P. 113–118.
443. Jenkins, J. Native speaker, non-native speaker and English as a Foreign Language:
time for a change / J. Jenkins // IATEFL Newsletter. – 1996. – No 131. – P. 10–11.
444. Jenkins, J. Plenary: ELF at the gate: the position of English as a Lingua Franca
/ J. Jenkins // 38th International Annual Conference Liverpool, 13–17 April 2004: Conference Selections. – IATEFL, 2004. – P. 33–42.
445. Kachru, B.B. Standards, codification and sociolinguistic realism: The English language in the outer circle / B.B. Kachru // English in the world: Teaching and learning
the language and literatures. – 1985. – Р. 11–30.
446. Kachru, B.B. The Alchemy of English: The Spread, Functions and Models of
Non-native Englishess / B. Kachru. – Oxford, 1986.
447. Kachru, B.B. Transcultural creativity in world Englishes and literary canons / В.В.
Kachru // Principles and practice in applied linguistics: Studies in honor of H.G.
Widdowson / eds. G. Gook & B. Seidhofer. – Oxford: Oxford University Press, 1995. –
Р. 271–287.
448. Katamba, F. English Words / F. Katamba. – L., 1995. – 282 p.
449. Kellman, St.G. Switching languages: translingual authors reflect on their craft
/ St.G. Kellman. – London: University of Nebraska Press, 2003. – 339 р.
450. Klemperer, V. The Language of the Third Reich: LTI, Lingua Tertii Imperii: a
philologist notebook [transl.M. Brady] / V. Klemperer. – L.: Anthlone, 2006. – 279 p.
453
451. Kromann, H.-P. Principles of Bilingual Lexicographer / H.-P. Kromann, T. Riiber,
P. Rosbach // Wörterbücher ein internationals Handbuch zur Lexiiikographie. –Berlin:
de Gruyter, 1991. – T 3. – P. 2711–2728.
452. Kronenfeld, D. Cultural Models / D. Kronenfeld // Intercultural Pragmatics. –
2008. – No 5–1. – P. 67–74.
453. Leith, D. A Social History of English / D. Leith. – L.: Routledge, 1997. – 301 p.
454. Lehmann, W.P. Historical Linguistics / W.P. Lehmann. – L., 1992. – 338 p.
455. Lu, X. Bicultural identity development and Chinese community formation: An
ethnographic study of Chinese schools in Chicago / Х. Lu //The Howard Journal of
Communications. – 2001. – 12. – Р. 203–220.
456. Lutz, W. Doublespeak / W. Lutz // Public Relations Quaterly. Winter 1988–1989.
– P. 25–30.
457. McArthur, T. Is it world or international or global English, and does it matter?
/ T. McArthur // English Today. – 2004. – 20 (3). – P. 3–15.
458. McCrum, R. Globish: How the English Language Became the World‟s Language /
R. McCrum. – N.Y.-L.: W.W. Norton and Co., Inc., 2010. – 318 p.
459. Mihas, Е. LSO Working Papers in Linguistics 5 / E. Mihas // Proceedings of
WIGL, 2005. – P. 124–139.
460. Mencken, H.L. The American Language. An Inquiry into the Development of
English in the US / H.S. Mencken – 4th ed. – N.Y., 1992. – 265 p.
461. Miller, C. The Handbook of Nonsexist Writing / C. Miller & K. Swift. – Harper,
1988. – 180 p.
462. Millward, C.M. A Biography of the English Language / C.M. Millward. – Orlando, Florida: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, 1989. – 386 p.
463. Modiano, M. International English in the global village / M. Modiano // English
Today. – 1999. – No 15 (2). – P. 22–28.
464. Montgomery, A. An Introduction to Language and Society / A. Montgomery. –
2nd ed. – L.: Routledge, 1995. – 260 p.
465. Newmark, P. A Textbook on Translation / P. Newmark. – L.: Prentice Hall, 1988.
– 292 p.
454
466. Nida, E. A. Lexical cosmetics / Eugene A. Nida //Cultures, Ideologies, and the
Dictionary. Studies in Honor of Ladislav Zgusta. – Tübingen, 1995. – P. 69–72.
467. Nielsen, S. Functions and User-Related Definitions in Online Dictionaries
/ S. Nielsen // Ивановская лексикографическая школа: традиции и инновации:
сб.науч.ст.юбилею О.М. Карповой. Иваново: Иван.гос.ун-т, 2011. – С. 197–219.
468. Nguyen, D.-H. On Cultural Dictionaries in Vietnamese / D.-H. Nguyen // Lexicographica. – Tubingen: Max Niemeyer Verlag, 1987. – Р. 142–157.
469. Northrup, D. How English Became the Global Language /D. Northrup. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2013. – 205 p.
470. Norton, B. Language, Identity and the ownership of English / B. Norton // TESOL
Quarterly. – 1997. – Vol. 31. – No. 3. – P. 409–429.
471. Orwell, G. Politics and the English Language / G. Orwell // George, O. Essays. –
L.: Penguin Books, 2000. – P. 348–360.
472. Orwell, G. Why I Write / G. Orwell // George, O. Essays. – L.: Penguin Books,
2000. – P. 1–7.
473. Pakir, A. Bilingual Education with English as an Official Language. Sociolinguistic Implications / A. Pakir // Georgetown University Round Table on Languages and
Linguistics, 1999. – Washington, D.C., 2001. – Р. 341–349.
474. Pei, M. Words in Sheep‟s Clothing / M. Pei. – N.Y., 1969. – 248 p.
475. Peikoff, L. Introduction to the 60th Anniversary Edition // Rand, A. We the Living.
– N.Y.: А Signet Book, 1995. P. V–XI.
476. Pennycoоk, A. The Cultural Politics of English as an International Language
/ A. Pennycoоk – L.: Longman, 1994. – 365 p.
477. Phillipson, R. Linguistic human rights and English in Europe / R. Phillipson,
T. Skutnabb-Kangas // World Englishes. – Vol 16 (1). – Р. 27–43.
478. Picoche, J. Histoire de la langue française [Электронный ресурс] / J. Picoche,
С. Marchello-Nizia. – Paris: Nathan, 1991. – Режим доступа: http://linglang.uqac.
479. Rand, A. The Ayn Rand Lexicon: Objectivism from A to Z / А. Rand. – N.Y.: Meridian Printing, 1988. – 534 p.
455
480. Rand, A. Foreword 1958 // A. Rand. We the Living. – N.Y.: Signet Book, 1996.
– P. XIII–XVII.
481. Rawson, H. Introduction / Н. Rawson // A Dictionary of Euphemisms and Other
Doubletalk: USA: OUP, 2008. – P. 1–11.
482. Rey, А. The concept of neologism and the evolution of terminologies in individual
languages / A. Rey // Terminology. – 2005. – 11:2. – P. 311–331.
483. Risager, K. Languaculture as a key concept in language and culture teaching
/ K. Risager // The Consequences of Mobility. – Roskilde: Roskilde Un-ty, 2005. –
P. 185–196.
484. Risager, K. Language and Culture. Global Flows and Local Complexity
/ K. Risager. – UK: Multilingual Matters, 2006. – 212 р.
485. Samoškaitė, L. 21st Century Political Euphemisms in English Newspapers: Semantic and Structural Study: MA Paper / L. Samoškaitė. – Vilnius: Vil.Pedag. Un-ty,
2011. – 56 р.
486. Schäffner, Ch. Political Discourse Analysis from the point of view of Translation
Studies / Ch. Schäffner // Journal of Language and Politics. – 2004. – No 3 (1). – P.
117–150.
487. Schmidt, W. Zur Ideologiegebundenheit der politischen Lexik / W. Schmidt
// Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. – Berlin,
1969. – S. 1–22.
488. Schmidt, W. Zum EinfluB der gesellschaftlichen Entwicklung auf den
Wortbestand der deutschen Sprache der Gegenwart in der DDR / W. Schmidt
// Deutsch als Fremdsprache. – 1973. – H. 1. – S. 30–35.
489. Schiffrin, D. Approaches to Discourse / D. Schiffrin. – Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 1998. – 470 p.
490. Scott, P. Gabriel Okara‟s The Voice: The non-Ijo reader and the pragmatics of
translingualism // Research in African Literatures. – 1990. – 21(3). – Р. 75–88.
491. Seidlhofer, В. Closing a conceptual gap: the case for a description of English as a
lingua franca / B. Seidlhofer // International Journal of Applied Linguistics. – 2001. –
Vol. 11 (2). – P. 133–154.
456
492. Selchow, S. Politics, Ideology, and Discourse (2008) [Электронный ресурс]
/ S. Selchow // Режим доступа: www.discourses.org/.../Politics,%20Ideolog.
493. Sorvali, I. Translation Studies in a New Perspective / I. Sorvali. – Wien: Lang,
1996. – 142 p.
494. Sparrow, L.M. Beyond multicultural man: Complexities of identity / L.M Sparrow
// International Journal of Intercultural Relations. – 2000. –24. – Р. 173–201.
495. Steiner, R.J. The Bilingual Dictionary in Cross-Cultural Contexts /R.J. Steiner
// Cultures, Ideologies, and the Dictionary. – Tübingen: Verlag, 1995. – P. 275–280.
496. Spooner, M. Contact Literature in English [Электронный ресурс] / M. Spooner.
– Режим доступа: http://www.eric.ed.gov.pdf.
497. Svartvik J. English One Tongue, Many Voices // J. Svartvik, G. Leech. – L.: Palgrave Macmillan, 2006. – 304 р.
498. Szpila, G. False Friends in Dictionaries. Bilingual False Cognates. Lexicography
in Poland / G. Szpila // International Journal of Lexicography. – 2005. – Vol. 19. –
No. 1. – P. 74–97.
499. Tan. J. Business Translation: Cross-Cultural Analysis and Customization. 2000
[Электронный ресурс / J. Tan // http://www.indotransnet.com/article3.html
500. Toolan, M. Recentering English: New English and Global /M. Toolan // English
Today. – 1997. – 13 (4). – P. 3–10.
501. Tretyakova, T.P. Levels of stereotype in political discussions from the perspective
of argumentation theory / Т.Р. Tretyakova // Special Fields and Cases: Proceedings of
the Fourth International Conference of the International Society for the Study of Argumentation. June 21–24.1994. – The Netherlands, Amsterdam, 1995. – Р. 225–229.
502. Ullman, S. Semantics. An Introduction to the Science of Meaning / S. Ullman. –
Oxford, 1977. – P. 3–80.
503. Underhill, J.W. Humboldt, Worldview and Language / James W. Underhill. – Edinburgh University Press, 2009. – 160 p.
504. van Dijk, T.A. Principles of Discourse. Analysis / Teun A Van Dijk // Discourse
and Society. – L.: SAGE, 1993. – Vol. 4 (2). – P. 249–283.
457
505. van Dijk, Т.А. Politics, Ideology, and Discourse [Электронный ресурс] / T.А.van
Dijk. – Barcelona: Elsevier, 2006 // Режим доступа: http://www.discourse.
506. Veisbergs, A. Euphemisms in General (Monolingual and Bilingual) Dictionaries.
Lexicological Phenomena of Lexicographical Relevance / A. Veisbergs // Proceedings
of EURALEX. – 2000. – P. 772–780.
507. Visson, L. Terminology and Ideology: Translating Russian Political Language /
Lynn Visson // Translation and Interpreting Studies. 2007. – Vol. 2. – No 2. – P. 17–91.
508. Visson, Lynn. “Is a Puzzlement” // Bridges, 2009. – 1(21), p. 74 –75
509. Webna, J. Deceptive Words. A Study in the Contrastive Lexicon of Polish and
English /J. Webna // Papers and Studies in Contrastive Linguistics. – 1977. – No 7. –
P. 73–84.
510. Weinrich, U. Languages in Contact / U. Weinrich. – N.Y., 1953.
511. Widdowson, H.G. The ownership of English / H.G. Widdowson // TESOL Quarterly. – 1994. – Vol. 28. – No. 2. – P. 377–389.
512. Widdowson, H.G. The Forum: EIL, ESL, EFL: Global issues and local interests
H.G. Widdowson // World Englishes. – 1997. – No 16 (1). – P. 135–146.
513. Wierzbicka, A. Dictionaries and Ideologies: Three Examples from Eastern Europe / А. Wierzbicka // Cultures, Ideologies, and the Dictionary. – Tübingen: Verlag,
1995. – P. 181–195.
514. Wiley, N. Inner Speech as a Language: a Saussurean Inquiry / N. Wiley // Journal
for the Theory of Social Behaviour. – 2006. – 36(3). – P. 319–341.
СПИСОК СЛОВАРЕЙ
1.
Американа. Англо-русский лингвострановедческий словарь /под ред. и
общим рук-вом д.ф.н. профессора Г.В. Чернова. – Полиграмма, 1996.
2.
Американа-II. Англо-русский лингвострановедческий словарь /под ред.
доктора филологических наук, профессора Г.В. Чернова. [Электронный ресурс]. –
М.; 2005. – 1 электрон.опт.диск (CD-ROM).
/
458
3.
Англо-русский и русско-английский словарь «ложных друзей перевод-
чика» /сост. В.В. Акуленко [и др.]. – М.: Советская энциклопедия, 1969.
4.
Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов / O.C. Ахманова. –
М., 1966. – 606 с.
5.
Бенюх, О.П. Новый русский лексикон: Русско-английский словарь с по-
яснениями / О.П. Бенюх [и др.]. – М.: Русский язык, 1999.
6.
Большая советская энциклопедия. [Электронный ресурс]. – 3-е изд. – М.:
Большая сов.энцикл., 1998. – 1 электрон.опт.диск (CD-ROM).
7.
Брилева, И.С. Русское культурное пространство: лингвокультурологиче-
ский словарь / И.С. Брилева, Н.П. Вольская, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко,
В.В. Красных. – М.: Гнозис, 2004. – 318 с.
8.
Бурак, А. Россия. Русско-английский культурологический словарь =
Cultural guide to Russia / А. Бурак [и др.]. – Москва: АСТ, 2002. – 128 c.
9. Бусыгина И.М. Общественно-политический лексикон / И.М. Бусыгина,
A.A. Захаров. – М.: МГИМО – Университет, 2009. – 276 c.
10. Даль, В. Толковый словарь русского языка / B. Даль. – М., 1984.
11. Елистратов, В.С. Словарь русского арго / B.C. Елистратов. – М.:
Рус.словари, 2000. – 693 c.
12. Ермолович, Д.И. Англо-русский словарь персоналий / Д.И. Ермолович. –
2-е изд., стереотип. – М.: Рус.яз., 1999. – 336 с.
13. Ермолович, Д.И. Новый большой русско-английский словарь / Д.И. Ермолович. – М.: Рус.яз. – Медиа, 2004.
14.
Ефремова, Т.Ф. Большой современный толковый словарь русского языка
[Электронный ресурс] / Т.Ф. Ефремова. – 1 электрон.опт.диск (CD-ROM).
15. Земцов, И. Советский политический язык / И. Земцов. – Overseas Publications Interchange Ltd, 1985. – 431 р.
16. Зинченко, В.Г. Словарь по межкультурной коммуникации: понятия и персоналии / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе, Г.П. Рябов. [и др.]; – М.:
Флинта: Наука, 2010. – 136 с.
17. Кабакчи, В.В. The Dictionary of Russia / B.B. Кабакчи. – СПб., 2002.
459
18. Кожемякина, В.А. Словарь социолингвистических терминов / В.А. Кожемякина [и др.]. – М.: ИЯРАН, 2006. – 312 с.
19. Коровушкин, В.П. Словарь русского военного жаргона / В.П. Коровушкин. – Екатеринбург: Изд-во Уральского Унив-та, 2000. – 371 с.
20. Кубрякова, Е.С. и др. Краткий словарь когнитивный терминов / Е.С. Кубрякова [и др.]; под общей редакцией Е.С. Кубряковой. – М.: Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997. – 245 с.
21. Лагута, О.Н. Стилистика. Культура речи. Теория речевой коммуникации:
учебый словарь терминов: учебное пособие / отв. ред. Н.А. Лукьянова. – Ч. 2. –
Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2000.
22. Маринова, Е.В. Теория заимствования в основных понятиях и терминах:
словарь-справочник /Е.В. Маринова. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 240 с.
23. Матюшенков, В.С. Dictionary of Americanisms, Briticisms and Australianisms. Англо-русский словарь особенностей английского языка в Северной Америке, Великобритании и Австралии / В.С. Матюшенков. – М.: ФЛИНТА: Наука,
2002. – 520 с.
24. Мокиенко, В.М. Толковый словарь языка Совдепии / В.М. Мокиенко,
Т.Г. Никитина. – СПб.: Фолио-пресс, 1998. – 704 с.
25. Мокиенко, В.М. Толковый словарь языка Совдепии / В.М. Мокиенко, .
Г. Никитина. – 2-е изд, испр.и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 505 с.
26. Моченов, А.В. Словарь современного жаргона российских политиков и
журналистов / А.В. Моченов, С.С. Никулин, А.Г. Ниясов, М.Д. Саваитова. – М.:
ОЛМА-ПРЕСС, 2003.
27. Нелюбин, Л.Л. Толковый переводческий словарь / Л.Л. Нелюбин. –
3-е изд., перераб. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 320 с.
28. Ожегов, С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – 20-е стереот.изд. –
М.: Русский язык, 1988. – 951 с.
29. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка /С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – 2-е изд. – М.: Азъ, 1995. – 907 с.
460
30. Палажченко, П.P. Мой несистематический словарь / П.Р. Палажченко. –
М.: Р. Валент, 2003. – 303 с.
31. Рум,
А.Р.У.
Великобритания.
Лингвострановедческий
словарь
/ А.Р.У. Рум. – М.: Рус.яз., 1999. – 560 с.
32. Русско-английский словарь / под рук. проф. А.И. Смирницкого, ред.
проф. О.С. Ахманова. – 21-е стереотип. изд. – М.: Рус.язык, 1998. – 951 р.
33. Сеничкина, Е.П. Словарь эвфемизмов русского языка / Е.П. Сеничкина. –
М.: Флинта: Наука, 2008. – 464 с.
34. Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Новейшие и наиболее
распространенные заимствования в современном русском языке: краткий словарьсправочник / Г.Н. Скляревская, И.О. Ткачева. – М.: Академия, 2004. – 2 с.
35. Скляревская, Г.Н. Давайте говорить правильно! Политический язык современной России: краткий словарь-справочник / Г.Н. Скляревская, И.О. Ткачева.
– М.: Академия, 2004. – 224 с.
36. Словарь иностранных слов. – М.: Рус.язык, 1988. – 624 с.
37. Советский энциклопедический словарь. – М:, 1982. – 1599 с.
38. Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения /
под ред. Г.Н. Скляревской. – СПб: Фолио-пресс, 2000. – 700 с.
39. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения
конца ХХ столетия / под ред. Г.Н. Скляревской. – М.: Астрель, 2001. – 944 с.
40.
Ушаков, Д.Н. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] /
Д.Н. Ушаков. – М.: АСТ, 2000. – 1 электрон.опт.диск (CD-ROM).
41. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / гл.ред. В.Н. Ярцева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 685 c.
42. Японско-русский словарь / ред. Т. Фудзинума. Токио: Кэнкюся, 2000.
43. American Heritage Dictionary, The. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.answers.com/library/dictionary-cid-20665
44. Aron, L. Executive Memorandum #308. Beware of Misleading Soviet Terms.
September 11, 1991–1995 / L. Aron, W. Eggers. – Heritage, 2006.
461
45. Auto, J. The Oxford Dictionary of Modern Slang / J. Auto, J. Simpson. – New
York: OUP, 2005. – 324 p.
46. Ayn Rand Lexicon, The. Objectivism from A to Z. – N.Y.: Meridian Printing,
1988. – 535 p.
47. Baker, C. Encyclopedia of Bilingualism and Bilingual Education / C. Baker,
H.N. Hornberger. – UL: Multilingual Matters, 1998.
48. Barnhart Dictionary of the New English since 1963, The / ed. С.L. Barnhart et
al. – London: Longman, 1973. – 512 р.
49. Barnhart, D. K. The Barnhart New-Words Concordance. Supplemented edition.
– Cold Spring, N.Y.: Lexik House Publishers, 1995. – 702 p.
50. Barnhart, R. The Third Barnhart Dictionary of New English / R.K. Barnhart,
S. Steinmetz, Cl. Barnhart. – US: The H.W. Wilson Company, 1990. – 565 p.
51. BBC English Dictionary. – BBC English and HarperCollins Publishers Ltd,
1993. – 1371 p.
52. Beard, H. The Official Politically Correct Dictionary & Handbook / Н. Beard,
Ch. Cerf. – New York: Villard Books, 1995. – 194 p
53. Bloomsbury Neologisms, 1991. – London: Bloomsbury Publishers Ltd, 1991.
54. Britannica Guide to Russia, The. The essential guide to the nation, its people,
and culture / Introduction M. Dejevsky. – PA: Running Press, 2009. – 332 p.
55. Business
Dictionary
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
–
Режим
доступа:
http://www.businessdictionary.com.html.
56. Cambridge
Dictionary
[Электронный
ресурс].
http://dictionary.cambridge.org/dictionary.
57. Cambridge Encyclopedia of Russia and the Soviet Union, The. – L.: Cambridge University Press, 1982. – 492 p.
58. Cambridge Encyclopedia of Russia and the Former Soviet Union, The. – L.:
Cambridge University Press, 1994. – 604 р.
59. Carver, C.M. A History of English in Its Own Words / C.M. Carver. – New
York: Harper Collins Publications, 1991. – 276 p.
60. Cassel Dictionary of Word Histories, The. – L.: Cassel, 1999. – 690 р.
462
61. Chronology of British History. – Scotland: Geddes & Grosset Ltd, 1998.
62. Collins Cobuild Advanced Learner‟s English Dictionary. – New Digital Edition 2008 [к версии ABBYY Lingvo x3] – HarperCollins Publishers, 2008.
63. Collins English Dictionary [Электронный ресурс]. – HarperCollins Publishers, 2006. – 1 электрон.опт.диск (CD-ROM).
64. Collins Gem. Australian English Dictionary. – Major New ed. – Sydney: Harper
Collins Publishers, 1993. – 632 р.
65. Concise Oxford Companion to English Literature, The / ed. M. Drabble,
J. Stringer. – 3rd ed. – OUP, 2007. – 804 p.
66. Corten, I.H. Vocabulary of Soviet Society and Culture. A Selected Guide to
Russian Words, Idioms, and expressions of the Post-Stalin Era. 1953–1991 / I.H. Corten.
– Durham and London: Duke University Press, 1992. – 176 p.
67. Crowe, B.A. Concise Dictionary of Soviet Terminology, Institutions and Abbreviations / B.A. Crowe. – 1st ed. – Oxford: Pergamon Press, 1969. – 182 p.
68. Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics / D. Crystal. – 6th ed. –
Blackwell Publishing, 2008.
69. Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language / D. Crystal.
– USA: Cambridge University Press, 1996. – 489 p.
70. Dejevsky, N. Cultural Atlas of Russia and the Former Soviet Union / N. Dejevsky, R. Milner-Gulland. – UK: Checkmark Books, 1998. – 240 р.
71. De Mente, B.L. NTC‟s Dictionary of China‟s Culturally Coded Words: the
Complete Guide to Key Words that Express How the Chinese Think, Communicate,
and Behave / B.L. De Mente. – Lincolnwood: NTC Publishing Co., 1995. – 506 p.
72. Dictionary of American Regional English. – Cambridge: СUР, 2002.
73. Encyclopedia of Marxism: Glossary of Terms. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.marxists.org/glossary/terms/p/o.htm.
74. Encyclopedia of Russian History from the Christianization of Kiev to the
Break-Up of the U.S.S.R. – Santa Barbara: ABC-Clio, 1993. – 483 p.
463
75. European Commission. Directorate-General for Translation. English Style
Guide. A handbook for authors and translators in the EC. 2010 [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://ec.europa.eu/translation/writing/style_guides.
76. Glossary of Military Terms & Slang from the Vietnam War A-C [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www2.iath.virginia.edu/sixties/HTML.
77. Glottopedia
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.glottopedia/.
78. Idee w Rosji. Ideas in Russia. Lexykon rosyjsko-polsko-angielski / ред. А. де
Лазари. – Т. 1. – Warszawa, 1999. – 492 p.
79. Idee w Rosji. Ideas in Russia. Lexykon rosyjsko-polsko-angielski /ред. А. де
Лазари. – Т. 2. – Lódźd, 1999. – 477 p.
80. Idee w Rosji. Ideas in Russia. Lexykon rosyjsko-polsko-angielski /ред. А. де
Лазари. – Т. 4 – Lódźd, 1999. – 672 p.
81. Idee w Rosji. Ideas in Russia. Lexykon rosyjsko-polsko-angielski /ред. А. де
Лазари. – Т. 3 – Lódźd, 2000. – 499 p.
82. Kobylyanskiy, I. Russian World War II Dictionary: A Russian-English Glossary of Special Terms, Expressions, and Soldiers‟ Slang. – U.S.A.: Helion and Company,
2011. – 48 p.
83. Laird, Ch.G. Webster‟s New World Roget‟s A –Z Thesaurus / Ch.G. Laird. –
3rd ed. – Cleveland, Ohio: Wiley Publishing Inc., 2003. – 500 p.
84. Longman Dictionary of English Language and Culture. – Longman, 1999.
85. Longman Register of New Words. – Oxford: OUP, 1989.
86. Longman Register of New Words. – Vol. 2. – Oxford: OUP, 1990.
87. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. International Student
Edition. – Oxford: Macmillan, 2002.
88. Macquarie Dictionary of New Words, The. – Pty: Macquarie Library, 1990.
89. Matthews, P.H. The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. – N.Y.: OUP,
1997. – 410 p.
90. Mendez, А. Glossary of Spy Terms [Электронный ресурс] / A. Mendez,
J. Mendez. – Режим доступа: http://www.themasterofdisguise.com/glossary.html.
464
91.
Miller, Ch. E. Glossary of terms and concepts in peace and conflict studies
/ Ch.E. Miller. – 2nd ed. –Africa Programme University for Peace, 2005. – 120 p.
92. Moscow Times Style Guide, The. 2006. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.themoscowtimes.com/
93. Mossman, Е. Changing Patterns of Russian Political Discourse: A Dictionary of
Russian Politics, 1985– Present. – US: Un.of Pennsylvania, 1991. – 22 р.
94. New Dictionary of Cultural Literacy, The / ed. E.D. Hirsch, Jr., J. F. Kett,
J. Trefil. – 3rd ed. – Houghton Mifflin Company, 2002.
95. New Encyclopаedia Britannica, The. – 15th ed. – Vol. 2. – Encyclopaеdia Britannica, Inc., 1993.
96. Oxford Dictionary of English, Revised Ed. – Oxford: Oxford University Press
2005. [Электронный ресурс для ABBYY Lingvo x3].
97. Oxford Advanced Learner‟s Dictionary of Current English / ed. A.S. Hornby,
A. P. Crowie, A.G. Gimson. – 3rd ed. – Oxford: OUP, 1978.
98. Oxford Advanced Learner‟s Dictionary of Current English / ed. A.S. Hornby,
A.P. Crowie, A.G. Gimson. – Oxford: OUP; M.: Russian Language Publishers, 1982.
99. Oxford Advanced Learner‟s Dictionary of Current English / ed. A.S. Hornby,
A. P. Crowie. – Oxford: OUP, 1988. – 1041 p.
100. Oxford Dictionary of Foreign Words and Phrases, The. – Oxford University
Рress, 2005.
101. Oxford Dictionary of Phrase and Fables. – N.Y.: OUP, 2006. – 805 p.
102. Oxford Dictionary of the New Words. – N.Y.: OUP, 1997. – 357 р.
103. Oxford Dictionary of New Words. – Oxford: OUP, 1981.
104. Oxford English Dictionary, The. – 2nd ed. – Oxford: Clarendon Press, 1989.
105. Oxford English Dictionary, The. Supplement. – Vol. I. – Oxford, 1972.
106. Oxford English Dictionary, The. Supplement. – Vol. II. – Oxford, 1976.
107. Oxford English Dictionary, The. Supplement. – Vol. III. – Oxford, 1982.
108. Oxford Guide to British and American Culture for learners of English
/Jonathan Crowther (ed). – Oxford: Oxford University Press, 1999. – 599 p.
465
109. Pike, J. Glossary – Soviet Union [Электронный ресурс] / J. Pike. – Global
Security.org., 2005. – Режим доступа: http://www.a.tribulfusion.com.
110. Political
Dictionary.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.fast-times.com/political/.html.
111. Political Words and Terms [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.ircpolitics.org/glossary.html.
112. Random House Webster‟s College Dictionary. – 2nd ed. – N.Y.: Random, 1999.
113. Random House Unabridged Dictionary. – 2nd ed. – N.Y., 1993. – 2478 р.
114. Rawson, H. A Dictionary of Euphemisms and Other Doubletalk. – 4 ed. –
USA: Oxford University Press, 2008.
115. Rossi, J. The Gulag Handbook. An English Dictionary of Soviet Penitentiary
Institutions and Terms Related to the Forced Labor Camps /J. Rossi; transl. from Russian by W.A. Burhans. – N.Y.: Paragon House, 1989. – 610 p.
116. Rottman, G.L. FUBAR: Soldier Slang of World War II / G.L Rottman. –
N.Y.: Osprey Publishing, 2007. – 300 p.
117. Routledge Companion to Sociolinguistics, The /ed. C. Llamas, et al. – L.N.Y.: Routledge, 2007. – 271 p.
118. Safire, W. Safire‟s Political Dictionary /W. Safire. – N.Y.: OUP, 2008.
119. Saint Petersburg Times Style Guide, The. 1997. – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.thesaintpetersburgtimes.com/
120. Sommer, von St. Lexikon des Alltags der DDR. Von “Altstoffsammlung” bis
“Zirkel schreibender Arbeiter” /von St. Sommer. – Berlin, Schwarzkopf, 2000. –400S.
121. Times Atlas of World History, The / ed. by G. Barraclough. – L.: Times
Books, 1993. – 340 p.
122. Webster‟s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language. –
Updated Revised Deluxe Edition. – Aveenel, NJ: Gramercy Books, 1996. – 2230 p.
123. Zemtsov, I. Manipulation of a Language. Lexicon of Soviet Political Terms
/ I. Zemtsov. – U.S.A.: HERO BOOKS, 1984.
124. Zemtsov, I. Encyclopedia of Soviet Life / I. Zemtsov. – USA, 1991. – 380 р.
466
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
1.
Amis, M. Kobe the Dread. Laughter and the Twenty Million / М. Amis. – L.,
2002. – 306 p.
2.
Andrew Ch. The Sword and the Shield. The Mitrokhin Archive and the Secret
History of the KGB [Электронный ресурс] / Ch. Andrew, V. Mitrokhin. – N.Y.: Basic
Books, 1999. – Режим доступа: http://www.nytimes.com/books/first.html.
3.
Azulay, E. The Russian Far East: Guidebook / Е. Azulay, А. Azulay. – N.
Y., 1995. – 320 p.
4.
Baraban, E. Russia in the Prism of Popular Culture: Russian and American
Detective Fiction and Thrillers of the 1990s: A thesis / Е. Baraban. – US: University of
British Columbia, 2003. – 298 р.
5.
Bartley, D.E. Soviet Approaches to Bilingual Education / Е. Bartley. – Phila-
delphia, PA: The Center for Curriculum Development, 1971. – 281 p.
6.
Berryman, J. Russian Foreign Policy: an Overview / John Berryman // Russia
after the Cold War /ed.by M. Bowler, C. Ross. – L.: Longman, 2000. – P. 336–358.
7.
Bogdanov, К. The Rhetoric of Ritual: The Soviet Sociolect in Ethnolinguistic
Perspective
[Электронный
ресурс]
/
K.
Bogdanov.
–
Режим
доступа:
http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/eng005/f
8.
Brovkin, V. Russia after Lenin. Politics, Culture and Society 1921–1929. –
L.: Routledge, 2005. – 271 p.
9.
Brooks, J. Revolutionary lives: public identities in Pravda during the 1920s /
Jeffrey Brooks // New Directions in the Soviet History. Selected papers from the 4 th
World Congress for Soviet and East European Studies. – N.Y.: CUP, 1992. – P. 27–40.
10. Broué, P. Gorbachev and History / P. Broué // New Directions in the Soviet
History. Selected papers from the Fourth World Congress for Soviet and East European
Studies. – N.Y.: CUP, 1992. – P. 3–23.
11. Buckler, J.A. What comes after “Post-Soviet” in Russian studies? / J.A. Buckler // PMLA. – 2009. – 124(1). – P. 251–263.
12.
Bunion, M. Life in Russia / M. Bunion. – N.Y., 1985. – 298 p.
467
13.
Carnaghan, E. Out of Order: Russian Political Values in an Imperfect World
/E. Carnaghan – Pennsylavnia University Press, 2007. – 330 p.
14. Chamberlain, L. Volga, Volga. A Journey down Russia‟s Great River / L.
Chamberlain. – L.: Picador, 1996. – 274 p.
15. Chudo, A. And Quiet Flows the Vodka: or When Pushkin Comes to Shove:
The Curmudgeon‟s Guide to Russian Literature with the Devil‟s Dictionary of Received
Ideas / Gary S. Morson, Alicia Chudo. – Norwestern Un.Press, 2000. – 248 р.
16.
Clancy, T. The Bear and the Dragon / T. Clancy. – L., 2001. – 1137 p.
17.
Cohen, S.F.
Sovieticus. American Perceptions and Soviet Realities /
S.F. Cohen – N.Y.: W.W. Norton & Company, 1986. – 181 p.
18. Dickson, P. Sputnik. The Shock of the Century / P. Dickson. – USA: Berkeley, 2007. – 310 p.
19.
Dimbleby, J. Russia. A Journey to the Heart of a Land and its People /
J. Dimbleby. – BBC Books, 2009. – 570 p.
20. Duncan, P.J.S. Contemporary Russian Identity Between East and West
/ P.J.S. Duncan // The Historical Journal. – 2005. – 48 (1). – P. 277–294.
21. Dunlop, J.B. The New Russian Revolutionaries /J.B. Dunlop. – Belmont:
Nordland Pub. Company, 1976. – 344 p.
22. Denton, A. Russian Political Culture since 1985 [Электронный ресурс] /
А. Denton. – Режим доступа: http://www.sras.org/
23. Dawidow, M. The Soviet Union Through the Eyes of an American /
М. Dawidow. – M.: News Agency Publishing House, 1976. – 229 p.
24.
Duranty, W. The Kremlin and the People / W. Duranty. – L., 1942. – 176 p.
25.
Figes, O. Natasha‟s Dance. A Cultural History of Russia / O. Figes. – Pen-
guin, 2005. – 729 p.
26.
Figes, O. The Whisperers. Private Life in Stalin‟s Russia / O. Figes. – Pen-
guin, 2008.–740 p.
27. Film Factory. Russian and Soviet Cinema in Documents 1896–1939, The / ed.
by R. Taylor, I. Christie. – L.: Routledge, 1994.
468
28. Fitzpatrick, Sh. Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times:
Soviet Russia in the 1930s / Sh. Fitzpatrick. – N.Y.: OUP, 2000. – 288 p.
29. Fitzpatrick, Sh. Happiness and toska: an essay in the history of emotions in
pre-war Soviet Russia [Электронный ресурс] / Sh. Fitzpatrick // The Australian Journal of Politics and History. – 2004 (Sep.) – Режим доступа: http://findarticles.com/
30. Flannery, S. GULAG / S. Flannery. – N.Y.: Charter Books, 1987. – 372 p.
31. Freeland, Ch. Sale of the Century. The Inside Story of the Second Russian
Revolution / Ch. Freeland. – L.: Abacus, 2006. – 384 p.
32. Galeotti, M. Crime, corruption and the law /M. Galeotti // Russia After the
Cold War / ed. M. Bowker, C. Ross. – Addison-Wesley, 1999. – P. 135–150.
33. Gilbreath, O. Miss Amerikanka / O. Gilbreath. – N.Y.-L.: Harper & Brothers,
1918. – 297 p.
34.
Goldman, M. Oilopoly. Putin, Power and the Rise of the New Russia / M.
Goldman. – Oxford: Oneworld, 2008. – 244 p.
35.
Gray, F. du P. Soviet Women. Walking the Tightrope / F. du P. Gray. – N.Y.:
Anchor Books Doubleday, 1991. – 213 p.
36. Grushin, O. The Dream Life of Sukhanov / O. Grushin. – Penguin Books,
2007. – 356 p.
37. Harris, R. Archangel / R. Harris. – L.: Arrow Books, 1999. – 421 p.
38. Hayward, M. Introduction / M. Hayward, L. Labedz // Solzhenitsyn. One
Day in the Life of Ivan Denisovich. – N.Y.: Bantam Books, 199 0. – P. V–XX.
39.
Helden van W.A. Case and Gender. Concept Formation between Morpholo-
gy and Syntax / van W.A. Helden – Vol. 1. – Amstedam: Rodopi D.B., 1993. – 566 p.
40. Hoffman, D.E. The Dead Hand. The Untold Story of the Cold War Arms
Race and Its Dangerous Legacy. – N.Y.: Anchor Books, 2010. – 577 p.
41.
Hopf, Т. Identities, Institutions, and Interests. Moscow‟s Foreign Policy from
1945–2000
[Электронный
ресурс]
/
T.
Hopf.
–
Режим
доступа:
http://www.universitypublishingonline.org/.
42.
718 p.
Hoskings, G. Russia and the Russians /G. Hoskings. – L.: Penguin, 2001. –
469
43.
Hughes, J. Transition models and democratisation in Russia /J. Hughes //
Russia after the Cold War /ed. Mike Bowker. – Addison-Wesley, 1999. – P. 21–49.
44. Jack, A. Inside Putin‟s Russia / J. Jack. – L.: Granta, – 2004. – 350 p.
45.
Johnson, P. Modern Times. A History of the World from the 1920s to the
1990s. – L.: Orion Books, 1996. – 876 p.
46.
Klebnikov, P. Godfather of the Kremlin. Boris Berezovsky and the Looting
of Russia. The Decline of Russia in the age of gangster capitalism. – USA Harcout,
2000. – 400 p.
47. Kedziewood, R. The Tourist‟s Russia / R. Kedziewood. – N.Y.: Dodd, Mead
& Co., 1912. – 253 p.
48.
Kennan, G.F. Around Cragged Hill. A Personal and Political Philosophy
/ G.F. Kennan. – N.Y.: W.W. Norton and Company, 1993. – 272 p.
49.
Kerblay, B. Modern Soviet Society / B. Kerblay. – L., 1983. – 321 p.
50.
Keylor, W.R. The Legacy of World War Two: Decline, Rise and Recovery
[Электронный ресурс] / W.R. Keylor. – Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/
51.
Knopf, A.A. Old Bolshevik / А.А. Knopf. – N.Y., 1996. – 424 p.
52.
Kolarz, W. The Peoples of the Soviet Far East / W. Kolarz. – L.: George
Philip, 1954. –193 p.
53.
Korchilov, I. Translating History. Thirty Years on the Front Lines of Diplo-
macy with a Top Russian Interpreter / I. Korchilov. – N.Y.: Scribner, 1997. – 400 p.
54.
Lane, D. Soviet Society under Perestroika / D. Lane. – L.: Routledge, 1992.
– 441 p.
55. Lawrence, J. A History of Russia / J. Lawrence. – N.Y.: A Meridian Book,
1993. – 364 p.
56. Lear, J. Death in Leningrad / J. Lear. – L.: Pluto Press, 1986. – 183 p.
57. Lih, L.Т. Bread and Authority in Russia, 1914–1921 / L.Т. Lih. – BerkeleyLos Angeles-Oxford: University of California Press, 1990. – 303 p.
58. Lieven, D. Empire. The Russian Empire and its Rivals /D. Lieven. – L.: John
Murray, 2000. – 486 p.
470
59.
Lloyd, J. Rebirth of a Nation. An Anatomy of Russia / J. Lloyd. – L., 1998. –
478 p.
60.
Lloyd, J. Perestroika and its Discontents [Электронный ресурс] / J. Lloyd //
LRB. – 2011. –Vol. 33. – No 12. – Режим доступа: http://www.lrb.co.uk
61.
Lucas, E. The New Cold War: How the Kremlin Menaces both Russia and
the West / E. Lucas. – revised ed. – L., Berlin, N.Y.: Bloomsbury, 2009. – 350 p.
62.
Luke, G.J. Oil and the Russian State. Chapter One [Электронный ресурс]
/ G.J. Luke. – Режим доступа: http://lukegjohnson.files.wordpress.com/2010/06/
63. MacKenzie, D.M. A History of Russia and the Soviet Union / D.M MacKenzie. – 3rd ed. – Chicago: The Dorsey Press, 1987. – 924 p. (XXXII p. Index)
64.
Malia, M. Russia under Western Eyes. From the Bronze Horseman to the
Lenin Mausoleum /М. Malia. – Harvard University Press, 1999. – 514 p.
65.
Meier, A. Black Earth: Russia after the Fall /A. Meier. – L.: Harper Perenni-
al, 2004. –511 p.
66.
Merridale, C. Ivan‟s War. The Red Army 1939–45 / C. Merridale. – L.: Fa-
ber, 2005. – 396 p.
67.
Milner-Gulland, R. The Russians /R. Milner-Gulland. – MA, USA: Black-
well, 1997. – 260 p.
68.
Minorities of the Soviet Far East, The // Unitas. – Philadelphia: Santo Tomas
University Press, June 1994. – Vol. 67. – No 2. – P. 242–249.
69.
Morrison, D. Gorbachev Mikhail. An Intimate Biography / Introduction by
Strobe Talbot / D. Morrison. – USA: Time Incorporated, 1988. – 264 p.
70. Nove, A. Glasnost in Action. Cultural Renaissance in Russia / А. Nove. – L.:
Unwin Hyman, 1989. – 251 p.
71. Palazchenko, P. My Years with Gorbachev and Shevardnadze The Memoir of
a Soviet Interpreter [Электронный ресурс] / P. Palazchenko. – Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1997. – Режим доступа: http://pavelpal.ru/node/
72. Pipes, R. The Russian Revolution. 1899 – 1917 / R. Pipes. – Fontana Press,
1992. – 944 p.
471
73.
Post, L. van der. Journey into Russia / L. van der Post. – L.: Penguin Books,
1964. – 352 p.
74.
Pryce-Jones, D. The War That Never Was. The Fall of the Soviet Empire.
1985–1991 / D. Pryce-Jones. – L.: Weidenfeld & Nicolson, 1995. – 456 p.
75. Raleigh, D.J. Russia‟s Sputnik Generation. Soviet baby Boomers Talk about
Their Lives / D.J. Raleigh. – Indiana University Press, 2006. – 299 p.
76. Rand, А. Anthem /A. Rand. – 1st printing 1953. – Caldwell, 1999. – 105 р.
77. Rand, А. Atlas Shrugged / A. Rand. – N.Y.: А Signet, 1992. – 1075 р.
78. Rand, A. We the Living / A. Rand. – N.Y.: А Signet Book, 1996. – 464 p.
79. Ray, N. Vietnam / N. Ray, W. Yanagihara. – Lonely Planet, 2005. – 511 p.
80. Rediscovering Russia in Asia. – N.Y.: Armonk, 1995. – 356 p.
81. Rees, L. Behind Closed Doors. Stalin, The Nazis and The West / L. Rees. –
BBC Books, 2009. – 442 p.
82. Remnick, D. The Civil Archipelago. How far can the resistance to Vladimir
Putin go? / D. Remnick // The New Yorker Dec. 19, 2011. – P. 95–108.
83. Richards, S. Epics of Everyday Life. Encounters in Changing Russia / Susan
Richards. – Viking, 1990. – 366 p.
84. Richmond, Y. From Nyet to Da. Understanding the Russians / Y. Richmond.
– Yarmouth, Maine: Intercultural Press, Inc., 1992. – 175 p.
85. Richmond, Y. Cultural Exchange and the Cold War Raising the Iron Curtain.
2003
[Электронный
ресурс]
/
Y.
Richmond
Режим
доступа:
http://www.psupress.org/justataste/
86. Robson, R.R. Solovki. The Story of Russia Told through its Most Remarkable
Islands / R.R. Robson. – New Haven: Yale University Press, 2004. – 302 p.
87. Rosefielde, St. Russia in the 21st Century. The Prodigal Superpower / St.
Rosefielde. – N.Y.: CUP, 2005. – 244 p.
88. Rutherfurd, E. Russka / E. Rutherfurd. – N.Y.: Ivy Books, 1991. – 945 p.
89. Satter, D. Darkness at Dawn. The Rise of the Russian Criminal State / D. Satter. – New Haven: Yale University Press, 2003. – 314 p.
472
90. Service, R. A History of Modern Russia from Nicholas II to Putin / R. Service. – L.: Penguin Books, 1997. – 659 p.
91. Service, R. Experiment with a People. From 1991 to the Present / R. Service.
–L.: Macmillan, 2003. – 406 p.
92. Sheldon, S. The Doomsday Conspiracy / S. Sheldon. – NY: Warner Books,
2001. – 401 p.
93. Shteyngart, G. The Russian Debutante‟s Handbook / G. Shteyngart. – N.Y.:
Riverhead Books, 2002. – 476 p.
94. Shteyngart, G. Absurdistan / G. Shteyngart. – N.Y., 2007. – 333 p.
95. Smith, H. The Russians / H. Smith. – N.Y.: Ballantine, 1984. – 775 p.
96. Smith, H. The New Russians / H. Smith. – N.Y.: Avon, 1991. – 734 p.
97. Smith, M.C. Red Square / M.C. Smith. – USA: Fontana, 1993. – 439 p.
98. Smith, M.C. Wolves Eat Dogs / M.C. Smith. – N.Y.: Simon, 2004.
99. Smith, S.A. The Russian Revolution. A very Short Introduction / S.A. Smith.
– NY: OUP, 2002. – 180 p.
100. Solzhenitsyn, A. One Day in the Life of Ivan Denisovich /A. Solzhenitsyn. –
N.Y.: Bantam Books, 1990. – 203 p.
101. Soviet and Post-Soviet Identities. – Cambridge: CUP, 2012. – 370 p.
102. Soviet Union, The. – Chicago: Childrens (sic) Press, 1990. – 48 р.
103. Stephan, J.J. The Russian Far East. A History / J.J. Stephan. – Stanford, California: Stanford University Press, 1996. – 481 p.
104. Steele, J. Eternal Russia. Yeltsin, Gorbachev and the Mirage of Democracy
/ J. Steele. – L.: Faber and Faber, 1994. – 427 p.
105. Stuermer, M. Putin and the Rise of Russia / M. Stuermer. – L.: Weidenfeld,
2008. – 253 p.
106. Taubman, W. Moscow Spring / W. Taubman, J. Taubman. – N.Y.: Summit
Books, 1989. – 304 p.
107. Taplin, M. Open Lands: Travels through Russia‟s Once Forbidden Places /
M. Taplin. – Vermont: Steerforth Press, 1998. – 376 p.
473
108. Thomas, B. Red Tape. Adventure Capitalism in the New Russia / B. Thomas,
Ch. Sutherland. – N.Y.: A Dutton Book, 1992. – 271 p.
109. Tucker, R.C. The Soviet Political Mind. Stalinism and Post-Stalin Change
/ R.C. Tucker. – N.Y.: W. W. Norton & Company, 1972. – 304 p.
110. Tumarkin, N. The Living & the Dead. The Rise and Fall of the Cult of World
War II in Russia / N. Tumarkin. – Basic Books, 1994. – 242 p.
111. USSR Today, The. Facts and Interpretations / ed. by Leo Hecht. – 2nd rev. ed.
– N.Y., 1982. – Р. 140–180.
112. Walker, M. The Waking Giant / M. Walker. – L.: Abacus, 1987. – 315 p.
113. Walker, R. Six Years that Shook the World: Perestroika – the Impossible
Project / R. Walker. – Manchester University Press, 1993. – 312 p.
114. Wettlin, M. Fifty Russian Winters. An American Woman‟s Life in the Soviet
Union / M. Wettlin. – N.Y.: John Wiley and Sons, 1994. – 324 p.
115. Wilson, A. Youth and Society in a Changing Russia / А. Wilson, N. Bachkratov. – L.: Penguin Books, 1988. – 249 p
116. Wood, R.K. The Tourist‟s Russia / R.K. Wood. – N.Y.: Dodd, 1912. – 253 p.
117. World is Everyone‟s Concern, The. – M.: Raduga, 1987. – P. 201–209.
118. Yergin, D. Russia 2010 and What it Means for the World / D. Yergin. – L.:
Nicholas Brealey Publications, 1994. – 327 p.
119. Youngblood, D.J. Entertainment or Enlightenment? Popular Cinema in Soviet
Society, 1921–1931/ D.J. Youngblood // New Directions in the Soviet History. Selected
papers from the 4th World Congress for Soviet and East European Studies. – N.Y.: CUP,
1992. – P. 41–61.
120. Zemtsov, I. Gorbachev. The Man and the System / I. Zemtsov, J. Farrar. –
U.S.A.: New Bounswick-Oxford: Transaction Publishers, 1989. – 462 p.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ СЛОВАРЕЙ И СПРАВОЧНЫХ ИЗДАНИЙ
Арго
Елистратов, В.С. Словарь русского арго
БСТСРЯ
Ефремова, Т.Ф. Большой современный
474
Даль ТСРЯ
Даль, В. Толковый словарь русского языка
Жаргон
Коровушкин, В.П. Словарь русского военного
Заимствования
Скляревская Г.Н. Новейшие и наиболее
ЗемцовПолит.
Земцов, И. Советский политический язык
КСКТ
Кубрякова, Е.С. и др. Краткий словарь
ЛЭС
Языкознание. Большой энциклопедический
НБРАС
Ермолович, Д.И. Новый большой
Несист.словарь
Палажченко, П. Мой несистематический
Новый лексикон
Бенюх, О.П. [и др.] Новый русский лексикон
ОПЛ
Бусыгина И.М. Общественно-политический
ПолитЯзык
Скляревская Г.Н. Политический язык
РАС 1998
Русско-английский словарь А.И. Смирницкого
РКП
Брилева, И.С. [и др.]
СИС
Словарь иностранных слов
СЛТ
Ахманова О.С. Словарь лингвистических
Словарь жаргона
Моченов, А.В. Словарь современного жаргона
Словарь ЛДП
Англо-русский и русско-английский словарь
Словарь МКК
Зинченко, В.Г. Словарь по межкультурной
Словарь ТЗ
Маринова, Е.В. Теория заимствования
Словарь Ушакова
Ушаков, Д.Н. Толковый словарь
Совдепия 1998
Мокиенко, В.М. Толковый словарь языка
Совдепия 2005
Мокиенко, В.М. Толковый словарь языка
ССТ
Кожемякина, В.А. Словарь социолингвистических
СРЯ 1994
Ожегов, С.И. Словарь русского языка
СРЯ 1995
Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь
СРЯ ХХ 2000
Толковый словарь русского языка конца ХХ века
СРЯ ХХ 2001
Толковый словарь современного русского языка
ССТ
Кожемякина, В.А. Словарь социолингвистических
Стилистика
Лагута, О. Н. Стилистика. Культура речи. Теория
СЭС
Советский энциклопедический словарь
475
ТЗ
Маринова, Е.В. Теория заимствования в основных
ТПС
Нелюбин, Л.Л. Толковый переводческий словарь
ЭвфРЯ
Сеничкина, Е.П. Словарь эвфемизмов русского
ЯРС
Японско-русский словарь
AHD
American Heritage Dictionary, The
Atlas
Dejevsky N. Cultural Atlas of
Barnhart
Barnhart Dictionary of the New English since 1963
BBC Dict
BBC English Dictionary
Beard РС
Beard Н. The Official Politically Correct Dictionary
Bilingualism
Baker, C. Encyclopedia of Bilingualism
BN
Bloomsbury Neologisms, 1991
BritGuide
Britannica Guide to Russia
BusDict
Business Dictionary
CamDict
Cambridge Dictionary
CamEnc 1982
Cambridge Encyclopedia of Russia and the Soviet
CamEnc 1994
Cambridge Encyclopedia of Russia and the Former
Changing Patterns
Mossman, Е. Changing Patterns of Russian Political
Chronology
Chronology of British History
Collins
Collins English Dictionary
Collins Cobuild
Collins Cobuild Advanced Learner‟s English
Concordance
Barnhart, D.K. The Barnhart New-Words
Сoncepts
Miller, Ch. E. Glossary of terms and concepts
Crowe SovTerms
Crowe, B.A. Concise Dictionary of Soviet
Cultural Guide
Бурак, А. Россия. Русско-английский
Cultural Literacy
New Dictionary of Cultural Literacy
Definitions
Political Words and Terms
Dict.Am.Brit.Aus
Матюшенков, В.С. Dictionary of Americanisms
DictAmRE
Dictionary of American Regional English
Dict.Doubletalk
Rawson, H. A Dictionary of Euphemisms
DictLanguage
Crystal, D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics
476
DRuss
Кабакчи В.В. The Dictionary of Russia
DictSoviet
Crowe, B.A. Concise Dictionary
EncBritannica
New Encyclopаedia Britannica, The.
EncMarxism
Encyclopedia of Marxism: Glossary of Terms
EncSoviet
Zemtsov, I. Encyclopedia of Soviet
EC
European Commission. Directorate-General
FT Lexicon
Financial Times Lexicon
Idee
Idee w Rosji. Ideas in Russia
Its Own Words
Carver, C.M. A History of English in Its Own Words
GemAus
Collins Gem. Australian English Dictionary
Gulag Handbook
Rossi, J. The Gulag Handbook. An English…
Histories
Cassel Dictionary of Word Histories, The.
Lexikon
Sommer, von St. Lexikon des Alltags der DDR
Linguistics
Matthews, P.H. The Concise Oxford Dictionary
Longman Culture
Longman Dictionary of English Language
LRNW
Longman Register of New Words, 1989
LRNW2
Longman Register of New Words. Vol. 2
Manipulation
Zemtsov, I. Manipulation of a Language
MED
Macmillan English Dictionary
Memorandum
Aron, L. Executive Memorandum #308
MilitT. VWar
Glossary of Military Terms & Slang from
Modern Slang
Auto, J. The Oxford Dictionary of Modern Slang
MT
Moscow Times Style Guide. The. 2006.
NTC‟s Dictionary
De Mente, B.L. NTC‟s Dictionary of China‟s
ОALD
Oxford Advanced Learner‟s 1978/1988
ODE
Oxford Dictionary of English, Revised Ed.
ОDictFW
Oxford Dictionary of Foreign Words and Phrases
ODPhrase
Oxford Dictionary of Phrase and Fables
Oxford 2005
Oxford Dictionary of English, Revised Ed.
Oxford NW 1981/1997
Oxford Dictionary of New Words. 1981/1997
477
OED
Oxford English Dictionary, The
OED Suppl
Oxford English Dictionary, The. Supplement
OxfordCom
Concise Oxford Companion to English Literature
Oxford Guide
Oxford Guide to British and American Culture
Random
Random House Unabridged Dictionary
Sociolinguistics
Routledge Companion to Sociolinguistics, The
RussEnc
Encyclopedia of Russian History
RusWWII Dict
Kobylyanskiy, I. Russian World War II Dictionary
Safire‟s Pol.Dict
Safire, W. Safire‟s Political Dictionary
Slang WWII
Rottman, G. L. FUBAR: Soldier Slang of World War
(Soviet)ОALD
Oxford Advanced Learner‟s…M.: Russian Language
SPT Style Guide
Saint Petersburg Times Style Guide
Spy Terms
Mendez, А. Glossary of Spy Terms
S.U.
Pike, J. Glossary – Soviet Union
Thesaurus
Laird, Ch. G. Webster‟s New World Roget‟s A–Z
Third Barnhart
Barnhart, R. The Third Barnhart Dictionary
Times Atlas
Times Atlas of World History, The
WCD
Random House Webster‟s College Dictionary.
RHD
Random House Unabridged Dictionary
Slang WWII
Rottman, G.L. FUBAR: Soldier Slang of World War
VocSoviet
Corten, I.H. Vocabulary of Soviet Society
Webster‟s
Webster‟s Encyclopedic Unabridged Dictionary
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ИСТОЧНИКОВ
ЭМПИРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Absurdistan
Shteyngart, G. Absurdistan
After “Post-Soviet”
Buckler, Julie A. What comes after “Post-Soviet”
After the Fall
Meier, A. Black Earth: Russia after the Fall
And Quiet Flows
Chudo, A. And Quiet Flows
478
Ayn Rand Lexicon
The Ayn Rand Lexicon, The. Objectivism
Anthem
Rand, А. Anthem
Archangel
Harris, R. Archangel
Asia
Rediscovering Russia in Asia / ed. by S. Kotkin
Atlas Shrugged
Rand, А. Atlas Shrugged
Authority
Lih, L.Т. Bread and Authority in Russia
Bear and the Dragon
Clancy, T. The Bear and the Dragon
Behind Closed Doors
Rees, L. Behind Closed Doors. Stalin
Case and Gender
Helden van W.A. Case and Gender
Civil Archipelago
Remnick, D. The Civil Archipelago
Corruption
Galeotti, M. Crime, corruption and the law
Darkness at Dawn
Satter, D. Darkness at Dawn. The Rise of
Dawidow
Dawidow, M. The Soviet Union Through
Dead Hand
Hoffman, D.E. The Dead Hand. The Untold
Death in Leningrad
Lear, J. Death in Leningrad
Documents
Film Factory. Russian and Soviet Cinema
Doomsday
Sheldon, S. The Doomsday Conspiracy
Dream Life
Grushin, O. The Dream Life of Sukhanov
Empire
Lieven, D. Empire. The Russian Empire
End of Soviet socialism
Danks, M. Gorbachev, perestroika and the end of
Enlightenment
Youngblood, D.J. Entertainment or
Epics of Everyday
Richards, S. Epics of Everyday Life. Encounters
Eternal Russia
Steele, J. Eternal Russia. Yeltsin, Gorbachev
Everyday Stalinism
Fitzpatrick, Sh. Everyday Stalinism. Ordinary
Facts
USSR Today, The. Facts and Interpretations
Fifty Russian Winters
Wettlin, M. Fifty Russian Winters. An American
Foreign Policy
Berryman, J. Russian Foreign Policy: \
From 1991
Service, R. Experiment with a People.
From Nyet to Da
Richmond, Y. From Nyet to Da
Front Lines of Diplomacy
Korchilov, I. Translating History. Thirty Years
479
Glasnost in Action
Nove, A. Glasnost in Action. Cultural
Godfather of the Kremlin
Klebnikov, P. Godfather of the Kremlin
Gorbachev and History
Broué, P. Gorbachev and History
Gorbachev. Biography
Morrison, D. Gorbachev Mikhail
Gorbachev. The Man
Zemtsov, I. Gorbachev. The Man and the System
GULAG
Flannery, S. GULAG
Happiness
Fitzpatrick, Sh. Happiness and toska
Heart of a Land
Dimbleby, J. Russia. A Journey
History of Mn Russia
Service, R. A History of Modern Russia from
History of Russia
MacKenzie, D.M. A History of Russia
Identities
Hopf, Т. Identities, Institutions
Ivan Denisovich
Solzhenitsyn, A. One Day in the Life of Ivan
Ivan‟s War
Merridale, C. The Red Army 1939–45
Journey
Post, L. van der. Journey into Russia
Kobe the Dread
Amis, M. Kobe the Dread
Kremlin
Duranty, W. The Kremlin and the People
Legacy WWII
Keylor, W.R. The Legacy of World War II
Life
Bunion, M. Life in Russia
Living & the Dead
Tumarkin, N. The Living & the Dead.
Military Terms. VWar
Glossary of Military Terms
Miss Amerikanka
Gilbreath, O. Miss Amerikanka
Moscow Spring
Taubman, W. Moscow Spring
Cultural History
Figes, O. A Cultural History of Russia
New Cold War
Lucas, E. The New Cold War: How the Kremlin
New Russia
Goldman, M. Oilopoly. Putin, Power and
New Russians
Smith, H. The New Russians
Old Bolshevik
Knopf, A.A. Old Bolshevik
Oligarchs
Hoffman, D. The Oligarchs: Wealth and Power
Oil and the Russian State
Luke, G. Johnson. Oil and the Russian State
Open Lands
Taplin, M. Open Lands: travels through
480
Peoples of the SovFE
Kolarz, W. The Peoples of the Soviet Far East
Perestroika
Lloyd, J. Perestroika and its Discontents
Political Mind
Tucker, R.C. The Soviet Political Mind
Political Culture
Denton, А. Russian Political Culture
Post-Soviet Identities
Soviet and Post-Soviet Identities /M. Bassin,
Putin‟s Russia
Jack, A. Inside Putin‟s Russia
Raising the Iron Curtain
Richmond, Y.
Rand Lexicon
Binswanger H. The Ayn Rand Lexicon
Rebirth of a Nation
Lloyd, J. Rebirth of a Nation. An Anatomy of
Red Square
Smith, M.C. Red Square
Red Tape
Thomas, B. Red Tape. Adventure Capitalism
Resurrection
Remnick, D. Resurrection
Revolutionaries
Dunlop, J.B. The New Russian Revolutionaries
Revolutionary lives
Brooks, J. Revolutionary lives: public
Revolution. Introduction
Smith, S.A. The Russian Revolution. A very
Short RFE
Azulay, E. The Russian Far East: Guidebook
Guide
Rise of the New Russia
Goldman, M. Oilopoly. Putin, Power and the
Rise of Russia
Stuermer, M. Putin and the Rise of Russia
Russia after Lenin
Brovkin, V. Russia after Lenin. Politics, Culture
Russia and the Russians
Hoskings, G. Russia and the Russians
Russia 2010
Yergin, D. Russia 2010 and What it Means
Russia in the Prism of
Baraban, E. Russia in the Prism of Popular
Russian Debutante‟s
Shteyngart, G. The Russian Debutante‟s
Russian Far East
Stephan, J. J. The Russian Far East. A History
Russian Identity
Duncan, P.J.S. Contemporary Russian Identity
Russian Political Values
Carnaghan, E. Out of Order: Russian
Russian Revolution
Pipes, R. The Russian Revolution
Revolution. Introduction
Smith, S.A. The Russian Revolution. A very
Short Russians
Smith, H. The Russians
Russka
Rutherfurd, E. Russka
481
Sale of the Century
Freeland, Ch. Sale of the Century
Shock of the Century
Dickson, P. Sputnik. The Shock of the Century
Six Years that Shook
Walker, R. Six Years that Shook the World:
Solovki
Robson, R.R. Solovki. The Story of Russia Told
Soviet Approaches
Bartley, D.E. Soviet Approaches to…
Soviet Sociolect
Bogdanov, К. The Rhetoric of Ritual: The Soviet
Sputnik Generation
Raleigh, D.J. Russia‟s Sputnik Generation.
SU. Chicago
Soviet Union, The. – Chicago: Childrens (sic)
Sword and the Shield
Andrew Ch. The Sword and the Shield.
The Russians
Milner-Gulland, R. The Russians
Tourist‟s Russia
Kedziewood, R. The Tourist‟s Russia
Transition
Hughes, J. Transition models and ocratisation
21st Century
Rosefielde, St. Russia in the 21st Century
Under Perestroika
Lane, D. Soviet Society Under Perestroika
Under Western Eyes
Malia, M. Russia Under Western Eyes
Vietnam
Ray, N. Vietnam
Volga
Chamberlain, L. Volga…
Waking Giant
Walker, M. The Waking Giant
War That Never Was
Pryce-Jones, D. The War That Never Was
We the Living
Rand, A. We the Living
Whisperers
Figes, O. The. Private Life in Stalin‟s Russia
With Gorbachev
Palazchenko, P. My Years with Gorbachev and
Wolves
Smith, M.C. Wolves Eat Dogs
World
World is Everyone‟s Concern, The
Youth and Society
Wilson, A. Youth and Society in
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ИСТОЧНИКОВ СМИ
AS
The American Spectator
ATh
The American Thinker
482
BH
Boston Herald
BR
Business Review
BS
Baltimore Sun
ChD
The China Daily
CS
Creators Syndicate
DB
The Daily Beast (Newsweek/Daily Beast)
DH
Daily Herald
DM
The Daily Mail
DW
The Daily World
Economist
The Economist
FP
Foreign Policy
FPM
Front Page Magazine
FТ
Financial Times
GB
Global Post
Guardian
The Guardian
GW
Guardian Weekly
Independent
The Independent
IHT
The International Herald Tribune
JCH
Journal of Contemporary History: http://www.jstor/
JТ
The Japan Times
LAT
Los Angeles Times
MD
The Military Diplomat
MN
The Moscow News
МТ
The Moscow Times
MS
The Morning Star
NI
National Interest
NP
National
Nweek
Newsweek Post
NYT
The New York Times
NYTI
The New York Times International
483
NYTM
New York Times Magazine
NYorker
The New Yorker
NYP
The New York Post
Observer
The Observer
Oregonian
Oregonian
RD
Reader‟s Digest
RFE/RL
Radio Free Europe/Radio Liberty
RGA
Russia in Global Affairs
Russia Now
Rossiyskaya Gazeta: Telegraph Online Supplement
SPT
The St Petersburg Times
SS
The Saturday Syndicate
Time
Time
Times
The Times
US News
US News & World Report
VNN
Việt Nam News
WМ
The Washington Monthly
WP
The Washington Post
WS
The Weekly Standard
WT
The Weekly Telegraph
Список новостных сайтов и блогов
ВВС
BBC News: http://news.bbc.co.uk/
CBS
CBS News: http://CBSnews.com/
CFP
http://www.canadafreepress.com/
E. Gorokhova http://elenagorokhova.com/blog
Jamestown
http://www.jamestown.org/
Pravda.ru
http://www.pravda.ru/
RR
Readers Reviews: http://www.amazon.co.uk/
RTF
Red Tape Forum: http:www.redtape/
484
Soviet Archives
www.sovietarchivesentranceroom/
SU Collective
http://www.mongabay.com/.../soviet_union-collective/
Untimely
http://www.untimely-thoughts.com/
Vision
http://www.vision.org
485
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
На правах рукописи
Юзефович Наталья Григорьевна
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИССЕРТАЦИИ
АДАПТАЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖКУЛЬТУРНОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ «РОССИЯ – ЗАПАД»
на соискание ученой степени доктора филологических наук
(«МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ»)
Специальность: 10.02.04 – германские языки
Научный консультант
доктор
филологических
наук, профессор
В.В. Кабакчи
486
Санкт-Петербург – 2014
автомат Калашникова, Kalashnikov. A type of quick-firing rifle made in the
former Soviet Union. Kalashnikovs have been sold all over the world, especially in
many poorer countries, and they are often used by terrorists and anti-government armed
groups [Longman Culture, c. 716]. Black-masked men carrying Kalashnikovs quickly
wired plastic bombs to pillars [Time Nov. 4, 2002]. Син. АК-47. B английском языке
коннотации негативные: связь с терроризмом. См. АК-47.
автономная область autonomous oblast (region) < avtonomnaya oblast‟ also
AR. A territorial and administrative subdivision of a union republic in the Russian Republic, created to grant a degree of autonomy to a national minority [S.U.].
автономная республика autonomous region /AR, nationality-based administrative division; part of a kray or union republic [CamEnc 1994: Glossary].
автономный округ autonomous okrug; lit., “autonomous areas”. A territorial
and administrative subdivision of a krai or oblast in the Russian Republic that granted a
degree of administrative autonomy to a nationality [S.U.].
авторитарность authoritarianism: commitment on the part of the authorities to
establish “law and order”, “order” considered more important than law [Untimely].
агент западный The term „Western agents‟, generously applied to anybody less
than enthusiastic about Putin‟s regime, is borrowed from Soviet Times and KGB phraseology [Rise of Russia, c. 167].
агитатор лицо, ведущее агитацию, рапространение политических идей с целью воздействия на сознание людей [Совдепия 2005, с. 23]; agitator/activist usually
derog [Culture: 21]. One who keeps up a political agitation, after the Bolshevik Revolution applied to Communist agitators [OED I, c. 257–8]. См. активист.
агитпроп агитация и пропаганда [Совдепия 2005, с. 24]; agit-prop <Russ Agitatsia i Propaganda Section of the Central Committee, or a local committee 1. An agitation and propaganda, esp. for the cause of communism. 2. an agency of a government
1930–35; 3. the head of such a section [Random, с. 39; OED I, с. 258].
487
агитпункт учреждение, проводящее массово-политическую работу среди
населения (обычно во время выборов) [Совдепия 1998: 39]; voting center, agitation
center <Russ of agitpunkt abbreviation of agitatsionnyi punkt. Increased coverage is
given to local issues which are taken up at electors‟ clubs and agitation (“agitpunkt”)
and by canvassers [CamEnc 1982, c. 211].
агро-город/ агрономический город. В 1949 г. Н.С. Хрущев предложил
начать
строительство
агрогородов
для
тружеников
сельского
хозяйства;
[Совдепия 2005, c. 25]; agrocity/agrotown, agrogorod <Russ sel‟skokhozyaistvennyi
gorod, lit, agr(icultural) + o + city/town a rural city [OED I, c. 269]. Plans were devised
at the beginning of 1951 for agrogorody (farmcities) to be established [RussEnc, c. 6].
АК-47, pl., AK-47‟s/Kalashnikov. A kalashnikov assault rifle first made in 1947.
1965–70; <Russ [WCD, c. 30]. … a fully automatic AK-47 assault rifle, the world‟s
most popular killing machine [IНТ April 4, 2006]. См. автомат Калашникова
активист 2. Гулаг, заключенный, активно сотрудничающий с администрацией [Совдепия 2005, с. 27]; activist, (sometimes derog.) a person taking a very active
part, esp. in political movement: party activists [Culture, c. 11].
американская угроза the American threat, the Soviet description of the American intentions. All that the innocent Soviets had done was respond to the “American
threat” [Moscow Spring, c. 84]. Cf. русская угроза.
андерграунд < англ. underground lit, “unofficial”, нелегальное искусство, непризнанное официальной идеологией, властями; диссидентское движение; underground art/culture, etc. <Russ andergraund, euphemism for “banned”. The Brezhnev
government was never as oppressive as Stalin‟s, and a thriving “underground” culture,
in all the arts, could exist… [Atlas, с. 183].
Андропов, Юрий Владимирович Andropov, Yuri Vladimirovich 1914–1984.
Soviet political leader and first secretary of the Communist party (1982–1984).
антипартийная группировка оппозиция в КПСС [Совдепия 2005 c. 30];
“anti-party group”, the name given by Khrushchev to large and inefficient central ministries that, he felt, were usurping the party‟s role in industry [RussEnc, c. 22].
488
антисоветская пропаганда, формулировка статьи Уголовного Кодекса, по
которой людей отправляли в ссылку; anti-Soviet propaganda: …in 1926, denounced
him to the OGPU for spreading “anti-Soviet propaganda” [History, c. 171].
антисталинизм система взглядов, направленная против личности и деятельности В.И. Сталина [СРЯ ХХ 2001, c. 29]; anti-Stalin campaign. His father was at
Khrushchev‟s right hand in the anti-Stalin campaign of 1956 [Moscow Spring, c. 125].
аполитичность indifference to politics: “A passive resistance to the conditions of
Soviet existence: low or declining labor productivity; juvenile delinquency in many
forms; utter indifference to politics (apolitichnost‟); total lack of interest in official ideas (bezideinost‟)” [Political Mind, c. 188].
аппарат, органы управления [Совдепия 2005, c. 32]; apparatus/apparat. 1. the
party machine of the Communist party in Russia, etc. [OED I, c. 561].
2. any Com-
munist organization [OED I, с. 562]. 3. existing power structure, esp. a political one
1940–1945 <Russ [WCD, с. 64]. The term apparatus (apparat) is applied to full time
Parry functionaries [CamEnc1982, с. 300].
аппаратчик, партийный работник [Совдепия 2005, c. 290]. An official working for a government, esp. when considered too ready to obey orders [Culture, c. 48].
Until Gorbachev came to power, the country lived a double existence – an official world
of grand achievements, and apparatchik degeneration [DB Dec. 19, 2011].
артель, artel. In Russia, an association of craftsmen or other workers for work in
common; artelman <Russ artelshchik [OED I, с. 660]. Заимствование предсоветского
периода, развитие значения в советском периоде; употребляется параллельно brigade, не связывая с коммунистическим трудом.
«Архипелаг Гулаг», The Gulag Archipelago 1973–1974, prose by Aleksandr
Solzhenitsyn. The appearance abroad of the first volume of The Gulag Archipelago
(197 –5), an epic „history and geography‟ of the labour camps, caused the Soviet authorities to deport Solzhenitsyn to West Germany on 13 February 1974. He settled in
the United States, where he continued a series of novels begun with August 1914
(1971), offering an alternative picture of Soviet history. He returned to Russia in 1994
[Oxford Companion, с. 668]. With the blessing of Vladimir Putin, the widow of A. Sol-
489
zhenitsyn is unveiling an abridged version of his celebrated and once-banned “The Gulag Archipelago” as required reading for Russian high-school seniors [WSJ Oct. 28,
2010].
Афганистан, «интернациональный долг»: “Many speakers paid tribute to
those who had died, in their words, “on internationalist duty” in Afghanistan” [MS
April 18, 1987].
Афганистан: «вторжение, invasion. “I was no supporter of the Soviet invasion.
Although nominally a response to an invitation from Afghan leaders, the dispatch of
Soviet troops in December 1979 was foolish and illegal” [GW Dec. 18–24, 2003].
Ашгабат самоназвание, в отечественном дискурсе предпочтение отдается
Ашхабат. Ashgabat. Not the Soviet Ashkhabad for the Turkmen capital [MT Guide].
БАМ (Байкало-амурская магистраль) BAM (Baykalo-Amurskaya Magistral‟ –
Baykal-Amur Main Line) A second trans-Siberian railroad, running 100 to 500 kilometers north of the original Trans-Siberian Railway. Opened in 1989, the BAM was designed and built to relieve traffic on the Trans-Siberian Railway [S.U.].
Бамлаг, Bamlag, camps for the Baikal-Amur railroad and Amur-Yakutsk road.
Bamlag continued to thrive [History, c.245].
бамовец bamovets 1. (slang) In 1930s, a synonym for „prisoner‟; 2. a person who
takes part in the BAM mainline construction: To fill manpower needs, the OGPU prepared a cluster of camps (bamlag) accommodating thousands of “kulaks”, criminals,
and Cossacks dubbed bamovtsy (then a synonym for “prisoner”) [History, с. 194].
басмач,
Basmach
участник
контрреволюционного
буржуазно-
националистического движения в Средней Азии в период борьбы за укрепление
советской власти [Совдепия 2005, с. 36].
басмачей восстание Basmachi Rebellion. A sporadic and protracted revolt by
Muslims of Central Asia against Soviet rule beginning in 1918 and continuing in some
parts of Central Asia until 1931 [S.U.].
безидейность, lack of interest in official ideas: “A passive resistance to the conditions of Soviet existence: the shirking of work on the kolkhoz; total lack of interest in
official ideas (bezideinost‟)”[Political Mind, c. 188].
490
Белая гвардия, the White Guard /the Whites a member of a counterrevolutionary force in Russia during the civil war of 1918–21 [OED XX, с. 267]. …the
White guards Russians of the Civil War of 1919 [Revolutionaries, с. 59].
Берия, Лаврентий Павлович Beria, Lavrenti Pavlovich 1899–1953. Soviet secret police chief: executed for treason [Random, c. 196].
беспредел, безначалие, крушение существующих норм поведения [Арго: 34].
Воровской жаргон 1940–50-е – молодежный 1960-е; символ перестроечного времени [ИЭС: 38–9]; bespredel lit., „out of control‟ perestroika term: It is known as bespredel, a Russian slang that means excessive abuse of power, and “unlimited violence” “I thought this was a war, but it is bespredel” [ChM Dec. 11, 2000, с. 7].
ближнее зарубежье, “near abroad”, the former Soviet republics. Should always
be in quotes, as we are quoting the Russian term [MTGuide]. The term “near abroad”
refers to Soviet zone of influence, former communist countries [NYT May 22, 1994].
ближнее зарубежье в западной риторике предпочтителен терми Former Soviet Union [May 26, 2006. Untimely].
боевая готовность, combat readiness. The availability of equipment and qualified personnel in military organizations capable of conducting combat operations [S.U.].
См. соотношение сил и средств.
большевик, Bolshevik. 1. A member of the radical majority with the Russian
Social Democratic Workers‟s Party, 1903–1917, advocating forceful seizure of power
by the proletariat. 2. (After 1918) a member of the Russian Communist Party. 3. A
member of any Communist Party. 4. derog. a political radical or revolutionary. 1915–
1920 [WCD, с. 150]. The Bolsheviks killed the ruling class and then Stalin killed the
original Bolsheviks [Red Square, с. 431].
большевизм, коннотативное варьирование; Bolshevikism = Bolshevism, bolshevism. 1. the doctrines, methods, or procedure of the Bolsheviks 2. (sometimes l.c.)
the principles or practices of ultra radical socialism or political ultra radicals generally
1915–20 [Random, c. 235].
491
бомж, bomzh pl bomzhy / bomzhi <Russ b(ez) o(predelyonnogo) m(esta)
zh(itel‟stva homeless people; lit, „those without a registered place to live‟[CamEnc.
1994. Glossary].
Брест-Литовский договор, Treaty of Brest-Litovsk. Once the Bolsheviks came
to power on a policy of ending the war, vast tracts of Russia were conceded to Germany
by the Treaty of Brest-Litovsk (March 1918) [Atlas: 149].
Брежнев, Леонид Ильич Brezhnev, Leonid Ilyich 1906–1982 the leader of the
Soviet Union from 1977 to 1982 [Culture: 149]. B западной риторике выделяются
негативные коннотации; связь с афганской войной. In 1979 he sent Soviet troops into Afghanistan [Encyclopedia: 1993].
Брежнева, доктрина Brezhnev Doctrine, the doctrine expounded by Leonid
Brezhnev in November 1968 affirming the right of the Soviet Union to intervene in the
affairs of the communist countries to strengthen Communism [Random, c. 260]. Син.
советского периода “интернациональный долг”, в западной риторике invasion.
Брешковская, Катерина, Breshkovsky, Catherina 1844–1934, Russian revolutionary of noble birth: called “the little grandmother of the Russian Revolution” [Random: 259].
бригада, brigade развитие значения военного термина; brigade/artel a team of
workers constituting the basic production unit in an „enterprise‟. The brigade is led by a
„brigadier‟, Brigade of Communist Labour [Barnhart: 1415].
бригада ударного труда, а „shock brigade‟, a brigade of „shock workers‟ used
for the achievement of arduous tasks [OED XV: 295]. Для сохранения положительных коннотаций предпочтительнее описательный оборот best worker.
буржуазия, идеологически обусловленное развитие полисемии; Bourgeoisie
(In Marxist theory) the class that, in contrast to proletariat or wage-earning class, is primarily concerned with property values [Random, с. 247].
Бухарин, Николай Иванович Bukharin, Nikolai Ivanovich 1888–1938, Russian
editor, writer, and Communist leader [WCD: 173], executed in the 1938 purges.
бюрократ, в советском периоде, в первую очередь, негативные коннотации
(“канцелярщина”), в западном восприятии “чиновники” (коннотации нейтральные
492
иногда негативные). В современном русском языке сближение значения с западным: “Слой крупных чиновников, работников государственного аппарата, служащих” [РЯ ХХ, c. 117]. Bureaucrats (are) “privileged persons divorced from the masses
and standing above the masses” [Political, c.131]. Cp. номенклатура.
Варшавский Договор, the Warsaw Pact/Treaty, Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Aid (1955), wound up in March 1992 [Times Atlas, Glossary]: Dubbed
the “Brezhnev doctrine”, it began with the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia in
1968 [Atlas, c.179]. Central Europe, many of Russia‟s leaders believe, is still their
backyard, even if the Warsaw Pact no longer exists [Nweek March 31, 1997].
Великая Октябрьская социалистическая революция, Great October Socialist Revolution/the October Russian Revolution 1917 <Russ Velikaya Oktyabr‟skaya
Sotsialisticheskaya Revolyutsiya.
Великая Отечественная война, наименование второй мировой войны или
ее периода (1941–45); Great Patriotic War; the Great Fatherland War<Russ Velikaya
Otechestvennaya Voina.. The Soviet name for the part of World War II in which the
Soviet people fought against fascism from June 1941 to May 1945. Considered one of
the just wars by the CPSU [S.U.]. Stalin astutely dubbed the war as “the Second Great
Fatherland War” (rather than World War II), invoking the precedent of Russia‟s resistance to the Napoleonic invasion of 1812 [Atlas, c. 175].
ВВ, VV <Russ V(nutrennie) V(oiska)Interl Troops of Ministry of Interior [CamEnc. 1994, Glossary].
ВВС, VVS <Russ V(oenno) V(ozdushnye S(ily). Air Forces [CamEnc. 1994, Glossary].
великий террор, Great Terror/Purge 1934–1938, campaign to eliminate „socially
alien elements‟: The result of the purge was to give Stalin supreme power [RussEnc., c.
329].
Верховный Совет Supreme Soviet/Council <Russ verkhovnii sovet (formerly)
the legislature of the Soviet Union consisting of an upper house and a lower house
[Random, c.1913]: The Supreme Soviet, the equivalent of a parliament in name, but not
in function [Life, c.27].
493
Вечека Vecheka, VChK < V(serossiiskaia) ch(rezvychainaia) k(omissiia po
bor'be s kontrrevoliutsiei i sabotazhem) All-Russian Extraordinary Commission for
Combating Counterrevolution and Sabotage: The political police created by the Bolsheviks in 1917; supposed to be dissolved when the new regime, under Lenin, had defeated
its enemies and secured its power. But the Vecheka, also known as the Cheka, continued until 1922, becoming the leading instrument of terror and oppression as well as the
predecessor of other secret police organizations [S.U.].
Владивостокское соглашение Vladivostok agreement: a preliminary arms control accord concluded by Soviet leader Leonid Brezhnev and U.S. President Gerald Ford
in Vladivostok, U.S.S.R., in December 1974 [Random, c. 2128].
ВКП(б) VKP (b) <Russ V(serossiiskaya) K(ommunisticheskaya) P(artiya)
b(ol‟shevikov): (Pravda‟s back page): “Former CC VKP (b) member Ya. B. Gamarnik,
caught up in ties with anti-Soviet elements and evidently fearing exposure, committed
suicide on 31 May” [History, c. 206].
власти мн. ч. органы государственного и местного управления, представители данных органов, администрация; vlast‟/vlasti slang for „authority‟, „the men of
power‟: Russia as a double entity: Russian state and Russian society. On the one hand,
there is vlast‟ or gosudarstvo… [Political, c. 122].
власти вертикаль перен. последовательность руководящих лиц или предприятий от вышестоящих к нижестоящим и наоборот; 1. vertical vlasti “vertical of
power”. The term “vertikal vlasti” was popularized by President Putin. The earliest reference I‟ve come across is in a statement by Novgorod governor Mikhail Prusak, published in “Novgorodskie vedomosti” on November 2, 1991, that “neobkhidomo usilenie
prezidentskoi vlasti po vertikali” [http://www.cdi.org/russia/johnson/].
2. power vertical < the vlastnaya vertical. Unfamiliar to the outside ears, this has
strong connotations of order and stability in Russia: its partial Western counterpart
might be the British phrase „joined-up government‟. But whereas that in a Western
country means different institutions working sensibly together, in Russia the idea is rather different: that orders given at the top are carried out below [New Cold War, c. 159]
494
внутренняя ссылка, “internal exile” <Russ vnutrennyaya ssylka one of the
means of dissident persecution. One method of isolating dissidents was internal exile to
provincial towns, where detainees lived under blanket surveillance [Atlas, с. 179].
военкомат voenkomat <voen(nyi) kom(issari)at military commissariat. A local
military administrative agency that prepares and executes plans for military mobilization, maintains records on military manpower and economic resources available to the
armed forces, provides premilitary training, drafts men for military service, organizes
reserves for training, and performs other military functions at the local level [S.U.].
voenkomat [S.U.]. См. комиссариат.
военно-промышленный комплекс military-industrial complex (VPK) Voennyi-promyshlennyi kompleks is a formal institutional network connecting the Soviet
(now Russian) genshtab, military enterprises… The integration of the VPK is higher
than its American counterpart based on a loose community of interest. The VPK recently has been renamed the oboronnyi-promyshennyi kompleks (OPK; defense-industrial
complex)” [21st Century, c. 141]. См. оборонно промышленный комплекс
военный коммунизм War Communism <Russ voennyi kommunizm a period of
1920–1921. Economically and socially, “War Communism” proved a disaster… In
1921 he (Lenin) proclaimed the abolition of “War Communism”… [Atlas, с. 155]. War
communism: policy of the Bolshevik regime during the Civil War (1918–21), in which
the country‟s economy was almost totally directed toward equipping and maintaining
the Red Army [S.U.].
военный трибунал military tribunal: separate federal tribunal within the Soviet
legislative system subject to the military chamber of the Supreme Court of the USSR
[RussEnc, с. 261]. „
ВОАПП / Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писателей
VOAPP <Russ V(sesoyuznoe) O(b‟‟edinenie) A(ssotsiatsii) P(roletarskikh) P(isatelei)
the All-Union League of Associations of Proletarian Writers [Documents, c.406].
военкомат voenkomat [Glossary – Soviet Union]. См. комиссариат.
495
военные трибуналы military tribunals, separate federal tribunals within the Soviet legislative system subject to the military chamber of the Supreme Court of the
USSR [RussEnc., c.261].
военный коммунизм War Communism <Russ voennyi kommunizm a period of
1920–1921: Economically and socially, “War Communism” proved a disaster… In
1921 he (Lenin) proclaimed the abolition of “War Communism” [Atlas, c.155].
война, справедливая “just war”. According to Marxism-Leninism (q.v.), just
wars are those waged to protect the interests of the working class and the toiling masses,
to liquidate social and national oppression, and to protect national sovereignty against
imperialist aggression. The most just wars are those waged in defense of the socialist
fatherland. In contrast, unjust wars are reactionary or predatory wars waged by imperialist countries [S.U.].
волжские немцы Volga Germans: ethnic Germans who had lived in the Volga
River area for several centuries and who were moved eastward, mostly to the Kazakh
Republic, en masse by Stalin on the suspicion of collaborating with the Germans during
World War II. Rehabilitated in August 1965. [S.U.].
волость volost‟, a territorial / administrative unit consisting of a few villages and
surrounding land: The revolt by the five kulak volosts must be suppressed without mercy [Soviet Archives].
воля, free will, volya: In a discussion of Russian‟s values, Fernandez writes, “For
him food, money, vacations are necessities, not values. Books, theater, music, hikes in
forests, gathering mushrooms, family solidarity, hospitality, voilа are Russian values.”
The Soviet period did not undermine these basic values; it enhanced them
[onlinejournal.com/ Jul 22, 2008].
Ворошилов, Климент Ефремович Voroshilov 1. Kliment Efremovich 18811969, Soviet general: president of the Soviet Union 1953-60; 2. A former name of Ussuriisk [Random, с. 2132]. Defense Commissar Voroshilov, a counterweight to Blucher
who enjoyed more popularity in the Red Army... Far Eastern pogranichniki petitioned
to change the name of Nikolsk-Ussuriisk to Voroshilov [Republic, с. 197].
496
Восток – Запад в сов. вр. противостояние Запад-Восток отражало противостояние двух группа государств, так называемых экономических систем – капиталистической и социалистической [РЯ ХХ, с. 243]; East-West adj occurring between
the East and the West, esp. between the Soviet Union and the USA 1955–60 [Random,
с. 616]. The political “West” is not a natural construct but a highly artificial one. It took
the presence of a life-threatening, overtly hostile “East” to bring it into existence and to
maintain its unity [IHT Sep. 1, 1993].
ВПК, военно-промышленный комплекс VPK/ military-industrial complex, дисфемизм. См. оборонно промышленный комплекс, ОПК.
враг народа активный противник социалистического строя и народа, создавшего этот строй, наносящий вред общественному делу [Совдепия, с. 96]; “enemy of the people”. When, at the Communist party congress in 1956, Khrushchev condemned Stalin‟s repressions and his elimination of “enemies of the people”, the icon
was smashed, the Uncle Joe image obliterated [Guardian March 5, 2003].
вражеский элемент впервые эпитет вражеский был применен Лениным в
1917 году применительно к политическим противникам [Совдепия: 96]; “alien element”, “socially alien elements” < Russ vrazheskii element: “Socially alien elements”
were trimmed from the faculty and replaced by former partisans, Red Army personnel,
and komsomoltsy... [History, с. 195].
вранье практическая трансрипция; vranyo Russ for „lies, fibs, nonsense, idle
talk, twaddle‟. 1. Русскокультурный субстрат; Vranyo is a key concept, a particular
rational brand of leg pulling, ribbing or blarney. Not outright falsification, it is a dissemination of untruths, for purposes of self-protection and hiding [Empire, c. 26].
2. феномен американской лингвокультуры периода правления Б. Обамы. Congress expects the American people to engage in “vranyo” with them. It goes like this:
“You know that you are lying, I know that you are lying, and you know that I know that
you are lying, but we both smile and nod in agreement” [СFР June 14, 2011].
Всероссийская выставочный центр, постсоветское название ВДНХ: Vserossiisky Vystavochny Tsentr, All-Russia Exhibition Center; VVTs, may be used, but try
to explain either reference in text: The auction took place at the All-Russia Exhibition
497
Center, as the former VDNKh is now known [MT Guide]. Современном дискурсе восстановлено название Выставка достижений народного хозяйства
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи All-Union
Leninist Communist Union of Youth, the/the Komsomol/VLKSM/ Young Communist
League/YCL <Russ vsesoyuznyi leninskii kommunisticheskii soyuz molodezhi. The AllUnion Leninist Communist Union of youth is the youth organization senior to the Pioneers, catering for those aged 14–28 [CamEnc 1994].
Всесоюзный центральный исполнительный комитет All-Russia Central
Executive Committee/VTsIK <Russ vsesoyuznyi tsentral‟nyi ispolnitel‟nyi komitet. In
December 1930 VtsIK (The All-Russia Central Executive Committee) decided to organize the National Autonomous Districts [Minorities: 246].
Вся власть Советам “All Power to the Soviets”. A slogan adopted by Lenin.
Калькирование. In the name of the Soviets the Bolshevik Party was able to dominate
the political organization of post revolutionary Russia: the newly formed Soviet Union
[RussEnc, c. 14].
ВСНХ / Высший совет народного хозяйства Vesenkha/VSNKh Supreme
Economic Council [CamEnc. 1994, Glossary]: The Soviet authorities transformed that
Committee into the Supreme Economic Council („Vesenkha‟, from its Russian initials)
[CamEnc. 1994, c.392].
выдвижение promotion, vydvizhenie : appointment or promotion to a responsible
position (in the organs of state and economic administration; a student chosen… for
training for scientific work) [Everyday Stalinism, p. 243].
выдвиженец, upwardly mobile individual, “vydvizhenets”: a new coinage meaning “a worker appointed or promoted to a responsible position [Everyday Stalinism, p.
243]. It turned out to be impossible for a class to accede to power as a whole; only upwardly mobile individuals promoted from the people (vydvizhentsy) could make a transition [Under Western Eyes, c. 310].
Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) the Exhibition of National Economic Achievements (VDNKh). The Soviet Vystavka Dostizhenii Narodnogo
498
Khosyaistva, or Exhibition of National Economic Achievements. См. Всероссийская
выставочный центр
Высшие органы „higher organs‟/organs a euphemistic name of the GPU, KGB,
NKVD: „higher organs‟, a euphemism for the Party Central Committee of the KGB
[Moscow Spring, c.149]. См. органы, особый отдел.
Вышинский, Андрей Януарьевич Vyshinsky, Andrei Yanuarievich 1883–
1955 Soviet statesman [Random, c. 2134]. Vishinsky A. Ya, Chief Prosecutor in the
“show trials” [CamEnc 1994, c. 110].
главк Glavk <Russ glav(nyi) k(omitet), chief administration within a ministry or
under the Council of Ministers [CamEnc. 1994, Glossary]: The minister appoints his
deputy ministers, the heads of the chief administrations (glavki) [CamEnc. 1982, c.311].
Генеральный Секретарь General Secretary. The title of the head of the CPSU
Secretariat, who presides over the Politburo and has been the Soviet Union‟s de facto
supreme leader. [S.U.]. First Secretary (was) in 1966 renamed General Secretary, a return to the nomenclature of Stalin‟s time [CamEnc 1982, c. 122].
главк Glavk <Russ glav(nyi) k(omitet), chief administration within a ministry or
under the Council of Ministers [CamEnc 1994: Glossary]. The minister appoints… his
deputy ministers, the heads of the chief administrations (glavki)… [CamEnc 1982: 311].
главлит Glavlit, Main Directorate for Literary and Publishing Affairs; official
censorship organ [CamEnc. 1994, Glossary]. Glavlit: the official censorship organ, established in 1922 as the Main Administration for Literary and Publishing Affairs
(Glavnoe upravlenie po delam literatury i izdatv – Glavlit). Although the formal name
of that organization has since been changed to the Main Administration for Safeguarding State Secrets in the Press (Glavnoe upravlenie po okhrane gosudarstvennykh tain v
pechati), the acronym Glavlit continued to be used in the late 1980s [S.U.].
Главное политическое управление Советской Армии и Военно-Морского
Флота, GlavPU = Main Political Directorate of the Armed Forces [CamEnc 1994
Glossary].
Главное разведывательное управление Main Intelligence Directorate
(Glavnoe razvedyvatel‟noe upravlenie – GRU) A military organization, subordinate to
499
the General Staff of the armed forces, that collected and processed strategic, technical,
and tactical information of value to the armed forces. It may also have included special
units for engaging in active measures, guerrilla warfare, and sabotage [S.U.].
Главное управление государственной безопасности GUGB (Glavnoe upravlenie gosudarstvennoi bezopasnosti) Main Directorate for State Security. The security
police, successor to the OGPU, subordinate to the NKVD. Existed from 1934 to 1941,
1941 to 1943, and 1953 to 1954 [S.U.].
Главное управление по исправительно-трудовым лагерям Main Directorate for Corrective Labor Camps, 1919. By 1934 the GULAG, or Main Directorate for
Corrective Labor Camps, then under the Cheka‟s successor organization the NKVD,
had several million inmates [Soviet Archives].
главполитпросвет Glavpolitprosvet, acronym for State Political Education
Committee of Narkompross 1920–30 [Documents, Glossary].
ГЛАВПУ GlavPU, Main Political Directorate of the Armed Forces [CamEnc.
1994, Glossary].
Главрепертком Glavrepertkom (Glavnyi Komitet po Kontroliu za Zrelishchami i
Repertuarom--Glavrepertrom) [S.U.]. Glavrepertkom lit., the Main Committee for the
Control over Repertoire, established on 9 Feb 1933. One or two seats no further back
than the fourth row from the stage always had to be kept free for Glavrepertkom‟s requirements [CamEnc 1994, с. 486].
гласность the willingness of an organization, esp. the government of the former
USSR, to act openly and discuss its behaviour and actions publicly [Longman Culture,
c. 556].
Горбачев, Михаил Сергеевич Gorbachev, Mikhail Sergeyevich, Soviet politician, Nobel Peace Prize winner 1990.
-to Gorbachevize (derog) Putin‟s embrace of the West has critics in the military
grumbling that he has been “Gorbachevized”, that he‟s selling Russia out [Time May 27
2002].
Gorbasm = Gorbi + asm. Gorbasm is any sign of approval of the current Soviet
leader displayed by Americans [NYTM Dec 16, 1990].
500
Горбачева, сторонник Gorbachevite, follower of Gorbachev. Gorbachevites
were now convinced that the (Party) conference mattered and that, with the top leadership divided, delegate selection mattered too [Moscow Spring, с. 275].
Горби Gorbi/~y an informal shortening of Gorbachev; в западной риторике
имена популярных политических деятелей подвергаются сокращениям; в русском
языке переводной коррелят негативен, т.к. такой стиль считается фамильярным. В
современном русском языке под влиянием западного дискурса развивается тенденция сокращать имена политиков.
Горбомания
Gorbimania =Gorbi + mania. The days of „Gorbymania‟ may
have gone, but Mr. Gorbachev still offers a message that will resonate among his erstwhile followers in the West… [Guardian Feb. 2003].
город-герой hero city <Russ gorod-geroi, the title awarded to a few cities, which
particularly distinguished themselves during the Second World War [DRuss: 133]. In
1978, thirty-three years after the German surrender, Minsk was awarded the banner of a
hero city for its wartime resistance [Life, с. 130].
гос –
“gos- ” combining form of Russian abbreviation of the word gosudarstvo
„state‟. In the rigidly organized Soviet state, this combining form was a part of many
terms [DRuss].
Госарбитраж Gosarbitrazh, Arbitration tribunals to settle disputes between enterprises [CamEnc. 1994, Glossary].
Госавтоинспекция Gosavtoinspektsiya, the state vehicle inspection authority,
GAI: You must have your car registered and obtain Soviet license plates... This is done
through an organization known as GAI, short for Gosavtoinspektsiya, the state vehicle
inspection authority [Guide, c.93]. См. ГАИ, ГИБДД.
Госагропром
Gosagroprom
=
Agro-Industrial
Committee.
<Russ
gos(udarstvennyi) agro prom(yshlennei komitet) lit, state agro-industry the USSR. Син.
Государственный агропромышленный комитет.
Госарбитраж Gosarbitrazh: Arbitration tribunals to settle disputes between enterprises [CamEnc 1994: Glossary].
501
Госбанк Gosbank <Russ gos(udarstvennyi) bank lit, the State bank [CamEnc.
1994, Glossary]. The monopolist of the Soviet period (now Centrobank) [DRuss].
Госиздат Gosizdat, a compound name of an official Soviet publishing organ,
Gos(udarstvennoe) izdat(el‟stvo) State Publishing House [Random, c.1697]: The remaining private book publishers (who were able to operate until the end of the 1920s
and in isolated cases even longer) were also supervised by Gosizdat functionaries…
[CamEnc. 1994, c.486].
Госкино Goskino (Soyuzno-Respublikanskiy gosudarstvenyy komitet po kinematografii) State Committee for Cinematography. Absorbed by the Ministry of Culture
in 1953, it became an independent organization again in 1963 [S.U.].
Госкомприрода Goskompriroda <Russ Gos(udarsvtennyi) kom(itet) prirody lit,
the State Committee for Nature, Environmental Protection Agency. Then, the State
Committee for Environmental Protection, since 2000 (Putin‟s Ukaz of May 17) dissolved. Its functions are perfomed now by the Natural Resources Agency. Goskompriroda: State Committee for the Protection of Nature. (Gosudarstvennyi komitet po
okhrane prirody) Formed in 1988, the government agency charged with responsibility
for overseeing environmental protection in the Soviet Union [S.U.].
Госкомстат Goskomstat <Russ gos(udarstvennyi) kom(itet) stat(istiki) lit, the
State Committee for Statistics.
Госкомцен Goskomtsen (Goudarstvennyi komitet po tsenam) State Committee on
Prices. The government body that established, under party guidance, the official prices
of virtually everything produced in the Soviet Union, including agricultural produce,
natural resources, manufactured products, and consumer goods and services [S.U.].
Госконцерт Goskontsert <Russ gos(udarstvennyi) kontsert lit, state concert, the
state agency arranging artists‟ concerts and tours.
Госплан/Государственная
плановая
комиссия
Gosplan
<Russ
Gos(udarstvennaya) Plan(ovaya Komissiya) State Planning Commission [Random, c.
824]. Soviet official planning organization, projects embracing trade and industry, agriculture, education and public health: No one is suggesting that the gulag and Gosplan
(the central planning apparatus) are making a comeback [Nweek May 7, 2000].
502
Госплан, Государственный плановый комитет Gosplan < Gosudarstvennyi
planovyi komitet): State Planning Committee. Under party guidance, it was primarily
responsible for creating and monitoring five-year plans and annual plans. The name was
changed from State Planning Commission in 1948, but the acronym was retained [S.U.].
госприемка gospriyomka <Russ gos(udarstvennaya) priyomka lit, state control,
the state quality control agency....returned by the state quality control agency – gospreyomka [DW April 2, 1988].
Госснаб Gossnab <Russ gos(udarstvennoe) snab(zhenie) lit, state supplies, the
State Committee for Material-Technical Supply [CamEnc 1994: Glossary].
Гостелерадио Gosteleradio <Russ Soyuzno- Respublikanskiy gosudarstvennyy
komitet po televideniyu i radioveshchaniyu State Committee for Television and Radio
Broadcasting. Established in 1957 as the Committee for Radio Broadcasting and Television. Upgraded to a state committee in 1970 [S.U.].
государственная служба civil service Transforming them (unreformed Sovietstyle bureaucracy) into a modern and effective civil service is one of Russia‟s biggest
challenges. [WР July 15, 2002].
государственник, the word gosudarstvennik, applied approvingly to Mr Putin
and most of his associates. A possible translation would be „statist‟ but that does not reflect the full meaning. Nor does the literal „man of state‟. The state in Western political
culture is the servant of the people, and statist is a mildly derogatory term, suggesting
unaccountable bureaucracy, interference and a lack of accountability. Gosudarstvennik
in Russian has a ring of patriotism about it. A gosudarstvennik cares about the state‟s
prestige and strength [New Cold War, c. 158].
Государственный агропромышленный комитет < Russ Gosudarstvenni Agropromyishlenni Komitet/Gosagroprom lit., State Agro-Industrial Committee. Gorbachev‟s bureaucratic white elephant…its Soviet title [New Russians, c. 212].
государственный капитализм state capitalism 1. Lenin‟s description of the
compromise made with financial interests in 1918 to ensure Bolshevik survival, while
simultaneously reinforcing central control over the economy. 2. a pejorative description
of Soviet socialism in which a privileged bureaucracy is said to collectively dominate
503
economic life with the same relationship to the working class as employers under private capitalism [Longman Handbook: 359].
государство government, state, seldom gosudarstvo (concept of) as Marx and
Engels had before him, Lenin considered the state to be a bourgeois instrument of class
oppression [RussEnc., c.382]. В 1960х считалось, что диктатуру пролетариата сменит всенародное государство, которое будет защищать СССР и международный
социализм. The principal motivating force was a consuming hate for gosudarstvo, for
official Russia, and everything it connoted [Political, c.131].
Готов к труду и обороне Gotov K Trudu I Oborone lit., “Ready for Labor and
Defense” / GTO [CamEnc. 1994, Glossary]: The national physical fitness program as
the theme, “Ready for Labor and Defense” (Gotov K Trudu i Oborone) [Smith 1984,
c.427]. 1. Советский феномен; 2. Восстановлен в 2014 г. Указом В.В. Путина. См.
ГТО.
ГОЭЛРО GOELRO, a State Commission for the Electrification of Russia, 1920.
A State Commission for the Electrification of Russia (GOELRO) drew up a plan on the
basis of material balances – that is, of projected availabilities and requirements of energy and industrial material in physical, not money, quantities [CamEnc 1994: 392].
ГПО GPO <Russ G(osudarstvennoe) P(oliticheskoe) O(tdelenie) State Political
Security. The FER State Political Security (GPO), a branch of the GPU [History, c.
152].
ГПУ 1. GPU/G.P.U. <Russ G(osudarstvennoe) P(oliticheskoe) U(pravlenie) State
Political Administration [Webster‟s: 826]. 2. Gay-Pay-Oo/Gay-Pay-U phonetic representation of G.P.U. as pronounced in Russian [OED VI: 410]. Графический вариант
фонетической формы сокращения, малоупотребителен. As the GPU completed its
“cleansing” of Kamchatka, counterrevolution flared up in Yakutia... [History: 160–1].
гражданская война the Russian Civil War, требуется классификатор (региональный или дата): The early Bolshevik leaders developed an ideological commitment
to total involvement in the defence effort against external and internal foes, which was
reinforced by the experience of the Russian Civil War [CamEnc. 1994, c.454].
504
гражданская оборона, „civil defense‟ <Russ grazhdanskaya oborona: Many of
the tens of thousands of civilian bomb shelters built as part of the massive Soviet civil
defence program. Russians learned to dismiss as absurd the civil defense training courses imposed on them at school and work. They refer to the courses as grob, taken form
the first two letters of the words for the civil defense – grazhdanskaya oborona. Translation of grob: coffin [Time 1992].
гражданское общество civil society: This term is interpreted quite literally – the
demand that social existence should be lived without fear and violence. The state should
do everything necessary to ensure that bandits, drug addicts and other social misfits do
not violate the “civility” of ordinary people [Untimely Dec. 20, 2005].
Громыко, Андрей Gromyko, Andrei 1909–1989, a Soviet statesman [Random,
c.842].
ГРУ GRU / G.R.U. <Russ for Glavnoe razvedyvatel‟noe upravlenie (in the Soviet
Union) the Chief Intelligence Directorate of the Soviet general Staff, a military intelligence organization founded in 1920 and functioning as a complement to the KGB
[Random, c.845].
груз-200 gruz-200 / „two hundreds‟ Russian military slang for „casualties‟. Трупы убитых, 1979–89. Афганская война, Чечня. Приказ МО за № 200 [Жаргон,
c.80]. Экспликация так называемой народной этимологией: Only yesterday the “two
hundreds” were taken away: “Two hundreds” is army slang for bodies. One explanation
is that a body packed in a zinc coffin and a wooden crate for transport weighs 200 kilos,
or 440 pounds [NY Times Jan. 14, 2000].
групповщина / фракционность “factionalism” / gruppovshchina. 1. Groups of
friends who support each other. 2. Disagreement with the Communist Party policy. Неодобрительно. Отсутствие единства в деятельности коллектива, обособление его
членов в отдельные группы для отстаивания ограниченных, групповых интересов
[Совдепия, c.140]. Members whose views differed significantly from Lenin‟s were accused of “factionalism”, a charge tantamount to ideological treachery [Atlas, c.155].
505
ГТО GTO <Russ G(otov k) t(rudu)) (i) O(borone), “Ready for labour and defence”, the national fitness programme [CamEnc. 1994, Glossary]. См. «Готов к труду и обороне».
губерния gubernia. A territorial, administrative division in Russia [EncMarxism].
ГУБОП GUBOP = the Main Administration for Combating Organized Crime.
…operative of the Main Administration for Combating Organized Crime (GUBOP) apprehended…participants in the hostage-taking raid [MN No 8 1999].
ГУГБ GUGB/G.U.G.B. <Russ for G(lavnoe) u(pravlenie) g(osudarstvennoi)
b(ezopasnosti) (in the Soviet Union) the Chief Directorate for State Security, the secret
police organization (1934–1941) functioning as part of the NKVD [Random, c.848]:
Although the relevant division of the NKVD was then called the Main Administration
for State Security (GUGB), this name was not widely used [CamEnc. 1994, c.312].
Гулаг GULag, gulag G(lavnoe) u(pravlenie ispravitel‟no-trudovykh) lag(erei)
Main Directorate of Corrective Labor Camps 1. The system of forced-labor camps in
the Soviet Union. 2. A Soviet forced-labor camp 1970–1975. 3. Any prison or detention
camp, esp. for political prisoners [WCD, c.578]. The Soviet-era GULAG was much
worse than katorga as it did not make allowances for prisoners to have their families
with them. In the Soviet GULAG, an individual was connected to no one, he was completely deprived of social possibilities and he was made into an absolute slave,” something that had not been true of those sentenced to katorga [Paul Goble June 7, 2011.
http://windowoneurasia.blogspot.com/]. См. Главное управление по исправительно-трудовым лагерям, Дальлаг.
Дальлаг Dal‟lag <Russ Dal‟(nevostochnye) lag(erya) lit, Far Eastern camps,
Khabarovsk region corrective labor camps: ...the combined total of 200,000 laboring in
Dal‟lag (camps in the Khabarovsk region), Bamlag...Amurlag, and Burlag [History,
c.228]. См. Гулаг.
Дальневосточная республика Far Eastern Republic / FER existed from 1920 to
1922. It served as a buffer state between Soviet Russia and Japan [RussEnc., c.134].
506
Дальневосточный край the Far Eastern region (of Russia) / Dalkrai / DVK
Dal‟nevostochny krai: From 1926 to 1938 the Far East formed a province officially
called Dalnevostochny krai (“Far Eastern region”)… [History, c.173].
Дальний Восток 1. Dal‟ni Vostok Russ for the Far East lit. the Soviet (Russian)
Far East. Soviets refer to the region as the Dalni Vostok, or the Far East [Time Aug. 15,
1988]. NB: The Far East, the countries of eastern Asia, including China, Japan, and Korea [Random, c.698]. Семантическое варьирование. Калька идионима Дальний Восток (геополитическое понятие) совпадает со словосочетанием в АЯ, поэтому
необходим классификатор: Russian / Soviet / of Russia или лексический оборот типа what the Russians call: The area that the Soviets call “The Far East”, 10–40 miles
north of the Manchurian border [Eurail, c.462].
двоевластие dual power < Russ dvoevlastie situation whereby the authority of the
provisional government established in March 1917 was constantly undermined by the
rival influence of the Soviet of Workers‟ and Peasants‟ Deputies [RussEnc, c. 119].
дедовщина dedovshchina, cross-generational bulling in the armed forces [CamEnc 1994: Glossary]. ...psychological browbeating of raw recruits by other soldiers.
Vzglyad‟s exposes of this often-interethnic brutality, known as dedovshchina... [New
Russians, c.169].
декоммунизация “Отказ от коммунистической идеологии в различных сферах общественной жизни. Зафиксировано впервые” [РЯ ХХ, c. 194]; decommunization: The concept (of decommunization, loosely, democratization) has been in use since
the beginning of eighties (the transitive verb form decommunize is first recorded in
1980) [Oxford: 85]. Once property was decommunised – the earnest and achieved aim
of the radicals grouped round Yegor Gaidar, who as a united team served only one year
in government at the start of the post-Soviet era [Guardian July 31, 2006].
Дело врачей Doctors‟ plot / case, alleged plot by some doctors to kill well-known
government officials. The conspiracy was fully reported in the press in Jan 1953
[RussEnc., c.115]. Термин появился как оправдание репрессивной политики Сталина против евреев; негативные коннотации, выделяется кавычками. Репрессии
над «врачами-вредителями» прекратились только со смертью Сталина в 1953 г.:
507
The “doctors‟ plot” was officially denounced as a fabrication shortly after the announcement of Stalin‟s death on 5 March 1953... [History, c.255].
демагог Demagogue. См. либерал.
демократизация demokratizatsia, democratization [CamEnc. 1994, Glossary];
perestroika changes. Переустройство государства, общества на демократических
основах. Актуализация значения [CРЯ ХХ, c.195]: They introduced significant elements of pluralism and of democratization into the political system… [CamEnc. 1994,
c.13]. Demokratizatsia – another troublesome word because it does not mean the same
thing as its English equivalent – democratization [CT Feb. 29, 1988]. Along with perestroika and glasnost, the third key word of Moscow Spring is demokratizatsiya [Moscow Spring, c.17].
демократический централизм democratic centralism <Russ demokraticheskii
tsentralizm: the guiding principle of the Communist Party. Democratic centralism: a
Leninist doctrine requiring discussion of issues until a decision is reached by the party.
[S.U.]. There is strict party discipline and the subordination of the minority to the m of
being deci ajority. All decisions of the higher authority are binding on the lower
[RussEnc, c. 106].
демократия democracy, government by the people; that form of government in
which the sovereign power resides in the people as a whole, and is exercised either directly by them… or by officers elected by them [OED IV, c.442]. Определения в словарях аналогичны, вариативность проявляется в референциальной отнесенности и
при узуальном употреблении. Democracy: A political idea that created chaos for a
decade after the collapse of the Soviet Union and used to legitimize the material gains
of the few. Democracy is far from an alien concept for Russians (even by Western
standards), however its official practice over the past few years hardly makes it a sacrosanct ideal that many find of value [Untimely].
«демократия, управляемая» “managed democracy”: The phrase „managed democracy‟ began to be used to refer euphemistically to Putin‟s growing authoritarianism
[Russian Identity, c. 282].
508
Деникин, Антон Иванович Denikin, Anton Ivanovich 1872–1947 Russian general after the revolution of 1917 he joined the anti-Bolshevik armies on south Russia.
Promoted to commander in 1918, he led an unsuccessful advance on Moscow in 1919
and in 1920 resigned and went into exile [Times Atlas, c. 305].
День Красной Армии «день рождения» Красной Армии (1918–46), прежнее
название Советской Армии [Совдепия, c. 38]; Day of the Red Army/Red Army Day.
On February 23 (Red Army Day): Blucher was awarded the Order of Lenin [Republic,
c. 213].
День Советской Армии праздник Советской Армии (1946–1991); Day of the
Soviet Army/Soviet Army Day. Since it was Soviet Army Day, she was particularly
careful …and make sure the office was open [Moscow Spring, c. 54].
депортация deportation / deportatsiya, принудительное выселение (лица,
группы лиц или народа) за пределы государства или региона); высылка, актуализация значения [РЯ ХХ, c.203]; эвфемизм переселение (resettlement). Депортации
подвергались только определенные этнические группы. После Дела врачей (Doctors‟ plot) планировалась массовая депортация евреев. Crimean Tatars are “people
who lived in the Crimea before…deportations to Soviet central Asia after WW II”
[Random, c.476]. Extreme measures from Moscow are not unknown to Chechnya. Soviet dictator Joseph Stalin – accusing Chechens of supporting Nazi Germany in World
War II – ordered the mass uprooting of the entire Chechen population to Siberia in
1944, an event still remembered annually on Deportation Day [ChM Dec. 11, 2000].
См. крымские татары
“деревенщики” derevenshchiki, „village‟ prose writers. …derevenshchiki or “village writers” [People‟s]. The writers of „village prose‟ who complained about the destruction of Russian ethnic traditions by Soviet industrial progress turned out, in the final years of the USSR, to be among the staunchest defenders of the Union [Russian
Identity, c. 284].
“деревенская проза” “village prose” <Russ derevenskaya proza. Village Prose
offers an insider‟s view of village life from 1920s through the Brezhnev era. Its core
properties include: an emphasis on a specific rodnaia derevnia (native village); a rural
509
childhood; the peasant home, nature, whose rules the peasant must accept and whose
riches he must protect; memory; and the rich linguistic resources of peasant Russia that
are seen as a lesnaia gramota (forest literacy) specific to each village and region [Asia,
c. 108].
державность, an untranslatable word meaning, roughly, „great-power-status‟:The
point is to promote Russia‟s derzhavnost – an untranslatable word meaning, roughly,
„great-power-status‟. That means the state throwing its weight about abroad, with behaviour sometimes called derzhavnichestvo (great-power-ishness); and also at home
[New Cold War, c. 159].
десталинизация de-Stalinization the policy of eradicating the memory or influence of Stalin and Stalinism. [1955–1960]. The continued exposure of Stalin‟s repressions and the process of de-Stalinization still arouse strong passions here [Morning Star
April 10, 1989]. de-Stalinize to counteract the excesses of Stalinism by amending his
policies, removing movements to him, and renaming places named in his honour [OED
Supplement I, c. 781]. de-Stalinized, de-Stalinizer, de-Stalinizing [WCD, c. 360].
«десять лет без права переписки» эвфемизм: “ten years without right of correspondence” <Russ desyat' let bez prava perepiski lit., execution. Not until 1959 did
Arseniev‟s daughter Natasha learnt the sentence received by her mother Margarita Nikolaevna in 1938 (“ten years without right of correspondence”) denoted execution [Republic, c. 258].
«дети ХХ съезда КПСС» метафорическая номинация поколения 50-х, ХХ
съезд – разоблачение деятельности Сталина; “the children of the XXth Party Congress” <Russ deti XX syezda. Pro-Yeltsin rallies were made up mostly of people in their
50s and 60s, the so-called children of the 20th Party Congress [Nweek Sep. 2, 1991].
децентрализация отмена/ослабление централизации [РЯ XX, c. 208]; decentralization: attractive in theory, decentralization worked poorly in practice [History, c.
263].
диалектический материализм один из важнейших терминов марксизма,
получивший дальнейшее развитие в советской философии; dialectical materialism:
а Marxist tenet describing the process by which the class struggle between bourgeois
510
capitalist society and the exploited workers produces the dictatorship of the proletariat
and evolves into socialism and, finally, communism [S.U.].
диверсант diversionist political in Communist usage: a saboteur; also, one who
conspires against the government; 1937 [OED IV, c. 887]. To justify the purge the party
leadership alleged that „agents of foreign intelligence services, bandits and diversionists‟ had penetrated into the ranks of workers and technicians of Komsomolsk… [Soviet
FE, c. 17]. diversionism the activity of a diversionist [OED IV, c. 887].
диктат diktat: One reason that the biting nineteenth-century satires of Nikolai
Gogol and Mikhail Saltykov (Shchedrin) have played to enthusiastic modern audiences
in Russia is that they mock the same political diktat and pretentious habits of rulers as
modern underground balladeers do [New Russians, c.96].
диктатура закона diktatura zakona (dictatorship of the law). […] In Russia diktatura zakona has turned out to mean not the subjection of the executive power to the
abstract values of an independent judicial system, but the executive branch‟s untrammelled use of legal sanctions against its opponents – including, for example, defence
lawyers. [New Cold War, c. 159].
диссидент, dissident, rare dissenter, a person who openly and often strongly disagrees with an opinion, a group, or a government. Typically, dissidents are people who
oppose cruel and unjust political systems and who are persecuted for their opinions
[Culture, c.369]. В советский период, идионим = «враг советской страны»: The dissidents regularly challenged the lies on which the Soviet regime was constructed [The
Washington Post Sep. 5, 2002]. On the day following Osipov‟s arrest, sixteen dissenters
signed a protest against the regime‟s action [Revolutionaries, c.212].
добровольная народная дружина „volunteer people‟s militia‟ <Russ dobrovol‟naya narodnaya militsiya “assistance brigades” of frontier zone that provided border
guards help, like checking strangers‟ documents, etc. [Facts, c.175]. См. ДНД, дружина
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ)
DOSAAF Voluntary Society for Assistance to the Army, Air Force, and Navy (Dobrovol'noe obshchestvo sodeistviia armii, aviatsii i flotu). Responsible for premilitary train-
511
ing of Soviet youth [S.U.]. Voluntary Committee for Assistance to the Armed Forces/The Voluntary Society for Aid to the Army, Air Force and Navy (DOSAAF). At 14,
youngsters can join the Voluntary Committee for Assistance to the Armed Forces, a
gung-ho organization with the stated objective of training civilians “in the spirit of constant readiness for defense of the interests of the Socialist Motherland” [Russians, c.
427].
догматизм dogmatism, a term of abuse for a Marxist tendency to interpret Marxist-Leninist theory too literally and strictly instead of being graded by its spirit [Crowe,
c. 50].
ДНД a voluntary citizen (civilian) patrol, the voluntary arm of the militia [Дополнение РЯсловарь, c.29]. См. добровольная народная дружина, дружина.
Днепрострой Dneprostroi, an acronym for hydro-electric dam construction project on the River Dnieper and symbol of the industrialization process of the first FiveYear Plan [Documents, Glossary].
дружина druzhina The personal bodyguard of a prince, 1879 [Suppl II]; 2. Soviet, voluntary people‟s police; 3. Post-Soviet: St. Petersburg revived a Soviet-era institution called the druzhina – civilian patrols that help the police by maintaining order …
[Newsweek May 7, 2001]. См. ДНД. добровольная народная дружина
дружинник druzhinik volunteer police.
…volunteer police (druzhiniki) helping
direct traffic and control crowds [Life, c. 152].
дума 1. ист. duma An advisory council to the princes of Kievan Rus' and the tsars
of the Russian Empire [Glossary – Soviet Union].
Дума Duma Lower chamber of the legislature, established by Nicholas II after the
Revolution of 1905 [Glossary – Soviet Union]. Dumas: Capitalize State Duma, Moscow City Duma. • On second reference, call the State Duma the Duma (capital D) • On
second reference call the Moscow City Duma the City Duma (capital C, capital D) •
Outside Moscow, dumas are generally referred to as legislative assemblies (lower case).
Republics have parliaments, regions have legislative assemblies [MT Guide].
Ежов, Николай Иванович Yezhov/Ezhov, Nikolai Ivanovich 1894–1939. Soviet political leader. Yezhov was a member of the Central Committee of the Soviet
512
Communist party from 1934 and headed the people‟s commissariat of internal affairs
(NKVD) (1936–8), which under his direction carried out Stalin‟s purges [Times Atlas,
c. Glossary].
ежовщина Yezhovshchina / Ezhovshchina the period of Great Terror. As a result
(of purges), his (Yezhov‟s) name became inextricably linked with the Great Terror
(Yezhovshchina) [Times Atlas, Glossary]. Времена репрессий, проводимых комиссаром внутренних дел Н. И. Ежовым (1936–38) [Совдепия, c