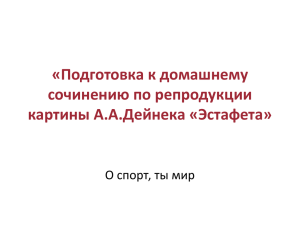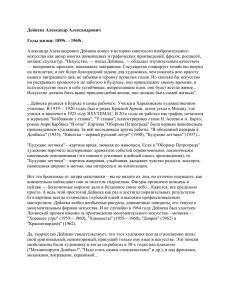Александр Дейнека: падение Икара. В 1948 году
advertisement

Александр Дейнека: падение Икара. В 1948 году Александр Дейнека написал автопортрет. Немолодой, но крепкий и подтянутый джентльмен, в спортивных трусах, халате и с полотенцем в руке. Примерно за двадцать лет до этого Дейнека написал "Боксера Градополова", нависающего в продолжающемся движении над поверженным соперником. Градополов, альтер эго Дейнеки ­ идеальное воплощение образа сноба и эстета нового типа, предающегося изысканным удовольствиям на боксерском ринге. С вышколенного и холеного лица истинного аристократа тщательно стерты все признаки сложного душевного устройства, характерного для плебеев. Даже в момент победы он не может позволить проявиться каким­то страстям, поэтому на лице боксера Градополова можно увидеть только спокойное удоволетворение от хорошо проведенной боевой комбинации. Как это ни парадоксально, "Боксер Градополов" похож на изображенного Серовым Великого князя Николая Николаевича, который с холодным отстранением взирает на этих плохо воспитанных "аристократов духа", хотя на самом деле все его мысли посвящены только любимой кобыле. На автопортрете Дейнеки 1948 года, так же как и на аристократических портретах Серова, невозможно "считать" эпоху ­ не заметно ни специфической загнанности советского человека эпохи Большого Террора, ни плохо скрытой радости человека, который вовремя примкнул к победителям. И возможно, что не вопреки, а благодаря такому спокойному внутреннему аристократизму герои Дейнеки и стали идеальными образами идеального гражданина страны победившего пролетариата. А сам художник Александр Дейнека вошел не только в канон социалистического реализма, но и в большой советский пантеон наравне с Маршалом Жуковым, Полярником Папаниным и Академиком Павловым. Но Дейнека имеет полное право на место и в другом пантеоне ­ именно он и довел до окончательного и бесповоротного финала суицидальную эволюцию русского авангарда. Окончательное разрушение единства мира произошло в тот момент, когда был найден безупречный вариант абсолютного синтеза. Поэтому простодушные определения вроде "художника, который писал по указке Партии", к нему относятся только косвенно ­ Дейнека воплощал свою собственную, глубоко персонализированную Утопию. Впрочем, и само понятие "утопия", с помощью которого так ловко и без особых проблем обыкновенно объясняется сущность "искусства тоталитаризма", тоже давно исчерпало все возможные потенции в качестве универсальной эстетической отмычки к русскому искусству первой половины ХХ века. Интересно, что даже соцартисты семидесятых, которые пытались иронично дешифровать утопию соцреализма, все до единого уклонились от естественно напрашивавшихся аппеляций к наследию Александра Дейнеки. Наверное потому, что сами воплощали эстетическую утопию, подозрительно похожую на дейнековскую. Получилось так, что Дейнека, который имеет почти исключительное авторское право на соцреализм как Большой стиль, был погребен под наслоениями и завалами советской эстетики. В период декаданса соцреализма, который начался уже после смерти художника, в шестидесятых, его имя активно использовалось теми, кто пытался реформировать социалистический реализм, пытаясь по новому разрешить ключевое для этого стиля противоречие между "истинным отражением" и критериями правдивости и искренности образа. Однако никакого задушевного двоемыслия, которое и привело соцреализм в состояние абсолютной невменяемости, Александр Дейнека вплоть до конца сороковых не проявлял. При этом художники и теоретики "сурового стиля", которые и возвели "правдивость" и "искренность" в ранг эстетической догмы обновленного соцреализма, оперировали хрущевскими идеологемами возвращения к идеалам "истинного социализма, очищенного от перегибов", которые и воплощал, на их взгляд, Александр Дейнека в двадцатые годы. В настоящий момент возник несколько странный эффект неожиданной ремиссии давно, казалось бы, изжитых травм. В академических кругах сформулировано мнение о том, что в советские времена работало множество просто хороших художников, а собственно соцреализм ­ это исключительно плохое, бескачественное искусство. Поэтому единственным подходом, почти лишенным психопатологической подоплеки, самым странным образом оказывается трикстерский неоакадемизм покойного Тимура Новикова, который с непередаваемым холодным снобизмом собирал еще тлеющие образчики тоталитарного искусства. Свой модернистский соцреализм Дейнека, подобно боксеру Градополову, "сделал" точным, метким и рассчитанным ударом, без всякой долгой подготовки. Первые же его большие картины ­ "Оборона Петрограда", "Перед спуском в шахту" сразу же стали классикой стиля, задолго до того, как он был официально сформулирован. Дейнека ­ дитя эпохи модернизации, которую переживала Россия, он человек идеального происхождения ­ из рабочих, с идеальной жизненной историей. Воевал в Гражданскую, работал художником агиттеатра, потом работал фотографом в курском угрозыске. Были, конечно, некоторые отклонения. В поздние времена художник не без иронии вспоминал: "Пережил увлечения петроградскими левыми: насаждаю на курских ухабах яркий кубизм." (Правда, никаких образчиков этого кубизма не сохранилось). Поступив в 1921 году во ВХУТЕМАс, Дейнека стал учеником Владимира Фаворского, одного из самых серьезных формалистов, чуждого всяким экспериментам. От Фаворского Дейнека и воспринял доведенную до металлического звона композицию и пристрастие к аскетическому решению живописной плоскости. Именно этот строгий живописный пуризм, утраченный только к пятидесятым, и выделял Дейнеку из стандартного соцреализма, который на деле представлял из себя невнятную и маловразумительную живописную кашу, набитую ошметками стилей эпохи раннего модернизма, особенно ­ сезаннизма и импрессионизма. Самое интересное, что почти все мастера русского авангарда по разным траекториям, но переживали свои собственные переходы "от импрессионизма к супрематизму", канонизированные Малевичем как единственно возможный путь развития "нового искусства". Можно даже предположить, что и супрематизм, и тотальный отказ конструктивистов от живописи как таковой означали попытку выпрыгнуть из череды маниакально перебираемых стилей, составившей основную интригу раннего авангарда. Отвергнутые "стили" покрыли единой сплавившейся коркой картинную поверхность соцреалистической живописи. На жаргоне живописцев беспорядочная смесь всех красок, возникающая на палитре, если художник не моет кисти, именуется "фузой". И в рамках дискурса советского искусства даже робкие попытки выхода за поверхность этой фузы в сторону прозрачного "импрессионизма" на протяжении 1930­х ­ 1950­х рассматривались как знак свободомыслия и подвергались критике как "буржуазный формализм". Но в большой диспозиции советского искусства все без исключения формальные категории приобретали этический характер, поэтому все та же фуза, но доведенная до предельного состояния, как у Роберта Фалька, стала несомненным признаком эстетического сопротивления и несомненный знаком живописного качества. Александр Дейнека появился на художественной сцене в тот самый переломный момент, когда происходило героическое катапультирование из зоны стилевой эволюции. В 1921 году группа бывших футуристов провозгласила в знаменитой декларации ИНХУКА Великий Отказ от живописи как таковой и объявила переход к конструктивизму и производственному искусству. Новое представление о должном в искусстве стало активно насаждаться прежде всего во ВХУТЕМАСе, где учился Дейнека. В 1924 году он участвует в знаменитой вхутемасовской "1­й дискуссионной выставке объединений активного революционного искусства". Группа "Объединение трех" (А.Гончаров, А.Дейнека, Ю.Пименов), в составе которой он участвовал, никакого особого манифеста не заявила, зато объединение "Группа Проекционистов", в котором состояли Сергей Лучишкин и Александр Тышлер, объявила, что "Живопись и объемные сооружения есть наиубедительнейшее средство выражения (проекций) метода организации материалов" и "Художник ­ не производитель вещей потребления (шкаф, картина), а (проекций) метода ­ организации материалов." Молодые художники, которые почти в полном составе позже вошли в общество "ОСТ", действуя в авангардной логике двойного отрицания, подвергли ревизии совсем недавно выдвинутые старшими модернистами ригористические декларации производственников относительно судьбы картины. (Новая группировка принципиально было названа "Общество СТанковистов".) Лучишкин, Тышлер и другие пошли по пути абсолютизации психологических состояний. Отвергнув а­психологический конструктивизм, они не прельстились также и парижской маэстрией своего учителя Давида Штеренберга, обратившись к "боковой" для русского искусства ветви ­ немецкому экспрессионизму, который был довольно широко и полно показан в Москве на в 1924 году на 1­й выставке германского искусства. Дейнека также прошел в ранних работах ("Перед спуском в шахту", 1925, "На стройке новых цехов", 1926) экспрессионистический период. Но именно здесь и проявилось принципиальное отличие в подходе к самой проблеме "экспрессии", которая у Дейнеки заключена в предельно жесткий композиционный каркас, в то время как у немецких экспрессионистов и их советских последователей композиция преднамеренно расшатывалась и разрушалась. Но без­образность и распад мира был тотальны и непреодолимы для экспрессионистов, которые говорили от имени угнетенного пролетариата. Дейнека в своих карикатурах и рисунках для различных массовых идеологических журналов, таких как "Безбожник у станка", живописал в состоянии полного психического и физиологического распада тех же персонажей, что и немецкий коммунист Отто Дикс, но при этом изображал классы, обреченные советской властью на уничтожение. Интересно, что даже в откровенно "экспрессионистических" рисунках Дейнеки господствуют жесткие диагональные композиционные решения. Намерено жесткая композиция в фигуративной живописи Дейнеки, которая современными критиками рассматривалась как отражение нового, подтянутого и дисциплинировванного поколения, пришедшего на смену анархической вольнице гражданской войны, на самом деле произрастает из перенапряженной тоталитарной композиции, открытой в супрематизме Казимира Малевича. Более того, несложно заметить, что жесткие, почти невозможные ракурсы, и прямолинейные композиционные конструкции, которые стали фирменным знаком Александра Дейнеки, прямо соотносятся также и с фотографиями и коллажами Александра Родченко. Так что обвинения в связях с футуристами и конструктивистами, которым Дейнека подвергался до самого конца жизни, на самом деле были более чем справедливы и корректны, и сам художник даже не считал нужным их как­то маскировать. В конце концов его происхождение "из авангардистов" было сведено к семейной шутке ­ скульптор Вучетич даже изготовил небольшой скульптурный шарж, где одна половина туловища выполнена в "кубистической технике", а другая ­ в "реалистической". Но принципиальное противопоставление "абстракционизма" и "реализма" порождено эпохой холодной войны и не имеет почти никакого отношения к искусству 1920­х годов. Родченко или Степанова в двадцатых были вовсе не "абстракционистами", но "производственниками", перейдя от беспредметной живописи к воплощению лефовских идей об искусстве тотального жизнестроения. А "станковист" Дейнека, который никогда публично от Картины не отказывался, гораздо больше самого Родченко работал в массовых журналах ("Безбожник у станка", "Даешь", "Красная нива", "Прожектор", "Смена"), то есть в той самой области, куда призывали художника лефовские теоретики. Для Дейнеки, в 1929 году присоединившегося к обществу "Октябрь", которое было последней попыткой легитимизации высокого модернизма, живопись никогда не была асбсолютной и безусловной ценностью. Как и конструктивисты, он работал преимущественно с категориями "формы" и "функции". Впрочем, в теоретические дебаты он никогда глубоко не погружался, поэтому сумел ускользнуть из под огня критики, которая обрушилась на общество "Октябрь", и стать вполне правоверным советским мастером. В отличие от подавляющего большинства художников соцреализма, которые с разной мерой усердия нивелировали свои индивидуальные стили под идеологический запрос, Дейнека совершил гораздо более сложный путь. Он перешел, если использовать психоаналитические термины, от разрушительной аналитической стадии к стадии зеркала, то есть предельного синтеза мира. Образно говоря, в своей "Игре в мяч" он "собрал" обратно "Авиньонских девушек", препарированных кубистическим анализом Пабло Пикассо. Но этот синтез был вполне амбивалентным: резвящиеся идеальные валькирии вполне могли бы войти и в канон национал­социалистического искусства. Более того, телесность, на картинах Дейнеки достигшая завершенности, соответствует тому пониманию термина Gestalt, которого придерживался главный идеолог фашизма Альфред Розенберг, утверждавший в "Мифе ХХ века", что "Gestalt всегда пластически ограничен, его сущность в том, чтобы иметь форму, отличие; "граница" здесь ­ это те линии, которые очерчивают фигуру на фоне...". Манипулируя чистыми и дистиллированными гештальтами, Дейнека позволяет себе нарушать пуританские устои советского общества и изображать в больших количествах обнаженное мужское и женское тело. У его ангелоподобных созданий, облеченных в идеальную телесность, начисто отсутствует низменный, плотский эрос. Более того, в качестве совершенных гештальтов дейнековские физкультурники обретают возможность нарушать физические законы и парить над поверхностью земли, как "Футболист" или спортсмены, которые прорывают небосвод в мозаиках Дейнеки на станции "Маяковская". Впрочем, в этих мозаиках вполне можно видеть и прямые реплики на искусство великих венецианцев, у которых в небесах парят вполне житейские и далекие от совершенства персонажи. Но у Дейнеки несовершенство образа­гештальта обрекает на падение в мир физических законов и приводит к тривиальному падению, как на картине "Николка­летун". С другой стороны, в принципиально важном полотне "Сбитый фашистский асс" таинственно отсутствует сюжетная мотивировка; с небес стремительно низвергнут персонаж, внезапно лишившийся права на свободное парение в пространстве. В данном случае вполне резонно предположить внутреннюю и глубоко скрытую полемику Александра Дейнеки с искусством Третьего Рейха. Но прежде чем впасть в рассуждения о родовых признаках искусства тоталитарных режимов, следует сначала доказать, что именно для этого искусства характерно стремление к абсолютной совершенности образа, то есть к гештальту. Можно также попробовать доказать и противоположный тезис ­ что аналитическое разложение есть непременная черта искусства при демократическом строе. Александр Дейнека почти никаких усилий по "перестройке" из модерниста в соцреалиста не совершал, поэтому может рассматриваться как едва ли не единственный пример генетической преемственности между авангардом и социалистическим реализмом, на которой настаивает Борис Гройс и его последователи. Хотя эта концепция исторически локализована в среде московского концептуализма семидесятых, тем не менее идеи Gesamptkunstwerke Stalin ("Стиль Сталин") помогают существенно уточнить внутреннюю эволюцию стиля в связи с изменением психопатологических состояний самого Иосифа Сталина, на которого Гройс указывает как на главного создателя и носителя стиля. Например, применительно к Дейнеке есть довольно смутные сведения о том, что в тридцатых великий вождь весьма активно защищал не до конца раскаявшегося "формалиста" от нападок со стороны слишком ретивых апологетов "отражения жизни в формах самой жизни". Генезис соцреализма ­ довольно сложная конструкция. С одной стороны ­ это результат деятельности самих художников и идеологов, которые старательно добивались радикальной деперсонализации и формализации стиля. С другой ­ это воплощение персональной стратегии самого Сталина, который прямо воздействовал на складывающийся канон, что документально зафиксировано в области кинематографа. В тридцатых его очень привлекали ясная и открытая эмоциональность, выраженная в лентах типа "Волга­Волга", совсем некондиционных с точки зрения соцреалистической ортодоксии. В этом смысле можно также идентифицировать и довольно смутные сведения о том, что Дейнека был любимым художником Сталина, хотя художник никогда не допускался (или не опускался?) до визуализации культа личности. Но в конце сороковых ­ начале пятидесятых в "Стиле Сталин" стали происходить очевидные изменения, связанные с тем, что сам вождь стал стремительно стареть и наконец впал в глубочайшую депрессию от того, что осознал неизбежность физической смерти. Поэтому на смену разгулу дионисийской телесности эпохи тридцатых пришел принципиально иной, тяжеловесный и помпезный стиль, похожий на эстетику похоронного бюро. Дейнека впал в некоторую опалу, несмотря на то, что и сам понемногу перешел к тяжеловесной и мутной фактуре, утратив свой изначальный безудержный живописный оптимизм. Поэтому можно предположить, что и "Николка­летун" тоже своего рода альтер эго художника, который утратил первичную цельность, существовавшую в эпоху "Боксера Градополова", утратил внутренний Gestalt и просто упал на землю. WAM