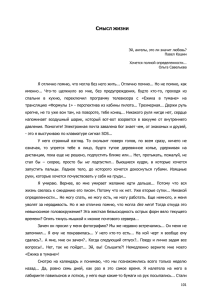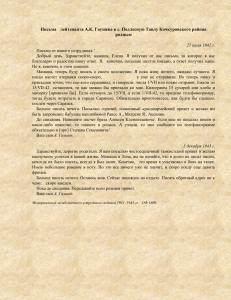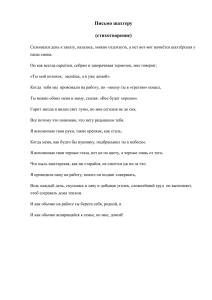Я САМ - Просвещение
реклама
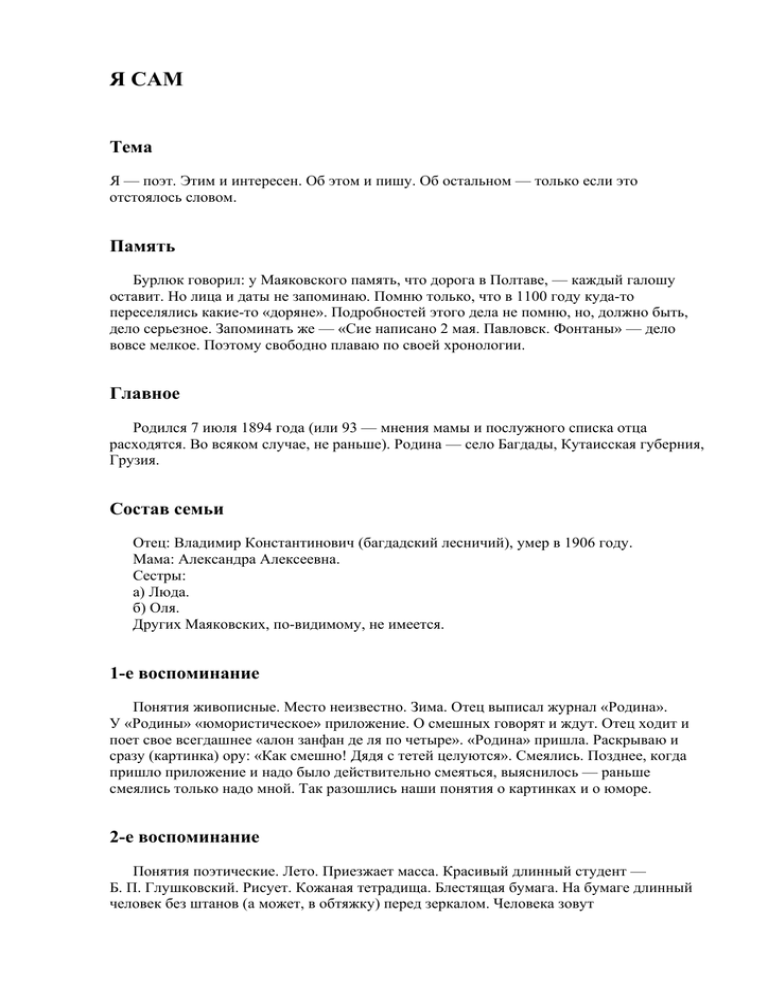
Я САМ Тема Я — поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу. Об остальном — только если это отстоялось словом. Память Бурлюк говорил: у Маяковского память, что дорога в Полтаве, — каждый галошу оставит. Но лица и даты не запоминаю. Помню только, что в 1100 году куда-то переселялись какие-то «доряне». Подробностей этого дела не помню, но, должно быть, дело серьезное. Запоминать же — «Сие написано 2 мая. Павловск. Фонтаны» — дело вовсе мелкое. Поэтому свободно плаваю по своей хронологии. Главное Родился 7 июля 1894 года (или 93 — мнения мамы и послужного списка отца расходятся. Во всяком случае, не раньше). Родина — село Багдады, Кутаисская губерния, Грузия. Состав семьи Отец: Владимир Константинович (багдадский лесничий), умер в 1906 году. Мама: Александра Алексеевна. Сестры: а) Люда. б) Оля. Других Маяковских, по-видимому, не имеется. 1-е воспоминание Понятия живописные. Место неизвестно. Зима. Отец выписал журнал «Родина». У «Родины» «юмористическое» приложение. О смешных говорят и ждут. Отец ходит и поет свое всегдашнее «алон занфан де ля по четыре». «Родина» пришла. Раскрываю и сразу (картинка) ору: «Как смешно! Дядя с тетей целуются». Смеялись. Позднее, когда пришло приложение и надо было действительно смеяться, выяснилось — раньше смеялись только надо мной. Так разошлись наши понятия о картинках и о юморе. 2-е воспоминание Понятия поэтические. Лето. Приезжает масса. Красивый длинный студент — Б. П. Глушковский. Рисует. Кожаная тетрадища. Блестящая бумага. На бумаге длинный человек без штанов (а может, в обтяжку) перед зеркалом. Человека зовут «Евгенионегиным». И Боря был длинный, и нарисованный был длинный. Ясно. Борю я и считал этим самым «Евгенионегиным». Мнение держалось года три. 3-е воспоминание Практические понятия. Ночь. За стеной бесконечный шепот папы и мамы. О рояли. Всю ночь не спал. Свербила одна и та же фраза. Утром бросился бежать бегом: «Папа, что такое рассрочка платежа?» Объяснение очень понравилось. Дурные привычки Лето. Потрясающие количества гостей. Накапливаются именины. Отец хвастается моей памятью. Ко всем именинам меня заставляют заучивать стихи. Помню — специально для папиных именин: Как-то раз перед толпою Соплеменных гор... «Соплеменные» и «скалы́» меня раздражали. Кто они такие, я не знал, а в жизни они не желали мне попадаться. Позднее я узнал, что это поэтичность, и стал тихо ее ненавидеть. Корни романтизма Первый дом, воспоминаемый отчетливо. Два этажа. Верхний — наш. Нижний — винный заводик. Раз в году — арбы винограда. Давили. Я ел. Они пили. Все это территория стариннейшей грузинской крепости под Багдадами. Крепость очетыреугольнивается крепостным валом. В углах валов — накаты для пушек. В валах бойницы. За валами рвы. За рвами леса и шакалы. Над лесами горы. Подрос. Бегал на самую высокую. Снижаются горы к северу. На севере разрыв. Мечталось — это Россия. Тянуло туда невероятнейше. Необычайное Лет семь. Отец стал брать меня в верховые объезды лесничества. Перевал. Ночь. Обстигло туманом. Даже отца не видно. Тропка узейшая. Отец, очевидно, отдернул рукавом ветку шиповника. Ветка с размаху шипами в мои щеки. Чуть повизгивая, вытаскиваю колючки. Сразу пропали и туман и боль. В расступившемся тумане под ногами — ярче неба. Это электричество. Клепочный завод князя Накашидзе. После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь. Учение Учила мама и всякоюродные сестры. Арифметика казалась неправдоподобной. Приходится рассчитывать яблоки и груши, раздаваемые мальчикам. Мне ж всегда давали, и я всегда давал без счета. На Кавказе фруктов сколько угодно. Читать выучился с удовольствием. Первая книга Какая-то «Птичница Агафья». Если б мне в то время попалось несколько таких книг — бросил бы читать совсем. К счастью, вторая — «Дон-Кихот». Вот это книга! Сделал деревянный меч и латы, разил окружающее. Экзамен Переехали. Из Багдада в Кутаис. Экзамен в гимназию. Выдержал. Спросили про якорь (на моем рукаве) — знал хорошо. Но священник спросил — что такое «око». Я ответил: «Три фунта» (так по-грузински). Мне объяснили любезные экзаменаторы, что «око» — это глаз по-древнему, церковнославянскому. Из-за этого чуть не провалился. Поэтому возненавидел сразу — все древнее, все церковное и все славянское. Возможно, что отсюда пошли и мой футуризм, и мой атеизм, и мой интернационализм. Гимназия Приготовительный, 1-й и 2-й. Иду первым. Весь в пятерках. Читаю Жюля Верна. Вообще фантастическое. Какой-то бородач стал во мне обнаруживать способности художника. Учит даром. Японская война Увеличилось количество газет и журналов дома. «Русские ведомости», «Русское слово», «Русское богатство» и прочее. Читаю все. Безотчетно взвинчен. Восхищают открытки крейсеров. Увеличиваю и перерисовываю. Появилось слово «прокламация». Прокламации вешали грузины. Грузинов вешали казаки. Мои товарищи грузины. Я стал ненавидеть казаков. Нелегальщина Приехала сестра из Москвы. Восторженная. Тайком дала мне длинные бумажки. Нравилось: очень рискованно. Помню и сейчас. Первая: Опомнись, товарищ, опомнись-ка, брат, скорей брось винтовку на землю. И еще какое-то, с окончанием: ...а не то путь иной — к немцам с сыном, с женой и с мамашей... (о царе) Это была революция. Это было стихами. Стихи и революция как-то объединились в голове. 905-й год Не до учения. Пошли двойки. Перешел в четвертый только потому, что мне расшибли голову камнем (на Рионе подрался), — на переэкзаменовках пожалели. Для меня революция началась так: мой товарищ, повар священника — Исидор, от радости босой вскочил на плиту — убили генерала Алиханова. Усмиритель Грузии. Пошли демонстрации и митинги. Я тоже пошел. Хорошо. Воспринимаю живописно: в черном анархисты, в красном эсеры, в синем эсдеки, в остальных цветах федералисты. Социализм Речи. Газеты. Из всего — незнакомые понятия и слова. Требую у себя объяснений. В окнах белые книжицы. «Буревестник». Про то же. Покупаю все. Вставал в шесть утра. Читал запоем. Первая: «Долой социал-демократов». Вторая: «Экономические беседы». На всю жизнь поразила способность социалистов распутывать факты, систематизировать мир. «Что читать?» — кажется, Рубакина. Перечел советуемое. Многое не понимаю. Спрашиваю. Меня ввели в марксистский кружок. Попал на «Эрфуртскую». Середина. О «лумпенпролетариате». Стал считать себя социал-демократом: стащил отцовские берданки в эсдечий комитет. Фигурой нравился Лассаль. Должно быть, оттого, что без бороды. Моложавей. Лассаль у меня перепутался с Демосфеном. Хожу на Рион. Говорю речи, набрав камни в рот. Реакция По-моему, началось со следующего: при панике (может, разгоне) в демонстрацию памяти Баумана мне (упавшему) попало большущим барабанищем по голове. Я испугался, думал — сам треснул. 906-й год Умер отец. Уколол палец (сшивал бумаги). Заражение крови. С тех пор терпеть не могу булавок. Благополучие кончилось. После похорон отца — у нас 3 рубля. Инстинктивно, лихорадочно мы распродали столы и стулья. Двинулись в Москву. Зачем? Даже знакомых не было. Дорога Лучше всего — Баку. Вышки, цистерны, лучшие духи — нефть, а дальше степь. Пустыня даже. Москва Остановились в Разумовском. Знакомые сестры — Плотниковы. Утром паровиком в Москву. Сняли квартиренку на Бронной. Московское С едами плохо. Пенсия — 10 рублей в месяц. Я и две сестры учимся. Маме пришлось давать комнаты и обеды. Комнаты дрянные. Студенты жили бедные. Социалисты. Помню — первый передо мной «большевик» Вася Канделаки. Приятное Послан за керосином. 5 рублей. В колониальной дали сдачи 14 рублей 50 копеек; 10 рублей — чистый заработок. Совестился. Обошел два раза магазин («Эрфуртская» заела). — Кто обсчитался, хозяин или служащий, — тихо расспрашиваю приказчика. — Хозяин! — Купил и съел четыре цукатных хлеба. На остальные гонял в лодке по Патриаршим прудам. Видеть с тех пор цукатных хлебов не могу. Работа Денег в семье нет. Пришлось выжигать и рисовать. Особенно запомнились пасхальные яйца. Круглые, вертятся и скрипят, как двери. Яйца продавал в кустарный магазин на Неглинной. Штука 10—15 копеек. С тех пор бесконечно ненавижу Бемов, русский стиль и кустарщину. Гимназия Перевелся в 4-й класс пятой гимназии. Единицы, слабо разноображиваемые двойками. Под партой «Анти-Дюринг». Чтение Беллетристики не признавал совершенно. Философия. Гегель. Естествознание. Но главным образом марксизм. Нет произведения искусства, которым бы я увлекся более, чем «Предисловием» Маркса. Из комнат студентов шла нелегальщина. «Тактика уличного боя» и т. д. Помню отчетливо синенькую ленинскую «Две тактики». Нравилось, что книга срезана до букв. Для нелегального просовывания. Эстетика максимальной экономии. Первое полустихотворение Третья гимназия издавала нелегальный журнальчик «Порыв». Обиделся. Другие пишут, а я не могу?! Стал скрипеть. Получилось невероятно революционно и в такой же степени безобразно. Вроде теперешнего Кириллова. Не помню ни строки. Написал второе. Вышло лирично. Не считая таковое состояние сердца совместимым с моим «социалистическим достоинством», бросил вовсе. Партия 1908 год. Вступил в партию РСДРП (большевиков). Держал экзамен в торговопромышленном подрайоне. Выдержал. Пропагандист. Пошел к булочникам, потом к сапожникам и, наконец, к типографщикам. На общегородской конференции выбрали в МК. Были Ломов, Поволжец, Смидович и другие. Звался «товарищем Константином». Здесь работать не пришлось — взяли. Арест 29 марта 1908 г. нарвался на засаду в Грузинах. Наша нелегальная типография. Ел блокнот. С адресами и в переплете. Пресненская часть. Охрана. Сущевская часть. Следователь Вольтановский (очевидно, считал себя хитрым) заставил писать под диктовку: меня обвиняли в писании прокламации. Я безнадежно перевирал диктант. Писал: «социяльдимократическая». Возможно, провел. Выпустили на поруки. В части с недоумением прочел «Санина». Он почему-то в каждой части имелся. Очевидно, душеспасителен. Вышел. С год — партийная работа. И опять кратковременная сидка. Взяли револьвер. Махмудбеков, друг отца, тогда помощник начальника Крестов, арестованный случайно у меня в засаде, заявил, что револьвер его, и меня выпустили. Третий арест Живущие у нас (Коридзе (нелегальн. Морчадзе), Герулайтис и др.) ведут подкоп под Таганку. Освобождать женщин-каторжан. Удалось устроить побег из Новинской тюрьмы. Меня забрали. Сидеть не хотел. Скандалил. Переводили из части в часть — Басманная, Мещанская, Мясницкая и т. д. — и наконец — Бутырки. Одиночка № 103. 11 бутырских месяцев Важнейшее для меня время. После трех лет теории и практики — бросился на беллетристику. Перечел все новейшее. Символисты — Белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизна. Но было чуждо. Темы, образы не моей жизни. Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось, так же про другое — нельзя. Вышло ходульно и ревплаксиво. Что-то вроде: В золото, в пурпур леса одевались, Солнце играло на главах церквей. Ждал я: но в месяцах дни потерялись, Сотни томительных дней. Исписал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям — при выходе отобрали. А то б еще напечатал! Отчитав современность, обрушился на классиков. Байрон, Шекспир, Толстой. Последняя книга — «Анна Каренина». Не дочитал. Ночью вызвали «с вещами по городу». Так и не знаю, чем у них там, у Карениных, история кончилась. Меня выпустили. Должен был (охранка постановила) идти на три года в Туруханск. Махмудбеков отхлопотал меня у Курлова. Во время сидки судили по первому делу — виновен, но летами не вышел. Отдать под надзор полиции и под родительскую ответственность. Так называемая дилемма Вышел взбудораженный. Те, кого я прочел, — так называемые великие. Но до чего же нетрудно писать лучше их. У меня уже и сейчас правильное отношение к миру. Только нужен опыт в искусстве. Где взять? Я неуч. Я должен пройти серьезную школу. А я вышиблен даже из гимназии, даже и из Строгановского. Если остаться в партии — надо стать нелегальным. Нелегальным, казалось мне, не научишься. Перспектива — всю жизнь писать летучки, выкладывать мысли, взятые из правильных, но не мной придуманных книг. Если из меня вытряхнуть прочитанное, что останется? Марксистский метод. Но не в детские ли руки попало это оружие? Легко орудовать им, если имеешь дело только с мыслью своих. А что при встрече с врагами? Ведь вот лучше Белого я все-таки не могу написать. Он про свое весело — «в небеса запустил ананасом», а я про свое ною — «сотни томительных дней». Хорошо другим партийцам. У них еще и университет. (А высшую школу — я еще не знал, что это такое, — я тогда уважал!) Что я могу противопоставить навалившейся на меня эстетике старья? Разве революция не потребует от меня серьезной школы? Я зашел к тогда еще товарищу по партии — Медведеву. Хочу делать социалистическое искусство. Сережа долго смеялся: кишка тонка. Думаю все-таки, что он недооценил мои кишки. Я прервал партийную работу. Я сел учиться. Начало мастерства Думалось — стихов писать не могу. Опыты плачевные. Взялся за живопись. Учился у Жуковского. Вместе с какими-то дамочками писал серебренькие сервизики. Через год догадался — учусь рукоделию. Пошел к Келину. Реалист. Хороший рисовальщик. Лучший учитель. Твердый. Меняющийся. Требование — мастерство, Гольбейн. Терпеть не могущий красивенькое. Поэт почитаемый — Саша Черный. Радовал его антиэстетизм. Последнее училище Сидел на «голове» год. Поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества: единственное место, куда приняли без свидетельства о благонадежности. Работал хорошо. Удивило: подражателей лелеют — самостоятельных гонят. Ларионов, Машков. Ревинстинктом стал за выгоняемых. Давид Бурлюк В училище появился Бурлюк. Вид наглый. Лорнетка. Сюртук. Ходит напевая. Я стал задирать. Почти задрались. В курилке Благородное собрание. Концерт. Рахманинов. Остров мертвых. Бежал от невыносимой мелодизированной скуки. Через минуту и Бурлюк. Расхохотались друг в друга. Вышли шляться вместе. Памятнейшая ночь Разговор. От скуки рахманиновской перешли на училищную, от училищной — на всю классическую скуку. У Давида — гнев обогнавшего современников мастера, у меня — пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старья. Родился российский футуризм. Следующая Днем у меня вышло стихотворение. Вернее — куски. Плохие. Нигде не напечатаны. Ночь. Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю — это один мой знакомый. Давид остановился. Осмотрел меня. Рявкнул: «Да это же ж вы сами написали! Да вы же ж гениальный поэт!» Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом. Бурлючье чудачество Уже утром Бурлюк, знакомя меня с кем-то, басил: «Не знаете? Мой гениальный друг. Знаменитый поэт Маяковский». Толкаю. Но Бурлюк непреклонен. Еще и рычал на меня, отойдя: «Теперь пишите. А то вы меня ставите в глупейшее положение». Так ежедневно Пришлось писать. Я и написал первое (первое профессиональное, печатаемое) — «Багровый и белый» и другие. Прекрасный Бурлюк Всегдашней любовью думаю о Давиде. Прекрасный друг. Мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом. Читал мне французов и немцев. Всовывал книги. Ходил и говорил без конца. Не отпускал ни на шаг. Выдавал ежедневно 50 копеек. Чтоб писать не голодая. На Рождество завез к себе в Новую Маячку. Привез «Порт» и другое. «Пощечина» Из Маячки вернулись. Если с неотчетливыми взглядами, то с отточенными темпераментами. В Москве Хлебников. Его тихая гениальность тогда была для меня совершенно затемнена бурлящим Давидом. Здесь же вился футуристический иезуит слова — Крученых. После нескольких ночей лирики родили совместный манифест. Давид собирал, переписывал, вдвоем дали имя и выпустили «Пощечину общественному вкусу». Пошевеливаются Выставки «Бубновый валет». Диспуты. Разъяренные речи мои и Давида. Газеты стали заполняться футуризмом. Тон был не очень вежливый. Так, например, меня просто называли «сукиным сыном». Желтая кофта Костюмов у меня не было никогда. Были две блузы — гнуснейшего вида. Испытанный способ — украшаться галстуком. Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. Значит, самое заметное и красивое в человеке — галстук. Очевидно — увеличишь галстук, увеличится и фурор. А так как размеры галстуков ограничены, я пошел на хитрость: сделал галстуковую рубашку и рубашковый галстук. Впечатление неотразимое. Разумеется Генералитет искусства ощерился. Князь Львов. Директор училища. Предложил прекратить критику и агитацию. Отказались. Совет «художников» изгнал нас из училища. Веселый год Ездили Россией. Вечера. Лекции. Губернаторство настораживалось. В Николаеве нам предложили не касаться ни начальства, ни Пушкина. Часто обрывались полицией на полуслове доклада. К ватаге присоединился Вася Каменский. Старейший футурист. Для меня эти годы — формальная работа, овладение словом. Издатели не брали нас. Капиталистический нос чуял в нас динамитчиков. У меня не покупали ни одной строчки. Возвращаясь в Москву — чаще всего жил на бульварах. Это время завершилось трагедией «Владимир Маяковский». Поставлена в Петербурге. Луна-Парк. Просвистели ее до дырок. Начало 14-го года Чувствую мастерство. Могу овладеть темой. Вплотную. Ставлю вопрос о теме. О революционной. Думаю над «Облаком в штанах». Война Принял взволнованно. Сначала только с декоративной, с шумовой стороны. Плакаты заказные и, конечно, вполне военные. Затем стих. «Война объявлена». Август Первое сражение. Вплотную встал военный ужас. Война отвратительна. Тыл еще отвратительней. Чтобы сказать о войне — надо ее видеть. Пошел записываться добровольцем. Не позволили. Нет благонадежности. И у полковника Модля оказалась одна хорошая идея. Зима Отвращение и ненависть к войне. «Ах, закройте, закройте глаза газет» и другие. Интерес к искусству пропал вовсе. Май Выиграл 65 рублей. Уехал в Финляндию. Куоккала. Куоккала Семизнакомая система (семипольная). Установил семь обедающих знакомств. В воскресенье «ем» Чуковского, понедельник — Евреинова и т. д. В четверг было хуже — ем репинские травки. Для футуриста ростом в сажень — это не дело. Вечера шатаюсь пляжем. Пишу «Облако». Выкрепло сознание близкой революции. Поехал в Мустамяки. М. Горький. Читал ему части «Облака». Расчувствовавшийся Горький обплакал мне весь жилет. Расстроил стихами. Я чуть загордился. Скоро выяснилось, что Горький рыдает на каждом поэтическом жилете. Все же жилет храню. Могу кому-нибудь уступить для провинциального музея. «Новый сатирикон» 65 рублей прошли легко и без боли. «В рассуждении чего б покушать» стал писать в «Новом сатириконе». Радостнейшая дата Июль 915-го года. Знакомлюсь с Л. Ю. и О. М. Бриками. Призыв Забрили. Теперь идти на фронт не хочу. Притворился чертежником. Ночью учусь у какого-то инженера чертить авто. С печатанием еще хуже. Солдатам запрещают. Один Брик радует. Покупает все мои стихи по 50 копеек строку. Напечатал «Флейту позвоночника» и «Облако». Облако вышло перистое. Цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек. С тех пор у меня ненависть к точкам. К запятым тоже. Солдатчина Паршивейшее время. Рисую (изворачиваюсь) начальниковы портреты. В голове разворачивается «Война и мир», в сердце — «Человек». 16-й год Окончена «Война и мир». Немного позднее — «Человек». Куски печатаю в «Летописи». На военщину нагло не показываюсь. 26 февраля, 17-й год Пошел с автомобилями к Думе. Влез в кабинет Родзянки. Осмотрел Милюкова. Молчит. Но мне почему-то кажется, что он заикается. Через час надоели. Ушел. Принял на несколько дней команду Автошколой. Гучковеет. Старое офицерье по-старому расхаживает в Думе. Для меня ясно — за этим неизбежно сейчас же социалисты. Большевики. Пишу в первые дни революции Поэтохронику «Революция». Читаю лекции — «Большевики искусства». Август Россия понемногу откеренщивается. Потеряли уважение. Ухожу из «Новой жизни». Задумываю «Мистерию-Буфф». Октябрь Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня (и для других москвичейфутуристов) не было. Моя революция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось. Начинают заседать. Январь Заехал в Москву. Выступаю. Ночью в «Кафе поэтов» в Настасьинском. Революционная бабушка теперешних кафе-поэтных салончиков. Пишу киносценарии. Играю сам. Рисую для кино плакаты. Июнь. Опять Петербург. 18-й год РСФСР — не до искусства. А мне именно до него. Заходил в Пролеткульт к Кшесинской. Отчего не в партии? Коммунисты работали на фронтах. В искусстве и просвещении пока соглашатели. Меня послали б ловить рыбу в Астрахань. 25 октября, 18-й год Окончил мистерию. Читал. Говорят много. Поставил Мейерхольд с К. Малевичем. Ревели вокруг страшно. Особенно коммунистичествующая интеллигенция. Андреева чего-чего не делала. Чтоб мешать. Три раза поставили — потом расколотили. И пошли «Макбеты». 19-й год Езжу с мистерией и другими вещами моими и товарищей по заводам. Радостный прием. В Выборгском районе организуется комфут, издаем «Искусство коммуны». Академии трещат. Весной переезжаю в Москву. Голову охватила «150 000 000». Пошел в агитацию РОСТА. 20-й год Кончил «Сто пятьдесят миллионов». Печатаю без фамилии. Хочу, чтоб каждый дописывал и улучшил. Этого не делали, зато фамилию знали все. Все равно. Печатаю здесь под фамилией. Дни и ночи РОСТА. Наступают всяческие Деникины. Пишу и рисую. Сделал тысячи три плакатов и тысяч шесть подписей. 21-й год Пробиваясь сквозь все волокиты, ненависти, канцелярщины и тупости — ставлю второй вариант мистерии. Идет в I РСФСР — в режиссуре Мейерхольда с художниками Лавинским, Храковским, Киселевым и в цирке на немецком языке для III конгресса Коминтерна. Ставит Грановский с Альтманом и Равделем. Прошло около ста раз. Стал писать в «Известиях». 22-й год Организую издательство МАФ. Собираю футуристов — коммуны. Приехали с Дальнего Востока Асеев, Третьяков и другие товарищи по дракам. Начал записывать работанный третий год «Пятый Интернационал». Утопия. Будет показано искусство через 500 лет. 23-й год Организуем «Леф». «Леф» — это охват большой социальной темы всеми орудиями футуризма. Этим определением, конечно, вопрос не исчерпывается, — интересующихся отсылаю к №№. Сплотились тесно: Брик, Асеев, Кушнер, Арватов, Третьяков, Родченко, Лавинский. Написал: «Про это». По личным мотивам об общем быте. Начал обдумывать поэму «Ленин». Один из лозунгов, одно из больших завоеваний «Лефа» — деэстетизация производственных искусств, конструктивизм. Поэтическое приложение: агитка и агитка хозяйственная — реклама. Несмотря на поэтическое улюлюканье, считаю «Нигде кроме как в Моссельпроме» поэзией самой высокой квалификации. 24-й год «Памятник рабочим Курска». Многочисленные лекции по СССР о «Лефе». «Юбилейное» — Пушкину. И стихи этого типа — цикл. Путешествия: Тифлис, Ялта — Севастополь. «Тамара и Демон» и т. д. Закончил поэму «Ленин». Читал во многих рабочих собраниях. Я очень боялся этой поэмы, так как легко было снизиться до простого политического пересказа. Отношение рабочей аудитории обрадовало и утвердило в уверенности нужности поэмы. Много езжу за границу. Европейская техника, индустриализм, всякая попытка соединить их с еще непролазной бывшей Россией — всегдашняя идея футуриста-лефовца. Несмотря на неутешительные тиражные данные о журнале, «Леф» ширится в работе. Мы знаем эти «данные» — просто частая канцелярская незаинтересованность в отдельных журналах большого и хладнокровного механизма ГИЗа. 25-й год Написал агитпоэму «Летающий пролетарий» и сборник агитстихов «Сам пройдись по небесам». Еду вокруг земли. Начало этой поездки — последняя поэма (из отдельных стихов) на тему «Париж». Хочу и перейду со стиха на прозу. В этот год должен закончить первый роман. «Вокруг» не вышло. Во-первых, обокрали в Париже, во-вторых, после полугода езды пулей бросился в СССР. Даже в Сан-Франциско (звали с лекцией) не поехал. Изъездил Мексику, С.-А. С. Ш. и куски Франции и Испании. Результат — книги: публицистикапроза — «Мое открытие Америки» и стихи — «Испания», «Атлантический океан», «Гаванна», «Мексика», «Америка». Роман дописал в уме, а на бумагу не перевел, потому что: пока дописывалось, проникался ненавистью к выдуманному и стал от себя требовать, чтобы на фамилии, чтоб на факте. Впрочем, это и на 26-й—27-й годы. 1926-й год В работе сознательно перевожу себя на газетчика. Фельетон, лозунг. Поэты улюлюкают — однако сами газетничать не могут, а больше печатаются в безответственных приложениях. А мне на их лирический вздор смешно смотреть, настолько этим заниматься легко и никому, кроме супруги, не интересно. Пишу в «Известиях», «Труде», «Рабочей Москве», «Заре Востока», «Бакинском рабочем» и других. Вторая работа — продолжаю прерванную традицию трубадуров и менестрелей. Езжу по городам и читаю. Новочеркасск, Винница, Харьков, Париж, Ростов, Тифлис, Берлин, Казань, Свердловск, Тула, Прага, Ленинград, Москва, Воронеж, Ялта, Евпатория, Вятка, Уфа и т. д., и т. д., и т. д. 1927-й год Восстанавливаю (была проба «сократить») «Леф», уже «Новый». Основная позиция: против выдумки, эстетизации и психоложества искусством — за агит, за квалифицированную публицистику и хронику. Основная работа в «Комсомольской правде», и сверхурочно работаю «Хорошо». «Хорошо» считаю программной вещью, вроде «Облака в штанах» для того времени. Ограничение отвлеченных поэтических приемов (гиперболы, виньеточного самоценного образа) и изобретение приемов для обработки хроникального и агитационного материала. Иронический пафос в описании мелочей, но могущих быть и верным шагом в будущее («сыры не засижены — лампы сияют, цены снижены»); введение, для перебивки планов, фактов различного исторического калибра, законных только в порядке личных ассоциаций («Разговор с Блоком», «Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут»). Буду разрабатывать намеченное. Еще: написаны — сценарии и детские книги. Еще продолжал менестрелить. Собрал 20 000 записок, думаю о книге «Универсальный ответ» (записочникам). Я знаю, о чем думает читающая масса. 1928-й год Пишу поэму «Плохо». Пьесу и мою литературную биографию. Многие говорили: «Ваша автобиография не очень серьезна». Правильно. Я еще не заакадемичился и не привык нянчиться со своей персоной, да и дело мое меня интересует, только если это весело. Подъем и опадание многих культур, символисты, реалисты и т. д., наша борьба с ними — все это, шедшее на моих глазах: это часть нашей весьма серьезной истории. Это требует, чтобы об нем написать. И напишу. 1922. 1928