«ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ»
advertisement
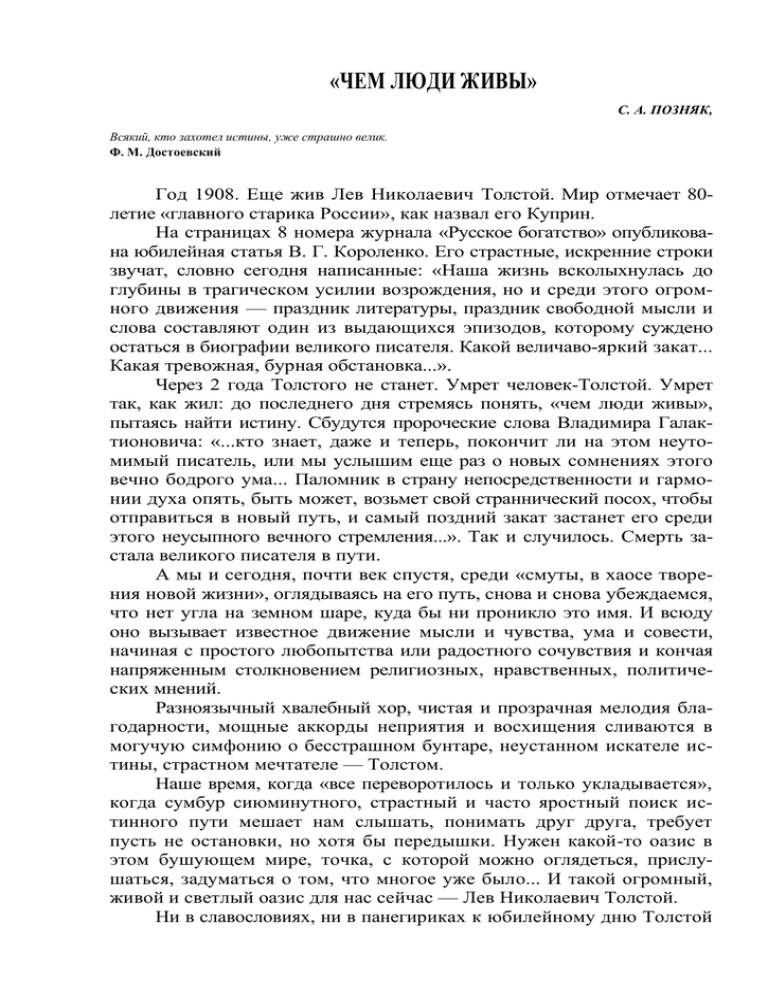
«ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ» С. А. ПОЗНЯК, Всякий, кто захотел истины, уже страшно велик. Ф. М. Достоевский Год 1908. Еще жив Лев Николаевич Толстой. Мир отмечает 80летие «главного старика России», как назвал его Куприн. На страницах 8 номера журнала «Русское богатство» опубликована юбилейная статья В. Г. Короленко. Его страстные, искренние строки звучат, словно сегодня написанные: «Наша жизнь всколыхнулась до глубины в трагическом усилии возрождения, но и среди этого огромного движения — праздник литературы, праздник свободной мысли и слова составляют один из выдающихся эпизодов, которому суждено остаться в биографии великого писателя. Какой величаво-яркий закат... Какая тревожная, бурная обстановка...». Через 2 года Толстого не станет. Умрет человек-Толстой. Умрет так, как жил: до последнего дня стремясь понять, «чем люди живы», пытаясь найти истину. Сбудутся пророческие слова Владимира Галактионовича: «...кто знает, даже и теперь, покончит ли на этом неутомимый писатель, или мы услышим еще раз о новых сомнениях этого вечно бодрого ума... Паломник в страну непосредственности и гармонии духа опять, быть может, возьмет свой страннический посох, чтобы отправиться в новый путь, и самый поздний закат застанет его среди этого неусыпного вечного стремления...». Так и случилось. Смерть застала великого писателя в пути. А мы и сегодня, почти век спустя, среди «смуты, в хаосе творения новой жизни», оглядываясь на его путь, снова и снова убеждаемся, что нет угла на земном шаре, куда бы ни проникло это имя. И всюду оно вызывает известное движение мысли и чувства, ума и совести, начиная с простого любопытства или радостного сочувствия и кончая напряженным столкновением религиозных, нравственных, политических мнений. Разноязычный хвалебный хор, чистая и прозрачная мелодия благодарности, мощные аккорды неприятия и восхищения сливаются в могучую симфонию о бесстрашном бунтаре, неустанном искателе истины, страстном мечтателе — Толстом. Наше время, когда «все переворотилось и только укладывается», когда сумбур сиюминутного, страстный и часто яростный поиск истинного пути мешает нам слышать, понимать друг друга, требует пусть не остановки, но хотя бы передышки. Нужен какой-то оазис в этом бушующем мире, точка, с которой можно оглядеться, прислушаться, задуматься о том, что многое уже было... И такой огромный, живой и светлый оазис для нас сейчас — Лев Николаевич Толстой. Ни в славословиях, ни в панегириках к юбилейному дню Толстой не нуждается. Нам бы еще раз послушать его, всмотреться, вдуматься, поразмыслить вместе с ним и его современниками. Сошлись, пересеклись линии конца века минувшего и заканчивающегося — нынешнего. Толстой был убежден, что «Искусство есть один из двух органов прогресса человечества. Через слово человек общается мыслью, через образы искусства он общается чувством со всеми людьми не только настоящего, но прошедшего и будущего». Искусство Толстого — его слово — и через сотни лет убеждает, предостерегает, звучит как нельзя более современно. Уж действительно, жизнь сегодняшняя — ярчайшая иллюстрация к сказанному «великим старцем» в конце прошлого века: «Слово — дело великое. Великое потому, что оно есть могущественнейшее средство единения людей.., но слово может быть и орудием зла, когда оно не соединяет, а разделяет людей». Толстой как никто умел говорить об общеизвестных истинах. А ведь сказать так, чтобы тебя услышали, чтобы это общеизвестное обрело оригинальность и жизнь, заставило задуматься — необыкновенно трудно. Все мы, образованные, умные, великолепно сознаем, «что такое хорошо и что такое плохо», но... понимаем — и не делаем. Толстой умел и имел право говорить об этих истинах, ибо был не только искренен и страстен, но и шел к ним непростым путем. Его герои — Нехлюдов и Безухов, Левин и Болконский — думают о совести и чести. Эти люди, которые страдают, ошибаются, разочаровываются, но неустанно стремятся к правде, которую Толстой еще в 50-е гг. назвал своим главным героем: «Герой моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его, и который всегда был, есть и будет прекрасен — правда» («Севастополь в мае»). «Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что — ненавидеть? Для чего жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?» — эти вечные вопросы — наши вопросы, вопросы толстовских героев, его собственные, наконец. Едва ли мы найдем какие-либо существенные проблемы современной жизни, где не обнаружились бы преемственные связи с творческим опытом Толстого. И взгляды на эти проблемы через призму его таланта и нынче открывают нераскрытые глубины, проясняют их новым светом. Как узнаваемо: «В речи товарища прокурора было все самое последнее, что было тогда в ходу... Тут были и наследственность, и прирожденная преступность, и Ломброзо, и Тард, и эволюция, и борьба за существование, и Шарко, и декаденство» (это в «Воскресении» вещает товарищ прокурора Бреве) — ведь страшно — это призрак будущего, т. е. нашего сегодня.. Может быть, потому и не слышим? Привыкли к пустословию, к пустомыслию, стали равнодушнее, научились прикрывать глаза, не желая видеть? А Толстой, словно к нам сегодняшним обращаясь, говорит: «Существо, не принимающее на себя влияний внешнего мира, находящееся вне времени и не зависящее от причин, уже не есть человек». Писатель не проповедует истины, он своей жизнью провозглашает неравнодушие и искренность, прямоту и твердость, спокойный и постоянный героизм. Он учит, как справедливо заметил Анатоль Франс, «...что надо быть правдивым и надо быть сильным. Именно потому, что он был полон сил, он был всегда правдив!». Это сам писатель осознал еще в молодости. Вот запись из его дневника 1857 года: «Дописал до обеда «Люцерн». Хорошо. Надо быть смелым, а то ничего не скажешь, кроме грациозного, а мне много нужно сказать нового и дельного». И никогда он не старался прикрыть правду или приглушить ее голос. «Он выставлял правду перед миром во всей ее цельности, без колебаний, без компромиссов, не боясь никакой из земных сил»,— так отзывается о нем индийский философ Махатма Ганди, и мы, вчитываясь в толстовские строки, исполненные боли, горечи и любви, вновь и вновь узнаем себя... «Люди в тысячу раз больше хлопочут о наживании себе богатства, нежели об образовании своего ума и сердца, хотя для нашего счастья то, что есть в человеке, несомненно важнее того, что есть у человека». Писателя беспокоило то же, что волнует нас. «Утрачено чувство — я не могу определить это иначе — чувство эстетического стыда»,— обеспокоенно говорит он Гольденвейзеру. И это беспокойство — о сегодняшнем, предостережение, к нам обращенное. Для Толстого «чувство эстетического стыда» — категория важнейшая. А. П. Чехов, говоря о том, что легко и приятно быть литератором, когда в литературе есть Толстой, подчеркивал, что «...только один его нравственный авторитет способен держать на известной высоте так называемые литературные настроения и течения». Вопросы религии, войны и мира, споры о земле и революции, мечты о будущем переустройстве жизни — все это в его романах, повестях, публицистике, письмах. Действительно, «Толстой делает за всех». Перечитывая в конце жизни запись из своего дневника за 1857 год: «...чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться», он записывает: «...и теперь ничего бы не сказал другого». И действительно, духовная жизнь Льва Толстого — долгий и трудный путь. Она не идет гладко, но все время перебивается остановками. На протяжении 82-летней жизни Толстой пережил несколько таких моментов, когда все прежнее казалось ему ложью, когда беспощадная совесть клеймила прошлое, а столь же беспощадный разум искал новый путь к новой жизни. От борьбы с личными пороками он перешел к борьбе с укладом своей жизни, а отсюда — к вопросу об укладе человеческой жизни. Так личное, семейное органично перешло в общечеловеческое — и Толстой стал Толстым. Свое писательство он называл «мечтательный труд». «В мечте есть сторона, которая лучше действительности; в действительности есть сторона, которая лучше мечты. Полное счастье было бы соединение того и другого»,— размышлял писатель, еще и не подозревал, что он как раз и сумеет соединить мечту и действительность своим трудом. Толстой мечтал о таком строе жизни, при котором «царствующий теперь раздор, обман и насилие будут заменены свободным согласием, правдой и братской любовью людей». Говоря суровую правду во имя такого будущего, писатель обращается со своей «исповедью», рассуждениями об искусстве, истории, религии к современникам, пытаясь объяснить, в чем его вера, «чем люди живы». Он пишет потому, что «не может молчать», и голос Толстого через сотню лет доходит до нас, ничего не потеряв в пути, а может быть, обретя еще большую глубину от созвучности эпох и катастрофичности времени. По поводу невообразимой шумихи, поднятой печатью разных направлений вокруг вопроса о земле, Толстой с горечью пишет В. П. Боткину: «У нас, т. е. в русском обществе, происходит небывалый кавардак... Политическая жизнь вдруг охватила собой всех. Как бы мало кто ни был подготовлен к этой жизни, всякий чувствует необходимость деятельности. И что говорят, что делают, страшно и гадко становится... Одни потерянные и озлобленные, не знающие, на что опереться... Другие лицемеры, ненавидящие самую мысль освобождения... Третьи самолюбцы проэкторы. Четвертые и самое большое число, это упорные и покорные. Они говорят: сами обсуждать дело мы не хотим и не будем... А людей, которые бы просто силой добра протягивали бы к себе и примиряли людей в добре, таких нету... Я устал от толков, споров, речей и т. д.». Не правда ли, будто из нынешних газет взято? А по поводу манифеста 19 февраля 1861 года в письме Герцену читаем: «Как вам нравится манифест? Я его читал нынче по-русски и не понимаю, для кого он написан. Мужики ни слова не поймут, а мы ни слову не поверим». Летят годы. И опять встает вопрос о земле. Что думал об этом Толстой? В сказке «Зерно с куриное яйцо» писатель от имени мужикапахаря говорит: «Хлеб такой на моем веку везде раживался. Этим хлебом... я век свой кормился и людей кормил. Это зерно и сеял, это и жал, это и молотил. Тогда земля вольная была. Своей земли не знали. Своим — только свои труды называли». Писатель считает, что земля, которая кормит людей, не должна быть чьей-то собственностью, собственными могут быть труды человеческие. А в сказке «об Иванедураке...» и совсем просто: «и ушли из Иванова царства все умные, остались одни дураки. Денег ни у кого не было. Жили- работали, сами кормились. И людей добрых кормили». К самому важному для себя слушателю и судье обращены великолепные сказки-притчи Толстого, к той огромной реальной силе, в которую так верил писатель — к яснополянскому, близкому ему, мужику, и ко всей той 100-миллионной массе народа-земледельца, адвокатом которой он себя называл. Известная образная формула « Войны и мира», где выражен его глубокий взгляд на реальное значение народной массы, силы ее в истории, и сейчас необычайно современна, о чем, вероятно, забывать не следует: «До тех пор, пока историческое море спокойно, правителюадминистратору, с своею утлою лодочкой упирающемуся шестом в корабль народа и самому двигающемуся, должно казаться, что его усилиями двигается корабль, в который он упирается. Но стоит подняться буре, взволноваться морю и двинуться самому кораблю, и тогда уж заблуждение невозможно. Корабль идет своим громадным, независимым ходом, шест не достает до двинувшегося корабля, и правитель вдруг из положения властителя, источника силы, переходит в ничтожество, бесполезного и слабого человека». (Это нам к вопросу о референдумах, например.) Истинная сила народа — в вере, считал Толстой. Наивная, но искренняя вера народа в Христа трогает Толстого и важна для него настолько, что своих любимых героев он приводит к «правде Фоканыча», но... все же так и оставляет их на этой точке. А сам по-прежнему ищет истину, свою веру. Ложь невыносима для этого человека. В своем последнем романе он выступает не против веры и Христа, а лишь говорит о нелепости церковных обрядов, неискренности, которой не может быть места ни в душе, ни в поступках истинно верующего. Вера, религия — не мода, не золотые кресты на груди, не стремление покрасоваться со свечой в руках перед телекамерой в надежде, что этим завоюешь уважение своего народа. Вера — это в душе, это святое, личное. Нам не грех, всматриваясь в себя нынешних, еще раз перечитать страстные строки великого бунтующего правдоискателя: «И никому из присутствующих, начиная с священника и смотрителя и кончая Масловой, не приходило в голову, что тот самый Иисус, имя которого со свистом такое бесчисленное число раз повторял священник, всякими странными словами восхваляя его, запретил именно то, что делалось здесь; запретил не только такое бессмысленное многоглаголание и кощунственное волхование священников-учителей над хлебом и вином, но самым определенным образом запретил молитвы в храмах, сказав, что пришел разрушать их и что молиться надо не в храмах, а в духе и истине; главное же запретил не только судить людей и держать их в заточении, мучить, позорить, казнить, как это делалось здесь, а запретил всякое насилие над людьми, сказав, что он пришел выпустить пленных на свободу». Еще в 50-е гг. Толстой говорил: «Жизнь у меня делает религию, а не религия жизнь». Для самого писателя движение к вере — это его путь к народу, обретение им народной правды. В своей «Исповеди» Толстой пишет о том, что прежняя жизнь (людей его круга) потеряла для него всякий смысл. «Действия же трудящегося народа, творящего жизнь, представились мне единым настоящим делом. И я понял, что смысл, придаваемый этой жизни, есть истина, и я принял его». Он отвергает церковь, признавая как высокое нравственное учение только Евангелие («В чем моя вера», 1884), считает, что искусство должно быть великой силой, воздействующей на всех и помогающей людям в искании правды. Об этом его сказки и рассказы 80—90-х гг. «Чем люди живы», «Где любовь, там и Бог», «Три старца». Так формируется его учение не столько о непротивлении злу, сколько о том, что зло бессильно там, где люди не отвечают ему насилием. Учение писателя распространилось по всему миру. Появились «толстовцы», а сам Учитель по-прежнему ищет и страдает. 1897 год, страницы из дневника: «Странная судьба: с отрочества начинаются тревоги, страсти, и думается: женишься — и пройдет. У меня и прошло, и был длинный период, лет 18, спокойствия. Потом стремление изменить жизнь и отпор обратный. Борьба, страдания и, наконец, как будто гавань и отдых. Не тут-то было. Самое тяжелое начинается и продолжается и, должно быть, проводит в смерть». Ощущение своей ответственности за все, что происходит в жизни, личное соучастие — основа исканий великого мыслителя. Отсюда его стремление: «...хочу страдать, хочу кричать истину, которая жжет меня». И Толстой кричит ее: в своих воззваниях, обращенных к людям; он «не может молчать», узнав о казни в Херсоне 12 крестьян. В «удивительной статье» «Не могу молчать!» Толстой называет вещи своими именами — и каждое его слово обжигает: «Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России, и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы; или же, что было бы лучше всего, надели на меня, так же как и на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван или колпак и так же столкнули со скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю...». К слову Толстого прислушиваются, его ждут. А писатель в своем яснополянском доме, «открытом для всех проходящих», жил, ни от кого не прячась, и страшно мучился противоречием между учением своим и личной жизнью, которую невозможно было изменить. Обостренно вбирая в себя боль голодных и нищих Акима, Марьи, Кондратия, слагаемых того самого народа, о котором болел душою, он пишет: «...А мы Бетховена разбираем. И молился опять, чтобы Бог избавил меня от этой жизни, И опять молюсь, кричу от боли. Запутался, завяз, сам не могу, но ненавижу себя и свою жизнь». Его беспокоила, мучила мысль о том, что надо что-то менять: «неужели так и кончу жизнь в этом постыдном состоянии?» (7.1.1910), и вот запись от 26 октября 1910 г: «Ничего особенного не было. Только росло чувство стыда и потребности п р е д п р и нять...». Тогда он и принял окончательное решение и тайно покинул свой дом, а 7 ноября скончался на станции Астапово. Ушел от себя, чтобы обрести себя настоящего, ушел не навстречу смерти, а навстречу новой жизни. Отшумел, отгрохотал век XIX, на исходе XX — век величайших кровавых войн, громадных потерь и грандиозных свершений, катастроф и побед, великой смуты и великой надежды. Остановимся, помолчим, прислушаемся. «Да, мы стоим на пороге совсем новой жизни, и вступление в эту жизнь зависит только от нашего освобождения себя от все более и более мучающего нас суеверия необходимости насилия для совокупной жизни людей» (1904). А чем люди живы? «Я понял, что бог не хотел, чтобы люди врозь жили, ...а хотел, чтобы они жили заодно... Понял я теперь, что кажется только людям, что они заботой о себе живы, а что живы они одной любовью».

