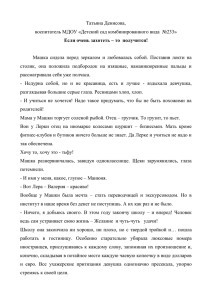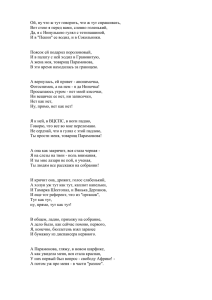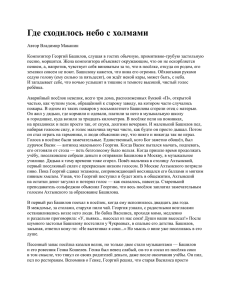ПРОЗА МАШКИНА КАША Рассказ Ася ВАРЛАМОВА
реклама

ПРОЗА Ася ВАРЛАМОВА свободный художник, Санкт-Петербург МАШКИНА КАША Рассказ Несколько лет назад я приехал в большой город. Зачем, спросите, приехал? Чего, спросите, туда сунулся? Ну, тогда слушайте… Друг мой Генка выскочил прошлым летом замуж… Ой, то есть женился он, женился! Дама у него такая была вся в белом, вся такая кругленькая, мягонькая. И вроде бы приятная, и вроде бы хорошенькая, только что-то в ней отталкивало. Думал я, думал, а потом дошло. Смех. Во всем виноват ее смех. А смеялась она громко, рот широко открывала, как будто старалась коренными зубами похвастаться. Да ладно бы зубы белые были, ровненькие, ан нет. Курила барышня-то. Курила по-черному. Тогда я Генке еще на свадьбе сказал: – Ну, Генка, – говорю, – до добра тебя женщина твоя не доведет. А он, дурачок, только смеялся, рот ладошкой прикрыв, да отмахивался. А я-то точно знал. Точно знал, что не быть им вместе. Как представлю, что она ему детишек нарожает – жирненьких, тяжеленьких, кривозубеньких – так жалко мне Генку становилось. До слез жалко. Ну, вот я и придумал Генке помочь. Ну, чтобы без всяких там проблем. Чтобы не повесился он потом. Знаете же, чем дольше люди вместе живут, тем больше привязываются, тем труднее потом расставаться. А расстаться им все равно пришлось бы. Ну, вот я и подумал: лучше раньше, чем позже. Собрался я, значит, в это… ну, к Генке, короче. А, да – забыл сказать. Генка-то после свадьбы в Питер уехал. – Там, – говорит, – типа лучше, типа веселее, типа богаче. – Ну, – отвечал я, – типа езжай. – А сам14 то сразу знал – вернется он, Генка. Ну, значит, только он уехал, я тут же решил чемоданы паковать, к другу ехать. Думаю, съезжу по-быстрому, дела его там решу и обратненько. Собрал, значит, чемоданы, оделся и пошел. На станции билетики купил. Там, в окне, женщина сидела, блондиночка, губки красненькие, глазки зеленым накрашены. Подхожу я к ней, значит: – Здравствуйте, – говорю, – мне, билетик, пожалуйста, до Питера. А она глазками своими похлопала, губки выпятила и спрашивает: – Куда, простите? – Ну, до Питера, – говорю, – до Питера. А она так серьезно мне отвечает: – Если вы про Санкт-Петербург, то так и говорите. Нечего тут... Ну, я, значит, не смутился, только подумал: «Ну и дурочка, а еще на кассе работает…». Напечатала она там чего-то в компьютере, паспорт попросила, денежку и велела ждать. Потом просовывает две бумажки и выдает на одном дыхании: – Приятной поездки вам, молодой человек… «Ну, точно дура», – подумал я. И медленно поплелся на платформу. На одной из остановок подсели ко мне мальчишка с мамой. Сначала я расстроился. Все-таки лучше одному в поезде, чтобы не мешал никто, а потом понял: здорово все-таки, когда кто-то рядом едет. Женщина очень уж доброй оказалась. Знала она, что путь к мужчине лежит через его, сами понимаете, чего. Достала она пирожки с капусткой, курочку копченую, соку бутылку, нарезала черного хлеба и говорит, значит: – Угощайтесь, пожалуйста. Угощайтесь. Я обомлел. Мысль в голове проскочила – это что ж получается? Получается, знала она, что угощать придется в поезде кого-то. Иначе для чего ей столько еды было брать? Мальчишка, вроде, маленький совсем, не съесть ему столько. Но, я подумал, неважно это. Важно, что угощают. А раз угощают, надо угощаться. – Спасибо, – говорю и руку к пирожкам тяну. – Да ешьте, ешьте, сколько хотите. Мы тут от бабушки едем, – и на мальчишку показывает, – она гостинцев послала. Пропадут ведь, не довезем. В общем, доехали мы весело. Они мне про Питер рассказали. – Какой, – говорят, – город хороший. А какие там люди добрые, какие постройки красивые, какой вид летом, а зимой еще лучше. Только погода вот… Вышли мы на станции в Питере и разошлись кто куда. Приехал я, значит, в этот Питер, хороший город, быстренько нашел телефон и давай Генке звонить. Звоню, звоню, хочу, чтобы тот встретил друга, а его дома нет. То есть, может, он и дома, да только трубку брать не хочет. «Ну, – думаю, – козел ты, Генка. На бабе женился, в другой город уехал да еще и трубку не берешь. Друг детства тоже мне…». Пришлось самому его дом искать. Улица так непонятно еще называлась. Искал я долго, но нашел все-таки. Правильно люди говорят – язык до Киева доведет. Меня, спасибо ему, до Генки довел. Поднимаюсь я, значит, на этот его пятый этаж, дверь такая деревянная в полосочку с номером «32». Звоню, значит, стучусь, а никто не открывает. Тишина. «Ну, – думаю, – Генка, сволочь ты. Друга пускать не хочешь». Стучался я с полчаса, наверно, даже бабка, соседка, видать, выглянула из своей квартиры, орать начала: – Чего людей пугаешь? – спрашивает. – Ну-ка давай отседова, а то я милицию вызову. Спорить я не стал, про милицию питерскую наслышан был и пошел вниз по ступенькам. Спустился, сел на скамейку, чемодан у ног поставил и загрустил. «Вот, – думаю, – не ждали, значит, видеть, значит, не хотят. Ну, – думаю, – я вам еще покажу кузькину мать, покажу вам, где раки зимуют». Только подумал, как слышу голос за спиной знакомый. Оборачиваюсь, а прямо за спиной Генка стоит со своей женой Машей. Поздоровались мы, значит, неважненько, обнялись ради приличия, и он, зна- чит, спрашивает: – Чего приехал? Я даже растерялся. Чего я приехал… Как чего? Друга спасать! А он… Тут Машка подошла ко мне, засмеялась – зубы наружу – схватила меня за шиворот и давай чушь нести: – Ты, милочек, – говорит, – не сердись. Мы тебя не ждали вообще-то. Но ты проходи, мы тебя разместим, мы тебя накормимнапоим, только ты на Генку зла не держи. Он тебя видеть не хочет вообще-то. Тут у меня перед глазами все поплыло. – Как, – спрашиваю, – не хочет? Друг я ему или нет? А Генка только отвернулся. Тогда Манька схватила нас обоих за рукава и поволокла наверх в квартиру. Квартирка такая ничего оказалась, трехкомнатная, потолки высокие и кухня большая. Три шкафа с книгами, двуспальная кровать и телевизор на подставке. Еще ковер на стене висел. «До чего нелепый», – подумал я и пошагал на кухню. Кухонька отменная попалась. В холодильнике, правда, кроме бутылки да пакета молока ничего не было. Ладно, бутылка была. Тут уж сам Бог велел за встречу. Сели мы, значит, за стол. Машка подсуетилась, хлеба достала черного, рюмочки, скатерочку. В общем, не первый класс, конечно, но тоже ничего так, прилично. Выпили мы за встречу, значит, и тут они меня оба сразу и спрашивают: – А ты чего к нам так скоро? Ну, я, значит, отвечаю: – Я, – говорю, – вас делить приехал. – Как это – делить? – спрашивает Машка. – Ну, – говорю, – надо, чтобы вы вместето не жили, значит. Понимаете? – Нет, – отвечает Машка, – не понимаем. Ну, значит, я тут им эту свою, значит, концепцию выдвинул. Мол, не жить вам вместе, сердцем, мол, чувствую, и все такое. И лучше уж раньше, чем позже. Генка мне по лбу оловянной ложкой заехал, и так, знаете, с наездом: – А тебя кто это вмешиваться просил? – Ну, – говорю, – я ж друг тебе. Вот, – говорю, – решил помочь. А он с такой наглой рожей: – А тебя, – говорит, – никто мне помогать не просил. В общем, поссорились мы с Генкой. Он на меня обиделся и спать ушел, только сказал: – Убирайся завтра же! И отчалил. Машка, кажется, не рассердилась. Похлопала меня по плечу и сказала, что я, мол, дурачок еще и что вот когда, мол, доживу до ее-то лет, тогда вот, мол, все и пойму. Отправила меня, значит, спать, а 15 сладких снов не пожелала: – Ты, – говорит, – раз уж Генка сказал, завтра уезжай от нас. Так я и заснул, недопивший, обиженный и никем не понятый. Утром, значит, просыпаюсь, и как будто нет никого. В доме – гробовая тишина. Поплелся я тогда на кухоньку, но и там никого не застал. Только на столе стояла маленькая железная кастрюля, и пахло из нее чем-то вкусным. А на кастрюльке на этой запис-ка лежала. Вот беру я, значит, записку эту и начинаю читать: «Ты, Витек, не теряйся, вали домой. Мы уехали в Березовку. Медовый месяц все-таки. Машка тебе каши наварила, поешь да топай на станцию. Дверь хорошенько захлопни. Твои Генка и Маруся». Я тут как вкопанный встал, записка из рук полетела. Чего же получается? Смотали удочки и исчезли. Замечательно вырисовывается. А сами, знаете, о чем думаю? Как, думаю, я домой поеду без копейки в карманах. Я ж на них надеялся. Думал, вместе обратно с Генкой поедем, чтобы он в багажник меня – и не маяться. А тут исчезли, значит. Чего ж мне – на улице помирать? Ну, остался я, значит, в доме. Каши наелся. Поживу, думаю, до их приезда из Березовки, а потом вместе домой рванем. Так и остался. Одному, конечно, скучно бывало, но это, знаете ли, чувство приходящее и быстро уходящее. С утра, значит, вставал, шел зубы чистить, ну, все, как полагается, а к вечеру, значит, уходил, дверь прихлопнув, к соседям водку пить. Соседи такие ничего оказались. Два дедка – Семен Семеныч Столповой и Аркадий Палыч Рухлядь. С ними еще бабка жила одно время, но быстро от них ушла. Не могу, сказала, больше так жить. Мне, сказала, покой нужен, а у вас тут каждый день праздник. И ушла. Так больше и не возвращалась. А знаете, они всякому гостю были рады. Про всех все знали. Мне рассказывали. Так я от них и узнал, кто где живет и у кого какой хозяин. Каждый вечер сидели мы за одним столом: то картошки нажарим, то картошки наварим, то моркови натрем. И знаете, всегда за стол садимся и думаем: хорошо, ну, вот прямо хорошо живется! Только Столповой очень в деревню хотел. Там, говорит, хозяйство, природа, молоко парное. И чего я здесь, в этом городе пропадаю? Бывало, встанет у окна, наклонится на стенку и плачет, плачет. И так его жалко становится, таким он несчастным в те минуты делается, что нельзя не подойти, по голове не погладить. А голова старая, плешью проедена, и по лицу морщинистому слезы ка16 тятся. Признаюсь, бывало, и сам я в такие минуты сдавался. Через три недели приехали Генка с Машкой. Злые приехали, недовольные, еще в дом не вошли, ругаться начали: – Ты мне этого не говори, – кричала Машка. – Ты меня лучше послушай… И знаете, предстала она передо мной с такими словами в платье черном со скалкой в руках. Женщина она боевая и ударить может. Испугался я за Генку, вышел в коридор, тут они, понятно, и обомлели. Ну, думаю, сейчас с мамкой прощаться буду. – Витька! Ты что ли? – как будто обрадовался Генка. И точно обрадовался, руки раскинул, зубы выставил и на меня пошел. – Витька, родной! Не уехал ты? – Как видишь, – говорю, – вас дожидался. – Ну, – скинул он с себя рубашку и повел меня на кухню, – правильно, – говорит. – Сейчас мы с тобой это дело отметим, – и по шее себя ладошкой ударил. Тут Машка в коридоре встала, схватила меня за ремень и говорит, знаете, так зло говорит, глаза прищурив: – Или ты выматываешься отседова, или я тебя метлой, – говорит, – выгоню. Понятно, я растерялся. Но, слава Богу, за меня Генка вступился: – Пойдем-пойдем, – говорит и тихонько меня от Машки уводит. На кухню уводит. Знаете, радости я почему-то в тот момент не испытывал. Не то Машка напугала, не то Генка. Только по-настоящему обрадоваться я смог, когда понял: Машка-то слиняла. Да- да, по-настоящему слиняла. Забрала чемоданы и рванула вниз по лестнице. – Ну, – махнул руками Генка, – это с концами. Сели мы, значит, за стол. А он из сумкито достает: икра черная… ан, нет, красная, огурцы маринованные, сосиски, колбаса краковская, водка русская… – Чего-то не хватает, – говорит и под стол заглядывает. Через пару дней не хватать стало Машки. Знаете, два мужика в доме хорошо, конечно, но Машка бы нам сейчас точно не помешала. Вот сели мы, значит, друг против друга и задумались. Тут в дверь кто-то нагло зазвонил: – А ну, открывайте, черти проклятые! – и застучал этот кто-то в дверь кулаками. Дверь мы, значит, нехотя открыли, а там Машка стоит – большая и красная. А в руках у нее кастрюля. – Вот, – говорит и сует нам эту кастрюлю, – кушайте на здоровьице. Это каша, – говорит, – перловая. А у меня, – говорит и за живот руками держится, – мальчик будет…