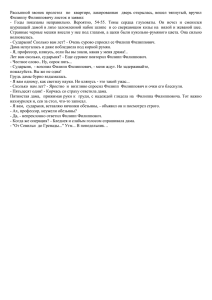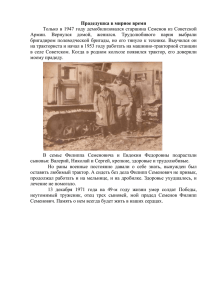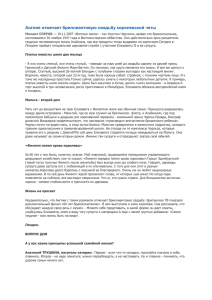Михаил Булгаков. Собачье сердце 1
реклама
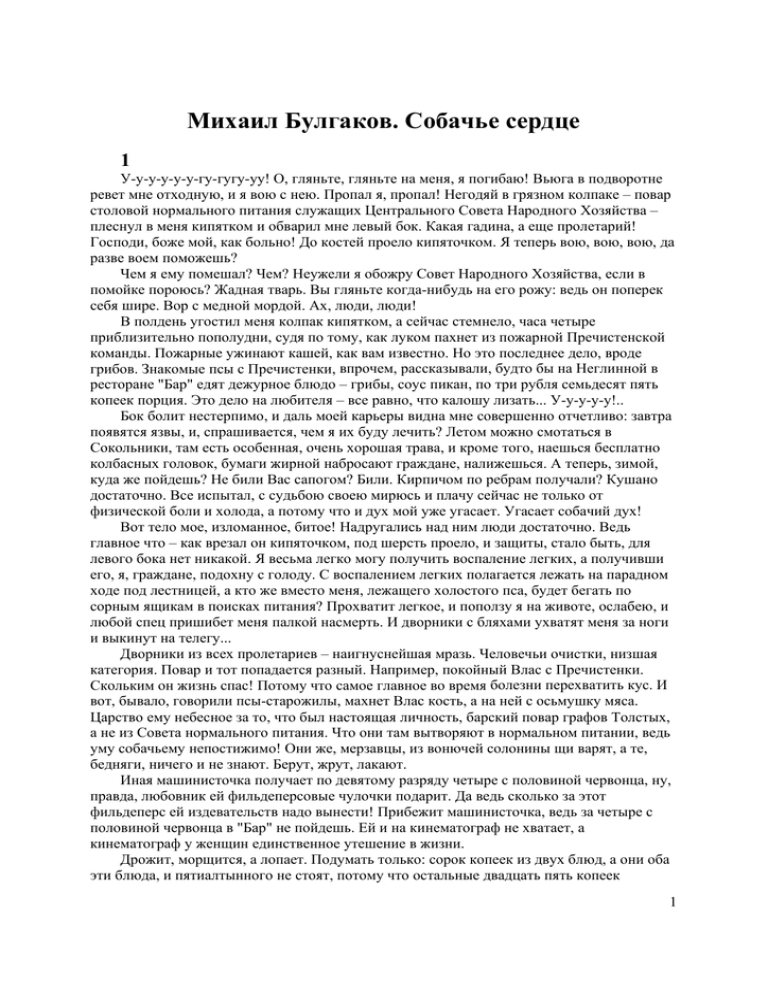
Михаил Булгаков. Собачье сердце 1 У-у-у-у-у-у-гу-гугу-уу! О, гляньте, гляньте на меня, я погибаю! Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с нею. Пропал я, пропал! Негодяй в грязном колпаке – повар столовой нормального питания служащих Центрального Совета Народного Хозяйства – плеснул в меня кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий! Господи, боже мой, как больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, вою, да разве воем поможешь? Чем я ему помешал? Чем? Неужели я обожру Совет Народного Хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь. Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди! В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной Пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинной в ресторане "Бар" едят дежурное блюдо – грибы, соус пикан, по три рубля семьдесят пять копеек порция. Это дело на любителя – все равно, что калошу лизать... У-у-у-у-у!.. Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо: завтра появятся язвы, и, спрашивается, чем я их буду лечить? Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная, очень хорошая трава, и кроме того, наешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. А теперь, зимой, куда же пойдешь? Не били Вас сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, с судьбою своею мирюсь и плачу сейчас не только от физической боли и холода, а потому что и дух мой уже угасает. Угасает собачий дух! Вот тело мое, изломанное, битое! Надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что – как врезал он кипяточком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я весьма легко могу получить воспаление легких, а получивши его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, и поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу... Дворники из всех пролетариев – наигнуснейшая мразь. Человечьи очистки, низшая категория. Повар и тот попадается разный. Например, покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас! Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорили псы-старожилы, махнет Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании, ведь уму собачьему непостижимо! Они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Берут, жрут, лакают. Иная машинисточка получает по девятому разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести! Прибежит машинисточка, ведь за четыре с половиной червонца в "Бар" не пойдешь. Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает. Подумать только: сорок копеек из двух блюд, а они оба эти блюда, и пятиалтынного не стоят, потому что остальные двадцать пять копеек 1 заведующий хозяйством уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке, и женская болезнь на французской почве, на службе с нее вычли, тухлятинкой в столовой накормили, вон она, вон она!! Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней нет, а штаны она носит холодные, так, кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй. Он и заорет: "До чего ты не изящна! Надоела мне моя Матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду – все, все на женское тело, на раковые шейки, на Абрау-Дюрсо. Потому что наголодался в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует". Жаль мне ее, жаль! Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому что действительно мы в неравных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне? Куда пойду? Битый, обваренный, оплеванный, куда же я пойду? У-у-у-у... – Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик? Чего ты скулишь бедняжка? А? Кто тебя обидел?.. Ух... Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса. – Боже мой!.. Какая погода... Ух... И живот болит. Это солонина, это солонина! И когда все это кончится? Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась в ворота, и на улице начало ее вертеть, рвать, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала. А пес остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной массивной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того больно и горько, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали. Испорченный бок торчал свалявшимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна от вара. До чего бессмысленны, тупы и жестоки повара. "Шарик" – она назвала его! Какой он к черту Шарик! Шарик – это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын счастливых родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пес... Впрочем, спасибо ей на добром слове... Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже вернее всего – господин. Ближе – яснее – господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам – тут уж и вблизи и издали не спутаешь. О, глаза – значительная вещь. Вроде барометра. Все видно – у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься – получай. Раз боишься – значит стоишь... Р-р-р... гау-гау... Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого все видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет такой скандал, в газеты напишет: Меня, Филиппа Филипповича, обкормили! Вот он, все ближе, ближе. Этот ест обильно и не ворует: этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с культурной остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, 2 как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный, больницей. И сигарой. Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив Центрохоза? Вот он рядом... Чего ищет?.. У-у-у-у... Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало Охотного ряда? Что такое?! Кол-ба-су. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте ее мне! Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката "Возможно ли омоложение?". – Натурально возможно! Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой лошади с чесноком и перцем. Чувствую, знаю, в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня, я умираю! Рабская наша душа, подлая доля! Пес пополз, как змея на брюхе, обливаясь слезами. – Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей! А в сущности, зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы величина мирового значения, благодаря мужским половым железам. У-у-уу. Что ж это делается на белом свете? Видно помирать-то еще рано, а отчаяние – и подлинно грех. Руки ему лизать – больше ничего не остается. Загадочный господин наклонился ко псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой "Особенная краковская". И псу этот кусок! О, бескорыстная личность. У-у-у! – Фить-фить, – посвистел господин и добавил строжайшим голосом: – Бери! Шарик, Шарик! – Опять Шарик. Окрестили! Да называйте, как хотите. За такой исключительный ваш поступок... Пес мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал ее в два счета. При этом подавился колбасой и снегом до слез, потому что от жадности едва не заглотал веревочку. Еще, еще! Лижу вам руку. Целую штаны, мой благодетель! – Будет пока что... – Господин говорил отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарику, пытливо глянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в перчатке интимно и ласково по шарикову животу. – А-га, самец, – многозначительно молвил он, – ошейника нету, ну, вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной. – Он пощелкал пальцами. – Фить-фить! – За вами идти? Да на край света. Пинайте меня вашими фетровыми ботинками в рыло, я слова не вымолвлю! По всей Пречистенке сияли фонари. Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одной мыслью, как бы не утратить в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он ее выразил. Поцеловал в ботинок у Мертвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе. Какой-то сволочной, под сибирского деланный кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Шарик света не взвидел при мысли, что богатый чудак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго и 3 этого вора прихватит с собой, и придется делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, взодрался по трубе до второго этажа. Ф-р-р... гау... вон! Не напасешься Моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке! Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окошка, из которого слышалось приятное ворчание волторны, наградил пса вторым куском, поменьше, золотников на пять. – Эх, чудак. Это он меня подманивает. Не беспокойтесь, я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда ни прикажете. – Фить-фить-фить! Сюда! – В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок. – Фить-фить! – Сюда? С удово... Э, нет! Позвольте. Нет. Тут швейцар. А уж хуже этого ничего нет на свете. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодер в позументе. – Да не бойся ты, иди. – Здравия желаю, Филипп Филиппович. – Здравствуйте, Федор. Вот это личность! Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля! Что это такое за лицо, которое может псов с улицы мимо швейцара вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец – ни звука, ни движения. Правда, в глазах у него пасмурно, но в общем он равнодушен под околышком с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господи, до чего же уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щеткой сколько раз морду уродовал мне, а? – Иди, иди. – Понимаем, понимаем, не извольте беспокоится. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок. С лестницы вниз: – Писем мне, Федор, не было? Снизу на лестницу, почтительно: – Никак нет, Филипп Филиппович. – Интимно вполголоса вдогонку: – А в третью квартиру жилтоварищей вселили. Важный песий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил: – Ну-у? Глаза его округлились, и усы встали дыбом. Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил: – Точно так. Целых четыре штуки. – Бо-же мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну и что ж они? – Да ничего-с! – А Федор Павлович? – За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить. – Черт знает, что такое! – Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, постановление вынесли, новое товарищество. А прежних в шею. – Что делается. Ай-яй-яй. Фить-фить... – Иду-с, поспешаю. Бок, изволите ли видеть, дает себя знать. Разрешите лизнуть сапожок. 4 Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло теплом от труб, еще раз повернули, и вот бельэтаж. 2 Учиться читать совершенно ни к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее, ежели вы проживаете в Москве и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей выучитесь грамоте, и притом безо всяких курсов. Из шестидесяти тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не умеет сложить из букв слово "колбаса". Шарик начал учиться по цветам. Лишь только ему исполнилось четыре месяца, по всей Москве развесили зелено-голубые вывески с надписью "МСПО. Мясная торговля". Повторяем, что все это ни к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла: равняясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензинным дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голуб на Мясницкой улице. Там у братьев пес отведал изолированной проволоки, а она будет почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре, тут же, Шарик начал соображать, что "голубой" не всегда означает – "мясной", и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что во всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки – "М". Далее пошло еще успешнее. "А" он выучил в "Главрыбе", на углу Моховой, а потом "Б" (подбегать ему было удобнее с хвоста слова рыба, потому что в начале слова стоял милиционер). Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали "С-ы-р". Черный кран от самовара, возглавлявший слово, – бывшего хозяина Чичкина, горы голландского красного сыра и толпу зверей-приказчиков, ненавидевших собак, опилки на полу и гнуснейший, дурно пахнущий сыр бакштейн. Если играли на гармонике и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово "неприли...", что значило "неприличными словами не выражаться и на чай не давать". Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, правда, в редких случаях, а псов всегда салфетками или сапогами. Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины... гау-гау... га... строномия. Если темные бутылки с плохой жидкостью... Ве-и-ви-нэ-а-вина... Елисеевы братья бывшие. Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещавшейся в бельэтаже, позвонил, а пес тотчас же поднял глаза на большую черную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой застекленной волнистым и розовым стеклом двери. Три первых буквы он сложил сразу: "Пэ-рэ-о – Про". Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая. "Неужели пролетарий? – подумал Шарик с удивлением... – Быть этого не может". Он поднял нос кверху, еще раз обнюхал шубу и уверенно подумал: "Нет, здесь пролетарием и не пахнет. Ученое слово, а бог его знает, что оно значит". За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, еще больше оттенив черную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наколке предстала перед псом и господином. Первого из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш. "Вот это да, это я понимаю", – подумал пес. 5 – Пожалуйте, господин Шарик, – иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом. Великое множество предметов загромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого пола, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика, страшные оленьи рога в высоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком. – Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? – улыбаясь спрашивала женщина и помогала снимать тяжелую шубу на черно-бурой лисе с синеватой искрой. – Батюшки, до чего паршивый! – Вздор говоришь. Где ж он паршивый? – строго и отрывисто спрашивал господин. По снятии шубы он оказался в черном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко засверкала золотая цепь. – Погоди-ка, не вертись, фить... да не вертись, дурачок. Гм... Это не парши... да стой ты, черт... гм... А-а! Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой ты смирно! "Повар-каторжник повар!" – жалобными глазами молвил пес и слегка подвыл. – Зина! – скомандовал господин. – В смотровую его сейчас же, а мне халат. Женщина посвистела, пощелкала пальцами, и пес, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоем попали в узкий, тускло освещенный коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем проникли налево и оказались в темной комнате, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щелкнула и превратилась в ослепительный день, причем со всех сторон засверкало, засияло и забелело. "Э, нет... – мысленно взвыл пес, – извините, не дамся! Понимаю, о черт бы взял их и с колбасой! Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать и весь бок изрежут ножиками, а до него и так дотронуться нельзя!" – Э нет, куда?! – закричала та, которую звали Зиной. Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым правым боком так, что хрястнуло по всей квартире. Потом, отлетев назад, закрутился на месте, как кубарь под кнутом, причем вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами, запрыгал белый передник и искаженное женское лицо. – Куда ты, черт лохматый?! – кричала отчаянно Зина. – Вот окаянный! "Где у них черная лестница?.." – соображал пес. Он размахнулся и комком ударил наобум о стекло, в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась. – Стой! С-скотина, – кричал господин, прыгая в халате, надетом на один рукав, и хватая пса за ноги. – Зина, держи его за шиворот, мерзавца! – Ба... батюшки! Вот так пес! Еще шире распахнулась дверь, и ворвалась еще одна личность мужского пола в халате. Давя битые стекла, она кинулась не ко псу, а к шкафу, раскрыла его и всю комнату наполнила сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху животом, причем пес с увлечением тяпнул ее повыше шнурков на ботинке. Личность охнула, но не потерялась. Тошнотворная мерзость неожиданно перехватила дыхание пса, и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились, и он поехал куда-то криво и вбок. "Спасибо, кончено, – мечтательно подумал он, валясь прямо на острые стекла. – Прощай, Москва! Не видать мне больше Чичкина и пролетариев и краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы, живодеры, за что ж вы меня?" И тут он окончательно завалился на бок и издох. 6 Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова, и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто не было, бок сладостно молчал. Пес приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго забинтованный поперек боков и живота. "Все-таки отделали, сукины дети, – подумал он смутно, – но ловко, надо отдать им справедливость". – "От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей", – запел над ним рассеянный и фальшивый голос. Пес удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были поддернуты, и голая желтая голень вымазана засохшей кровью и йодом. "Угодники! – подумал пес. – Это, стало быть, я его кусанул. Моя работа. Ну, будут драть!" – "Р-раздаются серенады, раздается стук мечей!" Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?.. – У-у-у, – жалобно заскулил пес. – Ну ладно. Опомнился и лежи, кретин! – Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? – спросил приятный мужской голос, и триковая кальсона откатилась книзу. Запахло табаком, и в шкафу зазвенели склянки. – Лаской-с! Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный или даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. Зина! Я купил этому прохвосту краковской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудитесь накормить его, когда его перестанет тошнить. Захрустели выметаемые стекла, и женский голос кокетливо заметил: – Кра-ковской! Господи, да ему надо было купить на двугривенный в мясной обрезков. Краковскую колбасу я сама лучше съем. – Только попробуй. Я тебе съем! Это отрава для человеческого желудка. Взрослая девушка, а, как ребенок, тащит в рот всякую гадость. Не сметь! Предупреждаю: ни я, ни доктор Борменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя схватит живот. "Всех, кто скажет! Что другая!.. Здесь равняется с тобой..." Мягкие дробные звоночки сыпались в это время по всей квартире, а в отдалении из передней то и дело слышались голоса. Зазвенел телефон. Зина исчезла. Филипп Филиппович бросил окурок папиросы в ведро, застегнул халат, перед зеркальцем на стене расправил пушистые усы и окликнул пса: – Фить-фить. Ну, ничего, ничего. Идем принимать. Пес поднялся на нетвердые ноги, покачался и подрожал, но быстро оправился и пошел следом за развевающейся полой Филиппа Филипповича. Опять пес пересек узкий коридор, но теперь увидел, что он ярко освещен сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошел с Филипп Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего он весь полыхал светом: горело под лепным потолком, горело на столе, горело на стене и в стеклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятным оказалась громадная сова, сидящая на стене на суку. – Ложись, – приказал Филипп Филиппович. Противоположная резная дверь открылась, вошел тот, тяпнутый, оказавшийся теперь в ярком свете очень красивым, молодым, с черной острой бородкой, подал лист и молвил: 7 – Прежний... Тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распростерши полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным. "Нет, это не лечебница, куда-то в другое место я попал, – в смятении подумал пес и привалился на ковровый узор у тяжелого кожаного дивана, – а сову эту мы разъясним..." Дверь мягко открылась, и вошел некто, настолько поразивший пса, что он тявкнул, но очень робко. – Молчать! Ба-ба, да вас узнать нельзя, голубчик! Вошедший очень почтительно и смущенно поклонился Филиппу Филипповичу. – Снимайте штаны, голубчик, – скомандовал Филипп Филиппович и поднялся. "Господи Иисусе, – подумал пес, – вот так фрукт!" На голове у фрукта росли совершенно зеленые волосы, а на затылке они отливали в ржавый табачный цвет. Морщины расползались на лице у фрукта, но цвет лица был розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, ее приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у детского щелкуна. На борту великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень. От интереса у пса даже прошла тошнота. – Тяу, тяу... – он легонько потявкал. – Молчать! Как сон, голубчик? – Хе-хе! Мы одни, профессор? Это неописуемо, – конфузливо заговорил посетитель. – Пароль д'оннер – двадцать пять лет ничего подобного, – субъект взялся за пуговицу брюк, – верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями. Я положительно очарован. Вы кудесник. – Хм, – озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович, всматриваясь в зрачки гостя. Тот совладал наконец с пуговицами и снял полосатые брюки. Под ними оказались невиданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета, с вышитыми на них шелковыми черными кошками, и пахли духами. Пес не вынес кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул. – Ай! – Я тебя выдеру! Не бойтесь, он не кусается. "Я не кусаюсь?" – удивился пес. Из кармана брюк вошедший выронил на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал его и густо покраснел. – Вы, однако, смотрите, – предостерегающе и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем, – все-таки смотрите, не злоупотребляйте! – Я не зло... – смущенно забормотал субъект, продолжая раздеваться, – я, дорогой профессор, только в виде опыта. – Ну и что же? Какие результаты? – строго спросил Филипп Филиппович. Субъект в экстазе махнул рукой. – Двадцать пять лет, клянусь богом, профессор, ничего подобного. Последний раз в 1899 году в Париже на рю де ла Пэ. – А почему вы позеленели? Лицо пришельца затуманилось. – Проклятая "Жиркость"! Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски! Вы только поглядите, – бормотал субъект, ища глазами зеркало, – ведь это же ужасно. Им морду нужно бить! – свирепея, добавил он. – Что ж мне теперь делать, профессор? – спросил он плаксиво. 8 – Хм. Обрейтесь наголо. – Профессор, – жалобно воскликнул посетитель, – да ведь они опять же седые вырастут. Кроме того, мне на службу носа нельзя будет показать, я и так уж третий день не езжу. Эх, профессор, если б вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать! – Не сразу, не сразу, мой дорогой, – бормотал Филипп Филиппович. Наклоняясь, он блестящими глазками исследовал голый живот пациента. – Ну, что ж, прелестно, все в полном порядке. Я даже не ожидал, сказать по правде, такого результата. "Много крови, много песен!.." Одевайтесь, голубчик! – "Я же той, кто всех прелестней!.." – дребезжащим, как сковорода, голосом подпел пациент и, сияя, стал одеваться. Приведя себя в порядок, он, подпрыгивая и распространяя запах духов, отсчитал Филипп Филипповичу пачку денег и нежно стал жать ему обе руки. – Две недели можете не показываться, – сказал Филипп Филиппович, – но все-таки прошу вас: будьте осторожны. – Профессор, – из-за двери в экстазе воскликнул голос, – будьте совершенно спокойны, – он сладостно хихикнул и пропал. Рассыпной звонок пролетел по квартире, лакированная дверь открылась, вошел тяпнутый, вручил Филипп Филипповичу листок и заявил: – Годы показаны неправильно. Вероятно, пятьдесят четыре – пятьдесят пять. Тоны сердца глуховаты. Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо заломленной на бок шляпе и со сверкающим колье на вялой и жеваной шее. Страшные черные мешки сидели у нее под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета. Она очень сильно волновалась. – Сударыня! Сколько вам лет? – очень сурово спросил ее Филипп Филиппович. Дама испугалась и даже побледнела под коркой румян. – Я, профессор... Клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма... – Лет вам сколько, сударыня? – еще суровее повторил Филипп Филиппович. – Честное слово... Ну, сорок пять. – Сударыня, – возопил Филипп Филиппович, – меня ждут. Не задерживайте, пожалуйста. Вы же не одна! Грудь дамы бурно вздымалась. – Я вам одному, как светилу науки, но клянусь, это такой ужас... – Сколько вам лет?! – яростно и визгливо спросил Филипп Филиппович, и очки его блеснули. – Пятьдесят один! – корчась от страху, ответила дама. – Снимайте штаны, сударыня, – облегченно молвил Филипп Филиппович и указал на высокий белый эшафот в углу. – Клянусь, профессор, – бормотала дама, дрожащими пальцами расстегивая какие-то кнопки на поясе, – этот Альфонс... Я вам признаюсь, как на духу... – "От Севильи до Гренады!.." – рассеянно запел Филипп Филиппович и нажал педаль в мраморном умывальнике. Зашумела вода. – Богом клянусь! – говорила дама, и живые пятна сквозь искусственные продирались на ее щеках. – Я знаю, это моя последняя страсть. Ведь это такой негодяй! О, профессор! Он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод! – Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клок. Пес совершенно затуманился, и все в голове у него пошло кверху ногами. "Ну вас к черту, – мутно подумал он, положил голову на лапы и задремал от стыда, – и стараться не буду понять, что это за штука, – все равно не пойму". 9 Очнулся он от звонка и увидел, что Филипп Филиппович швырнул в таз какие-то сияющие трубки. Пятнистая дама, прижимая руки а груди, с надеждой глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал. – Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны, – объявил он и посмотрел строго. – Ах, профессор, неужели обезьяны? – Да, – непреклонно ответил Филипп Филиппович. – Когда же операция? – бледным и слабым голосом спрашивала дама. – "От Севильи до Гренады..." Угум... В понедельник. Ляжете в клинику с утра, мой ассистент приготовит вас. – Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор? – Видите ли, у себя делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого – пятьдесят червонцев. – Я согласна, профессор! Опять загремела вода, колыхнулась шляпа с перьями, потом появилась какая-то лысая, как тарелка, голова и обняла Филиппа Филипповича. Пес дремал, тошнота прошла, пес наслаждался утихшим боком и теплом, даже всхрапнул и успел увидать кусочек приятного сна: будто он вырвал у совы целый пук перьев из хвоста... потом взволнованный голос тявкнул над головой: – Я слишком известен в Москве, профессор. Что же теперь делать? – Господа! – возмущенно кричал Филипп Филиппович, – Нельзя же так! Нужно сдерживать себя. Сколько ей лет? – Четырнадцать, профессор... Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку. – Да ведь я же не юрист, голубчик... Ну, подождите два года и женитесь на ней. – Женат я, профессор. – Ах, господа, господа! Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафу, и Филипп Филиппович работал, не покладая рук. "Похабная квартирка, – думал пес, – но до чего хорошо! А на какого черта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак! Да ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавелся, что ахнуть! А может, я и красивый. Видно, мое счастье! А сова эта дрянь... Наглая". Окончательно пес очнулся вечером, когда звоночки прекратились, и как раз в то мгновение, когда дверь пропустила особенных посетителей. Их было сразу четверо. Все молодые люди, и все одеты очень скромно. "Этим что нужно?" – удивленно подумал пес. Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре. – Мы к вам, профессор, – заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся черных волос, – вот по какому делу... – Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, – перебил его наставительно Филипп Филиппович, – во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследите мне на коврах, а все ковры у меня персидские. Тот, с копной, умолк, и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филиппович. Молчание продолжалось несколько секунд, и прервал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе. – Во-первых, мы не господа, – молвил наконец самый юный из четверых, персикового вида. 10 – Во-вторых, – перебил и его Филипп Филиппович, – вы мужчина или женщина? Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый тот, с копной. – Какая разница, товарищ? – спросил он горделиво. – Я – женщина, – признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших – блондин в папахе. – В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, попрошу снять головной убор, – внушительно сказал Филипп Филиппович. – Я вам не "милостивый государь", – резко заявил блондин, снимая папаху. – Мы пришли к вам... – вновь начал черный с копной. – Прежде всего – кто это "мы"? – Мы – новое домоуправление нашего дома, – в сдержанной ярости заговорил черный. – Я – Швондер, она – Вяземская, он – товарищ Пеструхин и Жаровкин. И вот мы... – Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Шаблина? – Нас, – ответил Швондер. – Боже! Пропал Калабуховский дом! – в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и вплеснул руками. – Что вы, профессор, смеетесь? – возмутился Швондер. – Какое там смеюсь! Я в полном отчаянии, – крикнул Филипп Филиппович, – что же теперь будет с паровым отоплением? – Вы издеваетесь, профессор Преображенский? – По какому делу вы пришли ко мне, говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать. – Мы, управление дома, – с ненавистью заговорил Швондер, – пришли к вам после общего собрания жильцов дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома... – Кто на ком стоял? – крикнул Филипп Филиппович, – потрудитесь излагать ваши мысли яснее. – Вопрос стоял об уплотнении... – Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением от 12-го сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений? – Известно, – ответил Швондер, – но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах. – Я один живу и р-работаю в семи комнатах, – ответил Филипп Филиппович, – и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку. Четверо онемели. – Восьмую? Э-хе-хе, – проговорил блондин, лишенный головного убора, – однако, это здо-о-рово. – Это неописуемо! – воскликнул юноша, оказавшийся женщиной. – У меня приемная, заметьте, она же – библиотека, столовая, мой кабинет – три. Смотровая – четыре. Операционная – пять. Моя спальня – шесть и комната прислуги – семь. В общем, не хватает... Да впрочем, это неважно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать? – Извиняюсь, – сказал четвертый, похожий на крепкого жука. – Извиняюсь, – перебил его Швондер, – вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли говорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых ни у кого нет в Москве. – Даже у Айседоры Дункан! – звонко крикнула женщина. 11 С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие чего его лицо нежно побагровело, но он не произнес ни одного звука, выжидая что будет дальше. – И от смотровой также, – продолжал Швондер, – смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом. – Угу, – молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом, – а где же я должен принимать пищу? – В спальне, – хором ответили четверо. Багровость Филипп Филипповича приняла несколько сероватый оттенок. – В спальне принимать пищу, – заговорил он придушенным голосом, – в смотровой – читать, в приемной – одеваться, оперировать – в комнате прислуги, а в столовой – осматривать? Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть... Но я не Айседора Дункан!! – вдруг рявкнул он, и багровость его стала желтой. – Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию, и покорнейше прошу вас вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пищу там, где ее принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской. – Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, – сказал взволнованный Швондер, – мы подаем на вас жалобу в высшие инстанции. – Ага, – молвил Филипп Филиппович, – так? – Голос его принял подозрительно вежливый оттенок. – Одну минуточку, прошу вас подождать. "Вот это парень, – в восторге подумал пес, – весь в меня. Ох, тяпнет он их сейчас, ох, тяпнет. Не знаю еще каким способом, но так тяпнет... Бей их! Этого голенастого сейчас взять повыше сапога за подколенное сухожилие... р-р-р..." Филипп Филиппович, стукнув, взял трубку с телефона и сказал в нее так: – Пожайлуста... да... благодарю вас. Петра Александровича попросите пожалуйста. Профессор Преображенский. Петр Александрович? Очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Петр Александрович, ваша операция отменяется. Что? Совсем отменяется... Равно, как и все остальные операции. Вот почему: я прекращаю работу в Москве и вообще в России... Сейчас ко мне вошли четверо, из них одна женщина, переодетая мужчиной, двое вооружены револьверами, и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть ее... – Позвольте, профессор, – начал Швондер, меняясь в лице. – Извините... У меня нет возможности повторить все, что они говорили. Я не охотник до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует. Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах. – Что же делать... Мне самому очень неприятно... Как? О, нет, Петр Александрович! О, нет. Больше я так не согласен. Это уже второй случай с августа месяца... Как? Гм... Как угодно. Хотя бы. Но только одно условие: кем угодно, что угодно, когда угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличности которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к дверям моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая. Броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось. Конечно. Да. Да. Я для них умер. Да, да. Пожалуйста. Кем? Ага... Ну, это другое дело. Ага. Хорошо. Сейчас передаю трубку. Будьте любезны, – змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру, – сейчас с вами будут говорить. 12 – Позвольте, профессор, – сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая, – вы извратили наши слова. – Попрошу вас не употреблять таких выражений. Швондер растерянно взял трубку и молвил: – Я слушаю. Да... Председатель домкома... Мы же действовали по правилам... Так у профессора и так исключительное положение... Мы знаем о его работах... Целых пять комнат хотели оставить ему... Ну, хорошо... Раз так... Хорошо... Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся. "Как оплевал! Ну и парень! – восхищенно подумал пес. – Что он, слово, что ли, такое знает? Ну, теперь можете меня бить, как хотите, а отсюда я не уйду". Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера. – Это какой-то позор? – несмело вымолвил тот. – Если бы сейчас была дискуссия, – начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем, – я бы доказала Петру Александровичу... – Виноват, вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? – вежливо спросил Филипп Филиппович. Глаза женщины сверкнули. – Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдем...Только... Я, как заведующий культотделом дома... – За-ве-дующая, – поправил ее Филипп Филиппович. – Хочу предложить вам, – тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов, – взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука. – Нет, не возьму, – кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы. Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налетом. – Почему же вы отказываетесь? – Не хочу. – Вы не сочувствуете детям Германии? – Равнодушен к ним. – Жалеете отдать полтинник? – Нет. – Так почему же?! – Не хочу. Помолчали. – Знаете ли, профессор, – заговорила девушка, тяжело вздохнув, – если бы вы не были европейским светилом, и за вас не заступались бы самым возмутительным образом, – блондин дернул ее за край куртки, но она отмахнулась, – лица, которых, я уверена, мы еще разъясним, вас следовало бы арестовать. – А за что? – с любопытством спросил Филипп Филиппович. – Вы ненавистник пролетариата, – горячо сказала женщина. – Да, я не люблю пролетариата, – печально согласился Филипп Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвенело. Открылась дверь в коридор. – Зина, – крикнул Филипп Филиппович, – подавай обед. Вы позволите, господа? Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приемную, и слышно было, как за ними закрылась тяжело и звучно парадная дверь. Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз. 13 3 На разрисованных райскими цветами тарелках с черною широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыру в слезах, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, – икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоседившемся у громадного резного дуба буфета, изрыгавшего пучки стеклянного и серебряного света. Посредине комнаты – тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на нем два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки. Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно заполнился жидкой слюной. "Сады Семирамиды!", – подумал он и застучал, как палкой, по паркету хвостом. – Сюда их! – хищно скомандовал Филипп Филиппович. – Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. И если хотите послушаться доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной русской водки. Красавец-тяпнутый – он был уже без халата, в приличном черном костюме – передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной. – Ново-благословенная? – осведомился он. – Бог с вами, голубчик, – отозвался хозяин, – это спирт, Дарья Петровна сама отлично готовит водку. – Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная. Тридцать градусов. – А водка должна быть в сорок градусов, а не в тридцать, это во-первых, – наставительно перебил Филипп Филиппович, – а во-вторых, бог их знает, что они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову? – Все, что угодно, – уверенно молвил тяпнутый. – И я того же мнения, – добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло, – э... мм... доктор Борменталь, умоляю вас: мгновенно эту штучку, и если вы скажете, что это плохо, я ваш кровный враг на всю жизнь. "От Севильи до Гренады!.." С этими словами он подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филипповича засветились. – Это плохо? – жуя, спрашивал Филипп Филиппович. – Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор. – Это бесподобно, – искренне ответил тяпнутый. – Еще бы... Заметьте, Иван Арнольдович: холодными закусками и супом закусывают только не дорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок – это первая. Когда-то их великолепно приготовляли в Славянском Базаре. На, получай. – Пса в столовой прикармливаете, – раздался женский голос, – а потом его отсюда калачом не выманишь. – Ничего... Он, бедняга, наголодался, – Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу. Засим от тарелок подымался пахнущий раками пар, пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада, а Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал: 14 – Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, и, представьте себе, большинство людей вовсе этого не умеет. Нужно не только знать, что съесть, но и когда и как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой.) И что при этом говорить. Да-с. Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет – не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. – Гм... Да ведь других нет? – Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел тридцать наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствовали себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать "Правду", теряли в весе. – Гм... – с интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина. – Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа. – Вот черт... – Да-с. Впрочем, что же это я! Сам же заговорил о медицине. Будемте лучше есть. Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишневой портьере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, которая ему не понравилась, а непосредственно за этим ломоть окровавленного ростбифа. Слопав его, пес вдруг почувствовал, что он хочет спать и больше не может видеть никакой еды. "Странное ощущение, – думал он, захлопывая отяжелевшие веки, – глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу. А курить после обеда – это глупость". Столовая наполнилась неприятным синим сигарным дымом. Пес дремал, уложив голову на передние лапы. – Сен-Жульен – приличное вино, – сквозь сон слышал пес, – но только ведь теперь же его нету. Глухой, смягченный потолками и коврами хорал донесся откуда-то сверху и сбоку. Филипп Филиппович позвонил, и пришла Зина. – Зинушка, что это такое означает? – Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, – ответила Зина. – Опять! – горестно воскликнул Филипп Филиппович. – Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда, спрашивается? Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову. – Убивается Филипп Филиппович, – заметила, улыбаясь Зина и унесла груду тарелок. – Да ведь как же не убиваться! – возопил Филипп Филиппович. – Ведь это какой дом был! Вы поймите! – Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович, – возразил красавецтяпнутый, – они теперь резко изменились. – Голубчик, вы меня знаете! Не правда ли? Я человек фактов, человек наблюдения. Я враг необоснованных гипотез. И это очень хорошо известно не только в России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт: вешалка и калошная стойка в нашем доме. – Это интересно... "Ерунда – калоши. Не в калошах счастье, – подумал пес, – но личность выдающаяся". – Не угодно ли – калошная стойка. С 1903 года я живу в этом доме. И вот, в течение времени до марта 1917 года не было ни одного случая – подчеркиваю красным карандашом "ни одного"! – чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь двенадцать квартир, у меня прием. В марте семнадцатого года в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих, три палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка 15 прекратила свое существование. Голубчик! Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть: раз социальная революция – не нужно топить. Так я говорю: почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и в валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор еще запирать под замок и еще приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор? – Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош... – заикнулся было тяпнутый. – Ничего подобного! – громовым голосом ответил Филипп Филипповичи и налил стакан вина. – Гм... Я не признаю ликеров после обеда, они тяжелят и скверно действуют на печень... Ничего подобного! На нем есть теперь калоши, и эти калоши... мои! Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 1917 года. Спрашивается, кто их попер? Я? Не может быть. Буржуй Шаблин? (Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок.) Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов? (Филипп Филиппович указал вбок). Ни в коем случае! Да-с! Но хоть бы они их снимали на лестнице! (Филипп Филиппович начал багроветь.) Какого черта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти, потухало в течение двадцати лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Борменталь! Статистика – жестокая вещь, вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому. – Разруха, Филипп Филиппович! – Нет, – совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, – нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это – мираж, дым, фикция. – Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, заерзали по скатерти. – Что такое эта ваша "разруха"? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не сушествует! Что вы подразумеваете под этим словом? – яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной деревянной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за нее: – Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать, каждый вечер начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, посещая уборную, начну, извините меня за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат "Бей разруху!" – я смеюсь. (Лицо Филипп Филиппович перекосило так, что тяпнутый открыл рот.) Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев – прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Двум богам нельзя служить! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удается, доктор, и тем более людям, которые вообще, отстав от развития европейцев лет на двести, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают собственные штаны! Филипп Филиппович вошел в азарт, ястребиные ноздри его раздувались. Набравшись сил после сытного обеда, гремел он подобно древнему пророку, и голова его сверкала серебром. Его слова на сонного пса падали, точно глухой подземный гул. То сова с глупыми желтыми глазами выскакивала в сонном видении, то гнусная рожа палача в белом грязном 16 колпаке, то лихой ус Филипп Филипповича, освещенный резким электричеством из абажура, то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок ростбифа. "Он мог бы прямо на митингах деньги зарабатывать, – мутно мечтал пес, – первоклассный деляга. Впрочем, у него и так, по-видимому, куры не клюют". – Городовой! – кричал Филипп Филиппович. – Городовой! – "Угу, гу, гу, гу!" – какието пузыри лопались в мозгу пса... – Городовой! Это и только это. И совершенно неважно, будет он с бляхой или же в красном кепи. Поставить городового рядом с каждым человеком и заставить этого городового умерить вокальные порывы наших граждан. Вы говорите – разруха. Я вам скажу, доктор, что ничто не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирите этих певцов! Лишь только они прекратят свои концерты, положение само собой изменится к лучшему! – Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович, – шутливо заметил тяпнутый, – не дай бог вас кто-нибудь услышит! – Ничего опасного, – с жаром возразил Филипп Филиппович, – никакой контрреволюции! Кстати, вот еще одно слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно, что под ним скрывается! Черт его знает! Так я и говорю: никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них лишь здравый смысл и жизненная опытность... Тут Филипп Филиппович вынул из-под воротничка хвост блестящей изломанной салфетки и, скомкав, положил ее рядом с недопитым стаканом вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил: "Мерси". – Минутку, доктор! – приостановил его Филипп Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному со словами: – Сегодня вам, Иван Арнольдович, сорок рублей причитается. Прошу. Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и, краснея, засунул деньги в карман пиджака. – Я сегодня не нужен вам, Филипп Филиппович? – осведомился он. – Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в Большом – "Аида". А я давно не слышал. Люблю... Помните дуэт... Тара... ра... рим... – Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? – с уважением спросил врач. – Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, – назидательно объяснил хозяин. – Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям и распевать целый день, как соловей, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел, – под пальцами Филиппа Филипповича в кармане небесно заиграл репетир, – начало девятого... Ко второму акту поеду... Я сторонник разделения труда. В Большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо, и никаких разрух... Вот что, Иван Арнольдович, вы все же следите внимательно: как только подходящая смерть, тотчас со стола, в питательную жидкость и ко мне! – Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, патологоанатомы мне обещали. – Отлично. А мы пока этого уличного неврастеника понаблюдаем, обмоем. Пусть бок у него заживет... "Обо мне заботится, – подумал пес, – очень хороший человек. Я знаю, кто это. Он волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки... Ведь не может же быть, чтобы все это я видел во сне. А вдруг сон? (Пес во сне дрогнул.) Вот проснусь... и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начнется подворотня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди... Столовка, снег... Боже, как тяжело это будет!.." 17 4 Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась. Видно, уж не так страшна разруха. Не взирая на нее, дважды в день серые гармоники под подоконниками наливались жаром, и тепло волнами расходилось по квартире. Совершенно ясно: пес вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день заливались благодарными слезами по адресу пречистенского мудреца. Кроме того, все трюмо в гостиной-приемной между шкафами отражали удачливого красавца пса. "Я – красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито, – размышлял пес, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях. – Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю – у меня на морде белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович – человек с большим вкусом, не возьмет он первого попавшегося пса-дворника. В течение недели пес сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Но, конечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филипповича и говорить не приходилось. Если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарьей Петровной закупалась груда обрезков на Смоленском рынке на восемнадцать копеек, достаточно упомянуть обеды в семь часов вечера в столовой, на которых пес присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины. Во время этих обедов Филипп Филиппович окончательно получил звание божества. Пес становился на задние лапы и жевал пиджак, пес изучил звонок Филипп Филипповича – два полнозвучных отрывистых хозяйских удара, и вылетал с лаем встречать его в передней. Хозяин вваливался в чернобурой лисе, сверкая миллионом снежных блесток, пахнущий мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу. – Зачем же ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала? Мешала, я тебя спрашиваю? Зачем профессора Мечникова разбил? – Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть раз, – возмущенно говорила Зина, – а то он совершенно избалуется. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал. – Никого драть нельзя! – взволновался Филипп Филиппович. – Запомни это раз и навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня? – Господи! Он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович. Я удивляюсь, как он не лопнет. – Ну и пусть ест на здоровье... Чем тебе помешала сова, хулиган? – У-у! – скулил пес-подлиза и полз на брюхе, вывернув лапы. Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приемную в кабинет. Пес подвывал, огрызался, цеплялся за ковер, ехал на заду, как в цирке. Посредине кабинета на ковре лежала стеклянноглазая сова с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнущие нафталином. На столе валялся вдребезги разбитый портрет. – Я нарочно не убирала, чтобы вы полюбовались, – расстроенно докладывала Зина, – ведь на стол вскочил, какой мерзавец! И за хвост ее – цап! Я опомниться не успела, как он ее всю растерзал. Мордой его потычьте в сову, Филипп Филиппович, чтобы знал, как вещи портить. И начинался вой. Пса, прилипавшего к ковру, тащили тыкать в сову, причем пес заливался горькими слезами и думал: "Бейте, только из квартиры не выгоняйте". 18 – Сову чучельнику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе восемь рублей и шестнадцать копеек на трамвай, съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с цепью. На следующий день на пса надели широкий блещущий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушел в ванную комнату, размышляя, как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро пес понял, что он – просто дурак. Зина повела его гулять на цепи. По Обухову переулку пес шел, как арестант, сгорая от стыда, но пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов, а у Мертвого переулка какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его "барской сволочью" и "шестеркой". Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер поглядел на ошейник с удовольствием и уважением, а когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни: Федор-швейцар собственноручно отпер парадную дверь и впустил Шарика. Зине он при этом заметил: – Ишь, каким лохматым обзавелся Филипп Филиппович. И удивительно жирный. – Еще бы! За шестерых лопает, – пояснила румяная и красивая от мороза Зина. "Ошейник – все равно, что портфель", – сострил мысленно пес и, виляя задом, последовал в бельэтаж, как барин. Оценив ошейник по достоинству, пес сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически воспрещен, именно – в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей Дарьиного царства. Всякий день в черной сверху и облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечною огненной мукой и неутоленной страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прическе на уши и с корзинкой светлых волос на затылке светилось двадцать два поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня громыхала запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах... – Вон! – завопила Дарья Петровна. – Вон, беспризорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя кочергой... – Чего ты? Ну, чего лаешься? – умильно щурил глаза пес. – Какой же я карманник? Ошейник вы разве не замечаете? – и он боком лез в дверь, просовывая в нее морду. Шарик обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через два дня он уже лежал рядом с корзиной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Острым и узким ножом она отрубала беспомощным рябчикам головы и лапки, затем, как яростный палач, с костей сдирала мякоть, из кур вырывала внутренности, что-то вертела в мясорубке. Шарик в это время терзал рябчикову голову. Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски размокшей булки, смешивала их на доске с мясною кашицей, заливала все это сливками, посыпала солью и на доске лепила котлеты. В плите гудело, как на пожаре, а на сковороде ворчало, пузырилось и прыгало. Заслонка с грохотом отпрыгивала, обнаруживала страшный ад. Клокотало, лилось. Вечером потухала пламенная страсть, в окне кухни, над белой половиной занавесочкой стояла густая и важная пречистенская ночь с одинокой звездой. В кухне было сыро на полу, кастрюли сияли таинственно и тускло, на столе лежала пожарная фуражка. Шарик лежал не теплой плите, как лев на воротах и, задрав от любопытства одно ухо, глядел, как черноусый и взволнованный человек в широком кожаном поясе за полуприкрытой дверью в комнате Зины и Дарьи Петровны обнимал Дарью Петровну. Лицо у той горело мукой и страстью, все, кроме мертвенного напудренного носа. Щель света лежала на потрете черноусого, и пасхальный розан свисал с него. – Как демон пристал, – бормотала в полумраке Дарья Петровна, – отстань. Сейчас Зина придет. Что ты, чисто тебя тоже омолодили? 19 – Нам ни к чему, – плохо владея собой и хрипло отвечал черноусый. – До чего вы огненная... Вечерами пречистенская звезда скрывалась за тяжкими шторами, и, если в Большом театре не было "Аиды" и не было заседания Всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кресле. Огней под потолком не было, горела только одна зеленая лампа на столе. Шарик лежал на ковре в тени и, не отрываясь, глядел на ужасные дела. В отвратительной едкой и мутной жиже в стеклянных сосудах лежали человеческие мозги. Руки божества, обнаженные по локоть, были в рыжих резиновых перчатках, и скользкие тупые пальцы копошились в извилинах. Временами божество вооружалось маленькими сверкающим ножиком и тихонько резало желтые упругие мозги. – "К берегам священным Нила", – тихонько напевало божество, закусывая губы и вспоминая золотую внутренность Большого театра. Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло от них поднималось к потолку, оттуда расходилось по всей комнате, в песьей шубе оживала последняя, еще не вычесанная самим Филиппом Филипповичем, но уже обреченная блоха. Ковры глушили звуки в квартире. А потом далеко звенела выходная дверь. "Зинка в кинематограф пошла, – думал пес, – а как придет, ужинать, стало быть, будем. На ужин, надо полагать, телячьи отбивные". И вот в этот ужасный день, еще утром, Шарика кольнула предчувствие. Вследствие этого он вдруг заскучал и утренний завтрак – полчашки овсянки и вчерашнюю баранью косточку – съел без всякого аппетита. Он скучно прошелся в приемную и легонько подвыл там на собственное отражение. Но днем после того, как Зина сводила его погулять на бульвар, день прошел как обычно. Приема сегодня не было, потому что, как известно, по вторникам приема не бывает, и божество сидело в кабинете, развернув на столе какието тяжелые книги с пестрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько оживила мысль о том, что сегодня на второе блюдо, как он точно узнал на кухне, будет индейка. Проходя по коридору, пес услышал, как в коридоре Филиппа Филипповича неприятно и неожиданно прозвенел телефон. Филипп Филиппович взял трубку, прислушался и вдруг взволновался. – Отлично, – послышался его голос, – сейчас же везите, сейчас же! Он засуетился, позвонил и вошедшей Зине приказал срочно подавать обед. Обед! Обед! Обед! В столовой тотчас застучали тарелками, Зина забегала, из кухни послышалась воркотня Дарьи Петровны, что индейка не готова. Пес опять почувствовал волнение. "Не люблю кутерьмы в квартире", – раздумывал он... И только он это подумал, как кутерьма приняла еще более неприятный характер. И прежде всего благодаря появлению тяпнутого некогда доктора Борменталя. Тот привез с собой дурно пахнущий чемодан и, даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось, выбежал навстречу Борменталю, чего с ним тоже никогда не бывало. – Когда умер? – закричал он. – Три часа назад, – ответил Борменталь, не снимая заснеженной шапки и расстегивая чемодан. "Кто такое умер?" – хмуро и не довольно подумал пес и сунулся под ноги. – Терпеть не могу, когда мечутся". – Уйди из-под ног! Скорей, скорей, скорей! – закричал Филипп Филиппович на все стороны и стал звонить во все звонки, как показалось псу. Прибежала Зина. – Зина! К телефону Дарью Петровну, записывать, никого не принимать! Ты нужна. Доктор Борменталь, умоляю вас, скорей, скорей! 20 "Не нравится мне. Не нравится", – пес обиженно нахмурился и стал шляться по квартире, а вся суета сосредоточилась в смотровой. Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала летать из смотровой в кухню и обратно. "Пойти, что ль, поесть? Ну их в болото", – решил пес и вдруг получил сюрприз. – Шарику ничего не давать, – загремела команда из смотровой. – Усмотришь за ним, как же. – Запереть! И Шарика заманили и заперли в ванной. "Хамство, – подумал Шарик, сидя в полутемной ванной комнате, – просто глупо..." И около четверти часа он пробыл в ванной в странном состоянии духа – то в злобе, то в каком-то тяжелом упадке. Все было скучно, неясно... "Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый Филипп Филиппович, – подумал он, – две пары пришлось прикупить, и еще одну купите. Чтоб вы псов не запирали". Но вдруг его яростную мысль перебило. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности, солнечный необъятный двор у Преображенской заставы, осколки солнца в бутылках, битый кирпич, вольные псы-побродяги. "Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдешь, зачем лгать, – тосковал пес, сопя носом, – привык. Я барский пес, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция... Бред этих злосчастных демократов..." Потом полутьма ванной стала страшной, он завыл, бросился на дверь, стал царапаться. – У-у-у! – как в бочку полетело по квартире. "Сову раздеру опять", – бешено, но бессильно думал пес. Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на нем стала вдруг дыбом, почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза... И в разгар муки дверь открыли. Пес вышел, отряхнувшись, и угрюмо собрался в кухню, но Зина за ошейник настойчиво повлекла его в смотровую. Холодок прошелся у пса под сердцем. "Зачем я им понадобился? – подумал он подозрительно. – Бок зажил – ничего не понимаю". И он поехал лапами по скользкому паркету, так и был привезен в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриаршую скуфейку. Жрец был весь в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки в черных перчатках. В скуфейке оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырехугольной на блестящей ноге. Пес здесь больше всего возненавидел тяпнутого и больше всего за его сегодняшние глаза. Обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от песьих глаз. Они были настороженные, фальшивые, и в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если даже не целое преступление. Пес глянул на него тяжело и пасмурно, ушел в угол. – Ошейник, Зина, – негромко молвил Филипп Филиппович, – только не волнуй его. У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоскою и презрением поглядел на нее. "Что ж... вас трое. Возьмите, если хотите. Только стыдно вам... Хоть бы я знал, что будете делать со мной". 21 Зина отстегнула ошейник, пес помотал головой, фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним, и скверный мутнящий запах разлился от него. "Фу, гадость... Отчего мне так мутно и страшно..." – подумал пес и попятился от тяпнутого. – Скорее, доктор, – нетерпеливо молвил Филипп Филиппович. Резко и сладостно пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса настороженных дрянных глаз, высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарик оторопел, в голове у него легонько закружилось, но он успел еще отпрянуть. Тяпнутый прыгнул за ним и вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же заперло дыхание, но еще раз пес успел вырваться. "Злодей... – мелькнуло в голове. – За что?" И еще раз облепили. Тут неожиданно посреди смотровой представилось озеро, а на нем в лодках очень веселые загробные, небывалые, розовые псы. Ноги лишились костей и согнулись. – На стол! – веселым голосом бухнули где-то слова Филипп Филипповича и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез, сменился радостью, секунды две угасающий пес любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся дном кверху, и была еще почувствована холодная, но приятная рука под животом. Потом – ничего. На узком операционном столе лежал, раскинувшись, пес Шарик, и голова его беспомощно колотилась о белую клеенчатую подушку. Живот его был выстрижен, и теперь доктор Борменталь, тяжело дыша и спеша, машинкой въедаясь в шерсть, стриг голову Шарика. Филипп Филиппович, опершись ладонями на край стола, блестящими, как золотые обода его очков, глазками наблюдал за этой процедурой и говорил взволнованно: – Иван Арнольдович, самый важный момент – когда я войду в турецкое седло. Мгновенно, умоляю вас, подайте отросток и тут же шить. Если там у меня начнет кровить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для него и так никакого шанса нету, – он помолчал, прищуря глаз, заглянул как бы насмешливо в полуприкрытый спящий глаз пса и добавил: – А знаете, жалко его. Представьте, я привык к нему. Руки он вздымал в это время, как будто благословлял на трудный подвиг злосчастного пса Шарика. Он старался, чтобы ни одна пылинка не села на черную резину. Из-под выстриженной шерсти засверкала беловатая кожа собаки. Борменталь отшвырнул машинку и вооружился бритвой. Он намылил беспомощную маленькую голову и начал брить. Сильно хрустело под лезвием, кое-где выступила кровь. Обрив голову, тяпнутый мокрым бензиновым комком обтер ее, затем оголенный живот пса растянул и молвил, отдуваясь: "Готово". Зина открыла кран над раковиной, и Борменталь бросился мыть руки. Зина из склянки полила их спиртом. – Можно мне уйти, Филипп Филиппович? – спросила она, боязливо косясь на бритую голову пса. – Можешь. Зина пропала. Борменталь засуетился дальше. Легкими марлевыми салфеточками он обложил голову Шарика, и тогда на подушке оказался никем невиданный лысый песий череп и странная бородатая морда. Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на собачью голову и сказал: – Ну, господи, благослови. Нож! Борменталь из сверкающей груды на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его жрецу. Затем он облекся в такие же черные перчатки, как и жрец. – Спит? – спросил Филипп Филиппович. – Хорошо спит. 22 Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приобрели остренький колючий блеск, и, взмахнув ножичком, он метко и длинно протянул по животу Шарика рану. Кожа тотчас разошлась, и из нее брызнула кровь в разные стороны. Борменталь набросился хищно, стал комьями ваты давить шарикову рану, затем маленькими, как бы сахарными щипчиками зажал ее края, и она высохла. На лбу у Борменталя выступил пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз, и тело Шарика вдвоем начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Выскочили розовые и желтые, плачущие кровавой росою ткани. Филипп Филиппович вертел ножом в теле, потом крикнул: – Ножницы! Инструмент мелькнул в глазах у тяпнутого, как у фокусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела Шарика его семенные железы с какими– то обрывками. Борменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлек из нее другие, мокрые, обвисшие семенные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завились короткие влажные струны. Дробно защелкали кривые иглы в зажимах, семенные железы вшили на место шариковых. Жрец отвалился от раны, ткнул в нее комком марли и скомандовал: – Шейте, доктор, мгновенно кожу! Затем оглянулся на круглые белые стенные часы. – Четырнадцать минут делали, – сквозь стиснутые зубы пропустил Борменталь и кривой иголкой впился в дряблую кожу. Затем оба заволновались, как убийцы, которые спешат. – Нож! – крикнул Филипп Филиппович. Нож вскочил ему в руки как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые и золотые коронки и одним приемом навел на лбу Шарика красный венец. Кожу с бритыми волосами откинули, как скальп, обнажили костяной череп. Филипп Филиппович крикнул: – Трепан! Борменталь подал ему блестящий ворот. Кусая губу, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и высверливать в черепе Шарика маленькие дырочки в сантиметр расстояния друг от друга, так что они шли кругом всего черепа. На каждую он тратил не более пяти секунд. Потом пилой невиданного фасона, всунув ее хвостик в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты через три крышку черепа с Шарика сняли. Тогда обнажился купол Шарикового мозга – серый с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович въелся ножницами в оболочки и их выкроил. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаза профессору и окропил его колпак. Борменталь с торзионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Пот с Борменталя полз потеками, и лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его метались от рук Филиппа Филипповича к тарелке на столе. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до десен. Он ободрал оболочку с мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. И в это время Борменталь начал бледнеть, одною рукой схватил грудь Шарика и хрипловато сказал: – Пульс резко падает... Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промычал и врезался еще глубже. Борменталь с хрустом сломал стеклянную ампулку, насосал из нее в шприц и коварно кольнул Шарика где-то у сердца. – Иду к турецкому седлу, – зарычал Филипп Филиппович и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-желтый мозг Шарика из головы. На мгновение он 23 скосил глаза на морду Шарика, и Борменталь тотчас же сломал вторую ампулу с желтой жидкостью и вытянул ее в длинный шприц. – В сердце? – робко спросил он. – Что вы еще спрашиваете?! – злобно заревел профессор. – Все равно он уже пять раз у вас умер. Колите! Разве мыслимо! – Лицо у него при этом стало как у вдохновенного разбойника. Доктор с размаху, легко всадил иглу в сердце пса. – Живет, но еле-еле, – робко прошептал он. – Некогда рассуждать тут – живет, не живет, – засипел страшный Филипп Филиппович, – а я в седле. Все равно помрет... ах, ты че... "К берегам священным Нила..." Придаток давайте! Борменталь подал ему склянку, в которой болтался на нитке в жидкости белый комочек. Одной рукой ("Не имеет равных в Европе... ей-богу", – смутно подумал Борменталь) он выхватил болтающийся комочек, а другой ножницами выстриг такой же в глубине где-то между распяленными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими короткими пальцами, ставшими точно чудом тонкими и гибкими, ухватился янтарною нитью его там замотать. После этого он выбросил из головы какие-то распялки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную чашу, откинулся и уже поспокойнее спросил: – Умер, конечно? – Нитевидный пульс, – ответил Борменталь. – Еще адреналину. Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил, как по мерке, скальп надвинул и взревел: – Шейте! Борменталь минут в пять зашил голову, сломав три иглы. И вот на подушке появилась на окрашенном кровью фоне безжизненное потухшее лицо Шарика с кольцевой раной на голове. Тут же Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый вампир, сорвал одну перчатку, выбросив из нее облако потной пудры, другую разорвал, швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку в стене. Зина появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть Шарика в крови. Жрец снял меловыми руками окровавленный клобук и крикнул: – Папиросу мне сейчас же, Зина. Все свежее белье и ванну. Он подбородком лег на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил: – Вот, черт возьми. Не издох. Ну, все равно издохнет. Эх, доктор Борменталь, жаль пса, ласковый был, но хитрый. 5 Тетрадь доктора Ивана Арнольдовича Борменталя. Тонкая, в писчий лист форматом. Исписана почерком Борменталя. На первых двух страницах он аккуратен, уборист и четок, в дальнейшем размашист, взволнован, с большим количеством клякс. 22 декабря 1924 года. Понедельник. История болезни. Лабораторная собака, приблизительно двух лет от роду. Самец. Порода – дворняжка. Кличка – Шарик. Шерсть жидкая, кустами, буроватая, с подпалинами. Хвост цвета топленого молока. На правом боку следы совершенно зажившего ожога. Питание до 24 поступления к профессору – плохое, после недельного пребывания – крайне упитанный. Вес 8 килограммов (знак восклицательный). Сердце, легкие, желудок, температура – в норме. 23 декабря. В восемь с половиной часов вечера произведена первая в Европе операция по профессору Преображенскому: под хлороформенным наркозом удалены яичники Шарика и вместо них пересажены мужские яичники с придатками и семенными канатиками, взятые от скончавшегося за 4 часа 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранявшиеся в стерилизованной физиологической жидкости по профессору Преображенскому. Непосредственно вслед за сим удален после трепанации черепной коробки придаток мозга – гипофиз и заменен человеческим от вышеуказанного мужчины. Истрачено 8 кубиков хлороформа, 1 шприц камфары, 2 шприца адреналина в сердце. Показание к операции: постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем – о его влиянии на омоложение организма у людей. Оперировал профессор Ф. Ф. Преображенский. Ассистировал доктор И. А. Борменталь. В ночь после операции: грозные повторные падения пульса. Ожидание смертного исхода. Громадные дозы камфары по Преображенскому. 24 декабря. Утром – улучшение. Дыхание вдвое учащено. Температура 42°. Камфара, кофеин под кожу. 25 декабря. Вновь ухудшение. Пульс еще прощупывается, похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце и камфара по Преображенскому. Физиологический раствор в вену. 26 декабря. Некоторое улучшение. Пульс 180, дыхание 92. Температура 41°. Камфара, питание клизмами. 27 декабря. Пульс 152, дыхание 50. Температура 39,8°. Зрачки реагируют. Камфара под кожу. 28 декабря. Значительное улучшение. В полдень внезапный проливной пот. Температура 37,0°. Операционные раны в прежнем состоянии. Перевязка. Появился аппетит. Питание жидкое. 29 декабря. Внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища. Вызваны для консультации профессор по кафедре кожных болезней Василий Васильевич Бундарев и директор московского ветеринарного показательного института. Ими случай признан не описанным в литературе. Диагностика осталась неустановленной. Температура -– нормальна. (Запись карандашом.) Вечером появился первый лай (8 ч. 15 мин.). Обращает внимание резкое изменение тембра и тона (понижение). Лай вместо слова "гау, гау" на слоги "а-о". По окраске отдаленно напоминает стон. 30 декабря. Выпадение шерсти приняло характер полного облысения. Взвешивание дало неожиданный результат – вес 30 кило за счет роста (удлинение костей). Пес попрежнему лежит. 31 декабря. Колоссальный аппетит. (В тетради – клякса. После кляксы торопливым почерком.) В 12 ч. 12 мин. дня пес отчетливо пролаял "А-б-ы-р"!! (В тетради перерыв, и дальше отчетливо, очевидно, по ошибке, написано): 1 декабря. (Перечеркнуто, поправлено): 1 января 1925 г. 25 Фотографирован утром. Отчетливо лает "Абыр", повторяя это слово громко и как бы радостно. В 3 часа (крупными буквами) засмеялся (?), вызвав обморок горничной Зины. Вечером произнес 8 раз подряд слово "Абыр-валг", "Абыр". (Косыми буквами карандашом): Профессор расшифровал слово "Абыр-валг", оно означает "Главрыба"... Что-то чудовищ... 2 января. Фотографирован во время улыбки при магнии. Встал с постели и уверенно держался полчаса на задних лапах. Моего почти роста. (В тетради вкладной лист.) Русская наука чуть не понесла тяжкую утрату. История болезни профессора Ф. Ф. Преображенского. В 1 час 13 мин. глубокий обморок с профессором Преображенским. При падении ударился головой о ножку стула. Tinct. valer. В моем и Зины присутствии пес (если псом, конечно, можно назвать) обругал профессора Преображенского по матери. (Перерыв в записях.) 6 января. (То карандашом, то фиолетовым чернилами.) Сегодня, после того, как у него отвалился хвост, он произнес совершенно отчетливо слово "пив-ная". Работает фонограф. Черт знает, что такое... Я теряюсь. Прием у профессора прекращен. Начиная с пяти часов дня из смотровой, где расхаживает это существо, слышатся явственная вульгарная ругань и слова "еще парочку". 7 января. Он произносит очень много слов: "Извозчик", "Мест нету", "Вечерняя газета", "Лучший подарок детям" и все бранные слова, какие только существуют в русском лексиконе. Вид его странен. Шерсть осталась только на голове, на подбородке и на груди. В остальном он лыс, с дрябловатой кожей. В области половых органов – формирующийся мужчина. Череп увеличился значительно, лоб скошен и низок. Ей-богу, я с ума сойду. Филипп Филиппович все еще чувствует себя плохо. Большинство наблюдений веду я (фонограф, фотографии). По городу расплылся слух. Последствия неисчислимые. Сегодня днем весь переулок был полон какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и сейчас еще под окнами. В утренних газетах появилась удивительная заметка: "Слухи о марсианине в Обуховском переулке ни на чем не основаны. Они распущены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны". О каком, к черту, марсианине? Ведь это кошмар! Еще лучше в вечерней – написали, что родился ребенок, который играет на скрипке. Тут же рисунок – скрипка и моя фотографическая карточка, и под ней подпись: "Проф. Преображенский, делавший кесарево сечение у матери". Это что-то неописуемое... Новое слово – "милиционер". Оказывается – Дарья Петровна была в меня влюблена и свистнула карточку из альбома Ф. Ф.. После того, как прогнал репортеров, один из них пролез на кухню и так далее... Что творится во время приема!! Сегодня было 82 звонка. Телефон выключен. Бездетные дамы с ума сошли и ждут... В полном составе домком во главе со Швондером. Зачем – сами не знают. 26 8 января. Поздним вечером поставили диагноз. Ф. Ф. как истый ученый признал свою ошибку – перемена гипофиза дает не омоложение, а полное о ч е л о в е ч е н и е (подчеркнуто три раза). От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше. Тот сегодня впервые прошелся по квартире. Смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем, в сопровождении Филиппа Филипповича и моем, он проследовал в кабинет. Он стойко держится на задних (зачеркнуто)... на ногах и производит впечатление маленького и плохо сложенного мужчины. Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся, и я записал новое отчетливо произнесенное слово "буржуи". Ругался. Ругань эта методическая, беспрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная. Она носит несколько фонографический характер: как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически, подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками. А впрочем, я не психиатр, черт меня возьми. На Филиппа Филипповича брань производит почему-то удивительно тягостное впечатление. Бывают моменты, когда он выходит из сдержанного и холодного наблюдения новых явлений и как бы теряет терпение. Так, в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул: – Перестань! Это не произвело никакого эффекта. После прогулки в кабинете общими усилиями Шарик был водворен в смотровую. После этого мы имели совещание с Ф. Ф. Впервые, я должен сознаться, видел я этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. Напевая по своему обыкновению, он спросил: "Что же мы теперь будем делать?" И сам же ответил буквально так: "Москшвея, да... "От Севильи до Гренады". Москшвея, дорогой доктор..." Я ничего не понял. Он пояснил: "Я вас прошу, Иван Арнольдович, купить ему белье, штаны и пиджак". 9 января. Лексикон обогащается каждые пять минут (в среднем) новым словом, с сегодняшнего утра, и фразами. Похоже, что они, замерзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остается в употреблении. Со вчерашнего дня фонографом отмечены: "Не толкайся", "Подлец", "Слезай с подножки", "Я тебе покажу", "Признание Америки" и "Примус". 10 января. Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив протест хриплыми криками: "В очередь, сукины дети, в очередь!" Был одет. Носки ему велики. (В тетради какие-то схематические рисунки, по всем признакам изображающие превращение собачьей ноги в человеческую.) Удлиняется задняя половина скелета стопы (Tarsus). Вытягивание пальцев. Когти. Повторное систематическое обучение посещения уборной. Прислуга совершенно подавлена. Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне идет на лад. 11 января. Совершенно примирился со штанами. Произнес длинную веселую фразу, потрогав брюки Филиппа Филипповича: "Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку". Шерсть на голове слабая, шелковистая. Легко спутать с волосами. Но подпалины остались на темени. Сегодня облез последний пух с ушей. Колоссальный аппетит. С увлечением ест селедку. В пять часов дня событие: впервые слова, произнесенные существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на них. Именно, когда профессор приказал ему: 27 – Не бросай объедки на пол... Неожиданно ответил: – Отлезь, гнида. Ф. Ф. был поражен. Потом оправился и сказал: – Если ты еще раз позволишь себе обругать меня или доктора, тебе влетит. Я сфотографировал в это мгновенье Шарика. Ручаюсь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел исподлобья довольно раздраженно, но стих. Ура! Он понимает. 12 января. Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани. Свистал. "Ой, яблочко". Поддерживает разговор. Я не могу удержаться от нескольких гипотез: к чертям омоложение пока что. Другое неизмеримо более важное: изумительный опыт профессора Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Отныне загадочная функция гипофиза – мозгового придатка – разъяснена. Он определяет человеческий облик. Его гормоны можно назвать важнейшими в организме, – гормонами облика. Новая область открывается в науке: без всякой реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Профессор Преображенский, вы – творец! (клякса). Впрочем, я уклонился в сторону... Итак, он поддерживает разговор. По моему предположению, дело обстоит так: прижившийся гипофиз открыл центр речи в собачьем мозгу, и слова хлынули потоком. По-моему, перед нами оживший развернувшийся мозг, а не мозг, вновь созданный. О, дивное подтверждение эволюционной теории! О, цепь величайшая от пса до Менделеева-химика! Еще моя гипотеза: мозг Шарика, в собачьем периоде его жизни, накопил бездну понятий. Все слова, которыми он начал оперировать в первую очередь, – уличные слова, он их слышал и затаил в мозгу. Теперь, проходя по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречных псов. Бог их знает, что у них таится в мозгах. Шарик читал. Читал (три восклицательных знака). Это я догадался. По главрыбе. Именно с конца читал. И я даже знаю, где разрешение этой загадки: в перекресте зрительных нервов у собаки. Что в Москве творится – уму не постижимо человеческому. Семь сухаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о светопреставлении, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже называла точно число: 28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика Стефана Земля налетит не небесную ось... Какие-то жулики уже читают лекции. Такой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон беги из квартиры. Я переехал к Преображенскому по его просьбе и ночую в приемной с Шариком. Смотровая превращена в приемную. Швондер оказался прав. Домком злорадствует. В шкафах ни одного стекла, потому что прыгал. Еле отучили. С Филиппом что-то страшное делается. Когда я ему рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: "Вы думаете?" Тон его зловещий. Неужели я ошибся? Старик что-то придумал. Пока я вожусь с этой историей болезни, он сидит над историей того человека, от которого мы взяли гипофиз. (В тетради вкладной лист.) Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет. Холост. Беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий – условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия – игра на балалайке по трактирам. 28 Маленького роста, плохо сложен. Печень расширена (алкоголь). Причина смерти – удар ножом в сердце в пивной "Стоп-сигнал" у Преображенской заставы. Старик, не отрываясь, сидит над климовской болезнью. Не понимаю, в чем дело. Бурчал что-то насчет того, что вот не догадался осмотреть в патолого-анатомическом весь труп Чугункина. В чем дело, не понимаю. Не все ли равно, чей гипофиз? 17 января. Не записывал несколько дней. Болел инфлюэнцей. За это время облик окончательно сложился: а) совершенный человек по строению тела, б) вес около 3-х пудов, в) рост маленький, г) голова маленькая, д) начал курить, е) ест человеческую пищу, ж) одевается самостоятельно, з) гладко ведет разговор. Вот так гипофиз! (клякса.) Этим я историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм, и наблюдать его нужно сначала. Приложение: стенограммы речей, записи фонографа, фотографические снимки. Подпись: ассистент профессора Ф. Ф. Преображенского доктор Борменталь 6 Был зимний вечер. Конец января. Предобеденное, предприемное время. На притолоке у двери в приемную висел белый лист бумаги, на коем было написано рукою Филиппа Филипповича: "Семечки есть в квартире запрещаю. Ф. Преображенский". И синим карандашом крупными, как пирожные, буквами рукой Борменталя: "Игра на музыкальных инструментах от 5 часов дня до 7 часов утра воспрещается". Затем рукой Зины: "Когда вернетесь, скажите Филиппу Филипповичу: я не знаю, куда он ушел. Федор говорил, что со Швондером". Рукой Преображенского: "Я сто лет буду ждать стекольщика?" Рукою Дарьи Петровны. Печатно: "Зина ушла в магазин. Сказала, приведет". В столовой было совершенно по-вечернему, благодаря лампе под вишневым абажуром. Свет из буфета падал перебитый пополам, – зеркальные стекла были заклеены косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо, и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые, воркующие слова. Он читал заметку: Никаких сомнений нет в том, что это его незаконнорожденный (как выражались в гнилом буржуазном обществе) сын. Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия! Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом. Шв-р. Очень неустойчиво, с залихватской ловкостью играли за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации "Светит месяц" смешивались в голове Филиппа Филипповича со 29 словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы: – Све-е-етит месяц... светит месяц... светит месяц... Тьфу, прицепилась, вот окаянная мелодия! Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры. – Скажи ему, что пять часов, чтобы прекратил. И позови его сюда, пожалуйста. Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары. У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а на лице луговой небритый пух. Лоб поражал своею малой вышиной. Почти непосредственно над черными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щетка. Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской. На шее у человека был повязан ядовито-небесного цвета галстух с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстуха был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, швырялись в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами. "Как в калошах", – с неприятным чувством подумал Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с заглохшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазами поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом. Часы на стене, рядом с деревянным рябчиком, прозвенели пять. Внутри них что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппович. – Я, кажется, два раза уже просил не спать на полатях в кухне, тем более днем? Человек кашлянул сипло, точно подавился косточкою, и ответил: – Воздух в кухне приятнее. Голос у него был необыкновенный, глуховатый и в то же время гулкий, как в маленькой бочонок. Филипп Филиппович покачал головой и спросил: – Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстухе. Человечек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу, и любовно поглядел на галстух. – Что ж... "гадость", – заговорил он, – шикарный галстух. Дарья Петровна подарила. – Дарья Петровна вам мерзость подарила. Вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил? Ку-пить при-лич-ные бо-тинки, а это что? Неужели доктор Борменталь такие выбрал? – Я ему велел, чтоб лаковые. Что я, хуже людей? Пойдите на Кузнецкий – все в лаковых. Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско: – Спанье на полатях прекращается. Понятно? Что это за нахальство? Ведь вы мешаете! Там женщины. Лицо человека потемнело, и губы оттопырились. – Ну, уж и женщины. Подумаешь. Барыни какие. Обыкновенная прислуга, а форсу, как у комиссарши. Это все Зинка ябедничает! Филипп Филиппович глянул строго: – Не сметь называть Зину Зинкой. Понятно-с? Молчание. – Понятно ли, я вас спрашиваю? 30 – Понятно. – Убрать эту пакость с шеи. Вы... ты... вы посмотрите на себя в зеркало – на что вы похожи. Балаган какой-то. Окурки на пол не бросать, в сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире. Не плевать. Вон плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете? Смотрите! Кто ответил пациенту "пес его знает"? Что вы, в самом деле, в кабаке, что ли? – Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, – вдруг плаксиво выговорил человек. Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули. – Кто это тут вам "папаша"? Что это за фамильярности! Чтобы я больше не слыхал этого слова! Называть меня по имени и отчеству! Дерзкое выражение загорелось в человечке. – Да что вы все... То не плевать. То не кури. Туда не ходи... Что ж это на самом деле. Чисто как в трамвае. Что вы мне жить не даете?! И насчет "папаши" – это вы напрасно. Разве я вас просил мне операцию делать? – человек возмущенно лаял. – Хорошенькое дело! Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно (человечек завел глаза к потолку, как бы вспоминая некую формулу), а равно и мои родные. Я иск, может, имею права предъявить! Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно круглыми, сигара вывалилась из рук. "Ну, тип", – пролетело у него в голове. – Как-с, – прищуриваясь, спросил он, – вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал!.. – Да что вы все попрекаете – помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал. А ежели бы я у вас помер под ножиком? Вы что на это выразите, товарищ? – Филипп Филиппович! – раздраженно воскликнул Филипп Филиппович. – Я вам не товарищ! Это чудовищно! "Кошмар, кошмар", – подумалось ему. – Уж, конечно, как же, – иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу, – мы понимаем-с. Какие уж мы вам товарищи! Где уж! Мы в университетах не обучались, в квартирах по пятнадцать комнат с ванными не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право... Филипп Филиппович, бледнея, слушал рассуждения человека. Тот прервал речь и демонстративно направился к пепельнице с изжеванной папиросой в руке. Походка у него была развалистая. Он долго мял окурок в раковине с выражением, ясно говорящим: "На! На!" Затушив папиросу, он на ходу вдруг лязгнул зубами и сунул нос под мышку. – Пальцами блох ловить! Пальцами! – яростно крикнул Филипп Филиппович. – И я не понимаю, откуда вы их берете? – Да что ж, развожу я их, что ли? – обиделся человек. – Видно, блоха меня любит, – тут он пальцами пошарил в подкладке под рукавом и выпустил в воздух клок рыжей легкой ваты. Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошел и сел на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджачка. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки, и это доставляло ему большое удовольствие. Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носках, глаза прижмурил и заговорил: – Какое дело еще вы мне хотели сообщить? – Да что ж дело! Дело простое. Документ, Филипп Филиппович, мне надо. Филипп Филипповича несколько передернуло. 31 – Хм... Черт! Документ! Действительно... Кхм... Да, может быть, без этого как-нибудь можно? – голос его звучал неуверенно и тоскливо. – Помилуйте, – уверенно ответил человек, – как же так без документа? Это уж извиняюсь. Сами знаете, человеку без документа строго воспрещается существовать. Вопервых, домком! – При чем тут этот домком! – Как это при чем? Встречают, спрашивают, – когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься? – Ах ты, господи, – уныло воскликнул Филипп Филиппович, – "встречаются, спрашивают"... Воображаю, что вы им говорите. Ведь я же вам запрещал шляться по лестницам. – Что я, каторжный? – удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине. – Как это так "шляться"? Довольно обидны ваши слова. Я хожу, как все люди. Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону. "Надо все-таки сдерживать себя", – подумал он. Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды. – Отлично-с, – поспокойнее заговорил он, – дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком? – Что ж ему говорить? Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает. – Чьи интересы, позвольте осведомиться? – Известно чьи. Трудового элемента. Филипп Филиппович выкатил глаза. – Почему вы – труженик? – Да уж известно, не нэпман. – Ну, ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего трудового интереса? – Известно что: прописать меня. Они говорят, где ж это видано, чтоб человек проживал непрописанным в Москве. Это раз. А самое главное – это учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же – союз, биржа... – Позвольте узнать, по чему я вас пропишу? По этой скатерти или по своему паспорту? Ведь нужно все-таки считаться с положением! Не забывайте, что вы... э... гм... вы ведь, так сказать, неожиданно появившееся существо, лабораторное. – Филипп Филиппович говорил все менее уверенно. Человек победоносно молчал. – Отлично-с. Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить все по плану этого вашего домкома? Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии. – Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете, и шабаш. – Как же вам угодно именоваться? Человек поправил галстух и ответил: – Полиграф Полиграфович. – Не валяйте дурака, – хмуро отозвался Филипп Филиппович, – я с вами серьезно говорю. Язвительная усмешка искривила усишки человека. – Что-то не пойму я, – заговорил он весело и осмысленно. – Мне по матушке нельзя. Плевать – нельзя. А от вас только и слышу: "дурак" да "дурак". Видно, только профессорам разрешается ругаться в Ресефесере. 32 Филипп Филиппович налился кровью и, наполняя стакан, разбил его. Напившись из другого, подумал: "Еще немного, он меня учить станет и будет совершенно прав. В руках не могу держать себя". Он вернулся, преувеличенно вежливо склонив стан, и с железною твердостью произнес: – Из-вините. У меня расстроены нервы. Ваше имя показалось мне странным. Где вы, интересно узнать, откопали такое? – Домком посоветовал. По календарю искали, какое тебе, говорят. Я и выбрал. – Ни в каком календаре ничего подобного быть не может. – Довольно удивительно, – человек усмехнулся, – когда у вас в смотровой висит. Филипп Филиппович, не вставая, закинулся к кнопке на обоях, и на звонок явилась Зина. – Календарь из смотровой. Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарем, Филипп Филиппович спросил: – Где? – 4 марта празднуется. – Покажите. Гм... черт... В печку его, Зина, сейчас же. Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарем, а человек покрутил укоризненно головой. – Фамилию позвольте узнать. – Фамилию я согласен наследственную принять. – Как-с? Наследственную? Именно? – Шариков. В кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер в кожаной тужурке. Доктор Борменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора (он только что вернулся) было столь же растерянное выражение, как и у Филиппа Филипповича. – Как же писать? – нетерпеливо спросил он. – Что же, – заговорил Швондер, – дело не сложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, и так, предъявитель сего действительно гражданин Шариков Полиграф Полиграфович, гм... зародившийся в вашей, мол, квартире. Борменталь недоуменно шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дернул усом. – Гм... вот черт! Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто... ну, одним словом... – Это ваше дело, – со спокойным злорадством молвил Швондер, – зародился или нет... В общем и целом ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова. – И очень просто, – пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстух, отражавшийся в зеркальной бездне. – Я бы очень просил вас, – огрызнулся Филипп Филиппович, – не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите "и очень просто" – это очень не просто. – Как же мне не вмешиваться, – обидчиво забубнил Шариков, а Швондер немедленно его поддержал: – Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право – участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности постольку, поскольку дело касается документов. Документ – самая важная вещь на свете. В этот момент оглушительный трезвон над ухом оборвал разговор. Филипп Филиппович сказал в трубку: "Да...", покраснел и закричал: 33 – Попрошу не отрывать меня по пустякам. Вам какое дело? – И хлестко всадил трубку в рога. Голубая радость разлилась по лицу Швондера. Филипп Филиппович, багровея, прокричал: – Одним словом, кончим это. Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов, затем раздраженно прочитал вслух: – "Сим удостоверяю"... Черт знает, что такое... Гм... "Предъявитель сего, человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу, нуждается в документах"... Черт! Да я вообще против получения этих идиотских документов. Подпись – "профессор Преображенский". – Довольно странно, профессор, – обиделся Швондер, – как так, документы вы называете идиотскими! Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да еще не взятого на воинский учет милицией. А вдруг война с империалистскими хищниками? – Я воевать не пойду никуда, – вдруг хмуро гавкнул Шариков в шкаф. Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову: – Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет необходимо взяться. – На учет возьмусь, а воевать – шиш с маслом, – неприязненно ответил Шариков, поправляя бант. Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский и злобно и тоскливо переглянулся с Борменталем: "Не угодно ли-с, мораль". Борменталь многозначительно кивнул головой. – Я тяжко раненный при операции, – хмуро подвывал Шариков, – меня вишь как отделали, – и он указал голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам. – Вы анархист-индивидуалист? – спросил Швондер, высоко поднимая брови. – Мне белый билет полагается, – ответил Шариков на это. – Ну-с, хорошо-с, не важно пока, – ответил удивленный Швондер. – Факт в том, что мы удостоверение профессора отправим в милицию, и вам выдадут документ. – Вот что, э... – внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно терзаемый какой-то думой, – нет ли у нас в доме свободной комнаты, я согласен ее купить. Желтенькие искры появились в карих глазах Швондера. – Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не предвидится. Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал. Опять как оглашенный загремел телефон. Филипп Филиппович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогулек так, что она, покрутившись немного, повисла на голубом шнуре. Все вздрогнули. "Изнервничался старик", – подумал Борменталь, а Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел. Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом. Профессор остался наедине с Борменталем. Немного помолчав, Филипп Филиппович мелко потряс головой и заговорил: – Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь вам, дорогой доктор, я измучился за эти две недели больше, чем за последние четырнадцать лет. Ведь тип, я вам доложу... В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушенный женский визг и тотчас потух. Нечистая сила шарахнула по обоям в коридоре, направляясь к смотровой, там чем-то грохнуло и мгновенно пролетело обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи Петровны. Затем завыл Шариков. – Боже мой! Еще что-то! – закричал Филипп Филиппович, бросаясь к дверям. 34 – Кот, – сообразил Борменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в нее, оттуда свернули в коридор к уборной и ванной. Из кухни выскочила Зина и вплотную наскочила на Филиппа Филипповича. – Сколько раз я приказывал, котов чтобы не было! – в бешенстве закричал Филипп Филиппович. – Где он?! Иван Арнольдович, успокойте, ради бога, пациентов в приемной! – В ванной, в ванной, проклятый черт, сидит, – задыхаясь, закричала Зина. Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не поддавалась. – Открыть сию секунду! В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгало, обрушились тазы, дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью: – Убью на месте... Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Филиппович налег на дверь и стал ее рвать. Распаренная Дарья Петровна с искаженным лицом появилась на пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под самым потолком из ванной в кухню, треснуло червивой трещиной, и из него вывалились два осколка, а за ними выпал громаднейших размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бантом на шее, похожий на городового. Он упал прямо на стол в длинное блюдо, расколов его вдоль, с блюда на пол, затем повернулся на трех ногах, а правой взмахнул, как будто бы в танце, и тотчас просочился в узкую щель на черную лестницу. Щель расширилась, и кот сменился старушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным и большим пальцами обтерла запавший рот, припухшими и колючими глазками окинула кухню и произнесла с любопытством: – О, господи Иисусе! Бледный Филипп Филиппович пересек кухню и спросил старуху грозно: – Что вам надо? – Говорящую собачку любопытно поглядеть, – ответила старуха заискивающе и перекрестилась. Филипп Филиппович еще более побледнел, к старухе подошел вплотную и шепнул удушливо: – Сию минуту из кухни вон. Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидевшись: – Чтой-то уж больно дерзко, господин профессор. – Вон, я говорю, – повторил Филипп Филиппович, и глаза его сделались круглые, как у совы. Он собственноручно трахнул черной дверью за старухой, – Дарья Петровна, я же просил вас?! – Филипп Филиппович, – в отчаянье ответила Дарья Петровна, сжимая обнаженные руки в кулаки, – что ж я поделаю? Народ целые дни ломится, хоть все бросай. Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более не слышалось. Вошел доктор Борменталь. – Иван Арнольдович, убедительно прошу...гм...сколько там пациентов? – Одиннадцать, – ответил Борменталь. – Отпустите всех, сегодня принимать не буду. Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул: – Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись? – Гу! Гу! – жалобно и тоскливо ответил голос Шарикова. – Какого черта?.. Не слышу? Закройте воду! – Гау... угу... – Да закройте воду! Что он сделал, не понимаю?! – приходя в исступление, вскричал Филипп Филиппович. 35 Зина и Дарья Петровна, открыв рты, в отчаянии смотрели на дверь. К шуму воды прибавился подозрительный плеск. Филипп Филиппович еще раз погрохотал кулаком в дверь. – Вон он! – выкрикнула Дарья Петровна из кухни. Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитом окне под потолком показалась и высунулась в кухню физиономия Полиграфа Полиграфовича. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась, пламенея от свежей крови, царапина. – Вы с ума спятили? – спросил Филипп Филиппович. – Почему вы не выходите? Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил: – Защелкнулся я. – Откройте замок! Что ж, вы никогда замка не видели? – Да не открывается, окаянный, – испуганно ответил Полиграф. – Батюшки! Он предохранитель защелкнул! – вскричала Зина и всплеснула руками. – Там пуговка есть такая, – выкрикивал Филипп Филиппович, стараясь перекричать воду, – нажмите ее книзу... Вниз нажимайте! Вниз! Шариков пропал, через минуту вновь появился в окошке. – Ни пса не видно, – в ужасе пролаял он в окно. – Да лампу зажгите! Он взбесился! – Котяра проклятый лампу раскокал, – ответил Шариков, – а я стал его, подлеца, за ноги хватать, кран вывернул, а теперь найти не могу. Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли. Минут через пять Борменталь, Зина и Дарья Петровна сидели рядышком на мокром ковре, свернутом трубкою у подножия двери, и задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар Федор с зажженной венчальной свечой Дарьи Петровны на деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зад в крупной серой клетке мелькнул в воздухе и исчез в отверстии. – Ду... гугу! – что-то кричал Шариков сквозь рев воды. Из окошка под напором брызнуло несколько раз на потолок кухни, и вода стихла. Послышался голос Федора: – Филипп Филиппович, все равно надо открывать, пусть разойдется, отсосем из кухни! – Открывайте! – сердито крикнул Филипп Филиппович. Тройка поднялась с ковра, дверь из ванной нажали, и тотчас вода хлынула в коридорчик. В нем она разделилась на три потока: прямо – в противоположную уборную, направо – в кухню и налево – в переднюю. Шлепая и прыгая, Зина захлопнула в нее дверь. По щиколотку в воде вышел Федор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеенке – весь мокрый. – Еле заткнул, напор большой, – пояснил он. – Где этот? – спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу. – Боится выходить, – глупо усмехнувшись, объяснил Федор. – Бить будете, папаша? – донесся плаксивый голос Шарикова из ванной. – Болван! – коротко отозвался Филипп Филиппович. Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках, с голыми ногами, и Шариков со швейцаром, босые, с закатанными штанами, шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные ведра и раковину. Заброшенная плита гудела. Вода уходила через дверь на гулкую лестницу прямо в пролет лестницы и падала в подвал. Борменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глубокой луже на паркете передней и вел переговоры через чуть приоткрытую дверь на цепочке. 36 – Не будет сегодня приема, профессор нездоров. Будьте добры отойти от двери, у нас труба лопнула... – А когда же прием? – добивался голос за дверью. – Мне бы только на минуту... – Не могу, – Борменталь переступил с носков на каблуки, – профессор лежит, и труба лопнула. Завтра прошу. Зина! Милая! Отсюда вытирайте, а то она на парадную лестницу выльется. – Тряпки не берут. – Сейчас кружками вычерпаем, – отозвался Федор, – сейчас! Звонки следовали один за другим, и Борменталь уже всей подошвой стоял в воде. – Когда же операция? – приставал голос и пытался просунуться в щель. – Труба лопнула... – Я бы в калошах прошел... Синеватые силуэты появлялись за дверью. – Нельзя, прошу завтра. – А я записан. – Завтра. Катастрофа с водопроводом. Федор у ног доктора ерзал в озере, скреб кружкой, а исцарапанный Шариков придумал новый способ. Он скатал громадную тряпку в трубку, лег животом в воду и погнал ее из передней обратно к уборной. – Что ты, леший по всей квартире гоняешь? – сердилась Дарья Петровна, – выливай в раковину. – Да что в раковину, – ловя руками мутную воду, отвечал Шариков, – она на парадное вылезет. Из коридора со скрежетом выехала скамеечка, и на ней вытянулся, балансируя, Филипп Филиппович в синих с полосками носках. – Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать. Идите в спальню, я вам туфли дам. – Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки. – В калоши станьте. – Да ничего. Все равно уже мокрые ноги. – Ах, боже мой! – расстраивался Филипп Филиппович. – До чего вредное животное, – отозвался вдруг Шариков, и выехал на корточках с суповой миской в руке. Борменталь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри Филиппа Филипповича раздулись и очки вспыхнули. – Вы про кого говорите? – спросил он у Шарикова с высоты. – Позвольте узнать. – Про кота я говорю. Такая сволочь, – ответил Шариков, бегая глазами. – Знаете, Шариков, – переводя дух, отозвался Филипп Филиппович, – я положительно не видел более наглого существа, чем вы. Борменталь хихикнул. – Вы, – продолжал Филипп Филиппович, – просто нахал. Как вы смеете это говорить? Вы все это учинили и еще позволяете... Да нет! Это черт знает, что такое! – Шариков, скажите мне, пожалуйста, – заговорил Борменталь, – сколько времени еще вы будете гоняться за котами? Стыдитесь! Ведь это же безобразие! – Дикарь! – Какой я дикарь, – хмуро отозвался Шариков, – ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только и ищет, как бы чего своровать. Фарш пропал у Дарьи. Я его проучить хотел. – Вас бы самого проучить! – ответил Филипп Филиппович, – вы поглядите на свою физиономию в зеркале. 37 – Чуть глаза не лишил, – мрачно отозвался Шариков, трогая глаз черной мокрой рукой. Когда черный от влаги паркет несколько просох, все зеркала покрылись банным налетом, и звонки прекратились. Филипп Филиппович в сафьяновых красных туфлях стоял в передней. – Вот вам, Федор. – Покорнейше благодарим. – Переоденьтесь сейчас же. Да, вот что: выпейте у Дарьи Петровны водки. – Покорнейше благодарю, – Федор помялся, потом сказал: – тут еще, Филипп Филиппович. Я извиняюсь, уж прямо и совестно. Только за стекло в седьмой квартире... Гражданин Шариков камнями швырял... – В кота? – спросил Филипп Филиппович, хмурясь, как облако. – То-то, что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозился подать. – Черт! – Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать стал... Ну, повздорили. – Ради бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких вещах... Сколько нужно? – Полтора. Филипп Филиппович извлек три блестящих полтинника и вручил Федору. – Еще за такого мерзавца полтора целковых платить, – послышался в дверях глухой голос, – да он сам... Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова, вытеснил его в приемную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь. – Не сметь! – явно больным голосом воскликнул Филипп Филиппович. – Ну, уж это действительно, – многозначительно заметил Федор, – такого наглого я в жизнь свою не видел... Борменталь как из-под земли вырос. – Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь. Энергичный эскулап отпер дверь в приемную, и оттуда донесся его голос: – Вы что? В кабаке, что ли? – Это так... – добавил решительный Федор, – вот это так... Да по уху бы еще... – Ну, что вы, Федор, – печально буркнул Филипп Филиппович. – Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович. 7 – Нет, нет и нет, – настойчиво заговорил Борменталь, – извольте заложить. – Ну что, ей-богу, – забурчал недовольно Шариков. – Благодарю вас, доктор, – ласково сказал Филипп Филиппович, – а то мне уже надоело делать замечания. – Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова. – Как это так "примите"? – расстроился Шариков. – Я сейчас заложу. Левой рукой он заслонил тарелку от Зины, а правой запихнул салфетку за воротничок и стал похож на клиента в парикмахерской. – И вилкой, пожалуйста, – добавил Борменталь. Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе. – Я еще водочки выпью, – заявил он вопросительно. – А не будет вам? – осведомился Борменталь – Вы последнее время слишком налегаете на водку. 38 – Вам жалко? – осведомился Шариков и глянул исподлобья. – Глупости говорите... – вмешался суровый Филипп Филиппович, но Борменталь его перебил. – Не беспокойтесь, Филипп Филиппович. Я сам. Вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она не моя, а Филиппа Филипповича. Просто – это вредно. Это раз, а второе – вы и без водки держите себя неприлично. – Борменталь указал на заклеенный буфет. – Зинушка, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы. Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Борменталя, налил рюмочку. – И другим надо предложить, – сказал Борменталь, – и так: сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, в заключение себе. Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам. – Вот все у нас, как на параде, – заговорил он, – салфетку – туда, галстух – сюда, да "извините", да "пожалуйста", "мерси", а так, чтобы по-настоящему, – это нет! Мучаете сами себя, как при царском режиме. – А как это "по-настоящему", позвольте осведомиться. Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнес: – Ну, желаю, чтобы все... – И вам также, – с некоторой иронией отозвался Борменталь. Шариков выплеснул водку в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднес себе к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами. – Стаж, – вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппович. Борменталь удивленно покосился. – Виноват... – Стаж, – повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой. – Тут уж ничего не поделаешь. Клим! Борменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филиппа Филипповича. – Вы полагаете, Филипп Филиппович? – Нечего полагать, уверен в этом. – Неужели... – начал Борменталь и остановился, покосившись на Шарикова. Тот подозрительно нахмурился. – Später 1... – негромко сказал Филипп Филиппович. – Gut 2, – отозвался ассистент. Зина внесла индейку. Борменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и предложил Шарикову. – Я не хочу. Я лучше водочки выпью. – Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сияла, как муха в сметане. Борменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности. – Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером? – осведомился он у Шарикова. Тот, моргая глазами, ответил: – В цирк пойдем лучше всего. 39 – Каждый день в цирк, – благодушно заметил Филипп Филиппович, – это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил. – В театр я не пойду, – неприязненно ответил Шариков и перекосил рот. – Икание за столом отбивает у других аппетит, – машинально сообщил Борменталь. – Вы меня извините... Почему, собственно, вам не нравится театр? Шариков посмотрел в пустую рюмку, как в бинокль, подумал и оттопырил губы. – Да дурака валяние... Разговаривают, разговаривают... Контрреволюция одна. Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой частокол. Борменталь только повертел головой. – Вы бы почитали что-нибудь, – предложил он, – а то, знаете ли... – Уж и так читаю, читаю... – ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки. – Зина! – тревожно закричал Филипп Филиппович. – Убирай, детка, водку. Больше уж не нужна. Что же вы читаете? – В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. "Надо будет Робинзона..." – Эту... как ее... переписку Энгельса с этим... как его, дьявола... с Каутским. Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку. Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил: – Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного? Шариков пожал плечами. – Да не согласен я. – С кем? С Энгельсом или с Каутским? – С обоими, – ответил Шариков. – Это замечательно, клянусь богом. "Всех, кто скажет, что другая..." А что бы вы со своей стороны могли предложить? – Да что тут предлагать... А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все да и поделить. – Так я и думал, – воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, – именно так и полагал. – Вы и способ знаете? – спросил заинтересованный Борменталь. – Да какой тут способ, – становясь словоохотливее после водки, объяснил Шариков, – дело не хитрое. А то что ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет. – На счет семи комнат – это вы, конечно, на меня намекаете? – горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович. Шариков съежился и промолчал. – Ну что ж, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали? – Тридцати девяти человекам, – тотчас ответил Борменталь. – Гм... Триста девяносто рублей. Ну, грех на трех мужчин. Дам – Зину и Дарью Петровну – считать не станем. С вас, Шариков, сто тридцать рублей, потрудитесь внести. – Хорошенькое дело, – ответил Шариков испугавшись, – это за что такое? – За кран и за кота, – рявкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия. – Филипп Филиппович, – тревожно воскликнул Борменталь. – Погодите. За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорван прием. Это нестерпимо. Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны... Кто убил кошку у мадам Полласухер?! Кто... 40 – Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице, – подлетел Борменталь. – Вы стоите... – рычал Филипп Филиппович. – Да она меня по морде хлопнула, – взвизгнул Шариков, – у меня не казенная морда! – Потому что вы ее за грудь ущипнули, – закричал Борменталь, опрокинув бокал, – вы стоите... – Вы стоите на самой низшей ступени развития, – перекричал Филипп Филиппович, – вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, а вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать советы космического масштаба и комической же глупости о том, как надо все поделить, и вы в то же время, наглотались зубного порошку!.. – Третьего дня, – подтвердил Борменталь. – Ну, вот-с, – гремел Филипп Филиппович, – зарубите себе на носу, – кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь? – что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социалистического общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой? – Все у вас негодяи, – испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с двух сторон. – Я догадываюсь, – злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппович. – Ну, что же. Ну, Швондер и дал. Он не негодяй. Чтоб я развивался. – Я вижу, как вы развились после Каутского, – визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал кнопку в стене. – Сегодняшний случай это показывает как нельзя лучше! Зина! – Зина! – кричал Борменталь. – Зина! – орал испуганный Шариков. Зина прибежала бледная. – Зина! Там в приемной... Она в приемной? – В приемной, – покорно ответил Шариков, – зеленая, как купорос. – Зеленая книжка... – Ну, сейчас палить! – отчаянно воскликнул Шариков. – Она казенная, из библиотеки!! – Переписка – называется... как его?.. Энгельса с этим чертом... В печку ее! Зина повернулась и улетела. – Я бы этого Швондера повесил бы, честное слово, на первом суку, – воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки, – сидит изумительная дрянь в доме, как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах... Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович в свою очередь отправил ему косой взгляд и умолк. "Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире", – вдруг пророчески подумал Борменталь. Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник. – Я не буду ее есть, – сразу угрожающе и неприязненно заявил Шариков. – Никто вас и не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас. В молчании закончился обед. Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетир, и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике. 41 – Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только, ради бога, посмотрите, в программе котов нету? – И как такую сволочь в цирк допускают, – хмуро заметил Шариков, покачивая головой. – Ну, мало ли кого туда допускают, – двусмысленно отозвался Филипп Филиппович. – Что там у них? – У Соломонского, – стал вычитывать Борменталь, – четыре каких-то... Юссемс и человек мертвой точки. – Что это за Юссемс? – подозрительно осведомился Филипп Филиппович. – Бог их знает. Впервые это слово встречаю. – Ну, тогда лучше смотрите у Никитина. Необходимо, чтобы все было ясно. – У Никитина... У Никитина... гм... слоны и предел человеческой ловкости. – Тэк-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? – недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шарикова. Тот обиделся. – Что ж, я не понимаю, что ли? Кот – другое дело, а слоны – животные полезные, – ответил Шариков. – Ну-с, и отлично. Раз полезное, поезжайте поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни в какие разговоры не пускаться в буфете. Иван Арнольдович, покорнейше прошу, пива Шарикову не предлагать. Через десять минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерять комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его ученый с взлизами лоб. Он причмокивал, напевая сквозь зубы "К берегам священным Нила..." и что-то бормотал. Наконец отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветился тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа, с третьей стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать ее на свет огней. В прозрачной и тяжелой жидкости плавал, не падая на дно, маленький беленький комочек, извлеченный из недр Шарикова мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в пречистенской квартире. Очень возможно, что высокоученый человек ее разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, в кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изжевав ее конец и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул: – Ей богу, я, кажется, решусь. Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в одиннадцать часов, как известно, затихает движение. Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздалого пешехода, они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетир в карманчике. Профессор нетерпеливо поджидал возвращения доктора Борменталя и Шарикова из цирка. 1 2 Позднее (нем.) Хорошо (нем.) 42 8 Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего особенного в течение следующей недели он не предпринимал и, может быть, вследствие его бездействия квартирная жизнь переполнилась событиями. Через шесть дней после истории с водой и котом из домкома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся женщиной, и вручил ему документы, которые Шариков немедленно заложил в карман пиджака и немедленно после этого назвал доктора Борменталя: – Борменталь! – Нет, уж вы меня по имени отчеству, пожалуйста, называйте, – отозвался Борменталь, меняясь в лице. Нужно заметить, что в эти шесть дней хирург ухитрился раз восемь поссориться со своим воспитанником. и атмосфера в обуховских комнатах была душная. – Ну и меня называйте по имени и отчеству, – совершенно основательно ответил Шариков. – Нет! – загремел в дверях Филипп Филиппович. – По такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно "Шариков", и я, и доктор Борменталь будем называть вас "господин Шариков". – Я не господин, господа все в Париже! – отлаял Шариков. – Швондерова работа! – кричал Филипп Филиппович. – Ну ладно, посчитаюсь я с этим негодяем. Не будет никого, кроме господ, в моей квартире, пока я в ней нахожусь! В противном случае или я, или вы уйдем отсюда и, вернее всего, вы. Сегодня я помещу в газетах объявление и, поверьте, я вам найду комнату. – Ну да, такой я дурак, чтобы съехал отсюда, – очень четко ответил Шариков. – Как? – спросил Филипп Филиппович и до того изменился в лице, что Борменталь подлетел к нему и тревожно взял его за рукав. – Вы, знаете, не нахальничайте, мосье Шариков! – Борменталь очень повысил голос. Шариков отступил, вытащил из кармана три бумаги, зеленую, желтую и белую, и, тыча в них пальцами, заговорил: – Вот. Член жилищного товарищества, и жилплощадь мне полагается определенно в квартире номер пять у ответственного съемщика Преображенского, в шестнадцать квадратных аршин, – Шариков подумал и добавил слово, которое Борменталь машинально отметил в мозгу как новое: – Благоволите. Филипп Филиппович закусил губу и сквозь нее неосторожно вымолвил: – Клянусь, что я этого Швондера в конце концов застрелю. Шариков в высшей степени внимательно и остро принял эти слова, что было видно по его глазам. – Филипп Филиппович, vorsichtig 1...– предостерегающе начал Борменталь. – Ну уж, знаете... Если уж такую подлость!.. – вскричал Филипп Филиппович порусски. – Имейте в виду, Шариков... господин, что я, если вы позволите еще одну наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моем доме. Шестнадцать аршин – это прелестно, но ведь я вас не обязан кормить по этой лягушачьей бумаге? Тут Шариков испугался и приоткрыл рот. – Я без пропитания оставаться не могу, – забормотал он, – где ж я буду харчеваться? – Тогда ведите себя прилично, – в один голос заявили оба эскулапа. Шариков значительно притих и в этот день не причинил никакого вреда никому, за исключением самого себя: пользуясь невольной отлучкой Борменталя, он завладел его 43 бритвой и распорол себе скулу так, что Филипп Филиппович и доктор Борменталь накладывали ему на порез швы, отчего Шариков долго выл, заливаясь слезами. Следующую ночь в кабинете в зеленом полумраке профессора сидели двое – сам Филипп Филиппович и верный, привязанный к нему Борменталь. В доме уже спали. Филипп Филиппович был в своем лазоревом халате и красных туфлях, а Борменталь в рубашке и синих подтяжках. Между врачами на круглом столе, рядом с пухлым альбомом, стояла бутылка коньяку, блюдечко с лимоном и сигарный ящик. Ученые, накурив полную комнату, с жаром обсуждали последнее событие: этим вечером Шариков присвоил в кабинете Филиппа Филипповича два червонца, лежащие под прессом, пропал из квартиры, вернулся поздно и совершенно пьяный. Этого мало. С ним явились две неизвестных личности, шумевших на парадной лестнице и изъявившие желание ночевать в гостях у Шарикова. Удалились означенные личности лишь после того, как Федор, присутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, накинутом сверху белья, позвонил по телефону в сорок пятое отделение милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь только Федор повесил трубку. Неизвестно куда после ухода личностей задевалась малахитовая пепельница с подзеркальника в передней, бобровая шапка Филиппа Филипповича и его же трость, на каковой трости золотою вязью было написано: "Дорогому и уважаемому Филипп Филипповичу благодарные ординаторы в день...", дальше шла римская цифра XХV. – Кто они такие? – наступал Филипп Филиппович, сжимая кулаки, на Шарикова. Тот, шатаясь и прилипая к шубам, бормотал насчет того, что личности ему неизвестны, но что они не сукины сыны какие-нибудь, а хорошие. – Изумительнее всего, что ведь они же оба пьяные, как же они ухитрились? – поражался Филипп Филиппович, глядя на то место в стойке, где некогда помещалась память юбилея. – Специалисты, – пояснил Федор, удаляясь спать с рублем в кармане. От двух червонцев Шариков категорически отперся и при этом выговорил что-то неявственное насчет того, что вот, мол, он не один в квартире. – Ага! Быть может, это доктор Борменталь свистнул червонцы? – осведомился Филипп Филиппович тихим, но страшным по оттенку голосом. Шариков качнулся, открыв совершенно посоловевшие глаза и высказал предположение: – А может быть, Зинка взяла... – Что такое?! – закричала Зина, появившись в дверях как привидение, закрывая на груди расстегнутую кофточку ладонью. – Да как он... Шея Филиппа Филипповича налилась красным цветом. – Спокойно, Зинуша, – молвил он, простирая к ней руку, – не волнуйся, мы все это устроим. Зина немедленно заревела, распустив губы, и ладонь запрыгала у нее на ключице. – Зина, как вам не стыдно! Кто же может подумать? Фу, какой срам, – заговорил Борменталь растерянно. – Ну, Зина, ты – дура, прости господи, – начал Филипп Филиппович. Но тут Зинин плач прекратился сам собой, и все умолкли. Шарикову стало нехорошо. Стукнувшись головой об стену, он издал звук – не то "и", не то "е" – вроде "эээ". Лицо его побледнело, и судорожно задвигалась челюсть. – Ведро ему, негодяю, из смотровой дать! И все забегали, ухаживая за заболевшим Шариковым. Когда его отводили спать, он, пошатываясь, в руках Борменталя, очень нежно и мелодически ругался скверными словами, выговаривая их с трудом. 44 Вся эта история произошла около часу, а теперь было три часа пополуночи, но двое в кабинете бодрствовали, взвинченные коньяком с лимоном. Накурили они до того, что дым двигался густыми, медленными плоскостями, даже не колыхаясь. Доктор Борменталь приподнялся, бледный, с очень решительными глазами, поднял рюмку со стрекозиной тальей. – Филипп Филиппович! – прочувствованно воскликнул он, – я никогда не забуду, как я полуголодным студентом явился к вам, и вы приютили меня при кафедре. Поверьте, Филипп Филиппович, вы для меня гораздо больше, чем профессор-учитель... Мое безмерное уважение к вам... Позвольте вас поцеловать, дорогой Филипп Филиппович... – Да, голубчик мой... – растерянно промычал Филипп Филиппович и поднялся навстречу. Борменталь его обнял и поцеловал в пушистые, сильно прокуренные усы. – Ей-богу, Филипп Фили... – Так растрогали, так растрогали... Спасибо вам, – говорил Филипп Филиппович, – голубчик, я иногда на вас ору на операциях. Уж простите стариковскую вспыльчивость. В сущности, ведь я так одинок... "От Севильи до Гренады..." – Филипп Филиппович, не стыдно ли вам!.. – искренно воскликнул пламенный Борменталь. – Если вы не хотите меня обидеть, не говорите мне больше таким образом. – Ну, спасибо вам... "К берегам священным Нила..." И я вас полюбил как способного врача. – Филипп Филиппович, я вам говорю... – страстно воскликнул Борменталь, сорвался с места, плотнее прикрыл дверь, ведущую в коридор, и, вернувшись, продолжал шепотом: – Ведь это единственный исход. Я не смею вам, конечно, давать советы, но, Филипп Филиппович, посмотрите на себя, вы совершенно замучились, ведь нельзя же больше работать! – Абсолютно невозможно! – вздохнув, подтвердил Филипп Филиппович. – Ну вот, это же немыслимо, – шептал Борменталь, – в прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня, и если бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим тронули. Но ведь я же не мальчик, и сам соображаю, насколько это может получиться ужасная штука. Но по моему глубокому убеждению, другого выхода нет. Филипп Филиппович встал, замахал на него руками и воскликнул: – И не соблазняйте, даже и не говорите, – профессор заходил по комнате, закачав дымные волны, – и слушать не буду. Понимаете, что получится, если нас накроют. Нам ведь с вами на "принимая во внимание происхождение" отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у нас нет подходящего происхождения, мой дорогой? – Какой там черт... Отец был судебным следователем в Вильно, – горестно ответил Борменталь, допивая коньяк. – Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее ее и представить ничего себе нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец – кафедральный протоиерей. Мерси. "От Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей..." Вот, черт ее возьми. – Филипп Филиппович, вы – величина мирового значения, и из-за какого-то, извините за выражение, сукиного сына... Да разве они могут вас тронуть, помилуйте! – Тем более не пойду на это, – задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф. – Да почему? – Потому что вы-то ведь не величина мирового значения? – Где уж... – Ну вот-с. А бросать коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите... Я – московский студент, а не Шариков. 45 Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похож на французского древнего короля. – Филипп Филиппович, эх... – горестно воскликнул Борменталь, – значит, что же? Теперь вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека? Филипп Филиппович жестом руки остановил его, налил себе коньяку, хлебнул, пососал лимон и заговорил: – Иван Арнольдович, как по-вашему, я понимаю что-нибудь в анатомии и физиологии, ну, скажем, человеческого мозгового аппарата? Как ваше мнение? – Филипп Филиппович, что вы спрашиваете? – с большим чувством ответил Борменталь и развел руками. – Ну, хорошо. Без ложной скромности. Я тоже полагаю, что в этом я не самый последний человек в Москве. – А я полагаю, что вы – первый не только в Москве, а и в Лондоне и в Оксфорде! – яростно перебил его Борменталь. – Ну, ладно, пусть будет так. Ну так вот-с, будущий профессор Борменталь: это никому не удастся. Кончено. Можете и не спрашивать. Так и сошлитесь на меня, скажите, Преображенский сказал. Финита. Клим! – вдруг торжественно воскликнул Филипп Филиппович, и шкаф ответил ему звоном, – Клим! – повторил он.– Вот, что, Борменталь, вы первый ученик моей школы и, кроме того, мой друг, как я убедился сегодня. Так вот вам как другу сообщу по секрету, – конечно, я знаю, вы не станете срамить меня, – старый осел Преображенский нарвался на этой операции, как третьекурсник. Правда, открытие получилось, вы сами знаете, какое, – тут Филипп Филиппович горестно указал руками на оконную штору, очевидно намекая на Москву, – но только имейте в виду, Иван Арнольдович, что единственным результатом этого открытия будет то, что все мы теперь будем иметь этого Шарикова вот где, – здесь Преображенский похлопал себя по крутой и склонной к параличу шее, – будьте спокойны-с! Если бы кто-нибудь, – сладострастно продолжал Филипп Филиппович, – разложил меня здесь и выпорол, я бы, клянусь, заплатил червонцев пять... "От Севильи до Гренады..." Черт меня возьми... Ведь я пять лет сидел, выковыривая придатки из мозгов. Вы знаете, какую я работу проделал, уму непостижимо. И вот теперь спрашивается – зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы дыбом встают. – Исключительное что-то... – Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что получается, когда исследователь, вместо того, чтобы идти ощупью и параллельно с природой, форсирует вопрос и приподымает завесу! На, получай Шарикова и ешь его с кашей. – Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы? – Да! – рявкнул Филипп Филиппович. – Да! Если только злосчастная собака не помрет у меня под ножом, а вы видели, какого сорта эта операция. Одним словом, я, Филипп Преображенский ничего труднее не делал в своей жизни. Можно, конечно, привить гипофиз Спинозы или еще какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно высоко стоящего. Но на какого дьявола, спрашивается. Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год, упорно выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар. Теперь вам понятно, доктор, почему я опорочил ваш вывод в истории шариковской болезни. Мое открытие, черти б его съели, с которым вы носитесь, стоит ровно один ломаный грош... Да не спорьте, Иван Арнольдович, я все ведь уже понял. Я же никогда не говорю на ветер, вы это отлично знаете. Теоретически это 46 интересно, ну, ладно. Физиологи будут в восторге... Москва беснуется... Ну, а практически что? Кто теперь перед вами? – Преображенский указал пальцем в сторону смотровой, где ночевал Шариков. – Исключительный прохвост. – Но кто он? Клим, Клим! – крикнул Профессор, – Клим Чугункин! – Борменталь открыл рот. – Вот что-с: две судимости, алкоголизм, "все поделить", шапка и два червонца пропали. – Тут Филипп Филиппович вспомнил юбилейную палку и побагровел. – Хам и свинья... Ну, эту палку я найду. Одним словом, гипофиз – закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. Данное!.. "От Севильи до Гренады..." – свирепо вращая глазами, кричал Филипп Филиппович. – А не общечеловеческое! Это в миниатюре сам мозг! И мне он совершенно не нужен, ну его ко всем свиньям. Я заботился совсем о другом, об евгенике, об улучшении человеческой породы. И вот на омоложении нарвался! Неужели вы думаете, что я из-за денег произвожу их? Ведь я же все-таки ученый... – Вы великий ученый, вот что, – молвил Борменталь, глотая коньяк. Глаза его налились кровью. – Я хотел проделать маленький опыт, после того как два года тому назад впервые получил из гипофиза вытяжку полового гормона. И вместо этого что ж получилось, боже ты мой! Этих гормонов в гипофизе, о господи... Доктор, передо мной тупая безнадежность, я, клянусь, потерялся. Борменталь вдруг засучил рукава и произнес, кося глазами к носу: – Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете, я сам на свой риск покормлю его мышьяком. Черт с ним, что папа судебный следователь. Ведь в конце концов, это ваше собственное экспериментальное существо. Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал: – Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне шестьдесят лет, я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками. – Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его еще обработает этот Швондер, что ж из него получится? Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова! – Ага? Теперь поняли. А я понял через десять дней после операции. Ну так вот, Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него еще более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки. – Еще бы, одни коты чего стоят! Человек с собачьим сердцем. – О, нет, нет, – протяжно ответил Филипп Филиппович, – вы, доктор, делаете крупнейшую ошибку, ради бога, не клевещите на пса. Коты – это временно... Это вопрос дисциплины и двух-трех недель. Уверяю вас. Еще какой-нибудь месяц, и он перестанет на них кидаться. – А почему же теперь? – Иван Арнольдович, это элементарно, что вы, на самом деле, спрашиваете. Да ведь гипофиз не повиснет же в воздухе. Ведь он все-таки привит на собачий мозг, дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьего, и поймите, что коты – это лучшее из всего, что он делает. Сообразите, что весь ужас в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе. До последней степени взвинченный Борменталь сжал сильные худые руки в кулаки, повел плечами, твердо молвил: 47 – Кончено. Я его убью! – Запрещаю это, – категорически ответил Филипп Филиппович. – Да помилуйте... Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял палец. – Погодите-ка... Мне шаги послышались. Оба прислушались, но в коридоре было тихо. – Показалось, – молвил Филипп Филиппович и с жаром заговорил по-немецки. В его словах несколько раз звучало русское слово "уголовщина". – Минуточку, – вдруг насторожился Борменталь и шагнул к двери. Шаги послышались явственно и приблизились к кабинету. Кроме того, бубнил голос. Борменталь распахнул дверь и отпрянул в изумлении. Совершенно пораженный Филипп Филиппович застыл в кресле. В освещенном четырехугольнике коридора предстала в одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и пылающим лицом. И врача и профессора ослепило обилие мощного и, как от страху показалось обоим, совершенно голого тела. В могучих руках Дарья Петровна волокла что-то, и это "что-то", упираясь, садилось на зад, и небольшие его ноги, крытые черным пухом, заплетались по паркету. "Что-то", конечно, оказалось Шариковым, совершенно потерянным, все еще пьяненьким, разлохмаченным и в одной рубашке. Дарья Петровна, грандиозная и нагая, тряхнула Шарикова, как мешок с картофелем, и произнесла такие слова: – Полюбуйтесь, господин профессор, на нашего визитера Телеграфа Телеграфовича. Я замужем была, а Зина – невинная девушка. Хорошо, что я проснулась. Окончив эту речь, Дарья Петровна впала в состояние стыда, вскрикнув, закрыла грудь руками и унеслась. – Дарья Петровна, извините, ради бога, – опомнившись, крикнул ей вслед красный Филипп Филиппович. Борменталь повыше засучил рукава рубашки и двинулся у Шарикову. Филипп Филиппович, заглянув ему в глаза, ужаснулся. – Что вы, доктор! Я запрещаю... Борменталь правой рукой взял Шарикова за шиворот и тряхнул его так, что полотно сзади на сорочке треснуло, а спереди с горла отскочила пуговка. Филипп Филиппович бросился наперерез и стал выдирать щуплого Шарикова из цепких хирургических рук. – Вы не имеете права биться! – полузадушенный, кричал Шариков, садясь наземь и трезвея. – Доктор! – вопил Филипп Филиппович. Борменталь несколько пришел в себя и выпустил Шарикова, после чего тот сейчас же захныкал. – Ну, ладно, – прошипел Борменталь, – подождем до утра. Я ему устрою бенефис, когда он отрезвится. Тут он ухватил Шарикова под мышки и поволок его в приемную спать. При этом Шариков сделал попытку брыкаться, но ноги его не слушались. Филипп Филиппович растопырил ноги, отчего лазоревые полы разошлись, возвел руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил: – Ну-ну... 1 Осторожно (нем.) 48 9 Бенефис Шарикова, обещанный доктором Борменталем, не состоялся, однако, на следующее утро по той причине, что Полиграф Полиграфович исчез из дома. Борменталь пришел в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно? и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил: – Воображаю, что будет твориться на улице... Вообража-а-ю. "От Севильи до Гренады..." Боже мой. – Он в домкоме еще может быть, – бесновался Борменталь и куда-то бегал. В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более, что этот питомец Полиграф не далее как вчера, оказался прохвостом, взяв в профкоме якобы на покупку учебников в кооперативе, семь рублей. Федор, заработавший на этом деле три рубля, обыскал весь дом сверху донизу. Нигде никаких следов Шарикова не было. Выяснилось только одно, что Полиграф отбыл на рассвете в кепке, шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой в буфете, перчатки доктора Борменталя и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили свою бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернется. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне три рубля пятьдесят. – Так вам и надо! – рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон, звенел телефон на другой день, врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскивать Шарикова в московском омуте. И только было произнесено слово "милиция", как благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай грузовика и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок, и Полиграф Полиграфович вошел с необычайным достоинством, в полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нем была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потертые штаны и английские высокие сапожки на шнуровке до колен. Неимоверный запах котов тотчас расплылся по всей передней. Преображенский и Борменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали у притолоки и ожидали первых сообщений от Полиграфа Полиграфовича. Тот пригладил жесткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было: смущение Полиграф желает скрыть при помощи развязности. – Я, Филипп Филиппович, – начал он наконец говорить, – на должность поступил. Оба врача издали неопределенный сохой звук горлом и шевельнулись. Преображенский опомнился первым, руку протянул и молвил: – Бумагу дайте. Было напечатано: "Предъявитель сего товарищ Полиграф Полиграфович Шариков действительно состоит заведующим подотделом очистки г. Москвы от бродячих животных (котов и прочее) в отделе МКХ". – Так, – тяжело молвил Филипп Филиппович, – кто же вас устроил? Ах, впрочем, я сам догадываюсь. – Ну да, Швондер, – ответил Шариков. – Позвольте-с вас спросить, почему так отвратительно пахнет? Шариков понюхал куртку озабоченно. – Ну, что ж, пахнет... известно: по специальности. Вчера котов душили, душили. 49 Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Борменталя. Глаза у того напоминали два черных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку. – Караул! – пискнул Шариков, бледнея. – Доктор! – Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович, не беспокойтесь, – железным голосом отозвался Борменталь и завопил: – Зина и Дарья Петровна! Те появились в передней. – Ну, повторяйте, – сказал Борменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе, – извините меня... – Ну хорошо, повторяю, – сиплым голосом ответил совершенно пораженный Шариков, вдруг набрал воздуху, дернулся и попытался крикнуть "караул", но крик не вышел, и голова его совсем погрузилась в шубу. – Доктор, умоляю вас. Шариков закивал головой, давая понять, что он покоряется и будет повторять. – ...Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида... – Прокофьевна, – шепнула испуганно Зина. – Уф, Прокофьевна... – говорил, перехватывая воздуху, охрипший Шариков. – ...что я позволил себе... – ...позволил... – ...себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения... – ...опьянения... – Никогда больше не буду... – Не бу... – Пустите, пустите его, Иван Арнольдович, – взмолились одновременно обе женщины, – вы его задавите! Борменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал: – Грузовик вас ждет? – Нет, – почтительно ответил Полиграф, – он только меня привез. – Зина, отпустите машину. Теперь имейте ввиду следующее: вы опять вернулись в квартиру Филипп Филипповича? – Куда же мне еще! – робко ответил Шариков, блуждая глазами. – Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мною дело. Понятно? – Понятно, – ответил Шариков. Филипп Филиппович во все время насилия над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съежился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил, глухо и автоматически: – Что же вы делаете с этими... с убитыми котами? – На польты пойдут, – ответил Шариков, – из них белок будут делать на рабочий кредит. Засим в квартире настала тишина и продолжалась двое суток. Полиграф Полиграфович утром уезжал на гремящем грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Борменталя. Несмотря на то что Борменталь и Шариков спали в одной комнате – приемной, они не разговаривали друг с другом, так что Борменталь соскучился первым. Дня через два в квартире появилась худенькая с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великолепия квартиры. В вытертом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором. 50 Тот, оторопелый, остановился, прищурился и спросил: – Позвольте узнать?.. – Я с ней расписываюсь, это наша машинистка, жить со мной будет. Борменталя надо будет выселить из приемной, у него своя квартира есть, – крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков. Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил ее. – Я вас попрошу на минуточку ко мне в кабинет. – И я с ней пойду, – быстро и подозрительно молвил Шариков. И тут моментально вынырнул как из-под земли решительный Борменталь. – Извините, – сказал он, – профессор побеседует с дамой, а уж мы с вами побудем здесь. – Я не хочу, – злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от стыда барышней и Филиппом Филипповичем. – Нет, простите, – Борменталь взял Шарикова за кисть руки, и они пошли в смотровую. Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни. Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек. – Он сказал, негодяй, что ранен в боях, рыдала барышня. – Лжет, – непреклонно отвечал Филипп Филиппович, – он покачал головой и продолжал: – Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения... Детка, ведь это безобразие. Вот что... Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца. – Я отравлюсь, – плакала барышня, – в столовке солонина каждый день... и угрожает, говорит, что он красный командир... со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире... каждый день ананасы... психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу... Он у меня кольцо на память взял... – Ну, ну, ну, ну, психика добрая, "От Севильи до Гренады...", – бормотал Филипп Филиппович, – нужно перетерпеть – вы еще так молоды... – Неужели в этой самой подворотне? – Берите деньги, когда дают взаймы, – рявкнул Филипп Филиппович. Затем торжественно распахнулись двери, и Борменталь по приглашению Филиппа Филипповича ввел Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щетка. – Подлец, – выговорила барышня, сверкая заплаканными размазанными глазами и полосатым напудренным носом. – Отчего у вас шрам на лбу, потрудитесь объяснить этой даме, – вкрадчиво спросил Филипп Филиппович. Шариков сыграл ва-банк: – Я на колчаковских фронтах ранен, – пролаял он. Барышня встала и с громким плачем вышла. – Перестаньте! – крикнул Филипп Филиппович. – Погодите! Колечко позвольте, – сказал он, обращаясь к Шарикову. Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом. – Ну, ладно, – вдруг злобно сказал он, – попомнишь ты у меня. Завтра я тебе устрою сокращение штатов. 51 – Не бойтесь его, – крикнул вслед Борменталь, – я ему не позволю ничего сделать. – Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком о шкаф. – Как ее фамилия? – спросил у него Борменталь. – Фамилия!!! – заревел он вдруг и стал дик и страшен. – Васнецова, – ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть. – Ежедневно, – взявшись за лацкан шариковской куртки, выговорил Борменталь, – сам лично буду справляться в очистке, не сократили ли гражданку Васнецову. И если только вы... узнаю, что сократили, я вас... собственными руками здесь же пристрелю! Берегитесь, Шариков, говорю русским языком! Шариков, не отрываясь, смотрел на борменталевский нос. – У самих револьверы найдутся... – пробормотал Полиграф, но очень вяло, и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь. – Берегись! – донесся ему вдогонку борменталевский крик. Ночь и половину следующего дня в квартире висела туча, как перед грозой. Но все молчали. И вот на следующий день, когда Полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уехал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щелкнул каблуками. – У вас боли, голубчик, возобновились? – спросил его осунувшийся Филипп Филиппович. – Садитесь, пожалуйста. – Мерси. Нет, профессор, – ответил гость, ставя шлем на угол стола, – я вам очень признателен. Гм... Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович... Питая большое уважение... гм... Предупредить. Явная ерунда. Просто он прохвост... – Пациент полез в портфель и вынул бумагу. – Хорошо, что мне непосредственно доложили... Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду. "... а также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Борменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно не прописанный проживает в его квартире. Подпись заведующего подотделом очистки П. П. Шарикова удостоверяю. Председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин". – Вы позволите мне это оставить у себя? – спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами. – Или, виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу? – Извините, профессор, – очень обиделся пациент и раздул ноздри, – вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я... – И тут он стал надуваться, как индейский петух. – Ну извините, извините, голубчик, – забормотал Филипп Филиппович, – простите, я, право, не хотел вас обидеть. – Мы умеем читать бумаги, Филипп Филиппович! – Голубчик, не сердитесь, меня он так задергал... – Я думаю, – совершенно отошел пациент, – но какая все-таки дрянь! Любопытно было бы взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают. Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто поседел за последнее время. 52 Преступление созрело и упало, как камень, как это обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике Полиграф Полиграфович. Голос Филиппа Филипповича пригласил его в смотровую. Удивленный Шариков пришел и с неясным страхом заглянул в дуло на лице Борменталя, а затем и Филиппа Филиппович. Туча ходила вокруг ассистента, и левая рука его с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла. Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал: – Сейчас заберите вещи – брюки, пальто, все, что вам нужно, – и вон из квартиры. – Как это так? – искренне удивился Шариков. – Вон из квартиры сегодня, – монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти. Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича, очевидно, гибель уже караулила его, и рок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гаркнул злобно и отрывисто: – Да что такое, в самом деле? Что я, управы, что ли, не найду на вас? Я на шестнадцати аршинах здесь сижу и буду сидеть. – Убирайтесь из квартиры, – задушенно шепнул Филипп Филиппович. Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филипп Филипповичу обкусанный, с нестерпимым собачьим запахом шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Борменталя из кармана вынул револьвер. Папироса Борменталя упала падучей звездой, а через несколько секунд прыгающий по битым стеклам Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней распростертый и хрипящий, лежал заведующий подотделом очистки, а на груди у него помещался хирург Борменталь и душил его беленькой малой подушкой. Через несколько минут доктор Борменталь не со своим лицом прошел на парадный ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку: "Сегодня приема по случаю болезни профессора нет. Просят не беспокоить звонками". Блестящим перочинным ножичком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел исцарапанное в кровь свое лицо и изодранные, мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и настороженным Зине и Дарье Петровне сказал: – Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры. – Хорошо, – робко ответили Зина и Дарья Петровна. – Позвольте мне дверь запереть на черный ход и забрать ключ, – заговорил Борменталь, прячась за дверь в стене и прикрывая ладонью лицо. – Это временно, не из недоверия к вам. Но кто-нибудь придет, а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать, мы заняты. – Хорошо, – ответили женщины и сейчас же стали бледными. Борменталь запер черный ход, забрал ключ, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю, и шаги его пропали у смотровой. Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки, скверные, настороженные, одним словом, мрак. Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в этот вечер горели у Преображенского все огни и даже будто бы они видели белый колпак самого профессора... Проверить это трудно. Правда, и Зина, когда уже все кончилось, болтала, что в кабинете у камина, после того, как Борменталь и профессор вышли из смотровой, ее до смерти напугал Иван Арнольдович. Якобы он сидел в кабинете на корточках и жег в камине собственноручно тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов. Лицо будто 53 бы у доктора было совершенно зеленое и все, ну, все... вдребезги исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож. И еще, что... Впрочем, может быть, невинная девушка из пречистенской квартиры и врет... За одно можно поручиться. В квартире в тот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина. Эпилог Ночь в ночь через десять дней после сражения в смотровой в квартире профессора Преображенского, что в Обуховском переулке, ударил резкий звонок. Зину смертельно напугали голоса за дверью: – Уголовная милиция и следователь. Благоволите открыть. Забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкающей от огней приемной с заново застекленными шкафами оказалась масса народу. Двое в милицейской форме, один в черном пальто, с портфелем, злорадный и бледный председатель Швондер, юношаженщина, швейцар Федор, Зина, Дарья Петровна и полуодетый Борменталь, стыдливо прикрывающий горло без галстуха. Дверь из кабинета пропустила Филиппа Филипповича. Он вышел в известном всем лазоревом халате, и тут же все могли убедиться сразу, что Филипп Филиппович очень поправился в последнюю неделю. Прежний властный и энергичный Филипп Филиппович, полный достоинства, предстал перед ночными гостями и извинился, что он в халате. – Не стесняйтесь, профессор, – очень смущенно отозвался человек в штатском, затем он замялся и заговорил: – Очень неприятно. У нас есть ордер на обыск в вашей квартире и, – человек покосился на усы Филиппа Филипповича и докончил, – и арест в зависимости от результатов. Филипп Филиппович прищурился и спросил: – А по какому обвинению, смею спросить, и кого? Человек почесал щеку и стал вычитывать по бумажке из портфеля: – По обвинению Преображенского, Борменталя, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего подотделом очистки МКХ Полиграфа Полиграфовича Шарикова. Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло движение. – Ничего не понимаю, – ответил Филипп Филиппович, королевски вздергивая плечи, – какого такого Шарикова? Ах, виноват, этого моего пса... которого я оперировал? – Простите, профессор, не пса, а когда уже он был человеком. Вот в чем дело. – То есть он говорил? – спросил Филипп Филиппович. – Это еще не значит быть человеком. Впрочем, это не важно. Шарик и сейчас существует, и никто его решительно не убивал. – Профессор, – очень удивленно заговорил черный человек и поднял брови, – тогда его придется предъявить. Десятый день, как пропал, а данные, извините меня, очень нехорошие. – Доктор Борменталь, благоволите предъявить Шарика следователю, – приказал Филипп Филиппович, овладевая ордером. Доктор Борменталь, криво улыбнувшись, вышел. Когда он вернулся и посвистел, за ним из двери кабинета выскочил пес странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нем отрастала шерсть. Вышел он, как ученый циркач, на задних лапах, потом опустился на все четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в приемной, как желе. Кошмарного вида пес с багровым шрамом на лбу вновь поднялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло. 54 Второй милиционер вдруг перекрестился размашистым крестом и, отступив, сразу отдавил Зине обе ноги. Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое: – Как же, позвольте?.. Он же служил в очистке... – Я его туда не назначал, – ответил Филипп Филиппович, – ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь. – Я ничего не понимаю, – растерянно сказал черный и обратился к первому милицейскому. – Это он? – Он, – беззвучно ответил милицейский. – Форменно он. – Он самый, – послышался голос Федора, – только, сволочь, опять оброс. – Он же говорил... кхе... кхе... – И сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет. – Но почему же? – тихо осведомился черный человек. Филипп Филиппович пожал плечами. – Наука еще не знает способа обращать в людей зверей. Вот я и попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм. – Неприличными словами не выражаться! – вдруг гаркнул пес с кресла и встал. Черный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок, милицейский подхватил его сбоку, а Федор сзади. Произошла суматоха и в ней отчетливее всего были слышны три фразы. Филиппа Филипповича: "Валерианки. Это обморок". Доктора Борменталя: "Швондера я собственноручно сброшу с лестницы, если он еще раз появится в квартире профессора Преображенского". И Швондера: "Прошу занести эти слова в протокол". Серые гармонии труб горели. Шторы скрыли густую пречистенскую ночь с ее одинокою звездою. Высшее существо, важный песий благотворитель сидел в кресле, а пес Шарик, привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана. От мартовского тумана пес по утрам страдал головными болями, которые мучили его кольцом по головному шву. Но от тепла к вечеру они проходили. И сейчас легчало, легчало, и мысли в голове пса текли складные и теплые. "Так свезло мне, так свезло. – думал он, задремывая, – просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушке. Утвердился. Правда, голову всю исполосовали зачем-то, но это заживет до свадьбы. Нам на это нечего смотреть". В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой. Седой же волшебник сидел и напевал: – "К берегам священным Нила..." Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги. Упорный человек, настойчивый, все чего-то добивался в них, резал рассматривал, щурился и пел: – "К берегам священным Нила..." Январь – март 1925 года Москва 55 Евгений Замятин. Пещера Ледники, мамонты, пустыни. Ночные, черные, чем-то похожие на дома, скалы; в скалах пещеры. И неизвестно, кто трубит ночью на каменной тропинке между скал и, вынюхивая тропинку, раздувает белую снежную пыль; может, серохоботый мамонт; может быть, ветер; а может быть – ветер и есть ледяной рев какого-то мамонтейшего мамонта. Одно ясно: зима. И надо покрепче стиснуть зубы, чтобы не стучали; и надо щепать дерево каменным топором; и надо всякую ночь переносить свой костер из пещеры в пещеру, все глубже, и надо все больше навертывать на себя косматых звериных шкур. Между скал, где века назад был Петербург, ночами бродил серохоботый мамонт. И, завернутые в шкуры, в пальто, в одеяла, в лохмотья, – пещерные люди отступали из пещеры в пещеру. На покров Мартин Мартиныч и Маша заколотили кабинет; на казанскую выбрались из столовой и забились в спальне. Дальше отступать было некуда; тут надо было выдержать осаду – или умереть. В пещерной петербургской спальне было так же, как недавно в Ноевом ковчеге: потопно перепутанные чистые и нечистые твари. Красного дерева письменный стол; книги; каменновековые, гончарного вида лепешки; Скрябин опус 74; утюг; пять любовно, добела вымытых картошек; никелированные решетки кроватей; топор; шифоньер; дрова. И в центре всей это вселенной – бог, коротконогий, ржаво-рыжий, приземистый, жадный пещерный бог: чугунная печка. Бог могуче гудел. В темной пещере – великое огненное чудо. Люди – Мартин Мартиныч и Маша – благоговейно, молча благодарно простирали к нему руки. На один час – в пещере весна; на один час – скидывались звериные шкуры, когти, клыки, и сквозь обледеневшую мозговую корку пробивались зеленые стебельки – мысли. – Март, а ты забыл, что ведь завтра... Ну, уж я вижу: забыл! В октябре, когда листья уже пожолкли, пожухли, сникли – бывают синеглазые дни; запрокинуть голову в такой день, чтобы не видеть земли, – и можно поверить: еще радость, еще лето. Так и с Машей: если вот закрыть глаза и только слушать ее – можно поверить, что она прежняя, и сейчас засмеется, встанет с постели, обнимет, и час тому назад ножом по стеклу – это не ее голос, совсем не она... – Ай, Март, Март! Как все... Раньше ты не забывал. Двадцать девятое: Марии, мой праздник... Чугунный бог еще гудел. Света, как всегда, не было: будет только в десять. Колыхались лохматые, темные своды пещеры. Мартин Мартиныч – на корточках, узлом – туже! еще туже! – запрокинув голову, все еще смотрит в октябрьское небо, чтобы не увидеть пожолклые, сникшие губы. А Маша: – Понимаешь, Март, – если бы завтра затопить с самого утра, чтобы весь день было как сейчас! А? Ну, сколько у нас? Ну с полсажени еще есть в кабинете? До полярного кабинета Маша давным-давно не могла добраться и не знала, что там уже... Туже узел, еще туже! – Полсажени? Больше! Я думаю, там... Вдруг – свет: ровно десять. И, не кончив, зажмурился Мартин Мартиныч, отвернулся: при свете – труднее, чем в темноте. И при свете ясно видно: лицо у него скомканное, глиняное, теперь у многих глиняные лица – назад к Адаму! А Маша: – И знаешь, Март, я бы попробовала – может, я встану... если ты затопишь с утра. – Ну, Маша, конечно же... Такой день... Ну, конечно – с утра. 56 Пещерный бог затихал, съеживался, затих, чуть потрескивает. Слышно: внизу, у Обертышевых, каменным топором щепают коряги от барки – каменным топором колют Мартина Мартиныча на куски. Кусок Мартина Мартиныча глиняно улыбался Маше и молол на кофейной мельнице сушеную картофельную шелуху для лепешек – и кусок Мартина Мартиныча, как с воли залетевшая в комнату птица, бестолково, слепо тукался в погодок, в стекла, в стены: "Где бы дров – где бы дров – где бы дров". Мартин Мартиныч надел пальто, сверху подпоясался кожаным поясом (у пещерных людей миф, что от этого теплее), в углу у шифоньера громыхнул ведром. – Ты куда, Март? – Я сейчас. За водой вниз. На темной, обледенелой от водяных сплесков лестнице постоял Мартин Мартиныч, покачался, вздохнул и, кандально позвякивая ведеркой, спустился вниз, к Обертышевым; у них еще шла вода. Дверь открыл сам Обертышев, в перетянутом веревкой пальто, давно не бритый, лицо – заросший каким-то рыжим, насквозь пропыленным бурьяном пустырь. Сквозь бурьян – желтые каменные зубы, и между камней – мгновенный ящеричный хвостик – улыбка. – А, Мартин Мартиныч! Что, за водичкой? Пожалуйте, пожалуйте, пожалуйте. В узенькой клетке между наружной и внутренней дверью с ведром не повернуться – в клетке обертышевские дрова. Глиняный Мартин Мартиныч боком больно стукался о дрова – в глине глубокая вмятина. И еще глубже: в темном коридоре об угол комода. Через столовую. В столовой – обертышевская самка и трое обертышат; самка торопливо спрятала под салфеткой миску: пришел человек из другой пещеры – и бог знает, вдруг кинется, схватит. В кухне, отвернув кран, каменнозубо улыбался Обертышев: – Ну что же: как жена? Как жена? Как жена? – Да что, Алексей Иваныч, все то же. Плохо. И вот завтра – именины, а у меня топить нечем. – А вы, Мартин Мартиныч, стульчиками, шкафчиками... Книги тоже: книги отлично горят, отлично, отлично... – Да ведь вы же знаете: там вся мебель, все – чужое, один только рояль... – Так, так, так... Прискорбно, прискорбно! Слышно в кухне: вспархивает, шуршит крыльями залетевшая птица, вправо, влево – и вдруг отчаянно, с маху в стену всей грудью: – Алексей Иваныч, я хотел... Алексей Иваныч, нельзя ли у вас хоть пять-шесть полен... Желтые каменные зубы сквозь бурьян, желтые зубы – из глаз, весь Обертышев обрастал зубами, все длиннее зубы. – Что вы, Мартин Мартиныч, что вы, что вы! У нас у самих... Сами знаете, как теперь все, сами знаете, сами знаете... Туже узел! Туже – еще туже! Закрутил себя Мартин Мартиныч, поднял ведро – и через кухню, через темный коридор, через столовую. На пороге столовой Обертышев сунул мгновенную, ящерично-юркую руку: – Ну, всего... Только дверь, Мартин Мартиныч, не забудьте прихлопнуть, не забудьте. Обе двери, обе, обе – не натопишься! На темной обледенелой площадке Мартин Мартиныч поставил ведро, обернулся, плотно прихлопнул первую дверь. Прислушался, услыхал только сухую костяную дрожь в себе и свое трясущееся – пунктирное, точечками – дыхание. В узенькой клетке между двух дверей протянул руку, нащупал – полено, и еще, и еще... Нет! Скорей выпихнул себя 57 на площадку, притворил дверь. Теперь надо только прихлопнуть поплотнее, чтобы щелкнул замок... И вот – нет силы. Нет силы прихлопнуть Машино завтра. И на черте, отмеченной чуть приметным пунктирным дыханием, схватились насмерть два Мартин Мартиныча: тот, давний, со Скрябиным, какой знал: нельзя – и новый, пещерный, какой знал: нужно. Пещерный, скрипя зубами, подмял, придушил – и Мартин Мартиныч, ломая ногти, открыл дверь, запустил руку в дрова... полено, четвертое, пятое, под пальто, за пояс, в ведро – хлопнул дверью и вверх – огромными, звериными скачками. Посередине лестницы, на какой-то обледенелей ступеньке – вдруг пристыл, вжался в стену: внизу снова щелкнула дверь – и пропыленный обертышевский голос: – Кто там? Кто там? Кто там? – Это я, Алексей Иваныч. Я... я дверь забыл... Я хотел... Я вернулся – дверь поплотнее... – Вы? Гм... Как же это вы так? Надо аккуратнее, надо аккуратнее. Теперь все крадут, сами знаете, сами знаете. Как же это вы так? Двадцать девятое. С утра – низкое, дырявое, ватное небо, и сквозь дыры несет льдом. Но пещерный бог набил брюхо с самого утра, милостиво загудел – и пусть там дыры, пусть обросший зубами Обертышев считает поленья – пусть, все равно: только бы сегодня; "завтра" – непонятно в пещере; только через века будут знать "завтра", "послезавтра". Маша встала и, покачиваясь от невидимого ветра, причесалась постарому: на уши, посередине пробор. И это было – как последний, болтающийся на голом дереве, жухлый лист. Из среднего ящика письменного стола Мартин Мартиныч вытащил бумаги, письма, термометр, какой-то синий флакончик (торопливо сунул его обратно – чтобы не видела Маша) – и, наконец, из самого дальнего угла черную лакированную коробочку: там, на дне, был еще настоящий – да, да, самый настоящий чай! Пили настоящий чай. Мартин Мартиныч, запрокинув голову, слушал такой похожий на прежний голос: – Март, а помнишь: моя синенькая комната, и пианино в чехле, и на пианино – деревянный конек – пепельница, и я играла, а ты подошел сзади... Да, в тот вечер была сотворена вселенная, и удивительная, мудрая морда луны, и соловьиная трель звонков в коридоре. – А помнишь, Март: открыто окно, зеленое небо – и снизу, из другого мира – шарманщик? Шарманщик, чудесный шарманщик – где ты? – А на набережной... Помнишь? Ветки еще голые, вода румяная, и мимо плывет синяя льдина, похожая на гроб. И только смешно от гроба, потому что ведь мы – никогда не умрем. Помнишь? Внизу начали колоть каменным топором. Вдруг перестали, какая-то беготня, крик. И, расколотый надвое, Мартин Мартиныч одной половиной видел бессмертного шарманщика, бессмертного деревянного конька, бессмертную льдину, а другой – пунктирно дыша – пересчитывал вместе с Обертышевым поленья дров. Вот уж Обертышев сосчитал, вот надевает пальто, весь обросший зубами, – свирепо хлопает дверью, и... – Погоди, Маша, кажется – у нас стучат. Нет. Никого. Пока еще никого. Еще можно дышать, еще можно запрокинуть голову, слушать голос – такой похожий на тот, прежний. Сумерки. Двадцать девятое октября состарилось. Пристальные, мутные, старушечьи глаза – и все ежится, сморщивается, горбится под пристальным взглядом. Оседает 58 сводами потолок, приплюснулись кресла, письменный стол, Мартин Мартиныч, кровати, и на кровати – совсем плоская, бумажная Маша. В сумерках пришел Селихов, домовый председатель. Когда-то он был шестипудовый – теперь уже вытек наполовину, болтался в пиджачной скорлупе, как орех в погремушке. Но еще по-старому погромыхивал смехом. – Ну-с, Мартин Мартиныч, во-первых-во-вторых, супругу вашу – с тезоименитством. Как же, как же! Мне Обертышев говорил... Мартина Мартиныча выстрелило из кресла, понесся, заторопился – говорить, чтонибудь говорить... – Чаю... я сейчас – я сию минуту... У нас сегодня – настоящий. Понимаете: настоящий! Я его только что... – Чаю? Я, знаете ли, предпочел бы шампанского. Нету? Да что вы! Гра-гра-гра! А мы, знаете, с приятелем третьего дня из гофманских гнали спирт. Потеха! Налакался... "Я, – говорит, – Зиновьев: на колени!" Потеха! А оттуда домой иду – на Марсовом поле навстречу мне человек в одном жилете, ей-богу! "Что это вы?" – говорю. "Да ничего, – говорит... – Вот раздели сейчас, домой бегу на Васильевский". Потеха! Приплюснутая, бумажная, смеялась на кровати Маша. Всего себя завязав в тугой узел, все громче смеялся Мартин Мартиныч – чтобы подбросить в Селихова дров, чтобы он только не перестал, чтобы только не перестал, чтобы о чем-нибудь еще... Селихов переставал, чуть пофыркивая, затих. В пиджачной скорлупе болтнулся вправо и влево; встал. – Ну-с, именинница, ручку. Чик! Как, вы не знаете? По-ихнему честь имею кланяться – ч.и.к. Потеха! Громыхал в коридоре, в передней. Последняя секунда – сейчас уйдет, или – ... Пол чуть-чуть покачивался, покруживался у Мартина Мартиныча под ногами. Глиняно улыбаясь, Мартин Мартиныч придерживался за косяк. Селихов пыхтел, заколачивая ноги в огромные боты. В ботах, в шубе, мамонтоподобный – выпрямился, отдышался. Потом молча взял Мартин Мартиныча под руку, молча открыл дверь в полярный кабинет, молча сел на диван. Пол в кабинете – льдина; льдина чуть слышно треснула, оторвалась от берега – и понесла, понесла, закружила Мартина Мартиныча, и оттуда – с диванного, далекого берега – Селихова еле слыхать. – Во-первых-во-вторых, сударь мой, должен вам сказать: я бы этого Обертышева, как гниду, ей-богу... Но сами понимаете: раз он официально заявляет, раз говорит – завтра пойду в уголовное... Этакая гнида! Я вам одно могу посоветовать: сегодня же, сейчас же к нему – и заткните ему глотку этими самыми поленьями. Льдина – все быстрее. Крошечный, сплюснутый, чуть видный – так, щепочка – Мартин Мартиныч ответил – себе, и не о поленьях... поленья – что! – нет, о другом: – Хорошо. Сегодня же. Сейчас же. – Ну вот и отлично, вот и отлично! Это – такая гнида, такая гнида, я вам скажу... В пещере еще темно. Глиняный, холодный, слепой – Мартин Мартиныч тупо натыкался на потопно перепутанные в пещере предметы. Вздрогнул: голос, похожий на Машин, на прежний... – О чем вы там с Селиховым? Что? Карточки? А я, Март, все лежала и думала: собраться бы с духом – и куда-нибудь, чтоб солнце... Ах, как ты гремишь! Ну как нарочно. Ведь ты же знаешь – я не могу, я не могу, я не могу! Ножом по стеклу. Впрочем – теперь все равно. Механические руки и ноги. Поднимать и опускать их – нужно какими-то цепями, лебедкой, как корабельные стрелы, 59 и вертеть лебедку – одного человека мало: надо троих. Через силу натягивая цепи, Мартин Мартиныч поставил разогреваться чайник, кастрюльку, подбросил последние обертышевские поленья. – Ты слышишь, что я тебе говорю? Что ж ты молчишь? Ты слышишь? Это, конечно, не Маша, нет, не ее голос. Все медленней двигался Мартин Мартиныч, ноги увязали в зыбучем песке, все тяжелее вертеть лебедку. Вдруг цепь сорвалась с какого-то блока, стрела-рука – ухнула вниз, нелепо задела чайник, кастрюльку – загремело на пол, пещерный бог змеино шипел. И оттуда, с далекого берега, с кровати – чужой, пронзительный голос: – Ты нарочно! Уходи! Сейчас же! И никого мне – ничего, ничего не надо, не надо! Уходи! Двадцать девятое октября умерло, и умер бессмертный шарманщик, и льдины на румяной от заката воде, и Маша. И это хорошо. И нужно, чтоб не было невероятного завтра, и Обертышева, и Селихова, и Маши, и его – Мартина Мартиныча, чтоб умерло все. Механический, далекий Мартин Мартиныч еще делал что-то. Может быть, снова разжигал печку, и подбирал с полу кастрюльку, и кипятил чайник, и, может быть, чтонибудь говорила Маша – не слышал: только тупо ноющие вмятины на глине от каких-то слов, и от углов шифоньера, стульев, письменного стола. Мартин Мартиныч медленно вытаскивал из письменного стола связки писем, термометр, сургуч, коробочку с чаем, снова – письма. И наконец, откуда-то, с самого со дна, темно-синий флакончик. Десять: дали свет. Голый, жесткий, простой, холодный – как пещерная жизнь и смерть – электрический свет. И такой простой – рядом с утюгом, 74-м опусом, лепешками – синий флакончик. Чугунный бог милостиво загудел, пожирая пергаментно-желтую, голубоватую, белую бумагу писем. Тихонько напомнил о себе чайник, постучал крышкой. Маша обернулась: – Скипел чай? Март, милый, дай мне -... Увидела. Секунда, насквозь пронизанная ясным, голым, жестоким электрическим светом: скорченный перед печкой Мартин Мартиныч; на письмах – румяный, как вода на закате, отблеск; и там – синий флакончик. – Март! Ты... ты хочешь... Тихо пожирая бессмертные, горькие, нежные, желтые, белые, голубые слова – тихонько мурлыкал чугунный бог. И Маша – так же просто, как просила чаю: – Март, милый! Март – дай это мне! Мартин Мартиныч улыбнулся издалека: – Но ведь ты же знаешь. Маша: там – только на одного. – Март, ведь меня все равно уже нет. Ведь это уже не я – ведь все равно я скоро... Март, ты же понимаешь – Март, пожалей меня... Март! Ах, тот самый – тот самый голос... И если запрокинуть голову вверх... – Я, Маша, тебя обманул: у нас в кабинете – ни полена. И я пошел к Обертышеву, и там между дверей... Я украл – понимаешь? И Селихов мне... Я должен сейчас отнести назад – а я все сжег – я все сжег – все! Я не о поленьях, поленья – что! – ты же понимаешь? Равнодушно задремывает чугунный бог. Потухая, чуть вздрагивают своды пещеры, и чуть вздрагивают дома, скалы, мамонты, Маша. – Март, если ты меня еще любишь... Ну, Март, ну вспомни! Март, милый, дай мне! Бессмертный деревянный конек, шарманщик, льдина. И этот голос... Мартин Мартиныч медленно встал с колен. Медленно, с трудом ворочая лебедку, взял со стола синий флакончик и подал Маше. 60 Она сбросила одеяло, села на постели, румяная, быстрая, бессмертная – как тогда вода на закате, схватила флакончик, засмеялась. – Ну вот видишь: недаром я лежала и думала – уехать отсюда. Зажги еще лампу – ту, на столе. Так. Теперь еще что-нибудь в печку – я хочу, чтобы огонь... Мартин Мартиныч, не глядя, выгреб какие-то бумаги из стола, кинул в печь. – Теперь... Иди погуляй немного. Там, кажется, луна – моя луна: помнишь? Не забудь – возьми ключ, а то захлопнешь, а открыть – ... Нет, там луны не было. Низкие, темные глухие облака – своды – и все – одна огромная, тихая пещера. Узкие, бесконечные проходы между стен; и похожие на дома темные, обледенелые скалы; и в скалах – глубокие, багрово-освещенные дыры: там, в дырах, возле огня -на корточках люди. Легкий ледяной сквознячок сдувает из-под ног белую пыль, и никому не слышная – по белой пыли, по глыбам, по пещерам, по людям на корточках – огромная, ровная поступь какого-то мамонтейшего мамонта. 61 Борис Пильняк. Повесть непогашенной луны ПРЕДИСЛОВИЕ Фабула этого рассказа наталкивает на мысль, что поводом к написанию его и материалом послужила смерть М. Ф. Фрунзе. Лично я Фрунзе почти не знал, едва был знаком с ним, видев его раза два. Действительных подробностей его смерти я не знаю,- и они для меня не очень существенны, ибо целью моего рассказа никак не являлся репортаж о смерти наркомвоена.- Все это я нахожу необходимым сообщить читателю, чтобы читатель не искал в нем подлинных фактов и живых лиц. Бор. Пильняк Москва 28 янв. 1926 г. Воронскому*, дружески ГЛАВА ПЕРВАЯ На рассвете над городом гудели заводские гудки. В переулках тащилась серая муть туманов, ночи, измороси; растворялась в рассвете,- указывала, что рассвет будет невеселый, серый, изморосный. Гудки гудели долго, медленно,- один, два, три, много сливались в серый над городом вой: это, в этот притихший перед рассветом час, гудели заводы,- но с окраин долетали визгливые, бередящие свисты паровозов, идущих и уходящих поездов,- и было совершенно понятно, что этими гудами воет город, городская душа, залапанная ныне туманной мутью. В этот час в типографиях редакций ротационки выбрасывали последние оттиски газет, и вскоре - со дворов экспедиций - по улицам рассыпались мальчишки с газетными кипами; один-другой из них на пустых перекрестках выкрикивал, прочищая глотку, так, как будет кричать весь день: - Революция в Китае! К приезду командарма Гаврилова! Болезнь командарма! В этот час к вокзалу, куда приходят поезда с юга, пришел поезд. Это был экстренный поезд, в конце его сизо поблескивал синий салон-вагон, безмолвный, с часовыми на подножках, с опущенными портьерами за зеркальными стеклами окон. Поезд пришел из черной ночи, от полей, промотавших, роскошествуя, лето на зиму, ограбленных летом для того, чтобы стариться снегом. Поезд вполз под крышу вокзала медленно, не шумно, стал на запасный путь. На перроне было пустынно. У дверей, должно быть, случайно, стояли усиленные наряды милиции с зелеными нашивками. Трое военных, с ромбами на рукавах, пришли к салон-вагону. Люди там обменялись честями,- эти трое постояли у подножки, часовой шептал что-то внутри вагона,- тогда эти трое поднялись по ступенькам и скрылись за портьерами. В вагоне вспыхнул электрический свет. Два военных монтера закопошились у вагона и под крышей вокзала проводили телефонные провода в вагон. Еще подошел человек к вагону, в демисезонном стареньком пальто и - не по сезону - в меховой шапке-ушанке. Этот человек никакой чести не отдавал, и ему не отдали чести, он сказал: - Скажите Николаю Ивановичу, что пришел Попов. Красноармеец посмотрел медленно, осмотрел Попова, проверил его несвежие башмаки и медленно ответил: - Товарищ командарм еще не вставали. Попов дружески улыбнулся красноармейцу, почему-то перешел на ты, сказал дружески: - Ну, ты, братишка, ступай, ступай, скажи ему, что пришел, дескать, Попов. 62 Красноармеец пошел, вернулся. Тогда Попов полез в вагон. В салоне, потому что опущены были занавеси и горело электричество, застряла ночь. В салоне, потому что поезд пришел с юга, застрял этот юг: пахло гранатами, апельсинами, грушами, хорошим вином, хорошим табаком,- пахло хорошим благословением полуденных стран. На столе около настольной лампы лежала раскрытая книга и около нее тарелка с недоеденной манной кашей,- за кашей - расстегнутый кобур кольта, с ременным шнурком, легшим змейкой. На другом конце стояли раскупоренные бутылки. Трое военных, с ромбами на рукавах, сидели в стороне от стола в кожаных креслах вдоль стены, сидели очень скромно, навытяжку,- безмолвствовали, с портфелями в руках. Попов пролез за стол, снял пальто и шапку, положил их рядом с собой, взял раскрытую книгу, посмотрел. Приходил ко всему на свете равнодушный проводник, убрал со стола; бутылки поставил куда-то в угол; смел на подносик корки гранатов,- постелил на стол скатерть, поставил на нее одинокий стакан в подстаканнике, тарелку с черствым хлебом, рюмку для яиц; принес на тарелочке два яйца, соль, пузыречки с лекарствами; отогнул угол портьеры, посмотрел на утро,раздвинул портьеры на стеклах окон, шнурки портьер прожикали сиротливо,- потушил электричество: и в салон залезло серое, в измороси осеннее утро. Все стало очень обыденно, можно было разглядеть в углу ящик с вином и трубкою свернутый ковер. Проводник монументом стал в дверях, неподвижный, с салфеткой в руках. Лица у всех в этом мутном утре были желты,- жиденький водянистый свет походил на сукровицу. В дверях рядом с проводником стал ординарец, походная канцелярия уже работала, прозвонил телефон. Тогда из купе-спальни в салон прошел командарм. Это был невысокий, широкоплечий человек, белокурый, с длинными волосами, зачесанными назад. Гимнастерка его, на рукаве которой было четыре ромба, сидела нескладно, помятая, сшитая из солдатского зеленого сукна. Сапоги со шпорами, хоть и были вычищены тщательнейше, стоптанными своими каблуками указывали на многие свои труды. Это был человек, имя которого сказывало о героике всей гражданской войны, о тысячах, десятках и сотнях тысяч людей, стоявших за его плечами,- о сотнях, десятках и сотнях тысяч смертей, страданий, калечеств, холода, голода, гололедиц и зноя походов, о громе пушек, свисте пуль и ночных ветров,- о кострах в ночи, о походах, о победах и бегствах, вновь о смерти. Это был человек, который командовал армиями, тысячами людей,- который командовал победами, смертью: порохом, дымом, ломаными костями, рваным мясом, теми победами, которые сотнями красных знамен и многотысячными толпами шумели в тылах, радио о которых облетало весь мир,- теми победами, после которых - на российских песчаных полях - рылись глубокие ямы для трупов, ямы, в которые сваливались кое-как тысячи человеческих тел. Это был человек, имя которого обросло легендами войны, полководческих доблестей, безмерной храбрости, отважества, стойкости. Это был человек, который имел право и волю посылать людей убивать себе подобных и умирать. Сейчас в салон прошел невысокий, широкоплечий человек с добродушным, чуть-чуть усталым лицом семинара*. Он шел быстро, и его походка одновременно сказывала в нем и кавалериста, и очень штатского, никак не военного человека. Трое штабистов стали перед ним во фронт: для них это был человек - рулевой той громадной машины, которая зовется армией,- человек, который командовал их жизнью, главным образом их жизнью, преуспеваниями, карьерой, неудачами, жизнью, но не смертью. Командарм приостановился перед ними, руки не подал, сделал тот жест, который позволял им стоять вольно. И так, стоя перед ними, командарм принял от них рапорты: каждый из этих троих выступал вперед, становился во фронт и рапортовал - “во вверенном мне”,- “служба революции”. Каждому отрапортовавшему командарм жал руки по порядку (должно быть, 63 не слушая рапортов). Тогда он сел перед одиноким стаканом, и проводник возник рядом, чтобы налить из блестящего чайника чаю. Командарм взял яйцо. - Как дела? - спросил попросту, без рапортов, командарм. Один из троих заговорил, сообщил новости и тогда спросил в свою очередь: - Как ваше здоровье, товарищ Гаврилов? Лицо командарма сделалось на минуту чужим, он сказал недовольно: - Вот был на Кавказе, лечился. Теперь поправился,- помолчал,- теперь здоров.Помолчал.- Распорядитесь там, никаких торжеств, никаких почетных караулов, вообще...Помолчал.- Вы свободны, товарищи. Трое штабистов поднялись, чтобы уйти. Командарм, не поднимаясь, каждому из них подал руку,- те вышли из салона бесшумно. Когда в салон входил командарм, Попов не поклонился ему, взял книгу и отвернулся с ней от командарма, перелистывал. Командарм одним глазом взглянул на Попова и тоже не поклонился, сделал вид, что не заметил человека. Когда штабисты ушли,- не приветствуя, точно они виделись вчера вечером, командарм спросил Попова: - Хочешь чаю, Алеша, или вина? Но Попов не успел ответить, потому что вперед выступил ординарец, зарапортовал,“товарищ командарм”,- о том, что автомобиль снят с платформы, в канцелярию поступили пакеты - один пакет из дома номер первый, привез его секретарь, секретный пакет,- о том, что квартира приготовлена в штабе,- что кипа пришла телеграмм и бумаг с поздравлениями. Командарм отпустил ординарца, сказал, что жить останется в вагоне. Командарм приехал сейчас не к армии, но в чужой город; его город, где была его армия, лежал отсюда в тысячах верст, там, в том городе, в том округе остались его дела, заботы, будни, жена. Проводник, не дожидаясь ответа Попова, поставил на стол стакан для чая и стакан для вина. Попов вылез из своего угла, подсел к командарму. - Как твое здоровье, Николаша? - спросил Попов заботливо, так, как спрашивают братья. - Здоровье мое - как следует, совсем наладилось, здоров,- а вот, чего доброго, придется тебе стоять у моего гроба в почетном карауле,- ответил Гаврилов, не то шутя, не то серьезно: во всяком случае, невеселой шуткой. Эти двое, Попов и Гаврилов, были связаны старинной дружбой, совместной подпольной работой на фабрике, тогда, далеко в молодости, когда они начинали свои жизни орехово-зуевскими ткачами; там в юности затерялась река Клязьма, леса за Клязьмой по дороге в город Покров, в Покровскую пустынь, где собирались комитетчики: там была голоштанная ткачья молодость с подпольными книжечками, с изданиями “Донской речи”,- с “Искрой”, как евангелие, с рабочими казармами, сходками, явками, с широкой площадью у станции, где в пятом году свистали над рабочими толпами казачьи пули и плетки; потом была - совместная Богородская тюрьма,- и дальше - бытие революционера-профессионала - ссылка, побег, подполье, таганская пересыльная, ссылка, побег, эмиграция, Париж, Вена, Чикаго,- и тогда: тучи четырнадцатого года, Бриндизи, Салоники, Румыния, Киев, Москва, Петербург,- и тогда: гроза семнадцатого года, Смольный, Октябрь, гром пушек над московским Кремлем, и - один начальник штаба Красной гвардии в Ростове-на Дону, а другой - предводитель пролетарского дворянства, как сострил Рыков, в Туле, для одного тогда - войны, победы, командирство над пушками, людьми, смертями,- для другого губкомы, исполкомы, ВСНХ, конференции, собрания, проекты и доклады: для обоих - все, вся жизнь, все мысли во имя величайшей в мире революции, величайшей в мире справедливости и правды. Но навсегда один другому - Николаша, один другому Алексей, Алешка,- навсегда товарищи, ткачи, без чинов и регламентов. - Ты мне расскажи, Николаша, как твое здоровье,- спросил Попов. 64 - Видишь ли, у меня была, а может быть, и есть, язва желудка. Ну, знаешь, боли, рвота кровью, изжоги страшные,- так, гадость страшная,- командарм говорил негромко, наклонившись к Алексею.- Посылали меня на Кавказ, лечили, боли прошли, стал на работу, проработал полгода, опять тошнота и боли, опять поехал на Кавказ. Теперь опять боли прошли, даже выпил для пробы бутылку вина...- Командарм перебил себя:- Алешка, может, вина хочешь, вон там, под лавкой,- я привез тебе ящичишко, откупори. Попов сидел, подперши голову ладонью, он ответил: - Нет, я с утра не пью. Ты говори. - Ну, вот, здоровье мое совсем в порядке.- Командарм помолчал.- Скажи, Алешка, зачем меня вызвали сюда, не знаешь? - Не знаю. - Пришла бумага,- выехать прямо из Кавказа,- даже к жене не заезжал.- Командарм помолчал.- Черт его знает, не могу придумать, в чем дело, в армии все в порядке, ни съездов, ничего... А ты бывал на Кавказе? - Вот на самом деле; замечательная страна, поэты у нас ее называют - полуденная,- я не понимал, к чему такое слово: побыл правильно - полуденная!.. - Граната съешь, Алеша,- мне нельзя, ординарцев угощаю.- Как дела? Командарм говорил об армии, он переставал быть ткачом и становился полководцем и красным генералом Красной Армии; командарм говорил об Орехово-Зуеве и ореховозуевских временах,- и не замечал, должно быть, как становился он ткачом,- вот тем ткачом, который тогда там полюбил заречную учительницу, чистил для нее сапоги и ходил босиком до школы, чтобы не пылились сапоги, и только в лесочке у школы обувался, - купил для нее фантазию с бантом и шляпу “а-ля черт побери”, и все же дальше разговоров о книжечках никуда с училкой не забрел, не вышло у них романа, отвергла его учительша. Командарм-ткач был уютным, хорошим человеком, умевшим шутить и видеть смешное,- и он шутил, разговаривая с другом; лишь изредка спохватывался командарм, делался непокойным: вспоминал о непонятном вызове, неловко двигался и говорил тогда здоровым ткачом о больном командарме: “Вельможа, фельдмаршал, сенатор - тоже! - а гречневой каши есть не могу... да, брат, Цека играет человеком,- из песни слова не выкинешь”, - и отмалчивался. - Николаша, ты толком скажи, что ты подозреваешь?- сказал Попов.- Что это ты болтал про почетный караул? Командарм ответил не сразу, медленно: - В Ростове я встретил Потапа (он партийной кличкой назвал крупнейшего революционера из “стаи славных” осьмнадцатого года), - так вот, он говорил... убеждал меня сделать операцию, вырезать язву или зашить ее, что ли,- подозрительно убеждал.Командарм смолк.- Я чувствую себя здоровым, против операции все мое нутро противится, не хочу,- так поправлюсь. Болей ведь нет уже никаких, и вес увеличился, и... черт знает, что такое,- взрослый человек, старик уже, вельможа,- а смотрю себе в брюхо. Стыдно.- Командарм помолчал, взял раскрытую книгу.- Толстого читаю, старика, “Детство и отрочество”,- хорошо писал старик,- бытие чувствовал, кровь... Крови я много видел, а... а операции боюсь, как мальчишка, не хочу, зарежут... Хорошо старик про кровь человеческую понимал. Вошел ординарец, стал во фронт, отрапортовал,- о том, что из штаба приехали с докладом, что пришла машина за командармом из дома номер первый, просят пожаловать туда,- что новые пришли телеграммы,- что от такого-то прислали за посылкой с юга. Ординарец положил на стол кипу газет. Командарм отпустил ординарца. Командарм распорядился приготовить шинель. Командарм раскрыл газету. Там, в газете, где сообщаются важнейшие события дня, значилось: “Приезд командарма Гаврилова”,- и вот 65 на третьей странице было сообщено, что “сегодня приезжает командарм Гаврилов, временно покинувший свои армии для того, чтобы оперировать язву в желудке”. В этой же заметке сообщалось, что “здоровье товарища Гаврилова вызывает опасение”, но что “профессора ручаются за благоприятный исход операции”. Старый солдат революции, солдат, командарм, полководец, который посылал тысячи людей умирать, завершение военной машины, предназначенной убивать, умирать и побеждать кровью,- Гаврилов откинулся на спинку стула, вытер рукой лоб, пристально посмотрел на Попова, сказал: - Алешка, слышишь? - это неспроста.- Д-да. Что же делать? - и крикнул: - Вестовой, шинель! Это был уже одиннадцатый час дня, когда по городу расползлась зеленоватая муть дня,- когда, собственно, не было видно этой зеленой мути, ибо над тем клочком земли, где выстроились дома, заработала машина города, большая, очень сложная, завертевшая, завинтившая все в этом городе - от ломовиков, трамваев и автобусов, от неприбранных постелей в домах до солдат, марширующих на набережной, до торжественной тишины высокопотолочных бухгалтерских зал и наркоматских кабинетов,- сложная машина города, реками погнавшая людей за станки, за столы, за конторки, в автомобили, на улицы,- машина, за которой незаметны были серенькое небо, изморось, слякоть, зеленая муть дня. ГЛАВА ВТОРАЯ На перекрестке двух главных улиц города, там, где беспечной вереницей текли автомобили, люди, ломовики,- стоял за палисадом дом с колоннами. Дом верно указывал, что так, за палисадом, подпертый этими колоннами, молчаливый, замедленный палисадом,- так простоял этот дом столетье, в спокойствии этого столетья. Вывески на этом доме не было никакой. У ворот этого дома текли люди, гудки автомобилей, толпа, человеческое время, тек серый день, газетчики, люди с портфелями, женщины в юбках до колен и в чулках, обманывающих глаз так, что ноги женщин голы; за грифами ворот время покойствовало и останавливалось. И другой стоял дом в другом конце города, также классической архитектуры, за палисадом, за колоннами, с крыльями флигелей, со страшными рожами мифологической ерунды на барельефах. Этот дом стоял на краю города, перед ним расстилалась площадь, и над площадью вставало серое, в этой части города просторное небо, две заводские трубы, антенны, телеграфные провода. На дворе, на куртинах у этого дома вместо цветов и сирени выросли березы, ныне, в осеннем дне, облетевшие, мокрые, пониклые. За двором и домом падал обрыв, и там текла река, и на лугах за рекой опять ложились - серое небо, фабричные трубы, поселки, церквенка; обрыв оброс березами, ограбленными летним буем. Ворот к этому дому было двое, на воротах корчили рожи фавны, у ворот разместились сторожки, и на скамейках у сторожек сидят сторожа, в фартуках, в валенках, с медными бляхами на фартуках. У ворот стоял закрытый автомобиль, черный, с красными крестами и с надписью - “Скорая помощь”. В этот день в передовице крупнейшей газеты печаталось - “к трехлетию червонной валюты”,- указывалось, что твердая валюта может существовать “только тогда, когда вся хозяйственная жизнь будет построена на твердом хозяйственном расчете, на твердой экономической базе. Дотации и ведение народного хозяйства несоразмерно своему бюджету неминуемо расстроят твердую финансовую систему”. Крупным заголовком стояло: “Борьба Китая против империалистов”. В зарубежном отделе были телеграммы из Англии, Франции, Германии, Чехословакии, Латвии, Америки. Была напечатана подвалом - большая статья! “Вопрос о революционном насилии”. И было две страницы 66 объявлений, где печаталось крупнейше: “Правда жизни - сифилис”. Новая книга С. Бройде “В сумасшедшем доме”. Впрочем, в этом же номере газеты был напечатан добрый один-другой десяток программ театров, варьете, открытых сцен, кино, - и - если день труда, тумана, очередей, приемных, торжественной тишины высокопотолочных бухгалтерских зал, стрекота ткацких станков на бумаго- и шерстеткацких фабриках, грома молотов на заводах и кузнях, свистов уходящих и идущих паровозов, ревов автобусов и автомобилей, чечетки трамвайных звонков, телефонных звонков, звонков у подъездов, плача радио,- день машины города,- людей, мужчин, женщин, детей, стариков, зрелых людей, - если забежать вперед и сменить день труда и дела на вечер, как это и сделало время, загрузив день сумерками, разлив по улицам светы фонарей, в измороси похожих на заплаканные глаза,- уничтожив небо,- вечером тогда в кино, в театры, в варьете, на открытые сцены, в кабаки и пивные пошли десятки тысяч людей. Там, в местах зрелищ, показывали все, что угодно, спутав время, пространство и страны, греков, таких, какими они никогда не были, ассиров, такими, какими они никогда не были,- никогда не бывалых евреев, американцев, англичан, немцев - угнетенных, никогда не бывалых китайцев, русских рабочих, Аракчеева, Пугачева, Николая Первого, Стеньку Разина; кроме того, показывали умение хорошо или плохо говорить, хорошие или плохие ноги, руки, спины и груди, хорошо или плохо танцевать и петь; кроме того, показывали все виды любви и разные любовные случаи, такие, которых почти не случается в буденной жизни. Люди, принарядившись, сидели рядами, смотрели, слушали, хлопали в ладоши и, выливаясь по светлым лестницам театров на мокрые улицы, наспех комментировали, всегда стараясь быть умными. Улицы тогда пустели, чтобы отдохнуть в ночи,- и ночью, у заполночи, в тот час, когда в деревнях первые поют петухи, по домам в постелях мужья и жены, любовники и любовницы, в огромном большинстве случаев одинокими парами отдавались тому, чем звери, птицы и насекомые занимаются в рассвете и закате дня. Но день шел своим порядком, отсчитывая часы на часах контор, банков, заводов и фабрик, на часах у площадей и на карманных часах. Многажды начинал падать дождь и многажды переставал. Однажды посыпал было снег, чтобы гуще размешать слякоть на мостовых. Машина города работала, как подобает, как всякая машина. В полдень к дому номер первый, к тому, что замедлил время, подошел закрытый ройс. Часовой открыл дверцу, из лимузина вышел командарм. В бою, когда люди бегут в атаку, шумят больше, чем в час, когда бьет артиллерия,- артиллерия ревет громче, чем полк на бивуаке,- в полковых штабах шумнее, чем в дивизионных: в штабах армий должна быть жесткая тишина - на митингах кричат громче, чем в президиуме,- еще тише на заседаниях президиума губисполкома.В этом доме улеглась бесшумная тишина, глухо звонили телефоны, не шумели счеты, бесшумно ходили люди, не волновались люди, не горбились люди, прямо стояли стены в плакатах, заменивших картины, красные лежали половики, с красными нашивками стояли люди у дверей. В кабинете в дальнем конце дома окна были полуприкрыты гардинами,- и за окнами бежала улица; в кабинете горел камин; на столе в кабинете - на красном сукне стояли три телефонных аппарата, чтобы утвердить тишину совместно с потрескивающими в камине поленьями, три телефонных аппарата - три городских артерии приводили в кабинет, чтобы из тишины командовать городом, знать о городе, о всех артериях. В кабинете на письменном столе массивный, из бронзы стоял письменный прибор и в подставке для перьев воткнута была дюжина красных и синих карандашей На стене в кабинете, за письменным столом был проложен радиоприемник с двумя парами 67 наушников и ротой во фронт выстроилась система электрических звонков - от звонка в приемную до звонка “военной тревоги”. Против письменного стола стояло кожаное кресло. За письменным столом в кабинете на деревянном стуле сидел негорбящийся человек. Гардины на окнах были полуприкрыты, и под зеленым абажуром на письменном столе горело электричество,- и лица этого негорбящегося человека не было видно в тени. Командарм прошел по ковру и сел в кожаное кресло. Первый - негорбящийся человек: - Гаврилов, не нам с тобой говорить о жернове революции. Историческое колесо - к сожалению, я полагаю - в очень большой мере движется смертью и кровью,- особенно колесо революции. Не мне и тебе говорить о смерти и крови. Ты помнишь, как мы вместе с тобой вели голых красноармейцев на Екатеринов. У тебя была винтовка, и винтовка была у меня. Снарядом под тобой разорвало лошадь, и ты пошел вперед пешком. Красноармейцы бросились назад, и ты пристрелил одного из нагана, чтобы не бежали все. Командир, ты застрелил бы и меня, если бы я струсил, и ты был бы, я полагаю, прав. Второй, командарм: - Эх, как ты тут обставился, совсем министр,- у тебя здесь курить можно? - Я окурков не вижу. Первый: - Не кури, не надо. Тебе здоровье не позволяет. Я сам не курю. Второй, строго, быстро: - Говори без предисловий,- зачем вызвал? Не к чему дипломатить. Говори! П е р в ы й: - Я тебя позвал потому, что тебе надо сделать операцию. Ты необходимый революции человек. Я позвал профессоров, они сказали, что через месяц ты будешь на ногах. Этого требует революция. Профессора тебя ждут, они тебя осмотрят, все поймут. Я уже отдал приказ. Один даже немец приехал. Второй: -Ты как хочешь, а я все-таки закурю. Мне мои врачи говорили, что операции мне делать не надо, и так все заживет. Я себя чувствую вполне здоровым, никакой операции не надо, не хочу. Первый сунул руку назад, нащупал на стене кнопку звонка, позвонил, вошел бесшумный секретарь,- первый спросил: “есть ли на очереди к приему”,- секретарь ответил утвердительно. Первый - ничего не ответил, отпустил секретаря. Первый: - Товарищ командарм, ты помнишь, как мы обсуждали, послать или не послать четыре тысячи людей на верную смерть. Ты приказал послать. Правильно сделал.Через три недели ты будешь на ногах.- Ты извини меня, я уже отдал приказ. Звонил телефон, не городской, внутренний, тот, который имел всего-навсего какихнибудь тридцать-сорок проводов. Первый снял трубку, слушал, переспросил, сказал:“Ноту французам,- конечно, официально, как говорили вчера. Ты понимаешь, помнишь, мы ловили форелей? Французы очень склизкие. Как? Да, да, подвинти. Пока”. Первый: - Ты извини меня, говорить тут не о чем, товарищ Гаврилов. Командарм докурил папиросу, всунул окурок к синим и красным карандашам,поднялся из кресла. Командарм: - Прощай. Первый: - Пока. Командарм красными коврами вышел к подъезду, ройс унес его в шум улиц. Негорбящийся человек остался в кабинете. Никто больше к нему не приходил. Не горбясь сидел он над бумагами, с красным толстым карандашом в руках. Он позвонил,- вошел секретарь,- он сказал: “Распорядитесь убрать окурок, вот отсюда, из этой подставки”. И опять безмолвствовал над бумагами, с красным карандашом в руках. Прошли час и другой, человек сидел за бумагами, работал. Однажды звонил телефон, он слушал и ответил: “Два миллиона рублей галошами и мануфактурой для Туркестана, чтобы 68 заткнуть бестоварную дыру. Да, само собою. Да, валяй. Пока”. Входил бесшумно коридорный человек, поставил на столике у окна поднос со стаканом чая и куском холодного мяса, прикрытым салфеткой, ушел. Тогда негорбящийся человек вновь позвонил секретарю, спросил: “Секретная сводка готова?” - И вновь надолго человек безмолвствовал над большим листом, над рубриками Наркоминдела, Полит- и Экономотделов ОГПУ, Наркомфина, Наркомвнешторга, Наркомтруда. Тогда в кабинет вошли - один и другой,- люди из той тройки, которая вершила. Над городом шел желтый в туманной мути день. К трем начали синеть, сереть переулки и небо. Небо - огромной фабрикой занялось покупкой и продажей стеганых одеял, просаленных до серого лоска. В четыре часа, когда город заплакал мокрыми стеклами фонарей, подведенных, как глаза проституток, когда особенно много людей на улицах, ревут рожки автомобилей, гудят заводы и поезда и трещат трамваи,- к дому номер два, на окраину, подъезжало несколько автомобилей. Дом кутался во мрак, точно мрак мог согреть промозглую сырость. Те окна дома, что выходили к заречному простору, отгорали последней щелью заката, и там, за этим простором эта щель точила, истекала запекшейся, полиловевшей кровью.- У ворот дома стали два милиционера, рядом со сторожами в фартуках и валенках. У дверей в парадный ход стали два милиционера. Краском с двумя орденами Красного Знамени, гибкий, как лозина,- с двумя красноармейцами,- вошел в подъезд. В доме шел час отдыха, тишало, только где-то далеко пела хожалка негромкую песню о том, как выйдет она на реченьку, поглядит на быструю. Краскома с красноармейцами в прихожей встретил человек в белом халате. “Да-да-да, знаете ли” - и тогда смолкла заречная песнь хожалки. В приемной окна выходили на заречный простор. Здесь окна были без гардин. Здесь стены были выкрашены белой краской, и с потолка здесь падал белый электрический свет. Телефонов здесь не было. Комната была велика и пуста. Посреди ее расставился стол в белой клеенке, и вокруг стола стояли - казенного образца, как на железных дорогах,- клеенчатые стулья с высокими спинками. У стены поместился клеенчатый диван, покрытый простыней, у дивана деревянный табурет. В углу над раковиной, на стеклянной полке расставлены были пузырьки с разными номенклатурами, бутылища с сулемой, банка с зеленым мылом,- висели около желтые, неподсиненные полотенца. С первыми автомобилями приехали профессора, терапевты, хирурги. В приемную приходили люди в сюртуках и черных жакетах; эти люди снимали пиджаки и облачались в белые халаты. Сукровица заречного заката в окнах умерла. Люди входили, здоровались, встречал их - хозяином - высокий человек, бородатый, добродушный, лысый. Люди науки, медицины, в частности, в огромном большинстве случаев почему-то очень некрасивы: или у них не доросли скулы, или гипертрофировались скулы так, что скулы расставлены шире ушей; глаза у них почти всегда под очками, или сели на висках, или залезли в самые углы глазниц; судьба одних лишила благословения волосами, и реденькая бороденка растет у них на шее,- у других же волос прет не только на скулах и подбородке, но и на носу и на ушах; и, быть может, это обстоятельство создало в среде ученых обычай чудачества, когда каждый ученый обязательно чудак, причем чудачество его увеличивает его ученость. Впрочем, сейчас в этой приемной чудачеств, должно быть, не было. Тот, который встречал хозяином, хирург, профессор, заросший волосами так, что волосы росли на носу,- чудачествовал только обильным этим бурным волосом, на котором сидели маленькие очки,- и чудачеством блистала его лысина. К нему навстречу прошел профессор Лозовский, человек лет тридцати пяти, бритый, в сюртуке, в пенсне с прямою перекладиной, с глазами, влезшими в углы глазниц. - Да-да-да, знаете ли. 69 Бритый человек передал волосатому разорванный конверт с сургучной печатью. Волосатый человек вынул лист бумаги, поправил очки, прочел,- опять поправил очки, недоуменно, передал лист третьему.Бритый человек, торжественно: - Как видите, секретная бумага, почти приказ. Ее прислали мне утром. Вы понимаете. Первый, второй, третий - отрывки разговоров, негромко, поспешно. - При чем тут консилиум? - Я приехал по экстренному вызову. Телеграмма пришла на имя ректора университета. - Командарм Гаврилов,- знаете, тот, который. - Да-да-да, знаете ли,- революция, командир армии, формула,- и - пож-жалуйте. - Консилиум. - Вы его видели, господа,- товарища Гаврилова,- что за человек? - Да-да-да, знаете ли, батенька. Электричество здесь падало резко вырезанными тенями. Рана заката унесла за собой во мрак заречный простор. Один другого взял за пуговицу нагрудного кармана у халата; один другого взял под руку, чтобы пройтись. Тогда:- громко, медленно, покойно - один, другой, третий: - Доклад профессора Оппеля о внутренней секреции на съезде хирургов. Я оппонировал - двенадцатиперстная кишка. - Сегодня в Доме ученых. - Спасибо, жена здорова, немного старший колитом. А как Екатерина Павловна? - Павел Иванович, ваша статья в “Общественном враче”. Тогда:- в дверях громыхнули винтовки красноармейцев, топнули каблуки, красноармейцы умерли в неподвижности; в дверях появился высокий, как лозина, юноша с орденами Красного Знамени на груди, гибкий, как хлыст, стал во фронт перед дверью,- и быстро вошел в приемную командарм, откинул рукой волосы назад, поправил ворот гимнастерки,- сказал: - Здравствуйте, товарищи. - Прикажете раздеваться? Тогда:- профессора медленно сели на клеенчатые стулья за стол, положили локти на стол, размяли руки, поправили очки и пенсне, попросили сесть больного. Тот, который передал пакет, у которого глаза под прямыми пенсне вросли в глазницы, сказал волосатому: - Павел Иванович, вы как рrimus intеr раrеs*, я полагаю, не откажетесь председательствовать. - Прикажете раздеваться? - спросил командарм и взялся рукой за ворот. Председатель консилиума, Павел Иванович, сделав вид, что он не слышал вопроса командарма, медленно сказал, садясь на председательское место: - Я полагаю, мы спросим больного, когда он почувствовал приступы болезни и какие патологические признаки указали ему на то, что он болен. Потом мы осмотрим больного. ...От этого совещания профессоров остался лист бумаги, исписанный неразборчивым профессорским почерком, причем бумага была желта, без линеек, плохо оборванная.бумага из древесного теста, которая, по справкам спецов и инженеров, должна истлеть в семь лет. Протокол консилиума, в составе проф. такого-то, проф. такого-то, проф. такого-то (так семь раз). Больной гр. Николай Иванович Гаврилов поступил с жалобой на боль в подложечной области, рвоту, изжогу. Заболел два года назад незаметно для себя. Лечился все время амбулаторно и ездил на курорты - не помогло. По просьбе больного был созван консилиум из вышеозначенных лиц. 70 Status praesens*. Общее состояние больного удовлетворительно. Легкие - N. Со стороны сердца наблюдается небольшое расширение, учащенный пульс. В слабой форме neurasteniа**. Со стороны других органов, кроме желудка, ничего патологического не наблюдается. Установлено, что у больного, по-видимому, имеется ulcus ventriculi*** и его необходимо оперировать. Консилиум предлагает больного оперировать профессору Анатолию Кузьмину Лозовскому. Проф. Павел Иванович Кокосов дал согласие ассистировать при операции. Город, число, семь подписей профессоров. Впоследствии, уже после операции, из частных бесед было установлено, что ни один профессор, в сущности, совершенно не находил нужным делать операцию, полагая, что болезнь протекает в форме, операции не требующей,- но на консилиуме тогда об этом не говорилось; лишь один молчаливый немец сделал предположение о ненужности операции, впрочем, не настаивая на нем после возражения коллег; да рассказывали еще, что уже после консилиума, садясь в автомобиль, чтобы ехать в Дом ученых, профессор Кокосов, тот, у которого глаза заросли в волосах, сказал профессору Лозовскому: - “Ну, знаете ли, если бы такая болезнь была у моего брата, я не стал бы делать операции”,- на что профессор Лозовский ответил:- “Да, конечно, но... но ведь операция безопасная”...Автомобиль зашумел, пошел. Лозовский уселся поудобнее, поправил фалды пальто, наклонился к Кокосову, сказал шепотом, так, чтобы не слышал шофер: - А страшная фигура, этот Гаврилов, ни эмоции, ни полутона,- “прикажете, раздеваться? - я, видите ли, считаю операцию излишней,- но, если вы, товарищи, находите ее необходимой, укажите мне время и место, куда я должен явиться для операции”.- Точно и коротко. - Да-да-да, батенька, знаете ли,- большевик, знаете ли, ничего не поделаешь,- сказал Кокосов. Вечером в этот день, в тот час, когда в кино, в театрах, варьете, в кабаках и пивных толпились тысячи людей, когда шалые автомобили жрали уличные лужи своими фонарями, выкраивая этими фонарями на тротуарах толпы причудливых в фонарном свете людей,- когда в театрах, спутав время, пространства и страны, небывалых греков, ассиров, русских и китайских рабочих, республиканцев Америки и СССР, актеры всякими способами заставляли зрителей неистовствовать или рукоплескать,- в этот час над городом, над лужами, над домами поднялась не нужная городу луна; облака шли очень поспешно, и казалось, что луна испугана, торопится, бежит, прыгает, чтобы куда-то поспеть, куда-то не опоздать, белая луна в синих облаках и в черных провалах неба. В этот час негорбящийся человек в доме номер первый все еще сидел в своем кабинете. Окна были глухо закрыты занавесами, вновь горел камин. Дом замер в тишине, точно эту тишину копили столетия. Человек сидел на деревянном своем стуле. Теперь перед ним были открыты толстые книги на немецком и английском языках,- он писал,- порусски, чернилами, прямым почерком, в немецком Lainen-Роst. Те книги, что были раскрыты перед ним, были книгами о государстве, праве и власти.В кабинете падал с потолка свет, и теперь видно было лицо человека: оно было очень обыденно, быть может, чуть-чуть черство, но, во всяком случае, очень сосредоточенно и никак не утомленно. Человек над книгами и блокнотом сидел долго. Потом он звонил, и к нему пришла стенографистка. Он стал диктовать. Вехами его речи были СССР, Америка, Англия, земной шар и СССР, английские стерлинги и русские пуды пшеницы, американская тяжелая индустрия и китайские рабочие руки. Человек говорил громко и твердо, и каждая его фраза была формулой. Над городом шла луна. 71 В этот час командарм сидел у Попова в гостиничном номере большой гостиницы, населенной исключительно коммунистами, поселившимися здесь в восемнадцатом году, когда в дыму восстаний необходимо было держаться друг возле друга. Номер был велик, богато обставлен, но, как все номера всех гостиниц, указывал на временность, на дорогу, сущностью своей противной уюту. Их сидело трое - Гаврилов, Попов и двухлетняя дочка Попова Наташка. Попов валялся на диване, Гаврилов сидел у стола, и на коленях у него гомозилась Наташка. Гаврилов зажигал спички; удивленно, как могут удивляться таинственному в мире только дети, Наташка смотрела на огонь, складывала трубкой губы и дула на огонь, не сразу хватало дыхания потушить спичку, потом спичка тухла, и тогда столько изумления, восторга и страха перед таинственным было в голубых глазах Наташи, что нельзя было не зажечь новой спички, нельзя не склонить голову перед таинственным, что самою собою несла Наташа. Потом Гаврилов укладывал Наташку спать, сел около ее постельки, сказал: “Ты закрой глаза, а я буду тебе песни петь”,- и запел, не умея петь, не зная никакой песни, придумывал песню здесь же: Пришел козëл, сказал: “А ты спи, спи, спи, спи, спи”,улыбнулся, хитро посмотрел на Наташу и на Попова и пропел то, что впервые пришло ему на ум из созвучия слов “спи, спи, спи, спи”, запел: Пришел козëл, сказал: “А ты спи, спи, спи, спи, спи... Но не пис, пис, пис, пиc, пис...” Наташа открыла глаза, улыбнулась, а Гаврилов так и пел эти две последние строчки неумелым голосом (плохо, в сущности, пел), пока не заснула Наташа. Тогда Гаврилов и Попов вдвоем пили чай. Попов с красным чайником, на котором белой эмалью было написано: “товарищу Попову от рабочих и работниц завода Лысьва в день Пятой Годовщины Октября”. С этим чайником ходил на кухню к кубу за кипятком. На газете он расставил стаканы, тарелки с маслом и сыром, в кульке был сахар, в другом кульке был хлеб. Попов спрашивал: - “Не сварить ли тебе, Николка, манной каши?” Сидели друг против друга, говорили негромко, медленно, никуда не спешили, чаю выпили много, Гаврилов пил с блюдечка, расстегнул ворот гимнастерки. После мелочей о том о сëм, за вторым стаканом чая, не допив половины, Попов отставил стакан, помолчав, сказал: - Николка, а моя Зина от меня ушла, ребенка бросила мне на руки, ушла к какому-то инженеру, которого раньше любила, шут его знает. Судить ее мне неохота, не хочу мараться плохими словами, а все-таки, надо сказать, убежала по-сучьи, не сказав, скрыв. Не хочется так думать, что никогда она меня и не любила, а содержанилась из-за моего положения, но, все-таки, так получается, что убежала от меня из-за шелковых чулков, изза духов, там, и пудры. И самому мне стыдно, подобрал человека в яме, на фронте, заботился, любил и, как дурак, грел человека, а он оказался барынькой - проглядел человека, который со мной пять лет прожил. . И Попов подробно рассказывал о всех мелочах расхождения, которые всегда так мучительны именно своей мелочностью, той мелочностью, той мелочью, за которой не видно большого. Тогда стали говорить о детях, и Гаврилов рассказывал о своей жене, которая уже постарела и все же единственная на всю жизнь для Гаврилова. Долго говорили о Наташе, с которой,- ну, вот,- как с ней поступить Попову, когда он и на горшочек как следует посадить не может, и убаюкать не умеет. Книги показывал Попов Водовозову, Монтессори, Пинкевича,- разводил руками, и - чай все время пили остывшим. Луна спешила над городом. В тот час, когда городские улицы пустели, чтобы отдохнуть в ночи, в деревнях запели первые петухи, когда люди, прожевывая ужин, 72 дневные впечатления и умные сентенции об этом дне, лезли - мужья, жены, любовники, любовницы в постели,- Гаврилов уходил от Попова. - Ты мне дай почитать чего-нибудь,- только, знаешь, попроще, про хороших людей, про хорошую любовь, о простых отношениях, о простой жизни, о солнце, о людях и простой человеческой радости. Такой книги не нашлось у Попова. - Вот тебе и революционная литература,- сказал, пошутив, Гаврилов.- Ну, ладно, я еще раз почитаю Толстого. Уж очень хорошо у него про старые перчатки на балу.- И Гаврилов потемнел, замолчал, сказал тихо: - Я тебе, Алешка, не говорил, чтобы на пустые разговоры время не тратить. Был я сегодня по начальству и в больнице, у профессоров. Профессорье умственность разводило. Не хочу резаться, естество против. Завтра мне ложиться под нож. Ты тогда приходи в больницу, не забывай старину. Детишкам моим и жене ничего не пиши. Прощай! - И Гаврилов вышел из комнаты, не пожав руки Попова. У гостиницы стояла крытая машина. Гаврилов сел, молвил:- “Домой, в вагон”,- и машина пошла в переулки. На запасных путях луна скользила по рельсам; пробежала собака, визгнула и скрылась в простор черной рельсовой тишины. У ступенек вагона стоял часовой, замер, пока проходил командарм. Вырос в коридоре ординарец, высунул голову проводник,- вспыхнуло в вагоне электричество,- и такая безмолвная, глубокая, провинциальная тишина стала в вагоне. Командарм прошел в купе-спальню, снял сапоги, надел ночные туфли, расстегнул ворот гимнастерки,- позвонил - “чаю”. Прошел в салон, сел к настольной лампе, проводник принес чаю, но командарм не прикоснулся к нему; командарм долго сидел над книгой “Детство и отрочество”, читал, думал над книгой. Тогда командарм ходил в спальню, принес большой блокнот, позвонил, сказал вестовому: - “Чернил, пожалуйста” - и медленно стал писать, думая над каждой фразой. Написал одно письмо, перечитал, обдумал, заклеил в конверт. Второе письмо написал, обдумал, заклеил. И третье письмо написал, очень короткое, писал, торопясь,- запечатал не перечитывая. В вагоне немотствующая тишина. Замер у подножки часовой. Замерли в коридоре ординарец и проводник. Замерло, казалось, время. Письма долго лежали перед командармом, в белых пакетах, с надписанными адресами. Тогда командарм взял большой пакет, все три письма запечатал в него и на пакете написал: “Вскрыть после моей смерти”. И буднично поднялся, чтобы пойти спать: снял в спальне гимнастерку, ходил мыться перед сном, раздевался, лег, потушил свет. И часа три-четыре вагон пребывал во мраке и безмолвии. Это был час третьих петухов. Если бы проводник взглянул тогда в купе командарма, он увидел бы там - неожиданно для себя - в том месте, где должна была быть голова командарма, красный огонек папиросы,- неожиданно для себя потому, что обыкновенно командарм не курил. И тогда резко зазвонил звонок от командарма к проводнику. Командарм говорил голосом полководца: - Одеться. Теплую шинель. Позвонить в гараж,- гоночную, открытую, двухместную,править буду сам. Соединить с Домом Советов, с номером Попова. В телефон к Попову командарм сказал: - Алексей. Я сейчас выезжаю за тобой. Сойди к подъезду. Говорит Гаврилов. Не замедли. Беговая, двухместная, стосильная рванула с места сразу на второй скорости, веером, разворачиваясь, кинула снопы белого света,- шофер отбежал в сторону,- у рулей сидел командарм,- рявкнул гудок, машина пошла раскраивать осколки луж, переулки, вывески лавок и учреждений, рвущая ветер и пространство. Попов стоял недоумевающий, заспанный. Машина, должно быть, здорово порвала резину шин, сломав скорость перед подъездом Дома Советов. Попов сел молча. И машина стала отбрасывать назад улицы, 73 переулки, плеск луж, светы фонарей. Воздух все твердел и твердел, прорвался воем ветра, засвистел в машине, стал ледяным и колючим,- фонари на перекрестках размахивались своими огнями, налетали и стремглав бросались назад,- один, другой просвистели милиционеры. Но машина уже вырвалась из груд домов и улиц, выходила за заставу, сначала в просторы пустырей и редких газовых рожков на трамвайных линиях,- потом в черный мрак полей. Все скорости были открыты. Воздух и ветер сошли с ума, резали, мешали дышать. Шоссе под машиной давно уже слилось в белый ровный плат, где не видно ни впадин, ни каменных куч по краям шоссе,- лишь тогда, когда уж очень велики были впадины на шоссе, взлетала машина над землей и несколько саженей летела по воздуху, теряя шум летящих из-под шин камней. Раз, и два, и три огни машины упирались в стены деревенских изб, избы овцами бросались в стороны, и деревня оставалась позади в собачьем визге. В лощине между двух холмов запутались огни машины в серых космах осеннего тумана, и узналось, что и туман может лететь, визжать, стремиться, выть метелью и пургой колоть лицо. Гаврилов сидел, склонившись над рулем, вниманье, точность и расчет,- и все вперед, вперед, сильней, сильней, быстрее - гнал Гаврилов машину. Попов давно уже сидел на четвереньках на дне машины, судорожно держась руками за дно машины и не выглядывая оттуда. Так, в срок меньше часа, машина прорвала расстояние верст в сто. Там, на опушке какого-то старого леса, машина потеряла свои скорости, обессилела, замолкла, отпустила на покой ветры, холод,- мчащую, косую изморось поставила на ноги, в отвес,- машина стала. Попов сел на место. Гаврилов сказал: - Дай папироску, Алешка. Попов ответил: - Ну тебя к черту с этими фокусами, у меня все печенки в пятки переселились.- На, кури, черт бы тебя побрал. Гаврилов закурил, откинулся, отдыхая, на спинку, раздумчиво сказал: - Когда я очень переутомлюсь, когда у меня ум за разум заходит, я беру машину и мчу. Это мчание приводит меня и мои мысли в порядок. Я помню все до одного эти мчания. И помню все до мелочей, что было в этих мчаниях, все разговоры, все фразы, до интонации голоса, до того, как светится окурок. У меня плохая память, я все забываю,- я не помню даже того, что было в самые ответственные дни боев,- мне об этом рассказывали потом. Но эти мчания я помню абсолютно. Я сейчас машину вел безумно, с девяноста девятью шансами разбиться, но каждое мое движение точно, и разбиться нельзя. Я пьян непонятным опьянением точности. Но если бы мы разбились, мне было бы только хорошо. Давай говорить. Гаврилов энергическим жестом отбросил окурок, выпрямился на сиденье, замолчал, должно быть, прислушиваясь к себе,- замолчал торжественно в гордости. - Впрочем, молчи,- мы еще поговорим. Сиди! Мы еще помчим. Мне хорошо, потому что это мчание, это стремление есть то, ради чего надо жить, стоит жить, ради чего мы живем. Мы друг другу все сказали нашими жизнями. Сиди! Надо иной раз помолчать! - с гордостью сказал Гаврилов. И машина зарвала пространство - обратной дорогой, зашарашила ветер, время, туманы, деревни, заставила туманы и время плясать, кричать и бежать, с тем чтобы вновь загнать Попова на четвереньки, зацепить его руки за что попало, что покрепче,- чтобы зажмурить его глаза в страхе и переселить печенки в пятки. С холма над городом виден был на несколько моментов весь город,- там, внизу, в тумане, в мутных огнях и отсветах огней, в далеком рокоте и шуме,- город показался очень несчастным. К заставам машина подходила в тот час, в рассветный серый час, когда над городом гудят заводские гудки. 74 ГЛАВА ТРЕТЬЯ Смерть Гаврилова Первый снег, тот снег, что выводит землю из осени в зиму, всегда падает ночами, чтобы положить рубежи между осенней слякотью, туманом, изморосью, палыми листами и уличным сором, что были вчера,- и между белым бодрым днем зимы, когда исчезли все трески и шумы и когда в тишине надо подтянуться человеку, подумать внутрь и никуда не спешить. Первый снег выпал в день смерти Гаврилова. Город затих белой тишиной, побелел, успокоился, и на деревьях за окнами осыпали снег синички, прилетевшие из-за города вместе со снегами. Профессор Павел Иванович Кокосов всегда просыпался в семь утра, и в этот же час он проснулся в день операции.- Профессор высунул голову из-под одеяла, отхаркался, потянулся волосатой рукой к ночному столику, привычно нашарил там очки, оседлал ими нос, вправив стекла в волосы. За окном на березе сорилась снегом синичка. Профессор надел халат, вставил ноги в домашние туфли и пошел в ванную. Потолки в квартире профессора Кокосова были низки, провинциально,- в этой квартире профессор, должно быть, прожил лет двадцать, потому что - по меньшей мере двадцатилетию надо потратить свои досуги на тщательно протертую и втертую пыль, на пожелтевшие занавесочки, на выцветшие картинки, на кожаные книги, на то, чтобы продавить диван, чтобы до ненужного приладить каждую вещь в доме и на письменном столе,- от именной (подарок студентов) спичечницы, от истлевшей ручки для писания, обтянутой оленьей кожей и сделанной в виде оленьей ноги (память Швейцарии),- до ночного под кроватью горшка, полупившего уже эмаль. В доме было тихо в тот час, когда профессор проснулся, но, когда он, крякая, выходил из ванной, в столовой жена Екатерина Павловна шумела уже чайной ложечкой, размешивая профессору сахар в чае, и в столовой шумел самовар. Профессор вышел к чаю в халате и в туфлях. - Доброе утро, Павел Иванович,- сказала жена. - Доброе утро, Екатерина Павловна,- сказал муж. Профессор поцеловал у жены руку, сел против нее, удобнее устроил в волосах очки, и тогда за стеклами очков стали видны небольшие, поповского склада глазки, и добродушные, и хитрые,- и простоватые, и умные. Профессор в молчании хлебнул чаю, собравшись сказать что-то очередное. Но течение утреннего чайного обычая прервал телефон. Телефон был неурочен. Профессор строго посмотрел на дверь в кабинет, где звонил телефон, подозрительно на жену, на эту стареющую уже, пухлую женщину в японском кимоно,- встал и подозрительно пошел к телефону. В телефон пошли слова профессора, сказанные особенно старческим голосом, ворчливо: - Ну, ну, я слушаю вас. Кто звонит и в чем дело? В телефон сказали, что говорят из штаба, что в штабе известно, что операция назначена на половину девятого, что из штаба спрашивают, не нужна ли какая-нибудь помощь, не надо ли прислать за профессором автомобиль.- И профессор вдруг рассердился, засопел в трубку, заворчал: - ...Я, знаете ли, служу обществу, а не частным лицам,- да, да, да, знаете ли, батенька,и в клиники езжу на трамвае, ба-батенька. Я выполняю мой долг, извините, по моей совести. И сегодня не вижу причин не ехать на трамвае. Профессор громко кинул трубку, оборвав разговор, зафыркал, засопел, вернулся к столу, к жене, к чаю. Пофыркал, покусал усы и очень скоро успокоился. Опять из-за очков стали видны глаза, сейчас сосредоточенные и умные. Профессор сказал тихо: 75 - Захворает в деревне Дракины Лужи мужик Иван, будет три недели лежать на печи, покряхтит, посоветуется со всей родней и поедет в земскую больницу к доктору Петру Ивановичу. Петр Иванович знает Ивана пятнадцать лет, и Иван Петру Ивановичу перетаскал за эти пятнадцать лет полторы дюжины кур, перезнал всех детей Петра Ивановича, одному даже, мальчишке, уши драл на горохе. Иван приедет к Петру Ивановичу, поклонится курочкой. Петр Иванович посмотрит, послушает и, если надо, сделает операцию, тихо, спокойно, толково и не хуже, чем я сделаю. А если не заладится операция, помрет Иван, крест поставят, и все... Или даже ко мне - придет обыватель Анатолий Юрьевич Свиницкий. Расскажет все до седьмого пота. Я его просмотрю и пересмотрю семь раз, изучу его и скажу ему - идите, мол, батенька... Если скажет мне “сделайте операцию” - сделаю, если не хочет, никогда не стану делать. Профессор помолчал. - Хуже нет, Екатерина Павловна, консилиумов. Я не хочу обижать Анатолия Кузьмича. Анатолий Кузьмич меня не хочет обидеть. Комплименты говорим друг другу и ученость показываем, а больной неизвестно при чем, точно на большевистских показательных процессах, парад с музыкой,- никто больного как следует не знает,“видите ли, Анатолий Кузьмич,- видите ли, герр Шиман”... Профессор помолчал. - Сегодня я ассистирую у себя в больнице при операции над большевиком, командармом Гавриловым. - Это тот, который,- сказала Екатерина Павловна,- который... ну, в большевистских газетах... ужасное имя! - А почему не вы оперируете, Павел Иванович? - Ну, ничего особенно ужасного нет,- конечно,- ответил профессор,- а почему Лозовский,- сейчас время такое, молодые в моде, им выдвигаться надо. А все-таки, в конце концов, больного никто не знает после всех этих консилиумов, хоть его прощупывали, просвечивали, прочищали и просматривали все наши знаменитости. А самое главное - человека не знают, не с человеком имеют дело, с формулою,- генерал номер такой-то, про которого каждый день в газетах пишут, чтобы страх на людей наводить. И попробуй сделать операцию как-нибудь не так, по всем Европам протащат, отца позабудешь. Профессор опять рассердился, засопел, зафыркал, спрятал глаза в волосы, поднялся из-за стола, крикнул в дверь, ведущую в кухню: - “Маша, сапоги!” - и пошел в кабинет одеваться. Расчесал брови, бороду, усы, лысину, надел сюртук, засунул в задний - в фалде - карман свежий носовой платок, обулся в сапоги с самоварно начищенными головками и рыжими голенищами, посмотрел за окно: подана ли лошадь, лошадь у парадного уже стояла, кучер Иван, двадцать лет проживший у профессора Кокосова на кухне, смахивал с сиденья снег. Комната профессора Анатолия Кузьмича Лозовского не была похожа на квартиру Кокосова. Если квартира Кокосова законсервировала в себя рубеж девяностых и девятисотых российских годов, то комната Лозовского возникла и консервировалась в лета от тысяча девятьсот седьмого до девятьсот шестнадцатого. Здесь были тяжелые портьеры, широкий диван, бронзовые голые женщины в качестве подсвечников на дубовом письменном столе, стены затянуты были коврами и висели на коврах картины, второй сорт с выставок “Мира искусств”. Лозовский спал на диване, и не один, а с молодой красивой женщиной; крахмальная его манишка валялась на ковре на полу. Лозовский проснулся, тихо поцеловал плечо женщины и бодро встал, дернул шнурок занавески. Тяжелая суконная занавесь поползла в угол, и в комнату пришел снежный день. Радостно, как могут глядеть очень любящие жизнь в самих себе, Лозовский посмотрел на улицу, на снег, на небо, заботливо, как это делают по утрам холостяки, 76 оглянул комнату,- и, прежде чем пойти умываться, в пижаме и лаковых ночных туфлях, стал убираться в комнате, убрал со стола, поставил на книжный шкаф недопитую бутылку красного вина, вазу с печеньем поставил на книжный шкаф, на нижнюю полку, перебрал на столе пепельницу, чернильницу, блокноты, книги. Воткнул в штепсель провод от электрического чайника, всыпал в чайник кофе, женщина спала, и видно было, что эта женщина того порядка женщин, которые любят и отдаются любви тихо и преданно. Она сказала, просыпаясь: - Милый,- открыла счастливо глаза, увидела бодрый зимний день, снег на деревьях,поднялась с постели, сложила молитвенно руки, счастливо крикнула: - Милый, первый снег, зима, милый... Профессор большие белые свои руки положил на плечи женщины, прислонил ее голову к себе, сказал: - Да, да, зима,- весна моя, ландыш мой... В это время позвонил телефон. Телефон у профессора висел над диваном, за ковром. Профессор взял трубку - “да, да, вас слушают”. В телефон говорили из штаба, спрашивали, не надо ли прислать за профессором автомобиль. Профессор ответил: - Да, да, пожалуйста! Об операции нечего беспокоиться, она пройдет блестяще, я уверен. Насчет машины - пожалуйста - тем паче, что мне надо перед операцией заехать по делам. Да, да, пожалуйста, к восьми часам. Профессор повесил трубку и сказал женщине, радостно, с гордостью: - Ландышек, одевайся, за мной зайдет машина, я тебя прокачу и отвезу домой. Спеши! - И он обнял женщину, положив голову к ней на плечо, обнял женщину и положил голову так, как это делают очень счастливые люди. Было уже без четверти восемь. Мужчина и женщина, поспешая, счастливые, одевались. Профессор, одеваясь, налил в китайские чашечки кофе. Женщина, улыбаясь счастливо, застегивала ему запонку накрахмаленной манишки. Перед тем как уйти из дому, профессор с торжественным лицом и с неким почтительным страхом звонил в телефон: всякими окольными телефонными путями профессор проник в ту телефонную сеть, которая имела всего-навсего каких-нибудь тридцать-сорок проводов; он звонил в кабинет дома номер первый, почтительно он спрашивал, не будет ли каких-либо новых распоряжений, твердый голос в телефонной трубке предложил приехать сейчас же после операции с докладом. Профессор сказал: “Всего хорошего, будет сделано”,- поклонился перед трубкой и не сразу повесил ее. Машина уже рявкала перед подъездом. В день операции, утром, до операции, к Гаврилову приходил Попов. Это было еще до рассвета, при лампах,- но разговаривать не пришлось, потому что хожалка повела Гаврилова в ванную ставить последнюю клизму. Уходя в ванную, Гаврилов сказал: - Прочти, Алеша, у Толстого в “Отрочестве” насчет ком-иль-фо и не ком-иль-фо.Хорошо старик кровь чувствовал! - Это были последние слова перед смертью, которые слышал от Гаврилова Попов. Попов шел домой в шелестах морозной рассветной тишины,- пошел не по главной улице,- вышел в переулок к обрыву, за которым открывался заречный простор, там на горизонте умирала за снегами в синей мгле луна,- а восток горел красно, багрово, холодно. Попов стал спускаться к реке, чтобы полем пройти в город,- за ним горел восток. Гаврилов стоял в тот миг у окна, смотрел на заречье,- видел ли он Попова? В больничном халате, в ванной у окна стоял человек, орехово-зуевский ткач, имя которого обросло легендами войны, легендами тысяч, десятков тысяч и сотен тысяч людей, стоящих за его плечами,- легендами о тысячах, десятках и сотнях тысяч смертей, страданий, калечеств, холода, голода, гололедиц и зноя походов,- о громе пушек, свисте пуль и ночных ветров, о 77 кострах в ночи, о походах, победах и бегствах, вновь о тысячах и смерти. Человек стоял у окна в ванной, заложив руки назад, смотрел в небо, был неподвижен, протянул руку, написал на запотевшем стекле - “смерть, клизма, не ком-иль-фо” - и стал раздеваться. Перед операцией в коридоре от операционной до палаты Гаврилова поспешно ходили люди, бесшумно суматошились. Вечером перед операцией Гаврилову засовывали в пищевод гуттаперчевую кишку, сифон, которым выкачивают желудочный сок и промывают желудок,- такой гуттаперчевый инструмент, после которого тошнит и угнетает психику, точно этот инструмент существует к тому, чтобы унижать человеческое достоинство. В утро перед операцией клизму поставили последний раз. В операционную Гаврилов пришел в больничном халате, в больничных грубого полотна портках и рубашке (у рубашки вместо пуговиц были завязки), в больничных за номером туфлях на босу ногу (белье на Гаврилове переменили в это утро в последний раз, надели на него стерильное), пришел в операционную побледневшим, похудевшим, усталым.- В предоперационной шумели спиртовки, кипятились длинные никелевые коробки, безмолвствовали люди в белых .халатах. Операционная была очень большой комнатой, сплошь - пол, стены, потолки - выкрашенной в белую масляную краску. В операционной было необыденно светло, ибо одна стена была сплошным окном, и это окно уходило в заречье. Посреди комнаты стоял длинный белый операционный стол. Здесь Гаврилова встретили Кокосов и Лозовский. И Кокосов, и Лозовский, в белых халатах, надели на головы белые колпаки, подобно поварам, а Кокосов еще завесил слюнявкой бороду, оставив наружу волосатые глаза. Вдоль стены стоял десяток людей в белых халатах. Гаврилов с хожалкой вошел в комнату. Покойно, молча поклонился профессорам и прошел к столу, посмотрел в окно на заречье, руки скрестил на спине. Вторая хожалка внесла на крючках кипящий стерилизатор с инструментами, длинную никелевую коробку. Лозовский спросил у Кокосова шепотом: - Приступим, Павел Иванович? - Да, да, знаете ли,- ответил Кокосов. И профессора пошли мыть - еще и еще раз - руки, поливать их сулемой, мазать йодом. Хлороформатор посмотрел маску, потрогал свой пузырек. - Товарищ Гаврилов, приступим,- сказал Лозовский.- Извольте, будьте добры лечь на стол. Туфли снимите. Гаврилов посмотрел на сестру чуть-чуть смущенно, одернул рубашку, она взглянула на Гаврилова, как на вещь, и улыбнулась, как улыбаются ребенку. Гаврилов сел на стол, скинул одну туфлю, потом другую,- и быстро лег на стол, поправив под головой валик,закрыл глаза. Тогда быстро, привычно и ловко хожалка застегнула ремни на ногах, прикрутила человека к столу. Хлороформатор положил на глаза полотенце, обмазал нос и рот вазелином, надел на лицо маску, взял руку больного, чтобы слушать пульс,- и полил маску хлороформом, по комнате поплыл сладкий вяжущий запах хлороформа. Хлороформатор отметил час начала операции. Профессора отошли к окну молча. Сестра щипцами стала выкладывать, раскладывать на стерильной марле скальпели, стерильные салфетки, пеаны, кохеры, пинцеты, иглы, шелк. Хлороформ подливал хлороформатор. В комнате застыла тишина. Тогда больной замотал головой, застонал. - Нечем дышать, снимите повязку,- сказал Гаврилов и лязгнул зубами. - Повремените, пожалуйста,- ответил хлороформатор. Через несколько минут больной запел и заговорил. - Лед прошел, и Волга вскрылась, золотой мой, золотой, я, девчонка, влюбилась,пропел командарм и зашептал:- А ты спи, спи, спи.- Помолчал, сказал строго:- А клюквенного киселя мне не давайте никогда больше, надоело, это не ком-иль-фо.Помолчал, крикнул строго, так, должно быть, как кричал в боях: - Не отступать! Ни шагу! 78 Расстреляю... Алеша, брат, скорости все открыты, земли уже не видно. Я все помню. Тогда я знаю, что такое революция, какая это сила. И мне не страшна смерть.- И опять запел: - За Уралом живет плотник, золотой мой, золотой... - Как вы себя чувствуете? Вам не хочется спать? - тихо спросил Гаврилова хлороформатор. И Гаврилов обыкновенным голосом, тоже тихо, заговорщицки, ответил: - Ничего особенного, нечем дышать. - Повремените еще немного,- сказал хлороформатор и подлил хлороформа. Кокосов озабоченно посмотрел на часы, склонился над скорбным листом, перечитал его. Есть организмы, которые к тем или иным наркотикам чувствуют идиосинкразию*,Гаврилова усыпляли уже двадцать семь минут. Кокосов подозвал младшего ассистента, подставил ему лицо, чтобы тот поправил очки на носу профессора. Хлороформатор озабоченно прошептал Лозовскому: - Быть может, отставить хлороформ, попробовать эфир? Лозовский ответил: - Попробуем еще хлороформом. В противном случае операцию придется отложить. Неудобно. Кокосов строго посмотрел кругом, озабоченно опустил глаза. Хлороформатор подлил хлороформу. Профессора молчали.- Гаврилов окончательно заснул на сорок восьмой минуте. Тогда профессора в последний раз протерли спиртом руки. Хожалка обнажила живот Гаврилова, на свет выглянули худые ребра и подтянутый живот. Поле операции - подложечную область - широкими мазками, спиртом, бензином и йодом протер профессор Кокосов. Сестра подала простыни, чтобы прикрыть простынями ноги и голову Гаврилова. Сестра вылила на руки профессора Лозовского полбанки йоду. Лозовский взял скальпель и провел им по коже. Брызнула кровь, кожа расползлась в стороны; из-под кожи вылез желтый, как на баранине, лежащий слоями, с прослойками кровяных сосудов, жир. Лозовский еще раз порезал человеческое мясо разрезал фасции, блестящие, белые, прослоенные лиловатыми мышцами. Кокосов пеанами и кохерами неожиданно ловко для его медвежества зажимал кровоточащие сосуды. Другим ножом Лозовский прорезал пузырь брюшины. Лозовский оставил нож,- стерильными салфетками стер кровь В разрезе внутри видны были кишки и молочно-синий мешок желудка. Лозовский опустил руку в кишки, повернул желудок, обмял его - на блестящем мясе желудка, в том месте, где должна была быть язва,- белый, точно вылепленный из воска, похожий на личину навозного жука,- был рубец,- указывающий, что язва уже зажила,указывающий, что операция была бесцельна - но в этот момент, в этот момент,- в тот момент, когда желудок Гаврилова был в руках профессора Лозовского - Пульс! Пульс! - крикнул хлороформатор. - Дыхание! - казалось, машинально поддакнул Кокосов. И тогда можно было видеть, как из-за волос и из-за очков вылезли очень злые, страшно злые глаза Кокосова, вылезли и расползлись в стороны, а глаза Лозовского, сидящие в углах глазниц, давя на переносицу, еще больше сузились, ушли вглубь, сосредоточились, срослись в один глаз, страшно острый. У больного не было пульса, не билось сердце и не было дыхания, и холодали ноги. Это был сердечный шок: организм, не принимавший хлороформа, был хлороформом отравлен. Это было то, что человек никогда уже не встанет к жизни, что человек должен умереть, что - искусственным дыханием, кислородом, камфарой, физиологическим раствором - окончательную смерть можно отодвинуть на час, на десять, на тридцать часов, не больше, что к человеку не придет сознание, что человек, в сущности,- умер. Было ясно, что Гаврилов должен умереть под 79 ножом, на операционном столе.- Профессор Кокосов повернул к хажалке свое лицо, сунув его вперед, чтобы хожалка поправила профессору очки, профессор крикнул: - Откройте окно! Камфары! Физиологический наготове! Безмолвная толпа ассистентов стала еще безмолвней. Кокосов, точно ничего не произошло, склонился над инструментами у столика, осмотрел инструмент, молчал. Лозовский также склонился около Кокосова. - Павел Иванович,- сказал шепотом и злобно Лозовский. - Ну? - ответил Кокосов громко. - Павел Иванович,- еще тише сказал Лозовский, теперь уже никак не злобно. - Ну? - громко ответил Кокосов и сказал: - Продолжайте делать операцию! Оба профессора выпрямились, поглядели друг на друга, у одного два глаза срослись в один, у другого глаза, вылезли из волосьев. Лозовский на момент отклонился от Кокосова, точно от удара, точно хотел найти перспективу, глаз его раздвоился, заблуждал,- потом слился еще четче, острее,- Лозовский прошептал: - Павел Иванович! и опустил руки на рану: он не зашивал, а сметывал полости, он стиснул кожу и стал заштопывать только ее верхние покровы. Он приказал: - Освободите руки,- искусственное дыхание! Огромное окно в операционной было открыто, и в комнату шел мороз первого снега. Камфара в человека была впрыснута. Кокосов вместе с хлороформатором отгибал руки Гаврилова и поднимал их вверх, заставлял искусственно дышать. Лозовский штопал рану. Лозовский крикнул: - Физиологический раствор! и ассистентка воткнула в грудь человека две толстые, толщиною почти в папиросу, иглы, чтобы через них влить в кровь мертвеца тысячу кубиков жидкой соли, чтобы поддержать кровяное давление. Лицо человека было безжизненно, сине, полиловели губы. Тогда Гаврилова отвязали от стола, положили на стол с колесиками и отвезли в его палату. Сердце его билось, и он дышал, но сознание не вернулось к нему, как, быть может, не вернулось до последней минуты, когда перестало биться прокамфаренное и искусственно просоленное сердце, когда он - через тридцать семь часов - был оставлен камфарой и врачами - и умер: - быть может, потому, что до последней минуты к нему никто не допускался, кроме этих двух профессоров и сестры, но за час до того, как официально было сообщено о смерти командарма Гаврилова,- случайный сосед по палате слышал странные звуки в палате, точно там перестукивался человек, как перестукиваются арестанты в тюрьмах. Там в палате лежал заживо мертвый человек, прокамфаренный потому, что в медицине есть этический обычай не допускать человеческой смерти под операционным ножом,- и эту палату так тщательно охраняли профессора потому, что умирал командарм, герой гражданской войны, герой великой русской революции, человек, обросший легендами, тот, который имел волю и право посылать людей убивать себе подобных и умирать. Операция тогда началась в восемь часов тридцать минут и - на столе с колесиками вывезли Гаврилова из операционной в одиннадцать часов одиннадцать минут. В коридоре тогда швейцар сказал, что профессора Лозовского дважды вызывали по телефону из дома номер первый,- и опять пришел швейцар, сказал, что у телефона ждут. Лозовский пошел к телефону. Лозовский ожидал звонка из дома номер первый. В телефоне прозвучало: “Милый, я соскучилась по тебе”,- и у Лозовского на минуту ощерились зубы, он, должно быть, хотел сказать очень злое, но ничего не сказал, бросил трубку. Профессор подошел к конторе, где был телефон, к окну, постоял, посмотрел на первый снег, покусал пальцы и вернулся к телефонной трубке, вник в ту телефонную сеть, 80 которая имела тридцать-сорок проводов, поклонился трубке и сказал, что операция прошла благополучно, но что больной очень слаб и что они, врачи, признали его состояние тяжелым, и попросил извинения в том, что не сможет сейчас приехать. Наверху, в коридоре, между операционной и палатой больного, где утром суматошились и шептались люди, не было теперь ни души. Гаврилов умер,- то есть профессор Лозовский вышел из его палаты с белым листом бумаги и, склонив голову, печально и торжественно сообщил о том, что больной командарм армии, гражданин Николай Иванович Гаврилов, к величайшему прискорбию,скончался в час семнадцать минут. Через три четверти часа, когда доходил второй час ночи, во двор больницы вошли роты красноармейцев, и по всем ходам и лестницам стали караулы. В палату, где был труп командарма, прошли те самые три генштабиста, что приезжали на вокзал встречать командарма,- те самые три человека, для которых Гаврилов - рулевой той громадной машины, которая зовется армией,- был человеком, командовавшим их жизнями; теперь они пришли командовать трупом командира. В этот час в деревнях поют вторые петухи. В этот час по небу ползли облака, и за ними торопилась полная, устающая торопиться луна. В этот час в крытом ройсе профессор Лозовский экстренно ехал в дом номер первый; ройс бесшумно вошел в ворота с грифами, мимо часовых, стал у подъезда, часовой открыл дверцу; Лозовский прошел в тот кабинет, где на красном сукне письменного стола стояли три телефонных аппарата, а за письменным столом на стене ротой во фронт выстроились звонки. Разговор, бывший у Лозовского в этом кабинете,- неизвестен,- но он длился всего три минуты; Лозовский вышел из кабинета - из подъезда - со двора - очень поспешно, с пальто и шляпою в руках, похожий на героев Гофмана; автомобиля уже не было; Лозовский шел, покачиваясь, точно он был пьян; улицы были пустынны в этот неподвижный ночной час, и улицы качались вместе с Лозовским. Улицы качались под луной в неподвижной пустыне ночи, вместе с Лозовским. Лозовский - Гофманом - вышел из кабинета дома номер первый. В кабинете дома номер первый остался негорбящийся человек. Человек стоял за столом, нависнув над столом, опираясь о стол кулаками. Голова человека была опущена. Он долго был неподвижен. Человека оторвали от его формул и бумаг. И тогда человек задвигался. Его движения были прямоугольны и формульны, как те формулы, которые каждую ночь он диктовал стенографистке. Он задвигался очень быстро. Он позвонил в звонок сзади себя, он снял телефонную трубку. Он сказал дежурному: “Беговую, открытую”. Он сказал в телефон тому, кто, должно быть, спал, кто был в тройке первых,- голос его был слаб: - “Андрей, милый, еще ушел человек,- Коля Гаврилов умер, нет боевого товарища. Позвони Потапу, голубчик, мы виноваты, я и Потап”. Шоферу негорбящийся человек сказал: - “В больницу”. Улицы не качались. В облаках торопилась, суматошилась луна, и, как хлыст, стлался по улицам автомобиль. Черное во мраке здание больницы мигало непокойными окнами. В черных проходах стояли часовые. Дом немотствовал, как надо немотствовать там, где смерть. Негорбящийся человек черными коридорами - прошел к палате командарма Гаврилова. Человек прошел в палату,- там на кровати лежал труп командарма,- там удушливо пахло камфарой. Все вышли из палаты, в палате остались негорбящийся человек и труп человека Гаврилова. Человек сел на кровать к ногам трупа. Руки Гаврилова лежали над одеялом вдоль тела. Человек долго сидел около трупа, склонившись, затихнув. Тишина была в палате. Человек взял руку Гаврилова, пожал руку, сказал: - Прощай, товарищ! Прощай, брат! и вышел из палаты, опустив голову, ни на кого не глядя, сказал: “Форточку бы там открыли, дышать нельзя”,- и быстро прошел черным коридором, спустился с лестницы. 81 В деревнях в этот час пели третьи петухи. Человек - молча - сел в машину. Шофер повернул голову, чтобы выслушать приказание. Человек молчал. Человек опомнился,человек сказал: - “За город! - на всех скоростях”. Машина рванула с места сразу на полной скорости, веером, разворачиваясь, кинула огни,- пошла кроить осколки переулков, вывесок, улиц. Воздух сразу затвердел, задул ветром, засвистал в машине. Летели назад улицы, дома, фонари,- фонари размахивались своими огнями, налетали и стремглав бросались назад. Из всех скоростей машина рвалась за город, стремясь вырваться из самой себя. Уже исчезли рожки пригородных трамваев, уже разбегались овцами в собачьем визге деревенские избы. Уже не видно было полотна шоссе, и то и дело пропадал шум колес, в те мгновения, когда машина летела по воздуху. Воздух, ветер, время и земля свистели, визжали, выли, прыгали, мчались: и в колоссальном этом мчании, когда все мчалось,- неподвижными стали, идущими рядом, стали - только луна за облаками, да эта машина, да человек, покойно сидящий в машине. У опушки того самого леса, где несколько дней тому назад были Гаврилов и Попов, человек скомандовал: “Стоп!” - и машина сломала скорости, оставив в ненужности пространство, время и ветер,- остановив землю и погнав за облаками луну. Человек не знал, что около этого леса - несколько ночей назад - был Гаврилов. Человек слез с машины и - молча и медленно - пошел в лес. Лес замер в снегу, и над ним спешила луна. Человеку не с кем было разговаривать. Человек из лесу вернулся не скоро. Возвратясь, садясь в машину, сказал: - Поедем обратно. Не спешите. К городу машина подошла, когда уже рассветало. Красное, багровое, холодное на Востоке подымалось солнце. Там внизу - в лиловом и синем - в светлом дыму - во мгле лежал город. Человек окинул его холодным взором. От луны в небе - в этот час - осталась мало заметная, тающая ледяная глышка. В снежной тишине не было слышно рокота города. ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ Вечером, после похорон командарма Гаврилова, когда отгремели трубы медные военного оркестра, отсклонялись в трауре знамена, прошли тысячи хоронящих и труп человека стыл в земле вместе с этой землей,- Попов заснул у себя в номере и проснулся в час, непонятный ему, за столом. В номере было темно и тихо, плакала Наташа. Попов склонился над дочерью, взял ее на руки, поносил по комнате. В окно лезла белая луна, уставшая спешить. Попов подошел к окну, посмотрел на снег за окном, на тишину ночи. Наташа сошла с рук Попова, стала на подоконник. В кармане у Попова лежало письмо от Гаврилова, та последняя записка, которую он написал в ночь перед тем, как пойти в больницу. В записке было написано: “Алеша, брат! Я ведь знал, что умру. Ты прости меня, ведь ты уже не очень молод. Качал я твою девчонку и раздумался. Жена у меня тоже старушка и знаешь ты ее двадцать лет. Ей я написал. И ты напиши ей. И поселяйтесь вы жить вместе, женитесь, что ли. Детишек растите! Прости, Алеша”. Наташа стояла на подоконнике, и Попов увидел: она надувала щеки, трубкой складывала губы, смотрела на луну, целилась в луну, дула в нее. - Что ты делаешь, Наташа? - спросил отец. - Я хочу погасить луну,- ответила Наташа. Полная луна купчихой плыла за облаками, уставала торопиться. 82 Это был час, когда просыпалась машина города, когда гудели заводские гудки. Гудки гудели долго, медленно - один, два, три, много,- сливались в серый над городом вой. Было совершенно понятно, что зтими гудками воет городская душа, замороженная ныне луною. Москва, на Поварской, 9 янв. 1926 г. * А.К. Воронский - член ВЦИКа, известный критик-марксист. (Прим. ред.) * Семинар (устар.) - семинарист. (Прим. ред.) * Первый среди равных (лат.). (Прим. Ред.) * Теперешнее состояние (лат.) ** Неврастения (лат.) *** Язва желудка (лат.) * Идиосинкразия - повышенная чувствительность к определенным веществам (мед. термин) 83