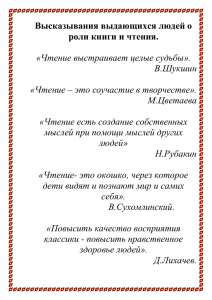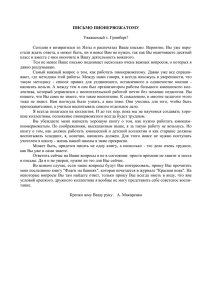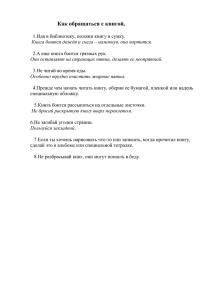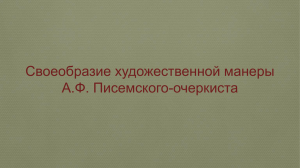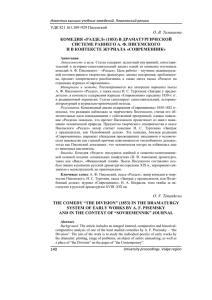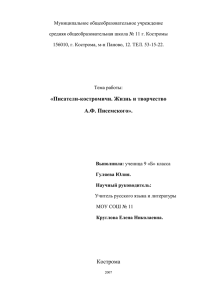"Истории моего современника" Отрывок из хрестоматии
реклама

Îòäåëüíûå ôðàãìåíòû «Èñòîðèè ìîåãî ñîâðåìåííèêà» «Читать все мы выучились както незаметно. Нам купили вырезанную польскую азбуку, и мы, играя, заучили буквы. Постепенно пере шли к чтению неизбежного «Степкирастреп ки», а затем мне случайно попалась большая повесть польского писателя, кажется Корже ниевского, «Фомка из Сандомира». Я начал разбирать ее почти еще по складам и посте пенно так заинтересовался, что к концу книги читал уже довольно бегло…. Книга мне попалась на первый раз очень хо рошая: в ней рассказывалось о маленьком кре стьянском мальчике, сироте, который сначала пас стадо. Случайно он встретился с племян ницей приходского ксендза, своей сверстни цей, которая начала учить его грамоте и пробу дила умственные стремления. Добрый ксендз упросил пана отпустить подростка, и тот пошел в свет искать знания… Я и теперь храню благодарное воспомина ние и об этой книге, и о польской литературе того времени… За этой повестью я просиживал целые дни, а иной раз и вечера, разбирая при сальной свече страницу за страницей. Помню также, что старшие не раз с ласковым пренебрежени ем уверяли меня, что я ничего не понимаю, а я удивлялся: что же тут понимать? Я просто ви дел все, что описывал автор: и маленького па стуха в поле, и домик ксендза среди кустов си рени, и длинные коридоры в школьном здании, где Фомка из Сандомира торопливо несет вы чищенные сапоги учителя, чтобы затем бежать в класс, и взрослую девушку, застенчиво встречающую тоже взрослого и «ученого» Фо му, бывшего своего ученика… Как бы то ни было, наряду с деревней, тем ной и враждебной, откуда ждали какойто не ведомой грозы, в моем воображении сущест вовала уже и другая. А фигура вымышленного Фомки стала мне дорогой и близкой» (Т.4.С.7678). «Авторитет учителя установлен сразу и прочно. А к концу второго урока мы были уже целиком в его власти. Продиктовав, как и в первый раз, красиво и свободно дальнейшее объяснение, он затем взошел на кафедру и, раскрыв принесенную с собой толстую книгу в новом изящном переплете, сказал: — Теперь, господа, отдохнем. Я вам гово рил уже, что значит мыслить понятиями. А вот ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2006 сейчас вы услышите, как иные люди мыслят и объясняют самые сложные явления образами. Вы знаете уже Тургенева? К стыду нашему, Тургенева многие знали только по имени… Как бы то ни было, но даже я, читавший сравнительно много, хотя беспорядочно и случайно, знавший уже «Трех мушкетеров», «Графа Монте Кристо» и даже «Вечного Жи да», Евгения Сю, — Гоголя, Тургенева, Досто евского, Гончарова и Писемского знал лишь по некоторым, случайно попадавшимся рас сказам. Мое чтение того времени было про сто развлечением и приучало смотреть на беллетристику как на занимательное описа ние того, чего, в сущности, не бывает. Порой я прикидывал поступки и разговоры книжных героев к условиям окружавшей меня жизни и находил, что никто и никогда так не говорит и не поступает. Светлым пятнышком выступало воспоминание о «Фоме из Сандомира» и еще двухтрех произведениях польских писате лей, прочитанных ранее. Это было ближе к жизни. Гдето, может быть, недалеко и не очень давно, люди могли так говорить и по ступать, но всетаки теперь не говорят и не поступают… Помню, в один светлый осенний вечер я шел по тихой Тополевой улице и свернул через пус тырь в узенький переулок. Улица была в тени, но за огородами, между двумя черными кры шами, поднималась луна, и на ней резко обри совывались черные ветки дерева, уже обна женного от листьев. Я остановился, невольно пораженный красивой простотой этого не сложного пейзажа… Потом мысль моя перешла к книгам, и мне пришла в голову идея: что, если бы описать просто мальчика, вроде меня, жившего снача ла в Житомире, потом переехавшего вот сюда, в Ровно; описать все, что он чувствовал, опи сать людей, которые его окружали, и даже вот эту минуту, когда он стоит на пустой улице и меряет свой теперешний духовный рост со своим прошлым и настоящим. Вот в этой сли той влажной тьме, беспорядочно усеянной огоньками, за этими светящимися окошками живут люди. Теперь они пьют чай или ужинают, разговаривают, ссорятся, смеются. И никогда они не оглядываются на себя и на природу, ни когда не примеривают своего я ко всему, что их окружает. Быть может, во всем городе я 35 один стою вот здесь, вглядываясь в эти огни и ловой и с доброй улыбкой начинает вторить тени, один думаю о них, один желал бы изобра ударам: зить и эту природу, и этих людей так, чтобы все — Чюкичукичук! Чюкичук! Чюкичук! было правда и чтобы каждый на Оказывается, на конюшне секут «шалу шел здесь свое место. нишку» буфетчика, человека с большими ба Не этими словами, но думал кенбардами, недавно еще в долгополом я именно это. И во мне было не сюртуке прислуживающего за столом… Ли много гордости и много неудов цо у Мардария Аполлоновича доброе. «Са летворения. Я только думал, что мое лютое негодование не устояло бы про можно бы изобразить все в той тив его ясного и кроткого взора…». А на вы простоте и правде, как я теперь езде из деревни рассказчик встречает и это вижу, и что история мальчи самого «шалунишку»: он идет по улице, лу ка, подобного мне, и людей, его щит семечки и на вопрос, за что его наказы окружающих, могла бы быть ин вали, отвечает просто: тереснее и умнее графа Монте — А поделом, батюшка, поделом! У нас по Кристо… пустякам не наказывают… У нас барин… та …В таком настроении заста кого барина во всей гу ло меня появление нового бернии не сыщешь. учителя… Среди глубочайшей Авдиев раскрыл книгу в тишины Авдиев дочитал новеньком изящном пере последнюю фразу: «Вот плете и начал читать таким она — стараято Русь!..». простым голосом, точно Затем он сказал не продолжает самую обы сколько опять очень денную беседу: простых слов о крепост «Мардарий Аполлонович ном праве и об ужасе Стегунов — старичок ни «порядка», при котором зенький, пухленький, лысый, с возможно это двусто двойным подбородком, мягкими роннее равнодушие. ручками и порядочным брюш В этот день я уносил из гимназии ог ком. Он большой хлебосол и ба ромное и новое впечатление. Меня слов лагур… Зиму и лето ходит в по но осияло. Вот они, те «простые» слова, лосатом шлафроке на вате… Дом которые дают настоящую, неприкрашен у него старинной постройки: в ную «правду» и всетаки сразу подымают передней, как следует, пахнет над серенькой жизнью, открывая ее шири квасом, сальными свечами и ко и дали. И в этих ширях и далях вдруг вста жей…». ют, и толпятся, и движутся знакомые фи Это «Два помещика» из «Запи гуры, обыденные эпизоды, будничные сок охотника». Рассказчик — еще сцены, озаренные особенным светом. молодой человек, тронутый «но …С этого дня художественная литера выми взглядами», гостит у Мар тура перестала быть в моих глазах только дария Аполлоновича. развлечением, а Из «Записок охотника» Они пообедали и пьют стала увлекатель на балконе чай. Вечер ным и серьезным ний воздух затих. делом. Авдиев су «Лишь изредка ветер мел зажечь и раз набегал струями и, в дуть эти душевные последний раз замирая эмоции в яркое около дома, донес до пламя. У него было слуха звук мерных и ча инстинктивное чу стых ударов, раздавав тье юности и — та шихся в направлении лант. Все, что он конюшни». Мардарий читал, говорил и Аполлонович, только делал, приобрета что поднесший ко рту ло в наших глазах блюдечко с чаем, оста особенное значе навливается, кивает го ние. История лите 36 ратуры, с поучениями Мономаха и пись мами Заточника, выступала из своего туманного отдаления как предмет значительный и важный, органически подготовлявший грядущие открове ния. Коротенькие дивертисменты в конце уроков, когда Авдиев раскры вал принесенную с собой книгу и прочитывал отрывок, сцену, стихо творение, — стали для нас потребно стью. В его чтении никогда не чувст вовалось искусственности. Начина лось оно всегда просто, и мы не замечали, как, где, в каком месте Авдиев переходил к пафосу, потрясавшему нас как ряд электрических ударов, или к комизму, веявше му на класс вихрем хохота. Он прочитал сцену из «Мертвых душ», и мы кинулись на Гоголя. … Однажды он дал мне читать Писемского. Есть у этого писателя одна повесть, менее дру гих упоминаемая критикой и забытая читающей публикой. Называется она «Мосье Батманов» и изображает человека с «широкой натурой», красивого, эксцентричного, остроумного, не признающего условностей. Он попадает из сто лицы в небольшой губернский город, очаровы вает все общество, которое сам открыто прези рает, говорит дерзости губернским магнатам и производит более или менее забавные дебо ши. Его любит умная и красивая женщина. Он как будто любит ее также, но всетаки они рас ходятся навсегда: мосье Батманов не может подумать без отвращения о законном браке и любви по обязанности… Кончается повесть Писемского неожидан ной сценой. В какомто сибирском городке ме стные купцызолотопромышленники встреча ют приезжего сановника. Впереди депутации с хлебомсолью стоит дородный красивый чело век, с широкой бородой, в сибирке из тонкого сукна и в высоких сапогах бураками. Сановник с некоторым удивлением узнает в нем старого знакомого — мосье Батманова. «Да, чем толь ко не кончалось русское разочарование!» — замечает в заключение Писемский. Обаяние фигуры Батманова было так велико, что я как то совершенно не обратил внимания на это са тирическое заключение. Однажды, когда я принес Авдиеву прочитан ную книгу, он остановил меня, и мы разговори лись както особенно задушевно. Вообще, я уже стал тогда одним из любимых его учени ков, и порой наши беседы принимали оттенок своеобразной дружбы взрослого человека и юноши, почти мальчика. Он спросил, не случа ется ли мне встречать в литературе знакомых лиц. Я сказал о том, как Мардарий Аполлоно ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3 МАРТ 2006 вич Стегунов заставил меня вспомнить о дядекапитане, хотя, в сущности, они друг на друга не похожи. Он выслу шал эту параллель с интересом и вдруг предложил вопрос: — Ну, а я похож на когонибудь из этих господ? — Вы…, — ответил я несколько застенчиво, — у Писемского: мосье Батманов. Авдиев удивленно повернулся на кресле и сказал с недоумением: — А Батманов этот вам нравится? — Да. Он протянул руку, взял со стола книгу и, развертывая ее, спросил: — Да вы дочитали до конца? — Дочитал. Что ж, конец… Помоему, можно было закончить иначе… — Вы думаете? Ну нет. Здесь художествен ная правда. Иначе было бы опять в том же ро де. Он прочел заключительную сценку вплоть до иронического восклицания о русском разо чаровании и сказал: — И что только вам понравилось? Печорин ствующий бездельник из дворян… Но с Печо риным, батюшка, дело давно покончено. Из ли тературной гвардии они уже разжалованы в ин валидную команду — и теперь разве гарнизонные офицеры прельщают уездных ба рышень печоринским «разочарованием». Вам вот конец не понравился… Это значит, что и у вас, господа гимназисты, вкусы еще немного… гарнизонные… Я сильно покраснел. Авдиев заметил это и вдруг, откинув голову, залился своим звеня щим смехом. — А! Вот оно что! Кажется, понимаю, — ска зал он. — Ну ничего, ничего, не краснейте! Но ведь это сходство только поверхностное. Бат манов, прежде всего, барин, скучающий от безделья. Ну, а я разночинец и работник. И, ка жется,… работник в своем деле недурной… Русских писателей я брал у Авдиева одного за другим и читал запоем. Часто мне казалось, что все это, в сущности, только вскрывает и ос вещает мысли и образы, которые давно уже толпились в глубине моего собственного моз га. Каждый урок словесности являлся светлым промежутком на тусклом фоне обязательной гимназической рутины, часом отдыха, наслаж дения, неожиданных и ярких впечатлений. Час то я даже по утрам просыпался с ощущением какойто радости. А, это — сегодня урок сло весности!» (Т.4, С. 253–266). 37