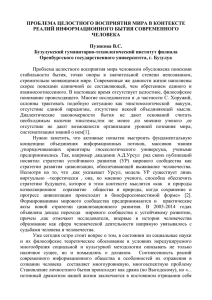СОВРЕМЕННЫЕ ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА
реклама
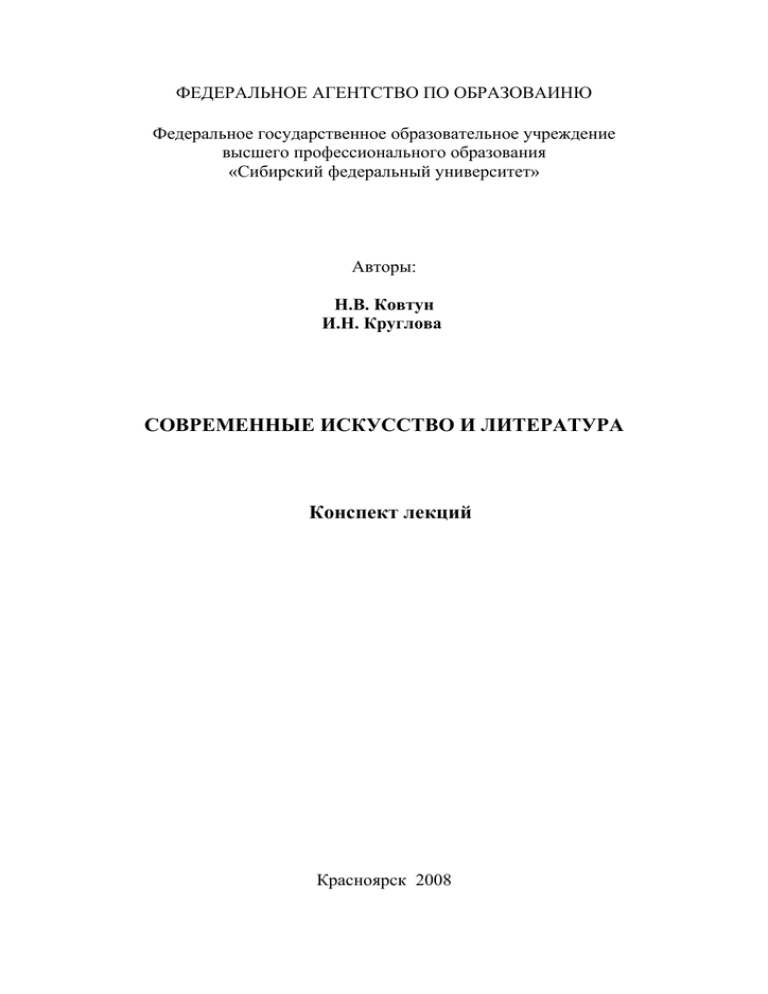
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАИНЮ Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет» Авторы: Н.В. Ковтун И.Н. Круглова СОВРЕМЕННЫЕ ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА Конспект лекций Красноярск 2008 2 Введение – 0, 17 (6 часов) (аудиторные занятия – 4, самостоятельно – 2) План 1.Основные черты культуры Нового времени 2. Ведущие проекты модерна: Гегель и Ницше 3. Новые идеалы религиозности (гностицизм) 4. Образ героя-юрода: варианты интерпретации 5. Русская революция в рецепции модернистов Эпоха модернизма (от фр. moderne новейший, современный) понимается как эпоха, пришедшая на смену эпохе Просвещения и романтизма, искусство модернизма так широко трактоваться не может и связано с распадением некогда единой художественной системы на множество самостоятельных школ и явлений. Модернизм отразил кризис прежнего типа мировосприятия, кризис эстетики, которая по сравнению с новейшей стала именоваться классической. Определяя искусство модернизма, петербургский искусствовед М. Герман настаивает – это система новых «художественных кодов»1, которые требуют своей дешифровки, данный процесс и определяет ценность художественного произведения. Означающее и означаемое, знак и смысл, текст и идея утрачивают непосредственную связь, знак начинает отсылать не к содержанию, но к другому знаку, культурному контексту. Начало ХХ века ознаменовано пессимистическими прогнозами относительно возможностей современного искусства и культуры в целом. Причем их разделяют отнюдь не только наследники духовной традиции ΧΙΧ столетия, но и те, чьи взгляды, творчество формируются в эпоху модернизма: Н. Федоров, Г. Федотов, Н. Бердяев, В. Розанов. Главными чертами культуры нового времени признаются отказ от власти традиции, отношения с которой приобретают все большую сложность, противоречивость (эпатирующие заявления В. Маяковского, Б. Брехта об отказе от авторитета классиков соседствуют с признанием «видоизмененного прошлого» Дж. Элиота), предельная субъективность (как «свобода» и «рефлексия», по Гегелю), торжество рационализма во всех сферах жизни (теория М. Вебера). В статье 1928 года русский религиозный философ Г. Федотов к основным чертам современности отнесет «примат воли, динамизм, активизм, энергетизм»2. В искусстве утверждение новых приоритетов оборачивается чувством подавленности, страха, абсурда бытия. Мир «очуждается» от человека, лишается «теплоты», узнаваемости, «родственности», что и предопределяет популярность идей экзистенциализма. Подчеркнем, недоверие к авторитету позитивистского знания, критика «доступных разуму стандартов добра, 1 2 Герман М. Модернизм. – СПб., 2003. С. 8. Федотов Г. Carmen saeculare // Вопросы философии. 1990. № 8. С. 138.| 3 истины и прекрасного» (Меджилл) составили основу всех авангардных течений рубежа ХIХ-ХХ веков. По определению Д. Фоккемы, «долгий процесс секуляризации и дегуманизации», начавшийся в эпоху Нового времени и связанный с развитием естественных наук, завершается в постмодернизме. Духовный кризис начала ХХ столетия обусловлен не только разочарованием в перспективах социализации личности (поздняя проза Л.Толстого и А. Чехова, романы Т. Манна, А. Франса), обстоятельствами войны, но и утратой веры в идеалы ортодоксальной религиозности. Принцип «субъективности», проявляющийся в индивидуализме, праве на критику, жажде личной свободы, мало сочетается с требованиями догмата. Знание и веру, рацио и интуицио Просвещению примирить не удалось. Как государство, так и церковь стремительно утрачивают былой авторитет. В творчестве русских модернистов, в «Огненном ангеле» В. Брюсова, ряде стихотворений Ф. Сологуба, Н. Гумилёва, «Злых чарах» К. Бальмонта отчетливы призывы к иным, нездешним авторитетам и ценностям. Поэты осваивают идеи древнего гностицизма (религиознофилософского учения, ознаменовавшего переход от ценностей античного мира к христианству), признавая за духом зла субстанциональный, креативный статусы, невозможные в традиции ортодоксального православия1. Сатана как подлинный властитель Вселенной, связывается с идеалами добра, творчества, свободы от пошлости и серости настоящего. Художники ищут принципиального иных авторитетов, несовместных с пошлостью мира настоящего. Отечественный серебряный век, сохраняя интерес к мистике, практически отрешится от заветов христианских ортодоксов, возрождение интереса к религиозным темам в России, пережившей нигилизм большевиков, относится к 1970-м годам ХХ столетия. В европейской культуре вопрос свободы творчества от власти идеологии, морали, формы от содержания связывается с учением Ф. Ницше. Выдающийся немецкий исследователь эпохи модерности-постмодерности Ю. Хабермас утверждает два оригинальных проекта современности, созданных Гегелем и Ницше. Современные исследователи считают последнего одним из «крестных отцов» и культуры постмодернизма, завершающей ХХ век (частным подтверждением тезиса служит программное заявление современного отечественного писателя и критика - Вик. Ерофеева: «Роли пророка и учителя жизни исчерпаны… Я думаю, это – цинизм использовать литературу во внелитературных целях»). Буржуазному прогрессу, скуке Просвещения, царству разума и «вялого» гуманизма Ницше противопоставляет страсть, силу, экстаз – «волю к жизни», «священную игру», миф. В мифе философ-«еретик» и видит исход, ключ к новой гармонии, достижение которой уже не соотносится с эпохой модернизма. Ницше призывает к явлению грядущего Бога, искусству как См. Слободнюк С.Л. Русская литература начала XX в. и традиции древнего гностицизма. – СПб.; Магнитогорск, 1994. 1 4 Теургии, творцом которого должен стать сам народ. Обозначившийся в трудах философа спор об отношении духа и игры-творчества, морали и языка (формы) не решен до сих пор, но его первыми «жертвами» явились те, кто не смог возвыситься до аскетического служения идее (подобно «преобразователям мира») и не имел сил бунтовать (как «сверхчеловек» Ницше). В конце XIX – начале XX вв. в фокусе внимания – неправильный, больной, раненный человек1. Центром личности становится эксцесс, надрыв. «Маленький человек», филистер оказывается в ситуации фатального одиночества, непонимания, глухоты и немоты (лирика А. Блока, рассказы М. Зощенко). Мир, сорвавшийся с нравственной оси, предстал тюрьмой, углом, в котором нет места Слову (Богу), надежде и красоте. На фоне глобального пессимизма, «нового варварства» и зарождается иная художественная парадигма. К ее доминирующим чертам исследователи относят идею замкнутости, самодостаточности произведения, законы которого постигаются изнутри, форма, композиция определяют уровень художественности текста2. Изменяется соотношение между всеобщим и частным, изобразительностью и выразительностью, яркая деталь, штрих как прорыв к сокровенному преобладает над стремлением к полноте жизненной картины, ее достоверности (творчество В. Хлебникова, А. Платонова, М. Зощенко). Искаженная, пугающая непредсказуемостью, пустотой Вселенная требует для своего выражения иных творческих решений, языка («заумь» футуристов, искусственные и «утопические» языки). Абсурдному миру соответствует изменившийся герой – юрод, шут и гений одновременно (но не пророк и не герой). В нем все нетипично, неопределенно, чудно-чудесно-чудовищно. Этот образ приобретает универсальное значение, часто захватывая в свое поле и самого автора (каноном юродства маркируется судьба русского философа Н. Федорова, в постмодернистском искусстве – писательские маски Д. Пригова, Вен. Ерофеева). Юрод-ребенок как персонаж «границы», «порога» открыт вечности, символизирует нисхождение Благодати в пределы профанного. Он – обладатель особой ауры святости, которая окружает, защищает от насмешек, непонимания грешников. Юрод «свободен» от примет настоящего, аккумулирует в себе образ иного бытия, но если классическая традиция делает упор на скрытой трансцендентной логике его поступков, то модернизму важно юродство как вызов обыденности. Своеобразие героя новой художественной парадигмы раскрывается не на уровне психологического анализа, но через жест, штрих – детали, отсылающие к глубинам подсознательного, тайного, необъяснимого в человеке и его времени. Художественный персонаж обретает значение символа эпохи (расколотое сознание героев романа «Петербург» А. Белого – знак уничтожения, гибели истории). Необходимость осмысления стремительно меняющегося мироздания акцентирует интерес художников к философским проблемам, оккультным 1 2 См.: Грякалова Н.Ю. Человек модерна. – СПб., 2007. См.: Зверев А. ХХ век как литературная эпоха // Вопросы литературы. 1992. № 8. С.3-56. 5 учениям: гностицизму1, масонству2. В литературе конца ХХ века данная тенденция обернется «философской интоксикацией», критика обвинит современную прозу в многословии и «рассуждательстве»3. Философствующий писатель становится модным, утрата искреннего религиозного чувства влечет за собой забвение подлинного смысла таинств, читатель постиндустриальной эпохи требует «карманных апокалипсисов» и виртуальных мистерий. Время рубежа ХХ – ХIХ веков оформляет принципиально новые идеи на языке уже имеющихся в культуре эпистем, среди важнейших открытий европейского и отечественного модернизма обычно называют пробуждение интереса к витализму (утверждение натурализма в русской литературе начала века), эзотерике (необычайная популярность учения Е. Блаватской в России и европейское внимание к спиритическим сеансам, что отражается на создании образа поэта-теурга в мировой литературе этого времени), масонству, гностицизму, шаманизму, юродству, уродству вплоть до сумасшествия (тема вырождения «ветхого человека» характерна для лирики А. Блока, для мистериального творчества Вяч. Иванова) и смерти. Не случайно Э. Золя, рассуждая об особенностях нового времени, указывает на смерть «человека метафизического» и утверждение «обнаженного человека», обостренно чувствующего все перипетии бытия, лишенного прежней защиты рода, мифа, культуры. Предпочтения эпохи сказываются на уровне художественного опыта в подчеркнутом орнаментализме, символизме текстов. В человеке теперь акцентируется область бессознательного, стихийного, дионисическое начало, художественные обретения связывают с состоянием сна, бреда, болезни, эксцесса (сборник снов А. Ремизова), которые и открывают путь к подлинному, скрытому ранее условностями, этикетом. Человек предстает загадкой, в нем открывают многие бездны, вопрос самоидентификации, предназначения – основной для автора произведения и его героя4. Отечественный серебряный век, узнав больного, периферийного, частного персонажа, проявляет интерес к пограничным зонам обитания, к провинции, частностям негероической жизни, экзотике, «другим» мирам (внимание В. Брюсова, А. Блока к темам города, героя и толпы). Мир модерна утрачивает целостность, иерархичность, но обретает разнообразие, непредсказуемость, загадочность. Эти эпистемы, сформировавшиеся изначально в творчестве высоких интеллектуалов, позднее мигрируют в массовую культуру, фетишизируются и прагматизируется. Интеллектуальный опыт модернизма безусловно ощутим в искусстве постмодернизма, на См.: Слободнюк С.Л. «Идущие путями Зла…». «Дьяволы» «серебряного» века: (Древний гностицизм и русская литература 1890-1930 гг.). – СПб., 1998. 2 См.: Ковтун Н.В. Интеллигенция и масонство в утопическом дискурсе // Интеллигенция в процессе поиска Россией будущего: Материалы Междунар. науч. конф.: В 3-х ч. – М.; Улан-Уде, 2003. Ч. 3. С. 97-114. 3 См.: Роднянская И. Гипсовый ветер // Новый мир. 1993. № 5. С. 215-232. 4 См.: Грякалова Н.Ю. Человек модерна. С. 5-76. 1 6 уровне жанровых экспериментов отмечается их обоюдный интерес к малым формам, эскизу, миниатюре, способным передать фрагментарный, неустойчивый характер современного существования (философия во фрагментах В. Розанова). Отторжение старого, больного, дряхлого мира в начале ХХ века устойчиво, всеобще, что позволяет говорить о внутренней, глубинной перекличке эпохи отечественного модерна со следующей за ней советской эпохой. Увлечение К. Марксом на рубеже эпох соперничает с увлечениями Ницше и Вагнером. В России в теории Маркса видят возможность не только просветления бытия, но его конкретного, реального, инструментального преобразования здесь и сейчас, причем планы переделки настоящего традиционно для русского человека охватывают мир в целом. Избавление человечества от зла – идея, которая в силу архетипической природы не могла оставить русского человека равнодушным. Представители серебряного века зачастую и саму Революцию воспринимают как великое мистическое действо, призванное очистить прежние мир, человека от зла, пересоздать Вселенную, после чего и откроется новое небо и новая земля, предсказанные в Апокалипсисе (поэма «Двенадцать» А. Блока). 1917 год осознается современниками прорывом в будущее, скачком через время. Утопизм – ведущая черта общественного сознания. «В первое десятилетие Октября социалистические утопии воспринимались как абсолютная, не подлежащая сомнению реальность завтрашнего дня»1. Сегодня и завтра максимально близки, все надежды, планы концентрируются в пределах бытия одного поколения. Можно говорить о целом постреволюционном утопическом направлении чувств и умов, которое наиболее взволнованно выражала поэзия. В ней в это время звучали темы всеобщего братства, труда, радикального преобразования мира и природы человека, бессмертия, овладения космосом… Революционная эпоха в статьях и стихах ряда пролетарских, да и не только пролетарских поэтов, воспринимается не просто как обычная социальная революция, а грандиозный катаклизм, начало «онтологического» переворота, когда рождается в муках утопическая Вселенная2: «Мы не должны, не можем и не смеем / Оставить труд, заплакать и устать: / Мы призваны великим чародеем / Печальный век грядущим обновлять», – писал Н. Тихонов («Перекресток Утопий»). Прорыв в будущее зачастую порождает целые поэтические циклы («Эра Славы», И. Филипченко, 1918). Утопические сюжеты, образы, детали пронизывают жизнь и литературу3. У И. Бунина в «Окаянных днях» передается сцена беседы красноармейцев, утверждающих, Чегодаева М. Соцреализм. Мифы и реальность. - М., 2003. С. 51. См.: Семенова С.Г. Русский космизм // Русский космизм: Антология философской мысли / Сост. С.Г. Семенова, А.Г. Гачева. - М., 1993. С. 31. 3 Интерпретация России как фиктивного пространства, наиболее соответствующего теории симулякров Бодрийяра, характерна для целого ряда современных исследователей. См.: Берг М. Литературократия. Проблема присвоения и распределения власти в литературе. М., 2000; Эткинд А. Содом и Психея: Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. - М., 1996. 1 2 7 что скоро Питер под стеклом будет, вера в фаланстеры, открытые романом Н.Чернышевского, компенсирует утрату веры в Бога. Ленин в «России во мгле» Г. Уэллса убежден, что новое Отечество явится уже через 10 лет, а поэт Рукавишников (мемуары В. Ходасевича) мечтает о хитонах и коммунистическом кормлении. Порыв против серости, скуки буржуазного мира и вылился в романтизацию, утопизацию перспектив революции. В исследовательской литературе сегодня эра русского модерна анализируется в парадигме: модерн – соцреализм – постмодерн (теория М.Эпштейна), что позволяет увидеть внутреннюю целостность культуры при видимом разнообразии жанровых и стилевых решений. Раздел 1. Культура на рубеже XIX – начала ХХ веков. Модерн 8 Тема 1. Мировая художественная культура конца XIX – начала ХХ века. Историческое и культурное положение России этого времени – 0, 22 (8 часов) (аудиторные занятия – 4 , самостоятельно – 4) План 1. Художественные течения эпохи модернизма. Модерн и декаданс 2. Сюрреализм и метафизическая живопись. Искусство дада 3. Экспрессионизм, его влияние на основные течения модернизма 4. Импрессионисты. Художественное кредо 5. Идеи модернизма в интерпретации постмодернизма: акционизм, попарт, оп-арт, мобили, видео-арт На рубеже XIX–XX вв. в Европе идет интенсивный поиск нового языка в искусстве, новых форм и возможностей. Первые три десятилетия ХХ столетия открывают абсолютно новые направления в художественной культуре. Одно из главных – авангардизм (термин появился во времена французской революции, так же как понятие «реакционный», для характеристики социально-политического движения). Его значимость – в призыве к полному обновлению художественных форм и выразительных средств, в отказе (хотя бы декларативном) от художественных традиций. Опираясь на эксперимент, который часто самоценен, художники, тем не менее, апеллируют и к традиционной культуре: древнему искусству, мало изученным цивилизациям, народному творчеству. В литературе авангардизм связан с именем знаменитого ирландца Д. Джойса – автора романа «Улисс», написанного в жанре «потока сознания». В России ранний авангард отличает интерес к средневековой живописи, иконе, лубку, одновременно в сфере его интересов открытия модерна, символизма (живописные опыты М. Ларионова и Н. Гончаровой). Нередко авангардисты начинают вполне традиционно, а затем, испытав все существующие приёмы, формы, уходят от них. Таковы судьбы П. Пикассо, который испробовал самые разные способы самовыражения в искусстве (реализм, кубизм, абстракционизм); С. Дали, прошедшего через реалистический период, и нашедшего себя в сюрреализме (автор термина французский поэт Г. Аполлинер). Основой сюрреализма как авангардного направления стало стремление реально и точно показать совершенно нереальное, невозможное. Cюрреализм (сверх- или надреализм) возникает во Франции в 1920-е годы, среди сюрреалистов – художники, писатели, режиссеры. В живописи предтечами сюрреалистов выступают дадаисты (от фр. dada – конек, деревянная лошадка) и представители метафизической живописи. Дадаисты подчеркнуто протестуют против всего предшествующего искусства, провозглашают свободу творческого эксперимента в области бессмысленной поэзии, шумовой музыки и автоматического рисунка. Это интеллектуальное движение вырастает из недовольства филистерским миром, 9 насмешки над ним, провозглашая свободу человека. В разное время по ведомству дадаистов числились художники М. Дюшан, Ф. Пикабиа, М.Эрнст, Т. Тзара и др. Дадаисты не слишком «доверяют» спасительной силе искусства, «второй реальности», поэтому в центре их интересов – «первая реальность». Типичный сюжет дадаистов – изображение подчеркнутой обыденности, банального, тривиального предмета, но изъятого из привычной среды. (Дадаизм не случайно рассматривают как предтечу поп-арта). Ярким проявлением подобной стратегии стала композиция М. Дюшана «Сушилка для бутылок», состоящая из закрепленных на двух изогнутых стержнях шести обручей разного диаметра с крючками для бутылок или экспонирование на одном из вернисажей фаянсового писсуара за собственной подписью и с названием «Фонтан». В этой же парадигме жест Ф. Пикабиа, выставившего заключенным в раму пустой холст, по сторонам которого шли надписи: «Портрет Рембрандта», «Портрет Ренуара», «Портрет Сезанна», а к четвертой стороне приделана игрушечная обезьянка. Неистощимая фантазия дадаистов, эпатажность творческих приемов обеспечила огромный интерес к их выставкам. Метафизическая живопись – направление в итальянской живописи 1910-начала 1920-х годов, его создатели – Дж. Де Кирико и К. Карра. Представители метафизической живописи стремятся создать облик жизни, отчужденный от человека, лишенный привычной осмысленности и комфорта. В мире метафизиков вместо людей часто фигурируют манекены и статуи, помещенные в необычные пространства, в соседстве с совершенно неожиданными предметами и существами. Эти таинственные образы, не связанные друг с другом, рассматривают как многомерные символы, с помощью странных предметов передается магическая атмосфера иллюзии, сна. На полотнах метафизиков в обилии представлены архитектурные детали, подчеркивающие определенную пространственную символику. Наиболее известными работами представителей направления считают портрет основоположника футуризма Ф. Т. Маринетти, выполненный К. Кара, его же «Метафизическую музу» и работу Кирико «Двое». Как дадаизм, так и метафизическую живопись рассматривают в качестве первых этапов сюрреализма. В отличие от сюрреализма, мир представителей метафизической живописи более статичен, он словно застывает, остановленный прикосновением волшебной палочки, однако с традициями метафизической школы связаны многие открытия сюрреалистов, ряд художников одновременно относят к метафизикам и сюрреалистам – П. Дельво с его «Спящей Венерой», где окружение богини составляют скелет и манекен. Сюрреализм пытается «наладить отношения» между мечтой и реальностью, открыть особый, чувствительный путь постижения бытия. Художник в этой системе отсчета становился сознательным иррационалистом. Важнейшим фактором, определившим самосознание сюрреализма, стал психоанализ З. Фрейда. Психологические концепции и дали обоснование подсознательных факторов психики, подсознание 10 рассматривается теперь как фундамент и основной стимул подлинного творчества. У истоков нового направления в литературе – французский поэт А. Бретон. Совместно с художником Х. Арпом и М. Эрнстом, поэтами П. Элюаром и Б. Пере Бретон издает «Первый манифест Сюрреализма» (1924). Для прорыва к стихии бессознательного сюрреалисты выбирают состояние сна, бреда, предельной эмоциональности, освобождающие от контроля логоса, указывающие путь в глубины духа. Новая реальность, открытая таким путем, обретает мистический смысл. Классическими представителями сюрреализма принято считать С. Дали, Р. Магритта, П. Дельво, В. Палена и К. Зелигмана. Жесткую грань между авангардом и модернизмом, модернизмом и декадансом провести невозможно. Авангард, особенно ранний, воспринимается модернизмом уже как своеобразная классика, система, которой скорее наследуют, продолжают, чем опротестовывают. Важнейшим течением модернизма становится символизм (от греч. знак, символ). Основоположниками символизма считают французских поэтов: П. Верлена, С. Малларме, А. Рембо, Лотреамона. Термин «символизм» в качестве названия поэтической школы, художественного течения впервые применен в 1886 году поэтом Ж. Мореасом. Символисты используют слова в их символическом, а не общепринятом значении, пытаются отразить не столько реальность, сколько мир вечности, идей, доступный лишь подлинному мастеру. Искусство и есть путь к непостижимому, возможность откровения тайны, души мира. Образ-символ – сложнейший знак, требующий интерпретации. Художники-символисты стремятся выразить настроение и психологическое состояние через цвет, линию, форму. Сюжеты их картин – мифологические, мистические или фантастические. Некоторые черты символизма усматривают уже в творчестве прерафаэлистов (английские художники, ориентирующиеся на духовные основы культуры средневековья). Ведущими художником-символистом считаются Г. Моро, А. Беклин, О.Редон. Искусствовед Р. Голдуотер крупнейшими представителями символизма называет Гогена, Ван Гога, Сера, Мунка. В России к творчеству художников-символистов относят В. БорисоваМусатова, представителей «Мира искусства» (Н. Рерих, А. Бенуа, К. Сомов, Л. Бакст). Именно русский живописный символизм оказался более последовательным, теоретически значимым, ему присущ оригинальный художественный язык. По мысли искусствоведа А. Русаковой, начало русскому символизму положено работами представителей абрамцевского кружка1. Художников этого направления отличает лиризм, что резко расходится с трагической тональностью русского поэтического символизма. По накалу переданных чувств, драматическому мирочувствованию литературному символизму близко творчество М. Врубеля. Символистская поэтика ощутима и в работах авангардистов: В. Кандинского, К. Малевича. Символика русской иконописи воскресает на полотнах К. Петрова-Водкина. 1 Русакова А. А. Символизм в русской живописи. – М., 1995. 11 Понятие символизма часто отождествляют с понятием «декаданса». Во французской традиции декадансом обозначают литературно-художественное течение, предшествующее символизму. Э. Гудо – участник декадентских движений – определил их как «безумие, выплеснутое наружу в невозмутимых буффонадах»1. Дух бунтарства, нигилизма, даже цинизма отчасти напоминает дада. Декаданские умонастроения впервые появляются еще в 1850-е годы, о декадансе как особом мировосприятии, оригинальной литературной форме и манере поведения (дендизм) писали Готье и Бодлер. Искусствовед В. Крючкова считает, что «процесс зарождения, становления и постепенного угасания символизма совпадает с периодом декаданса и протекает в тесном взаимодействии с ним»2. В такой трансформации декаданс не столько факт художественной жизни Европы, сколько явление социальной психологии, определенное состояние сознания, типичное для просвещенной элиты середины ХIХ века. Характер декадента складывается из пессимистического взгляда на мир, изысканного фрондерства. Литература, искусство, развившиеся из такой атмосферы, отражают кризисное состояние духовной жизни. Декаденты обращаются к красоте угасания, «усталым», бледным образам, темам забвения, смерти. Идея упадка возникает как противодействие идее безудержного прогресса и порожденного им кризиса буржуазных ценностей. Разочарование в установках Парижской Коммуны приводит к желанию осмеять весь мир, потешаться над его глупостью. Постепенно эти настроения заменяет жажда построения нового, «искусственного рая», царства грез и поэтического вымысла, особая сосредоточенность на собственном «я». Тип невротика и наркомана представляет эту тенденцию в наиболее выраженной форме. Из такой позиции и вызревает определенная художественная программа. Типология декадентской тематики представлена миром легенд, фантазий, историческими эпохами упадка (поздний Рим, Византия), древневосточной и средневековой мистикой, женскими меланхолическими образами (тип Моны Лизы, Офелии) или тип «роковой женщины» (Саломея). Привлекает внимание облик андрогинна, символика растений, камней, животных, темы разрушения и смерти. За пределами стиля модерн искусство символизма тесно соприкасается с экспрессионизмом (Э. Мунк, Дж. Энсор, Ф. Ходлер). Экспрессионизм формируется в конце ХIХ - начале ХХ века. В живописи зарождение экспрессионизма связывают с Германией, направление предполагает отражение в произведениях искусства не явлений и предметов реальной действительности, а чувств и переживаний автора в максимально соответствующей им форме. Естественно, что единых правил здесь быть не может, т. к. всякий раз ощущения, переживания, эмоции имеют разную Цит. по: Richard N. A l'aube du symbolisme. Hydropathes, fumustes et decadents. - Paris, 1961; Idem. Le movement decadent. Esthetes et quintessents. - Paris, 1968. P. 16. 2 Крючкова А.В. Символизм в изобразительном искусстве. Франция и Бельгия. 1870-1900. – М., 1994. С. 12. 1 12 основу, следовательно, и форму выражения. Группой русских художниковэкспрессионистов «Голубой всадник» руководят В. Кандинский и Ф. Маркс. Название «Голубой всадник» принадлежит одной из картин Кандинского и альманаху, содержание которого строится по принципу коллажа: современные картины сменяют детские рисунки, древние миниатюры, произведения народов Африки. Голубой цвет, подчеркнутый в образе символичного всадника, – важнейший у философов и литераторов, близких символизму, он связан с тайной запредельного, мировой души. Для Кандинского сюжет с всадником ассоциируется с мотивом драконоборчества. Под влиянием представителей живописи критического реализма (Курбе, Домье) появляется такое направление в искусстве как импрессионизм (от фр. impression впечатление). Его история сравнительно кратковременная – всего двенадцать лет (от первой выставки картин в 1874 году до восьмой в 1886). В период расцвета к импрессионистам относятся выдающиеся художники: К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, К. Писсаро, А. Сислей и др., кто стремился к обновлению искусства, преодолению официального салонного академизма. Само название «импрессионизм» возникло после выставки 1874 года, на которой экспонировалась картина Моне «Впечатление. Восход солнца». Импрессионисты стремятся запечатлеть изменчивую природу в ее истинном виде, уловить тончайшую игру света. Важнейшая из новаций импрессионистов – постоянная работа на пленэре, которая раньше практиковалась лишь изредка. Стили импрессионистов различаются между собой, но всех объединяет исследование эффектов света и движения, достигавшиеся использованием крупных отчетливых мазков или красочных пятен, разбросанных по полотну, а не смешанных предварительно на палитре. Эта мерцающая цветовая мозаика словно смешивалась в процессе самого восприятия картины зрителем, позволяя ощутить все богатство реальной цветовой гаммы. Большинство импрессионистов избегают черного цвета, используют цветные тени и систему цветовых рефлексов. Объемные формы при этом как бы теряются, растворяются в световоздушной оболочке, лишаются жестких контуров. В 1880-е годы направление распадается на несколько новых стилей, позднее оформившихся в неоимпрессионизм (Ж. Сера, П. Синьяк) и постимпрессионизм. Яркие представители последнего – П. Сезанн, В. Ван Гог и П. Гоген. Некоторые принципы импрессионизма проявились в скульптуре 1910-х годов, у Э. Дега, О. Родена, М. Голубкиной. В литературе импрессионизм представлен творчеством П. Верлена, в музыке – произведениями К. Дебюсси. Культура модерна, запечатлевшая разочарования человечества в собственном могуществе и разумности, измученная войнами, в истории остается как культура блистательного разнообразия форм, языков, кодов и художественных поисков. Приходится согласиться с выводами М. Германа, что акционизм (искусство акции как непосредственного действия, выступления, связанного с реализацией творческих идей художника или целого объединения), концептуальное искусство (от лат. мысль, понятие, 13 главная задача автора здесь – передать мысль, идею, используя для этого главным образом комбинации из готовых предметов), поп-арт (от англ. хлопок, буквально – искусство взрыва, эпатажа или популярное, общедоступное искусство, термин используется с 1960-го года), оп-арт (оптическое искусство, художники этого направления основывались в своих поисках исключительно на оптических явлениях, стремились создать новый тип окружающей среды, способной воспитывать в человеке лучшие качества), мобили (искусство подвижных форм, в музыке – произведение, состоящее из частей, которые могут изменяться по желанию исполнителя или по законам ассоциации), видео-арт (ТV-арт) – все то, что стало доминантой в постмодернистские годы, в той или иной степени уже было в искусстве довоенного времени. Так, например, представители оп-арта, получившего распространение в 1960-е годы, опираются на достижения приверженцев геометрического абстракционизма, основоположником которого считают В. Вазарели. И по своей философско-художественной направленности (ключевая идея - победа над материальным хаосом путем создания чистой эстетической среды) оп-арт близок исканиям начала ХХ века. Поп-арт рассматривают как направление неоавангарда, связывают с идеями М. Дюшана, Ф. Бэкона, в творчестве которых сочетаются изысканность, утонченность авангарда и эстетизация ширпотреба, иронизм. Тема 2. Отечественная литература конца ХIХ – начала ХХ века. Модернизм – 0, 22 (8 часов) (аудиторные занятия – 2, самостоятельно – 6) План 14 1. Своеобразие отечественного модерна. Модернизм в дискурсе классики 2. Основные течения отечественного модернизма. Символизм в художественной литературе 3. «Антонимы» символизма: футуризм, акмеизм. Поэтический имажинизм 4. Новые проекты религиозности в искусстве начала ХХ века 5. Тема русского эроса в рецепции модернистов Русский модерн занимает особое место в мировой культуре. Творчество отечественных авторов отмечено мотивами богоборчества, бунта против привычного, известного, «скучного» мира, отречением от наследия классики, переосмыслением традиции. Начальные десятилетия XX века рассматривают ближнее национальное прошлое в поле новых духовных ориентиров, вне его собственного эстетического и нравственного контекста. Наиболее заметно это коснулось родных писателей-мыслителей XIX века: от Гоголя до Чехова. Формой адаптации классики к духовной конъюнктуре дня и стал философско-демонический миф1. Создается легенда о Н. Гоголе, увидевшем Россию в образах адского загробъя (В. Розанов, Д. Мережковский, А. Белый), миф о Тютчеве – предчувственнике мировых катастроф (Вл. Соловьев, В. Брюсов), миф о Ф. Достоевском – предтече «сатанистов» и разоблачителе эстетства (В. Розанов, С. Булгаков, С.Аскольдов), миф о Л. Толстом, одержимом страхом смерти (Л. Шестов) и ужасом перед Судом Божиим (Н. Бердяев), миф об А. Чехове с его «творчеством из ничего» (Л. Шестов, З. Гиппиус). Однако личности прошлого в художественном представлении своих «наследников» не просто инфернализируются, модернизм выворачивает наизнанку, ошельмовывает и сам образ истины, сложившийся на страницах прозы и поэзии XIX века. Русская классическая литература пронизана пафосом надежды. Истины без надежды не существует, будущее представляется в оптимистических тонах. Сама философия надежды носит социальный характер, когда поиски общественного идеала всеобщего счастья и справедливости из чисто литературного плана часто перемещаются в реальный (поиск легендарного Беловодья, Китеж-града – аналогов «земного рая» старообрядцами и их последователями). Пред истиной, как пред Богом, провозглашалось абсолютное равенство всех и каждого. Из этого единства Бог-истина следует тождественность истины и добра. В художественной модели мира, созданной русской классикой, зло всегда обречено, и главная причина уязвимости – его вторичность, неизначальность. Истина немыслима и вне красоты, однако плотская, бездуховная красота, лишенная истины и добра, профанируется, превращается в маску, обман, безобразие. Гармоническую целостность всем составляющим художественной картины мира XIX столетия придает цель: истина, красота, добро 1 См.: Исупов. Эстетика истории 15 приобретают смысл только в контексте высоких целей. Поэтому хаос, парадоксальность, дисгармоничность жизни оцениваются в классической русской культуре как нечто случайное, необязательное, иллюзорное. Мысль, что временное зло будет побеждено, а человеческое бытие необходимо обретет прежний смысл – магистральная для литературы «золотого века». Поэтому именно с ее отрицания начинается полемика модернистов с традицией. Вместо целесообразного единства, гармонии они увидели разверзшуюся бездну и подвергли сомнению самое мироустройство. Стало необходимым найти иные, лежащие за пределами реализма, способы постижения и освоения новой действительности, оказавшейся сложнее, ужаснее, чем ее представляла классическая художественная парадигма. Новизна выдвигается обязательным ориентиром творчества. Так в ряде поэм К. Бальмонта, В. Брюсова отсутствие нового связывается с ужасомузостью, «ужасным ничто» (Бальмонт), «страшной мечтой», «кошмарным сном», «Чудовищем с клеймом: Всегда-Одно-И-То-Же» (Брюсов). Речь идет не о знакомой по творчеству XIX века жажде обновления жизни как преодоления современного зла во имя будущего добра, но о новизнеэкзотике, способной противостоять любой «воле другого». Чтобы защититься от диктата традиции – «чужой воли», «чужой морали», «чужого вкуса» – им и придают противоположные черты антигуманности, античеловечности. В этом мире «чужого бытия», небытия, личность лишена возможности реализовать свои права, что усиливает ощущение абсурда. Отринув поэтику реализма, модернисты осваивают иные языки, стратегии постижения действительности. В конце XIX – начале XX вв. отечественная словесность представлена не только критическим реализмом, определяющим для культуры второй половины XIX века, но и рядом других направлений. Идеологической базой культуры становится критический идеализм – разновидность религиознофилософского учения, представленного, в частности, философией В. П. Соловьёва. В условиях противоречивых тенденций развития истории многие художники провозгласили культ творчества как наиболее достойной формы самовыражения, себя же – предвестниками близкой мировой катастрофы. Искусство стало рассматриваться в качестве некого варианта Исхода из царства хаотичной, жестокой реальности. Начинают развиваться новые литературные направления: символизм, акмеизм, имаженизм, ставшие основой отечественного модернизма. Характерными чертами символизма в России принято считать близость к древней традиции сакрального мышления, с символизма начинается широкое открытие древнерусской иконописи и фрески, их художественный язык, метафизика повлияли на духовные поиски авангарда. «Способность видеть за физической реальностью иную, метафизическую, является необходимым качеством любого символического произведения»1. В религиозную тему вновь возвращается внутренняя, мистическая составляющая, связанная с творческой свободой в интерпретации духовных Флоровская А.К. Религиозные искания в неофициальной московской живописи 1970-х годов // Русское искусство: ХХ век. Исследования и публикации. – М., 2007. С. 400. 1 16 тем, их постижении на уровне «я». Религиозность здесь – глубокая, скрытая, структурирующая все произведение тема, направленная на поиск подлинных смыслов бытия, возможностей общения с Богом. В России к символистам относят союз Н. Минского, Д. Мережковского, З. Гиппиус и др., связавших искусство с богоискательством и богостроительством, с идеями «религиозной общественности». В 90-е годы ХIХ века представители этой группы демонстративно отказываются от классических традиций русской литературы, провозглашают новые принципы творчества, связанные с отказом от гражданственности в искусстве, культом красоты как высшей ценности, который нередко проникнут презрением к христианской нравственности. Критика тогда же назвала их декадентами. Второе течение (В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Соллогуб и др.) представляло символизм как исключительно литературное явление. Этим авторам свойственно стремление к чисто художественному обновлению русской поэзии. Литературоведы назвали их «старшими» символистами. Продолжатели их идей – «младшие» символисты – А. Блок, А. Белый, В.Иванов – при своём вхождении в литературу выступили как приверженцы философско-религиозного понимания мира в духе поздней философии Вл. Соловьёва. Соловьев - образцовый человек эпохи модерна, он полисемантичен: поэт, философ, мистик. На смену символизму в русской литературе пришёл акмеизм (от гр. akme высшая степень чего-либо, пышное цветение). Его представители – поэты Н. Гумилёв, А. Ахматова, С. Городецкий, О. Мандельштам, М.Кузьмин. Творчеству акмеистов присущи стремление примириться с действительностью, уйти от нравственных противоречий, однако, как правило, сами акмеисты в своем творчестве отступали от провозглашённых ими же канонов. Творчество великого русского поэта С. Есенина рассматривают в контексте имажинизма (от фр. image образ). Имажинизм – литературное направление, утверждавшее примат самоцельного образа, формотворчества над смыслом, идеей, первоначально оно соотносится с англо-американской поэзией 1912-1914 годов. Центральной фигурой был Э. Паунд, утвердивший принципы свободного стиха, системы образов и абстрактных понятий в поэзии. Паунду принадлежит идея выпустить стихи под псевдонимом Имажинист, в 1914 году он редактирует антологию «Имажинисты». С имажинистов начинается период модернизма в англоязычной поэзии. Автор манифестов отечественного имажинизма – известный поэт и писатель начала века А. Мариенгоф. Между тем в литературе первых двух десятилетий XX века творили поэты, произведения которых нельзя отнести ни к одному из течений декадентства: М. Цветаева, М. Волошин, Н. Клюев и др. Реалистическое направление в русской литературе рубежа веков продолжали Л. Толстой, А. Чехов, И. Бунин, А. Куприн. Одновременно в реализме появляются новые художественные качества – опосредованное отражение действительности, символизм и мифологизм. Этим обусловлено распространение неоромантизма, виднейшими представителями которого 17 стали: А. Ремизов, Ф. Сологуб, А. Белый с романом «Серебряный голубь», к этому направлению относят ряд произведений И. Шмелева, Б. Зайцева, А. Толстого, М. Пришвина. Особое место здесь занимает творчество М.Булгакова. Неореалистической тенденции не суждено было развиться в самостоятельное направление, исторический слом 1917 года превратил иллюзию, хаос в самую очевидную реальность. К такой же тенденции можно отнести экспрессионизм, представленный лирикой раннего В. Маяковского, ранними романами И. Эренбурга, прозой Е. Замятина, Б. Пильняка. Исследователь русской литературы ХХ века Н. Лейдерман считает, что влияние экспрессионизма испытали все художественные течения 1920-х годов: реализм, романтизм, авангард и постсимволизм1. Особое влияние экспрессионизма сказалось на авангардных течениях 1920-х: сюрреализме, творчестве обериутов (Д. Хармс, А. Введенский, ранний Н. Заболоцкий), абстракционизме. Мистические прозрения символистов сочетаются в культуре начала ХХ века с энергичными призывами авангардистов к немедленной реорганизации, переделке «дряхлого» бытия. Для последних смерть прежних богов, идеалов окрашивается в праздничные тона. Возникают новые группы, которые выступают уже не только против реалистического искусства, но и против предшественников – модернистов. Среди группировок, активно сражающихся с символизмом, отличаются кубофутуристы и эгофутуристы (от лат. futurum будущее). Знаменитым эгофутуристом стал И. Северянин, провозгласивший в качестве теоретических основ поэзии интуицию и эгоизм. Кубофутуристы с первых поэтических выступлений стремятся поразить публику. Они не только отказываются от классики, но и выражают презрение всей литературе в целом. Для поэзии представителей этого направления (А. Кручёных, В.Маяковского, Д. Бурлюка, В. Хлебникова) характерно подчёркнутое внимание к темам города, технического прогресса, некое анархическое бунтарство по отношению к современной действительности. Искусство жизнестроения, отринувшее этические и эстетические ценности классики, отказавшееся от традиций гуманизма и психологизма, претендует на создание новой, «механической» ойкумены как обители «машинного человека» (поэзия А. Гастева, ранние рассказы А. Платонова). С позиции традиционной морали подобная тарантелла на могилах предков не могла не ассоциироваться с новым варварством, апокалипсисом. Произошедшая «дегуманизация» искусства, несмотря на отпугивающую жесткость термина, явление исторически обусловленное. Разочарование в идеологии Просвещения, в человеке как «венце Творения», возможностях его социального обоснования неминуемо вели к «децентрализации», расширению представлений об окружающем. Вселенная, на периферию которой оттесняется homo sapiens, на равных теперь вмещает насекомых, облака, фантастических чудовищ, Лейдерман Н.Л. С веком наравне. Русская литературная классика в советскую эпоху (Монографические очерки). – СПб., 2005. С. 346-365. 1 18 геометрические фигуры... Реальность, привычно постигаемая в аспекте личностного, стремительно распыляется, мистифицируется, исчезает. Мир как стройная система ценностей, иерархия вещей уступает место миру мистическому, иллюзорному, где сиюминутное сочетается с вечным. Личность постигается как «темное», загадочное существо, движимое тайными пружинами, инстинктами, а отнюдь не стремлением к мировой гармонии и выполнению долга, на чем настаивало Просвещение. Интерес модернистов к мистике, эзотерическим учениям показателен и в этом отношении. Мотивы «чуждости», «заброшенности», одиночества человека во Вселенной характерны для творчества Д. Мережковского, старших символистов. Экзистенциальная трактовка свободы как метафизического бунта человека против собственного удела, против серости и скуки мира «недотыкамок» объединяет художественные направления модернизма. «Черный квадрат» К. Малевича – пример сакрализации пустоты, бездны, которая обживается, становится близкой, «своей». Не случайно Вяч. Иванов самые ценные мгновения жизни видел в том «созерцательном экстазе, когда нет преграды между нами и обнаженной бездной»1. А. Белый полуиронически замечал, что «бездна – необходимое условие комфорта для петербургского литератора. Там <…> ставят над бездной самовар. Ах, эта милая бездна!»2. Пустота подчеркнуто сакрализуется, рождает надежды как некий родник бесконечности, смысла, вокруг которого наращивается новое мистическое бытие. Художник оспаривает миссию Творца, осознается демиургом лучшего Завтра. Испанский философ Х. Ортега-и-Гассет суть происходящих перемен определяет как ломку «прежней перспективы» когда из искусства вытесняется «слишком человеческое», чтобы выйти из рамок «реального» – к мистике, от мира чувств – к идее, от земного – к космическому, уже не постигаемому на языке реализма. Новый стиль эпохи отмечен повышенным интересом к процессам слома, деформации (в искусстве популярны приемы травестии, профанации), чтобы обнажить сокровенные, скрытые смыслы бытия. На уровне истории названные стилевые черты имеют свое обоснование. Отказ от гуманизма – стержневой характеристики классической культуры – высвободил энергии невиданной мощности: «машинные», социальные, потенциал которых не был до конца понят. Бунт машин, разрушительных материальных сил подчеркнул «малость» человека, способствовал замене «я» безликим «мы». Отказ от Бога обернулся имморализмом, сатанизмом, техноцентризмом, в науке утверждается позитивизм, разочарование в котором очень скоро приводит к новой волне общественного пессимизма, всплеску интереса к магии, алхимии, эзотерике. О последствиях такого рода предупреждают в своих работах религиозные деятели, крупные философии, среди которых Н. Федоров, С. Булгаков, Г.Федотов. 1 2 Иванов Вяч. По звёздам. - СПб., 1909. С. 125. Белый А. Арабески: Кн. ст. - М., 1911. С. 343. 19 Мистико-религиозный проект «московского Сократа», как современники называют Федорова, наиболее полно отражает эклектичный, химерный дух своего времени, соединяя несоединимое: религию, магию, технику, эротику… в едином устремлении к идеальному будущему. Философ предлагает направить открывшиеся, пугающие своей непредсказуемостью, энергии в созидательное русло через осуществление глобального утопического плана «воскрешения отцов» – патрофикации. Дело, которое «румянцевский отшельник» предлагает русскому народу как народу-Мессии, должно стать всеобщим, итоговым подвигом, гармонизирующим жизнь мира до последнего человека. Победа над смертью, воскрешение отцов, должно стать высшим оправданием и смыслом существования всемирного государства. Преданность последнему становится долгом и обязательством землян, единственной возможностью реализации «общего дела». Идеальное государство Федорова – символ тысячелетней мощи, сплоченности, которые и должны быть мобилизованы на борьбу против слепых сил природы. Не норма, а добровольное согласие; не государство, а отечество; не справедливость, а благо составляют сокровенную основу федоровского проекта преодоления смерти. Перед ужасом небытия все прочие заботы, «торгово-промышленная» суета отступают, преображение человека в «общем деле» – единственная непосредственная технократическая задача, решение которой гарантирует подлинное, вечное счастье. Механизм воскрешения предков должен осуществляться через музеи, функционально и атрибутивно музей приравнивается к храму, совпадает с ним. Традиционная для русской классики мечта о «мире-рае», «городе-саде», владевшая умами масонов, декабристов, славянофилов, Л. Толстого, Ф. Достоевского… приобретает несвойственный ей инженерный дух, расчет. Федоров – пророк-визионер, искренне верующий в осуществимость собственного плана здесь и сейчас. Мистика сочетается с жестким расчетом. Проект «общего дела» предельно точно отражает идеи, настроения своего времени, те самые, против которых и бунтует философ. В идеальном мире Федорова воцаряется андрогин, сексуальная энергия которого преобразована в энергию воскрешения. Федоров хочет «полного торжества» над «чувственностью», которая укрощается «нравственною» и «умственною мудростью», как проявление дикой природы в разумной личности, «воля к размножению» должна быть заменена «волей к воскрешению». Только через отречение от пола возможно «общее дело», ведущее к «светлому будущему». Человеческое измерение: любовь, память, дружба, наслаждение… – в обновленном космосе полностью отсутствует. За новым обитателем Утопии проступают очертания Атлантиды Платона, фаланстеров Фурье и Н. Чернышевского, воспринятых наоборот: не эрос, наслаждения, чувственность побеждают смерть, но смерть, интимно понятая в акте воскрешения, покоряет и растворяет в себе желание. За утопией «общего дела» уже маячит коллективистская утопия общества развитого социализма, где андрогин возрождается вновь, становится подлинным героем времени. В известной степени наследниками 20 идей Федорова стали символисты. Вл. Соловьев, Вяч. Иванов для выхода из своего «я» и проникновения в чужое эго предлагают те же средства – православный идеал соборности, но и «прадионисийский половой экстаз», «оргийное самозабвение», популярные в практике крайних сект. Антонимичные оргазм и соборность встречаются в философии Вяч. Иванова как результат недоверия к личности, эго, как упорное стремление разрушить границы «я», растворив его в «мы». Вслед за Федоровым философ представляет фантазию коллективного тела в качестве способа индивидуального спасения и пути решения всех проблем современности (идея, за которой легко угадывается Ф. Ницше). Преображение, переделка мира и человека осуществляются в утопии Федорова усилиями живущих, вне божественной благодати. Религиозные философы С. Голованенко, Н. Бердяев, С. Булгаков упрекали автора «Общего дела» в недооценке иррациональных истоков бытия, в излишнем материализме его идей. Рационализация христианской тайны, попытка ее научного обоснования – черта модернистского сознания. Г. Флоровский религиозно-технический проект Федорова назовет «прелестным и жутким синтезом». Духовная генеалогия проекта, минуя христианский контекст, выводится из древней «магической традиции», построений французских утопистов, «религии человечества» О. Конта1. Особенно подчеркивается антиправославный, утопический характер учения «общего дела», стержень которого – нивелировка значения личности. Идея Федорова о том, что практически полезная деятельность, пронизанная высшей целью, уподобляется искусству, предвосхищает утопии модернизма и, далее, соцреализма. О близости интеллигентской религии человекобожия (Фейербах, Конт, Федоров) марксизму писал С. Булгаков в «Двух Градах»2, Флоровский видел в проекте «общего дела» «космический большевизм», призыв к научно организованной «космической многолетке». Усвоив законы космического бытия, каждый человек, по Н. Федорову, должен творчески воплотить их в собственной судьбе, личность теряет всякую определенность, поглощаемая логикой Вселенной. В этом слиянии всего во всем, в преодолении времени и пространства, философ видит залог подлинного просвещения как всепонимания, всепроникновения. Человек здесь – «действительный космополит», он носит в себе «всю историю открытий, весь ход… прогресса» (Федоров). Могучий, мудрый и ужасный андрогин. «Прелестная и жуткая» утопия, усилиями ортодоксов перенесенная в инфернальный контекст, в лике юродствующего пророка проступают демонические черты, «зачарованность смертью». Пророческая, будоражащая интонация «Философии общего дела» оказывается созвучна художественному проекту «Мы и дома» В. Хлебникова, «Розе мира» Д. Андреева. Первый почти реально осязал завтрашний день, мир будущего был для него не менее действителен, чем См.: Флоровский Г.В. Пути русского богословия. - Париж, 1937. С. 323–327. См.: Булгаков С. Два Града. Исследования о природе общественных идеалов: В 2 т. - М., 1911. Т. 2. 1 2 21 настоящий, а Д. Андреев буквально видел свои фантастические синклиты. Размышления, выводы «московского Сократа» оказали серьезное влияние на судьбу русской философии, литературы ХХ века, отразились в творчестве М. Горького, А. Богданова, А. Платонова, М. Пришвина, А. Кима. Программные идеи философа наиболее ярко, наглядно реализовались в трудах К. Циолковского. Последний придает «культу предков» научную завершенность, прозрачность, пугающую откровенность. Определение Флоровского – «прелестный» – проясняется как «дьявольский соблазн». Обольщение окажется настолько сильным, что в технократический путь к «земному раю» скоро уверует целая страна. Полемика Федорова с Л. Толстым, Вл. Соловьевым, Г. Флоровским достаточно полно передает ситуацию «духовного перекрестка», слома, в котором оказалось общество рубежа эпох. Попытки модернизации религии (Л. Толстой, Вл. Соловьев, Федоров), проекты преобразования мира и человека по собственному образцу не случайно выдвигаются писателями наравне с крупными философами. Литература, художественное творчество рассматриваются как инструмент реорганизации универсума. Литератор – «жрец», ведун, строитель совершенного бытия вольно или невольно оказывается в оппозиции к Творцу. И если для сознания европейцев подобный эгоцентризм не нов, то в русской классической традиции писатель как проводник, хранитель сакральной воли иронически относился к возможной роли демиурга. Русским модернистам принадлежит и право своеобразного открытия темы русского эроса (Вл. Соловьев, В. Розанов, Вяч. Иванов, А. Блок). Плотская любовь, секс, как и язык, – открытая система, предполагающая контакт с другими людьми, устремление к синтезу. Для классического искусства любовь воспринимается откровением высшей воли, таинством, со смертью Бога исчезает и аура сакрального, литература утрачивает целомудренность, в ней актуализируются откровенно языческие, «дионисийские» мотивы и образы. Одновременно с процессом десакрализации любовного чувства предпринимаются авторские попытки его нового откровения на уровне личного мистического опыта (софиология Вл.Соловьева). Чувство трагизма, хаоса настоящего рождает и потребность в обратном – в былой гармонии и синтезе, даруемых мифом. Это стремление к объединению, собиранию «лоскутного» универсума – одна из важнейших отличительных черт новой художественной парадигмы. В европейской живописи аналитический вариант художественного воссоединения мира представлен полотнами Сезанна (имя мастера – своеобразный код к постижению тайны реальности в культовой повести А. Битова «Человек в пейзаже», стоящей у истоков отечественного постмодернизма). Художники прибегают к мифу, когда любые разумные, логические объяснения настоящего не действуют. Интерес к мифологической образности вытекает из особенностей самой сверхзадачи модернистского искусства: найти смысл в 22 хаосе, красоту в безобразии, закон в абсурде… и только миф в силу своей внеказуальной природы может ее решить. Разумеется, литература всегда прибегала к мифо-фольклорным формам, но в ХХ веке изменяется специфика самого процесса, он обретает устойчивый, интенсивный, художественноразработанный характер. Раздел 2. Искусство и литература канона Тема 3. Искусство и литература социалистического реализма, исторические условия формирования и художественные особенности – 0,17 (6 часов) (аудиторные занятия – 4, самостоятельно - 2) План 1. Завершение художественного цикла модернизма. Творчество 1920-х годов 2. Советская культура в дискурсе авангарда 23 3. Метод социалистического реализма 4. Периоды эволюции советской культуры как утопической 5. Художественные проекты советской государственности и «советского гедонизма» 6. Итоги утопического социализма. Советское искусство 1940 – 1950-х Революция 1917 года и последующие за ней социальные потрясения, пережитые Россией, обусловили дальнейшие серьёзные изменения в художественной жизни. Эмигрировали многие деятели искусства, литературы, видные религиозные философы и учёные. Двадцатые годы связаны с деятельностью Российской ассоциации пролетарских писателей – РАПП, которая представляла левое течение в культуре, боролась за утверждение в литературе новых форм, соответствующих новой революционной действительности. Заметным явлением этого периода стали художественные выставки, проводимые Товариществом передвижных выставок, но в целом к началу тридцатых годов в искусстве от былого многообразия форм, стилей, жанров и направлений остаются только воспоминания. Подчеркнем, 1917 год, став безусловной вехой в социальной жизни русского общества, ошибочно рассматривать и как границу литературных эпох. Период модерности завершается только к 1920-м годам, когда прерываются тенденции, берущие основания в искусстве серебряного века, исчезает жизненный материал, составивший основу символистской и авангардной классики. Метод социалистического реализма, провозглашённый в качестве официальной художественной доктрины в 1934 году, вводит некое единство требований, предъявляемых к произведениям искусства. Санкционированный руководством страны успех творчества теперь зависит не столько от таланта мастера, сколько от его идеологической позиции, и если последняя расходится с официальными представлениями о гражданском долге, обязательствах, справедливости, то художник лишается права на творчество, а порой и права на жизнь. Подтверждением тому стали трагические судьбы Н. Гумилева, О. Мандельштама, А. Ахматовой, А.Платонова, М. Зощенко, М. Цветаевой и многих других, отказавшихся, говоря словами Маяковского, в угоду власти «наступить на горло собственной песне». Выявление генезиса социалистического реализма стало главной темой пионерской статьи А. Синявского «Что такое социалистический реализм» (1959). Описав социалистический реализм как исторический феномен, он очертил хронологические, содержательные и эстетические границы данного явления, но не с позиции «агиографа», а взглядом беспристрастного летописца, «беглеца» от Утопии. Синявский определил статус «магического реализма» как архивного, музейного экспоната, разрешив тем самым дискуссии «оттепельных» лет о перспективности, возможностях модификации, художественном статусе данного метода. Одним из первых он перевел проблему в русло чистой эстетики, зафиксировав кончину 24 социалистического реализма и наметив возможности его анализа в поле утопии. «Для социалистического реализма, – писал Синявский, – если он действительно хочет… создать свою “Коммунаду”, есть только один выход: покончить с “реализмом”, отказаться от жалких и все равно бесплодных попыток создать социалистическую “Анну Каренину” и социалистический “Вишневый сад”. Когда он потеряет несущественное для него правдоподобие, он сумеет передать величественный и неправдоподобный смысл нашей эпохи»1. Художественными наследниками и продолжателями высказанных идей стали представители соц-арта, доведшие утопические идеалы социалистического реализма до логического и комического финала. За последние годы старый миф об антагонизме между тоталитарным искусством и предшествующей ему художественной традицией, прежде всего авангардной, подготовившей ему «ауру выжженного культурного поля»2, подвергнут аргументированному и убедительному пересмотру. Дискуссионным является, пожалуй, вопрос о степени, глубине и последовательности воздействия утопического мировоззрения 3 «ниспровергателей основ» на следующих за ними «строителей» коммунистической Утопии. Важно отметить, богоборческий характер авангардной эстетики, уверенность художников в том, что «смерть Бога» открывает перед ними перспективу невиданной власти над миром, были достаточно отрефлексированы. Авангард осознавал сакральное значение своей практики, и социалистический реализм сохранил это сокровенное знание: речь идет «об освоении скрытого мистического опыта предыдущего периода в новой ситуации присвоения этого опыта политической властью»4. Формирование соцреалистической утопии5, начавшееся в послеоктябрьский период, синтезировало опыт многих утопических концепций, уже существующих в мировой и отечественной культуре: от идей Т. Мора и Т. Кампанеллы до гностико-масонских построений русских просветителей, утопических планов крайних сектантов и интеллектуаловкосмистов, прежде всего Н. Федорова и К. Циолковского. В мистическом стремлении за грань реальности сходятся такие известные наследники «прометеевского богоборчества», как А. Богданов, А. Луначарский, М. Горький6. Гностические увлечения последнего окажут свое влияние на формирование утопической модели соцреализма, в проекции которой человек Терц А. Что такое социалистический реализм // Литературное обозрение. 1989. № 8. С.100. 2 Есаулов И. Генеалогия авангарда // Вопросы литературы. 1992. № 3. С. 176. 3 «В модернизме возрождается древний гностицизм», – Папа Пий X. См.: Поснов М. Гностицизм и борьба церкви с ним во II веке. – Киев, 1912. 4 Гройс Б. Утопия и обмен. Стиль Сталин. О новом. – М., 1993. С. 63. 5 «Советская литература, видимо, единственный в своем роде феноменально интересный пример литературной утопии, литературы как утопии» // Акимов В.М. От Блока до Солженицына. Судьбы русской литературы двадцатого века (после 1917 года). – СПб., 1994. С. 15. 6 См.: Агурский М. Великий еретик (Горький как религиозный мыслитель) // Вопросы философии.1991. № 8. С. 54–74. 1 25 может стать обладателем невероятных чудес, повелевать временем и пространством, но только ценой гностического отлучения от материальнотварного мира, от возможности «осязательного, кожного соприкосновения со своей утопической сущностью»1. В эволюции соцреалистической утопии с определенной долей условности выделяют несколько этапов. Первый связан с энтузиастской, эйфорической атмосферой 1920-х годов, когда происходит накопление идей, образов, определивших контуры будущего «пролетарского рая» и пути его достижения. Для литературно-художественного воплощения утопических мечтаний оказывается особенно важным ранний романтический опыт Горького, образ положительного героя – деятеля, активного строителя нового, утопически прекрасного мира. Постулаты партийности, идеологической зрелости в отражении действительности вводятся работами Ленина 1905–1911 годов, но подлинного признания, догматического статуса они достигают в начале 1930-х, когда соцреализм вступает в фазу канонизации2. Закрепление канона осуществляется через образцовые тексты, в которых отражены и сами нормы, устойчивые клише производства художественной продукции3. К числу произведений-образцов, уже через несколько лет обретших «сакральный» статус, советская критика отнесет роман «Мать» (1906–1907), наиболее рельефно, последовательно отразивший богостроительские идеи автора; «Цемент» Ф. Гладкова (в редакции 1925 года) с его пафосом неистовой борьбы, жертвенности и новой теургии – созидания лучшего будущего усилиями пролетариата-демиурга. Среди канонических текстов назовут «Разгром» А. Фадеева (1925–1926), давший основание целой литературной парадигме, посвященной темам войны, революции, позднее – Отечественной войны 1941–1945 годов. С некоторыми оговорками по поводу издержек «модернистского» стиля к этому направлению причислят романы Д. Фурманова «Чапаев» (1923), А. Серафимовича «Железный поток» (1924). Главным действующим лицом здесь становятся «массы», «людской поток», утопически безликое «мы», которому мудрые, «знающие» руководители-«поводыри» придают черты коллектива единомышленников – армии. Традиционный утопический мотив «просвещения», «возделывания» идеального общества из хаотичной толпы («протоматерии») транспонируется на условия нового революционного времени. В книгах этой линии актуализируется мотив героической борьбы за новый, счастливый мир, сама битва во имя грядущей справедливости выступает магическим средством преображения бытия, открывает сокровенный смысл революции. Гольдштейн А. Расставание с нарциссом. Опыты поминальной риторики. – М., 1997. С. 128. 2 См.: Гюнтер Х. Жизненные фазы соцреалистического канона // Соцреалистический канон. – М., 2000. С. 283. 3 «Характерной чертой культуры с мифологической ориентацией является возникновение между языком и текстами промежуточного звена – текста-кода. Этот текст может быть осознан и выявлен в качестве идеального образца» // Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб., 1998. С. 425. 1 26 Подчеркнем, мотивы бездомья, отрицания настоящего – ведущие в литературе 1920-х годов – определены не идеями коммунизма (как напишут в современных учебниках), но принципиальным отторжением дореволюционной реальности как гибельной, энтропийной, в которой несчастные «бедные люди» обречены на вымирание: «Чевенгур», «Джан» А. Платонова, «Голый год» Б. Пильняка, «Петушихинский пролом» и «Вор» Л. Леонова. Человек здесь не видит дома, утрата «своего» мира и провоцирует утопическое стремление в «даль светлую». Роман «Цемент» позволяет выявить новую художественную стратегию, поставить вопросы о роли семейного уклада в становлении поколений, о формах взаимоотношений отцов и детей. Детям и предстоит осуществить историческую миссию созидания грядущей цивилизации, построить иную культуру отношений между поколениями. На смену классическому образу «дома-гнезда»1 приходит образ дома-коммуны, открытого во «внешний» мир, объятого «музыкой революции». В. Маяковский сознательно восклицал в поэме «Про это» (1923): «Исчезни дом, / родное место!», потому что «В детстве, может, / на самом дне, / Десять найду / Сносных дней». Приверженность «домугнезду» становится аналогом индивидуализма, враждебности: «В новом доме» Н. Дорофеева, «Двор» А. Караваевой, «Дом» Д. Стонова. Тема «освобожденного», титанического труда-борьбы, его новых форм – важнейшего средства воспитания будущего «утопического человека» – воплотилась в протоканонических повестях Н. Ляшко «Доменная печь» (1922–1925), А. Филиппова «У станков» (1924), П. Ярового «Домна» (1925), А. Пучкова «Стройка» (1925). Живописуя первые годы индустриализации страны, авторы еще позволяют себе «натуралистические излишества» в изображении быта, условий труда рабочих. Подобную «мелочность» позднее не всегда удается соотносить с утопически-преобразующим пафосом соцреалистической словесности, на что и укажет критика2. Показательна стремительность, с которой мечта о «светлом будущем» превращается в непреложную догму. В «Цементе» Гладкова теургическая идея строительства завода-мира корректируется ценностями личных, семейных отношений, в романе И. Эренбурга «Жизнь и гибель Николая Курбова» (1923), повести А. Толстого «Голубые города» (1925) утопический образ дома-коммуны еще лишен концептуальной значимости, полемичен3. Порыв навстречу прекрасному будущему, свойственный героямпреобразователям, сталкивается с живым чувством, проявлением любви, сострадания и оказывается неоправданным. Утопический мир, обставленный «голубыми городами» или бетонной громадой дома будущего, теснят провинциальные домишки-ковчеги, где герои надеются обрести обычное «Дом – это гнездо, а… гнездо предполагает стада, детей, очаг, одним словом символизирует семейную, социальную и экономическую жизнь» // Элиаде М. Избр. соч.: Миф о вечном возвращении; Образы и символы; Священное и мирское. – М., 2000. С. 341. 2 См.: Ершов Л.Ф. История русской советской литературы. – М., 1982. С. 56. 3 См.: Разувалова А. Образ дома в русской прозе 1920-х годов: Автореферат дис… филол. наук. – Омск, 2004. С. 16–19. 1 27 человеческое счастье: любимого человека, детей, семью. Подобная альтернатива у персонажей канонической советской литературы уже полностью отсутствует, «голубые города» признаны единственной реальностью, а живое чувство, семейный очаг – опасным соблазном, иллюзией, миражем. Социальные ценности – высшая норма, во имя которой жертвуется личным, фанатичное следование долгу защищает и от познания действительности, и от осознания человеком неповторимости собственной миссии в мире. Первая половина 1930-х годов – время формирования соцреалистического канона. На смену революционной культуре, с ее пафосом теургии, жертвенности, страдания, смерти-возрождения1, приходит сталинская. Даже обзорный анализ ранней советской прозы позволяет судить о ее глубоком своеобразии, архаическом мировидении (мотивы скифства, богатырства) в сравнении с более поздним, государственным, религиозным (в секуляризованном смысле) периодом. Система знания, сложившая на рубеже 1920–1930-х годов, определяется исследователями как «неоплатонизм». Гностический пафос («Все выше!»), культ смерти-искупления – пути к несказанному идеалу приводят к дискредитации «объективизма», предполагают, что «эмпирическое знание означает чистую “видимость”, чтото инсубстанциональное (при сравнении с истиной), тень чего-то – смертные ограничены в своем восприятии. Кроме чистого “видимого опыта” возможно “узнать” высшую реальность»2, однако она доступна только избранным, «учителям», посвященным в тайну совершенного общества. Положительный и отрицательный герои литературы этого времени выступают посланцами трансцендентных по отношению к реальному миру, демиургических сил, которые только в «профанной» интерпретации (для «непосвященных») воплощаются аллегорически и символически. Отсюда, считает Б. Гройс, постоянная забота советской эстетики о правдоподобии, подчеркнутый натурализм в изображении быта. Герои «нового мира» «должны во всем походить на людей, чтобы не устрашить их своим истинным обликом»3. Художники в данном контексте наследуют роли интерпретаторов высшей истины, «толмачей», характерной для авторов утопий в целом. Отличие представителей «магического реализма» от предшественников – в «индивидуальном» характере, средствах и методах инсценировки, когда грань между Утопией и миром, сном и явью признается условной, атрибуты строителя прекрасного мира от художника, философа переходят к политическому вождю. Авангард, которому наследует соцреализм, признаёт только такое настоящее, «которое изначально чревато смертью (уничтожение и самоуничтожение), стремится к смерти и торопит её». См.: Есаулов И. Генеалогия авангарда // Вопросы литературы. 1992. № 3. С. 186. 2 Кларк К. Советский роман: история как ритуал. – Екатеринбург, 2002. С. 127. 3 Гройс Б. Утопия и обмен. С. 61. 1 28 К 1930-м годам диалектику, столь почитаемую Лениным (принцип исторического оптимизма), сменяет метафизика4. Вера в Утопию, энтузиазм сохраняются, но существенно корректируются. Поэтизация стихийного революционного порыва, образа революции – события космического масштаба, популярные в первые годы советской власти («Падение Даира» А. Малышкина, 1923; «Реки огненные», 1923, «Россия, кровью умытая», 19291932, А. Веселого; «Партизанские повести» Вс. Иванова, 1923), уступают место иным ценностям. Диктат, государственный контроль сакрализованы как условия достижения «светлого будущего». Утопия трансформируется в идеологию5. Теоретический фундамент соцреалистического канона определяется через учение марксизма, в котором силен «гностический элемент»3, и ленинские представления о партийности литературы. Дискуссионные концепции Переверзева («вульгарный социологизм»), Воронского, «перевальцев» признаны вредными и ошибочными. После разгрома РАПП (1932) уничтожены и последние препятствия на пути утверждения государственной монополии в искусстве: «Победа социалистического реализма как метода вела к исчезновению в советской литературе других художественных методов»4. К 1934 году окончательно утверждаются принципы нормативной эстетики. Уставное определение соцреализма приобретает законченность и бескомпромиссность догмы. По сути его трактовка исчерпывается несколькими составляющими, маркированными через утопический дискурс: • Соцреализм – основной метод советской литературы. Его монологичный характер, обязательный для стиля утопии, проявляется уже в том, что все импульсы к переменам носят политический, идеологический характер. Сам термин, рожденный как государственный лозунг, позднее обозначает и художественный метод. • Соцреализм требует от автора правдивого, исторически конкретного изображения действительности в её революционном развитии. Настоящее оценивается с позиции будущего – утопии. И. П. Смирнов определяет сталинизм как революцию после революции, постутопический утопизм, «социальное устройство, впитавшее в себя, согласно таковой своей – утопически-постутопической – природе, едва ли не все центральные положения, до нее выдвинутые утопической мыслью»5. См.: Паперный В. Культура Два. – М., 1996. См.: Mannheim K. Ideologie and Utopia: An introduction to the sociology of knowledge. – L., N.Y., 1936. 3 Р.Ю. Виппер считал гностиков «передовыми представителями реформаторского и радикального сектантства» // Виппер Р.Ю. Рим и раннее христианство. – М., 1954. С. 188. 4 Ершов Л.Ф. История русской советской литературы. С. 105. 5 Смирнов И.П. Бытие и творчество. – СПб., 1996. С. 178. 4 5 29 Изображение должно сочетаться «с задачами идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма» – требования, введенные в русскую утопическую традицию романом Н. Чернышевского. Уже на уровне определения очевиден сборно-химерный характер соцреалистической эстетики, где принцип натурализма («правдивого изображения действительности», исключающего художественную фантазию, стирающего грань между текстом и миром) сочетается с романтической устремленностью к идеалу и классицистической нормативностью, как и что изображать. От классицизма в наследство новому методу переходят чувство собственного превосходства, ясное осознание «богоизбранности» нации, великодержавный пафос, требования преданности государству, непременной привязки сюжета, героев к определённому месту и времени, традиция «слов-сигналов» – условных выражений с закреплённым кругом значений. В советской литературе, как некогда в агиографических источниках, такая маркированная лексика служит для создания у читателя определённого настроения. Выражения «настоящий человек», «трудовой подвиг», «народные массы», «новый мир», «пролетарский гуманизм», «светлое будущее» или «враг народа», «комчванство», «вредительство» представляются идеологическими клише, довлеющими над художественным текстом как нечто внешнее, не подчиняющееся авторской логике, но влияющее на неё с точки зрения объективности. Соцреализм «превзошел» своего именитого предшественника и с позиции безраздельного господства политических законов в сфере искусства. В конфликте между интересами Левиафана и частными интересами полностью исчезает трагедия личности, приносящей себя в жертву на алтарь долга. В ортодоксальной советской литературе драматический выбор между «я» и «мы» заведомо решается в пользу последнего: только на путях служения системе и возможно обретение счастья. Таким образом по сравнению с русской классической культурой, основанной на православном каноне, соцреализм был выскочкой, не имевшим, по сути, законных «родителей»: какое бы наследие он ни вынес из своего прошлого, он мог манипулировать его смыслом по собственному усмотрению. На этом фоне выдвижение М. Горького как неоспоримого авторитета в литературной сфере выглядит тем более оправданно. С известной долей условности можно говорить, что он является наследником просветительской линии развития отечественного интеллектуального утопизма, восходящего к утопическим произведениям князя М. Щербатова, декабристов, Н. Чернышевского. Горький, рассматривающий революцию 1917 года с точки зрения временной стадии в процессе преображения природного мира как творения единого Бога, уничтожения материи, её последовательного воплощения в абсолютную энергию (тема «энергии масс» – магистральная в литературе 1930-х), излагает свои гностико-ницшеанские убеждения в символических романах «Мать», «Жизнь Матвея Кожемякина» (1910–1911), • 30 «Жизнь Клима Самгина» (1926–1936)1. Влияние горьковской традиции на творчество советских писателей не вызывает сомнения. Литература 1930-х годов обогащается новыми образцами социалистического реализма. Наиболее значимые среди них «Как закалялась сталь» (1932–1934) Н. Островского – роман, реализующий тему воспитания советского человека-героя; «Поднятая целина» (1932–1958) М. Шолохова, в которой проблема ударного социалистического производства перенесена на тематику коллективизации деревни (произведения Ф. Панферова, К.Горбунова, И. Шухова); «Дорога на океан» (1933–1935) Л. Леонова, где собственно и представлена наиболее развёрнутая картина коммунистического будущего – Океана1. Текст, по собственному признанию автора, создается во время «пика болезни», увлечения утопическим проектом «светлого будущего». В описании прекрасной «Нигдейи» писатель сочетает традиции просветительской линии русского интеллектуального утопизма и народносектантских учений. Сам образ идеала в соответствии с особенностями народного утопизма представлен проективно-абстрактно, но дорога к нему, способы достижения разработаны с возможной тщательностью. Ударный труд, аскеза, отказ от личного счастья во имя счастья большинства осознаются конкретными средствами на пути к иллюзии, мечте, сказке. Представлен и абсолютный идеал достойного коммуниста в образе главного героя – Курилова. Позиция автора, однако, лишена свойственной утопии безусловности. Рассказчика смешит, забавляет, что «Алексей Никитич категорически отрицал в городе будущего и пыль, и мух, и всякие несчастные случаи…»2. Такой же нетерпимостью к «низкому» быту отличается герой «Голубых городов» А. Толстого: романтик Буженинов отказывает будущему в праве на мух, грязь, пыльные улицы. Утопия стремительно освобождается от мелочей существования. В романтической тональности выдержан и роман Г. Николаевой «Битва в пути» (1954), где коммунизм суть бесконечный путьпаломничество, открывающий перспективу вечности. Соцреалистический канон апеллирует к религиозным традициям, воплощает мистическую устремлённость в «даль светлую». Порыв к «земному раю», с одной стороны, обесценивает, дискредитирует ценности реальной жизни, с другой – требует невероятных физических усилий, конкретных жертв, когда «будни – это мечта, переложенная на упорную трудовую повинность»3. Труд становится своеобразным фетишем, «лакмусовой бумажкой», позволяющей отличить «праведника», «настоящего человека» от «попутчиков» и «врагов». Интересы дела приобретают сакральный статус, отказ от личных переживаний, счастья См.: Колобаева Л. Горький и Ницше // Вопросы литературы. 1990. № 10. С. 162–173. См.: Листван Ф. Утопия и антиутопия в художественном мире Л. Леонова // Поэтика Л. Леонова и художественная картина мира в XX веке / Отв. ред. Т.М. Вахитова. – СПб., 2002. С. 50-55. 2 Леонов Л. Собр. соч. Т. 6. С. 119. 3 Гладков Ф.В. Цемент: Роман. – М., 1986. С. 231. 1 1 31 воспринимается как норма. Даже арбузовская Таня из одноименной пьесы (1939), где еще ощутимы «теплые», «уютные» настроения русского гедонизма, достигает самореализации прежде всего в профессиональной сфере, и именно профессионализм рассматривается залогом личного счастья, дает надежду на спасение дитя. Капризной, избалованной Лизе – героине романа Л. Леонова «Дорога на океан» – помогает найти свое место в «новом мире» не увлечение театром, не любовь мужа, не сердечная привязанность, но советы товарища – партийного руководителя Курилова. Аскетическая, полная труда, лишений жизнь последнего превращается для актрисы в «житийный» образец, по которому она сверяет и собственную судьбу. Взаимное влечение Курилова и Лизы постоянно наталкивается на непреодолимые препятствия – в момент возможной близости героя мучают приступы жестокой боли. Автор всячески оберегает душевный покой персонажей, предназначенных на службу революции. В менее талантливых книгах «обожение» труда, его возвышение до надличной, управляющей человеком мистической силы, реализуется предельно схематично. «Большой конвейер» (1934) Я. Ильина, «Магистраль» (1937) А. Карцева, «Трагедия Любаши», «Энергия» (1932–1938) Ф. Гладкова изображают труд как единственный, универсальный источник счастья героев, их частная жизнь в соответствии с законами утопического метажанра обобществлена, формализована. Трудовой экстаз и компенсирует отсутствие страсти, острых удовольствий, сопричастных интимному. Безапелляционное господство соцреалистического канона, охватывающее не менее двух десятилетий (1930–1950-е годы), предполагало циклическую смену периодов «ожесточения» и «оттепели», когда собственно художественные закономерности в той или иной степени оттесняют на второй план идеологические догматы1. Так в литературе середины 1930-х место пролетариата-теурга занимает «советский рабочий», в котором ценится не только мессианский порыв к «иному», новому, но и умение сохранить завоеванное «утопическое счастье»; не способность ниспровергать прежние основы бытия, а надежность, организованность, талант радоваться жизни несмотря ни на что, любой ценой. О разочаровании, боли как онтологически присущих действительности (на чем настаивал в своих нравственных утопиях Достоевский) стараются не вспоминать. Табу рискуют нарушать немногие, среди гениальных «еретиков» от Утопии – поздний А. Платонов. Параллельно официальной утопии государства-церкви в советской литературе этих лет оформляется утопия «роевой семейственности», «коммунального рая» – сниженный вариант идеализированного в 1920-е годы дома-коммуны2. Литература возвращается к темам семьи, любви, еды, уюта, детской идиллии. Можно говорить об эмоционально-стилевой, эстетической близости произведений «советского гедонизма» с их аурой коллективного счастья (гедонизм здесь проявляется в служении другим), взаимного доверия, См.: Гюнтер Х. Жизненные фазы соцреалистического канона // Соцреалистический канон. С. 285. 2 См.: Гольдштейн А. Расставание с нарциссом. С. 154-156. 1 32 уважения с просветительской литературой: романом воспитания, мещанской драмой. Отечественные просветители пытались найти рецепт достижения разумного, «тихого», национального счастья, чтобы облегчить судьбу человека в настоящем. Только в это время и стало возможным появление «Тани» А. Арбузова (1939) и трогательной Машеньки А. Афиногенова («Машенька», 1940). Женщину-товарища или командира («Оптимистическая трагедия» Вс.Вишневского, 1932) несколько теснит жена, хозяйка, хранительница очага («Счастье Леши Шарикова» Б. Лавренева, 1938; «Тоня» И. Ильфа и Е.Петрова, 1937), с эротическим обаянием которой может сравниться только пленительная нежность девочки-подростка, чей образ запечатлели Афиногенов и Р. Фраерман в «Дикой собаке Динго, или Повести о первой любви» (1939). Соцреалистический дискурс приобретает черты интимности, расширяется описанием семейных праздников, дружеских вечеров, ожиданий любви: «Голубая чашка» (1935), «Чук и Гек» А. Гайдара (1939), в этой же парадигме «Фро» А. Платонова (1937). Этот «ренессансный» социализм, где человеку не только есть чем гордиться, но и чем жить, эстетизирует железную хватку Левиафана, коммунистическое братство из «крайней секты»1 трансформируется в «семью». Сентиментально-семейная идиллия вовлекает в единый контекст и тему детства. В литературе 1920-х рассказ о детстве кодируется, детство писателей связано с отошедшей эпохой и не может воссоздаваться в идиллических тонах. Своеобразным исключением из правила стали «Детство Люверс» Б.Пастернака (работа приходится на 1918 год) и «Детство Никиты» (1920– 1922) А. Толстого. Последняя повесть создается в эмиграции, прежний, родной, «теплый» мир детства, переданный Толстым в пасторальных тонах, содержит и элемент очуждения. Описывая взросление Жени Люверс, Пастернак проецирует ее историю на собственную судьбу поэта. Тема возвращения к детству – источнику любви, чистоты, подлинных духовных озарений – центральная для творчества Пастернака, о которой он говорит «языком совершенно взрослого человека, прошедшего солидную философскую подготовку»2. Тонкость восприятия мироздания уравнивает ребенка и художника. Тексты Толстого, Пастернака воскрешают образ детства, характерный для национальной классики, вступают в известное противоречие с позицией В. Маяковского, М. Горького. В автобиографической трилогии «Детство» (1913), «В людях» (1915), «Мои университеты» (1923) реальность, окружающая ребенка, убога, опасна, уродлива. Перенесенные в детстве испытания искупают трагизм революции. В детской литературе 1930-х мир ребенка уже прозрачен, ясен, «плоскостной», хотя в лучших книгах этого направления ощутима и тонкая печаль, за которой стоит знание автора о лишениях взрослой жизни, еще «Партия большевиков есть секта» // Пришвин М. Дневники, 1914–1917. – М., 1991. С. 255. 2 Архангельский А. Охранная грамота детства // Пастернак Б. Детство Люверс: Повести и очерк. – М., 1991. С. 11. 1 33 неведомых маленькому человеку. Мир детской литературной утопии наиболее глубок, последователен. Вера в чудо, сказку, волшебников лишена здесь внутренней противоречивости, ритуальной отчужденности взрослой утопии (например, «Кондуит и Швамбрания» Л. Кассиля, 1935), хотя граница между ними условна. Инфантильный, мифологический характер произведений соцреализма делает их в известном смысле детским чтением. С. Аверинцев, анализируя особенности проявления в литературе архетипа дитяти (К. Юнг), замечает: образ дитяти актуализируется в переломные эпохи: «в средневековом искусстве дети снова исчезают, чтобы появится в искусстве Ренессанса и затем в кризисную эпоху буквально заполняют живопись и скульптуру в виде ангелов и амуров. Подобное же значение историко-культурного симптома имеет и феномен “инфантилизма” в современном искусстве»1. Дети, обделенные родительской любовью, лаской, теперь могут опереться на руку наставника, воспитателя. Производственный коллектив (утопическое «мы») и обеспечивает маленьких беспризорников пропуском в «светлое будущее»: книги А. Гайдара, А.Макаренко. Прежние настроения отстраненности, холодности по отношению к ребенку как преграде на пути социальной самореализации его отца, матери сглаживаются. Образ ребенка придает соцреалистической утопии «узнаваемость», «теплоту», «реанимирует» за счет понятных, естественных чувств. «Детские» книги становятся настоящим прибежищем талантливых авторов тех лет2. Атлант, борец утопии 1920-х годов уже не может существовать в «съежившемся» пространстве советских коммуналок. Новая советская «соборность» – симулякр христианской – раскрывается через жалость (любовь) к убогим и обездоленным – симулякрам юродства. Как характерную черту коммунистического «рая» его открытость «прочим», нуждающимся в организации и направлении, тем, которые «не русские, не армяне, не татары, а никто», «безотцовщина» отметил в романе «Чевенгур» А. Платонов. В «роевом» единстве ущербных, униженных людей парадоксально проявляется возможная полнота утопического бытия середины 1930-х. Требование аскетического бытия сохраняет актуальность по отношению к стражам Революции: образы Павки Корчагина, гайдаровских геологов и военных, советский народ в массе своей открывает для себя семейные ценности, главное, чтобы они не поколебали веру в официальные мифы советской власти. Противостояние поколений, отцов и детей, укорененное в ранней советской словесности, к середине 1930-х сглаживается, старость подпитывается энергией молодости и одновременно наделяет ее мудростью: повесть «Джан», рассказ «Такыр» (1934) А. Платонова, «Вратарь Республики» (1938) Л. Кассиля. К 1940-м годам завершается утопический цикл литературного развития, начавшийся в первые пореволюционные годы и вобравший Самосознание европейской культуры ХХ века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – М., 1991. С. 127. 2 См.: Чудакова М. Сквозь звезды к терниям // Новый мир. 1990. № 4. С. 248. 1 34 литературную жизнь поколения конца XIX века. Художественная словесность конца 1930-х достигла «возможной полноты печатного проявления в рамках той эпохи»1. Политические репрессии, предчувствие скорой войны разрушают иллюзию утопической гармонии бытия. Идеологические и социальные конфликты, военная тематика легко перелагаются на аскетический язык утопии первых пореволюционных лет. Готовность к подвигу и смерти во имя прекрасного будущего (Утопии) соотносятся с идеей победы над внутренним и внешним врагом, над фашистами любой ценой. Тема жертвы, жертвенности, столь популярная в творчестве М.Горького2, А. Богданова, Ф. Гладкова, А. Фадеева и несколько ослабленная в прозе середины 1930-х годов, зазвучала с новой остротой: поэмы «Зоя» М.Алигер (1942), «Сын» П. Антокольского (1943), «Киров с нами» Н.Тихонова (1944). Жизнь окончательно потеряла всякую ценность, преданность государству (Утопии), долг перед ним определили все. Художники, воспевающие великую идею служения Отечеству, будущей победе, не испытывают сострадания к судьбе отдельного человека, семьи, гибель которых расценивается как естественная цена грядущего счастья. Сохранность утопических завоеваний обеспечивают массы, и только массы имеют право на память в истории: «Русская повесть» (1942) П. Павленко, «Радуга» (1942) В. Василевской, цикл рассказов Л. Соболева «Морская душа» (1942), «Непокоренные» (1943) Б. Горбатова. Вдохновителем, организатором и учителем масс традиционно выступает Коммунистическая партия. Тема 4. Тенденции и направления развития отечественной литературы второй половины ХХ века – 0,17 (6 часов) (аудиторные занятия – 2, самостоятельно - 4) План 1. Преодоление советской Утопии в искусстве конца 1950-х годов 2. Основные направления отечественной словесности второй половины ХХ века 3. Модернизм и авангард в литературе 1950 – 1960-х годов 4. «Метафизическое пробуждение» в отечественной культуре 1960 – 1970-х годов Преодоление глобальной утопии социалистической справедливости в русской культуре начинается не ранее середины 1950-х, когда «происходит Чудакова М. Сквозь звезды к терниям. С. 260. См.: Есаулов И. Жертва и жертвенность в повести М. Горького «Мать» // Вопросы литературы. 1998. № 6. С. 54–66. 1 2 35 прогрессирующая эрозия соцреализма»1. Уже к концу 1940-х годов утопия соцреализма начинает утрачивать важнейшие родовые черты: мировой масштаб, «всеохватность», универсализм. Великая Отечественная война оспаривает интернациональный контекст русской революции 1917 года. Канон актуализирует принципы национализма, замкнутости, избранности Советского государства, проявляющиеся в ситуации жесткой конфронтации Советского Союза с «остальным миром». Лозунги «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «У коммуниста нет отечества» утрачивают прежний смысл и значение. Наступает короткая эпоха ренессанса советской Утопии: 1946– 1953. В этот же период в литературе практически искоренен утопический метажанр. Никакой альтернативы соцреализму – новой форме запрещенного метажанра утопии – не могло и не должно было быть. Внешний блеск, прославление литературы «завершенной истории» достигают своего апогея. Своеобразным свидетельством усиленной реанимации соцреалистического канона выступает протекционистская процедура присуждения Сталинских премий. В период с 1947 по 1952 год присуждается почти двести премий в области словесности. В пределах «идеального» государства, скорректированных условиями «холодной войны», непрерывной чередой идут кампании по «разоблачению» вольнодумцев, профанов, «еретиков»: кампания против космополитизма, против критиковантипатриотов, против компаративизма, против вейсманизма-морганизма... Утопическое пространство спешно освобождается от сомневающихся и неугодных, играющих роль жертв в ритуальном «очищении» общества. Только правоверные коммунисты достойны жить на «благословенной» земле. К 1950-м годам соцреалистическая утопия лишается признака креативности. Пафос созидания, действия, строительства вырождается в бюрократию, приспособленчество, прожектерство. Канон вступает в фазу самопародии, бесконечного повторения известных «истин», призывов, лозунгов, стремительно десемантизирующихся в условиях разоблачения «культа личности» и последующей за ним «оттепели». Разрыхление канона приводит к всепоглощающему эклектизму, тривиальности, профанации недавних абсолютов. Соцреализм вовлекается в более широкий культурный контекст (литература открывает ранее неизвестные или табуированные темы плена, гибели русской деревни, политических репрессий), который и поглощает его. Россия скатывается к «остальному миру». Авторы стремятся уйти от теории «бесконфликтности» (термин 1950-х) «червоточинки», «лакировки действительности» (термин впервые употреблен в 1948 году). В критике встает вопрос «об искренности в литературе» (статья В. Померанцева, 1953), о восстановлении прерванной художественной традиции, возвращении от идеального героя утопии к живому человеку. И.П. Смирнов, рассматривающий фазу социалистического реализма в контексте мазохистского отрицания, приходит к выводу, что и в таких романах, как «Кавалер Золотой Звезды» С. Бабаевского (1947–1948), «Белая береза» М. Бубенного (1947–1952), «Счастье» П. Павленко (1947), на 1 Гюнтер Х. Жизненные фазы соцреалистического канона. С. 286. 36 вершину бытия человек «поднимается тогда, когда приобщается к небытию»1. «Мазохистское страдание» героя М. Берг раскрывает как «неданность, отсутствие для него пространства существования»2. Повзрослевший герой уже нефункционален для позднего соцреализма. В «детском» мире социалистической утопии взрослому нет места, ибо взрослость находится уже за пределами той литературы, которая остается инфантильной3. На разрушение литературы канона по-своему отреагировала «молодежная проза», с одной стороны, и правоверные соцреалисты – с другой. Представители первой, минуя 1930-е годы, обратились к эксперименту 1920-х, к поиску нового художественного языка, формы, стиля, своего героя – веселого прагматика, ирониста, равно готового к удачам и неудачам, но двигающегося уже в направлении к антиутопии. В творчестве А. Гладилина, раннего В. Аксенова сильны настроения открытости, искренности, коммуникабельности, некоторой самоироничности, что шокировало публику и критику, привыкшую к канонической литературе. Поколение «шестидесятников» (В. Аксенов, А. Вознесенский, Г. Горышин, Е. Евтушенко, Ф. Искандер, В. Конецкий, Б. Окуджава и др.) выступает под знаменем обновления и очищения революционных идей. Утопия сталинского общества опровергается с позиции возвращения к «подлинному Ленину», образам безупречных красных героев Гражданской войны. В этом и проявляется романтизм «оттепельных» лет, когда социалистический идеал подчеркнуто высок и не соотносится со средствами его достижения. Психологически, как тип «молодые» отчасти напоминают и утопистовшестидесятников девятнадцатого столетия, оказавшихся более романтиками, мечтателями, чем философами и практиками. Именно с их творчества в советской культуре начинается процесс реабилитации ценностей внутренней свободы личности, за человеком признают право на самоидентификацию, «право быть собой». В творчестве В. Аксенова расшатываются прежние границы соцреалистического стиля. Известные слова-сигналы, традиционные речевые блоки приобретают новый контекст. Присущая утопии монологичность разрушается, ее сменяет «фамильярный контакт» человека с миром, перспектива «чужого слова» грозит превратить утопию социализма в игру, фарс4. Одновременно с процессом десакрализации прежних идей, догматов, образов ортодоксального соцреализма в литературе сохраняется устойчивая тенденция договорить «правду века», спасти коммунистический миф от безвестности и гибели. Произведения авторов «мерцающего соцреализма», или неосталинизма 1950–1970-х годов (Вс. Кочетова, А. Рыбакова, В. Ажаева, Смирнов И. Психодиахронологика. Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. – М., 1994. С. 242–243. 2 Берг М. Литературократия. Проблемы присвоения и распределения власти в литературе. – М., 2000. С. 50. 3 См.: Парамонов Б. Конец стиля. – М.; СПб., 1997. С. 428. 4 См.: Белая Г. Стилевой регресс: О стилевой ситуации в литературе соцреализма // Соцреалистический канон. С. 566–567. 1 37 Г. Николаевой, В. Кожевникова, И. Шевцова, А. Корнейчука, А. Софронова) защищают ценности социализма «с человеческим лицом». Писатели пытаются совместить атмосферу «семейственности» «уютных», «теплых» тридцатых с элементами аскезы, жертвенности, фетишизации труда-борьбы первых пореволюционных лет, невольно впадая в самопародию. К 1970-м годам можно говорить о тенденции откровенной идеологической и художественной плюрализации, когда категории соцреалистического метода утрачивают не только сакральный статус, но и всякую обязательность. Д. Марков рассматривает соцреализм как «исторически открытую систему»1, художники-ортодоксы воспринимаются все более иронично. Идеологически однородное пространство соцреалистической утопии вытесняется, заменяется пространством самоидентификации, самопознания автора и героя. Процесс профанации, предельного расширения канона однако не отменяет его власть абсолютно. Обломки, осколки, «останки» мифа мертвым грузом тяготеют над сознанием писателя и читателя. Соцреалистические модели мира оказываются удивительно живучи, обладают мощной силой инерции. Постмодернизм, обыгрывающий постулаты, догмы соцреалистического канона, в известном смысле является и его заложником. Утопия остается здесь своеобразным кодом, метатекстом, без которого принципиально невозможно постижение самого текста. Таким образом, вопрос тоталитарно-утопического дискурса становится во много раз сложнее, неоднозначнее, когда изучается в контексте более поздних художественных рефлексий. С одной стороны, речь в этом случае идет о реконструкции исторического феномена, с другой – о рассмотрении различных форм обращения к соцреалистической теории в условиях изменившейся действительности. Период «мерцающего соцреализма» отмечен появлением в литературе невозможных ранее тем и героев: сомневающегося члена партии или кающегося коммуниста («Прощай, Гульсары» Ч. Айтматова, 1966). Одновременно нарастает ностальгия по ускользающей ясности, «всеохватности», прозрачности и универсальности прежних утопических проектов. Ценности ортодоксальной соцреалистической утопии усиленно вербализуются, утверждаются «всем смертям назло». Любая подробность утопического существования вызывает трепет, преклонение, как свидетельство величия гибнущей цивилизации, становящейся тем дороже, чем меньше удаются попытки ее возрождения. Коррекции подвергаются и устоявшиеся в соцреалистических текстах художественные модели. Производственная модель расширяется за счет мотивов учебы, интеллектуализма. Образ рабочего маркируется чертами ранее гонимого интеллигента (образы инженеров в «Цементе», Мечика в «Разгроме»), с той существенной оговоркой, что речь идет о создании отряда технической интеллигенции – традиционной для утопии химеры. Утопия, всегда тяготеющая к синтезу, требует нивелировки границ между физическим и умственным трудом. Этот процесс находит своё воплощение в романах 1 См.: Марков Д. Проблемы теории социалистического реализма. – М., 1978. 38 «Журбины» (1952) и «Братья Ершовы» Вс. Кочетова, «Битва в пути» Г.Николаевой. В начале 1970-х производственная модель остается востребованной в драматургии, однако меняется прочтение образа советского «делового человека». Прежнего рационализма, профессиональной хватки, преданности делу оказывается недостаточно. От героя требуются душевная теплота, уважение к мнению окружающих, собственной семье. Идеал внутренне гармоничного человека пытаются обсуждать И. Дворецкий в «Человеке со стороны» (1971), А. Гребнев в пьесе «Из жизни деловой женщины» (1973), А. Арбузов в «Жестоких играх» (1978). Героиня драмы Арбузова, исповедующая позицию своеобразной аскезы: «Геолог я, а остальное потом», – уже обречена автором на горькое разочарование и раскаяние за несостоявшуюся семью, искалеченное детство ребенка. Рациональные, производственные ценности, которые в художественной литературе 1920-х – начала 1950-х г. безусловно оттесняли нравственные, лишаются прежней абсолютности. Теперь даже сакрализованным соцреалистической традицией героям-сталеварам – опоре индустрии – можно предъявить серьезный нравственный счет. Только после обряда покаянияискупления утопическая традиция восстанавливается. Агиографические, ритуальные ситуации исповеди, страдания, жертвы позволяют заблудшему герою воссоединиться с Братством («Сталевары» Г. Бокарева, 1973). Известной непогрешимости лишаются и те государственные чиновники-«толмачи», которые, не задумываясь, приносят в жертву Левиафану общечеловеческие представления о долге, чести, морали («Протокол одного заседания» и «Мы, нижеподписавшиеся» А. Гельмана). Государство, в невинности, непогрешимости которого возникают первые робкие сомнения, уже не может выступать гарантом утопической стабильности. Так прихожане теряют доверие к оскверненной святыне, не исполняют заповеди, произнесённые «грешным» батюшкой. На 1960–1970-е годы приходится расцвет фронтовой прозы. И если в книгах А. Чаковского («Блокада», 1968–1974), Ю. Бондарева еще очевидно следование канону, то произведения Г. Бакланова («Повесть о моем ровеснике», 1957), В. Астафьева («Звездопад», 1961; «Пастух и пастушка», 1971), В. Быкова («Сотников», 1970; «Обелиск», 1972; «Дожить до рассвета», 1972; «Волчья стая», 1977) существенно изменяют устоявшуюся батальную модель: через образ врага оказывается возможным показать «обочину» войны, ее будни. Тема героизма, беспримерного мужества и титанической силы советского героя-бойца уходит на второй план, важнейшее значение приобретает история личностного становления человека на войне, когда фронт, окопы – самое первое и самое страшное испытание души. В «Пастухе и пастушке» нет батальных сцен, война явлена как апокалипсис, жертвами которого становятся все люди Земли. Оценка военных лет лишается прежней безусловности, встает вопрос о цене Победы, а в перспективе – и о цене коммунистической Утопии в целом. В этой ситуации, чтобы сохранить ускользающую сказку, легенду, утопию, необходимо обратить ее в текст. 39 В словесности конца 1950-х годов уже проявляется невозможность постижения мира сугубо логическими, рациональными способами, что, по концепции Н. Лейдермана, объясняет внедрение в литературный процесс принципов модернизма и авангарда. К акмеизму близки Е. Рейн, И.Бродский, А. Кушнер, обратившиеся к связи времен, культу культуры, еще ранее модернистская стратегия ожила в творчестве Д. Андреева («Роза мира»). Традицию футуризма развивают Г. Айги, В. Соснора с их установкой на создание нового, свободного от гнета традиций поэтического языка. Очень интересно рождение «фантастического реализма» в произведениях А. Терца (А. Синявского) и Н. Аржака (Ю. Даниэля), где синтезируются классические и модернистские структуры. Эти процессы постоянного синтеза модернистских и традиционных художественных систем позволяют говорить о том, что в русской культуре все неоклассические направления и течения испытывают серьезное влияние реалистической традиции. В 1970-е годы реалистическая традиция дает две значительные ветви – упрочнение традиции классического реализма: «тихие лирики» (Н. Рубцов, А. Жигулин), явление «деревенской прозы» (В. Белов, В. Солоухин, В. Распутин, Ф. Абрамов, В. Астафьев). Творчество последних демонстрирует движение от реализма, натурализма к утопии и мистике (поздний Распутин, В. Личутин). В развитии реалистической традиции особая роль А.Солженицына, постоянно ищущего новые ресурсы реалистической стратегии. Вторая ветвь – «интеллектуальная» – связана с философским осмыслением происходящего, с уроками христианства («Факультет ненужных вещей» Ю.Домбровского), с мифами и древними легендами (проза Ч. Айтматова), с мистикой природных явлений – творчество А. Кима. На конец 1960-х – 1970-е годы приходится и своеобразное «метафизическое пробуждение» в русской культуре, центр которого – Москва. Советское общество впервые сталкивается с понятием «религиозной жизни», возникает движение, включающее в себя множество компонентов: желание вернуть обществу христианские ценности, интерес к эзотерике, религиям Индии, активизация сектантства в его западных и отечественных образцах. По своему настроению, поэтическим приоритетам это время перекликается с эпохой символизма, пытавшегося вернуть искусству духовное измерение, трактующего искусство как теургию, как жертва Богу. Среди художников к новому направлению с конца 1950-х относят В.Г. Вейсберга, М.И. Шварцмана, Ю.И. Соостера, В.Б. Янкелевского и др. В 1970-е годы с религиозными темами работает еще более широкий круг художников, связанный с выставками на Малой Грузинской (кружок Е.Шиффера). Складывается представление, что подлинно религиозное искусство – не тема и не сюжет, а внутренняя характеристика произведения. С 1980-х годов, с усилением настроений подавленности в обществе, разочарования в результатах «оттепели», религиозное движение идет на спад. В живописи актуализируется увлечение «этнографическим Православием», дискредитация высокой темы особенно заметна у И.С. Глазунова. «Метафизическое направление» в живописи отличают следующие 40 особенности: вытеснение человеческой личности «на периферию» художественной вселенной, некоторая стилизация подлинного религиозного чувства, ориентация на философию отечественного модерна. В литературе ярчайшими представители этого направления становятся А. Солженицын, ряд представителей «деревенской прозы», прежде всего В. Распутин. Важнейшим писательским качеством признается ощущение творчества как пророчества, стремление авторов взять на себя роль «учителей», решать и богословские вопросы, что в целом характеризует русскую писательскую традицию. Явление «деревенской прозы», по мнению европейских славистов, и сохранило ощущение преемственности между классической и современной отечественной литературой с ее интересом к судьбе «маленького человека», его положении в мире. В творчестве «деревенщиков» сильно влияние почвенничества, славянофильства. Оригинальность картины мира, описанной в произведениях «деревенщиков» и заключается в том, что она имеет два равнозначных измерения: миф о «заповедной стране живого прошлого», о гармоничном устройстве природного миропорядка и рассказ о современном обществе, «потерявшем в динамизме современного мира свое прошлое», утратившем былую целостность1. «Только двуединая сущность созданных ими («деревенщиками») моделей действительности, воплощая в себе мысль о глубоком несоответствии между предназначением человека и эмпирической реальностью человеческого бытия, выявляет смысл позитивной программы этих писателей»2. Сокровенное, «тайное» знание об идеале и передает художник-пророк (традиция, идущая от православного понимания Слава как Бога). Этим же объясняется появление столь поразивших критику «ирреальных», мистических образов, пейзажей в творчестве В. Распутина; обращение к идее мыслящего космоса в произведениях «твердого реалиста» В. Астафьева («Царь-рыба») или воскрешение былинных богатырей в «Ладе» В. Белова, «Усвятских шлемоносцах» Е. Носова. Принцип контраста, излюбленный «деревенщиками», позволяет подчеркнуть предельную высоту, величие минувшего и сиюминутность, суетность реального. Через характерный для русской литературной традиции прием сна, видения идеальное прошлое монтируется с профанным настоящим, проверяя его на стойкость, доброту и порядочность, позволяя увидеть причины сдвигов в жизни и людях. Писатели, выступая медиаторами меж двух миров, наследуют взволнованности агиографов, им «трудно дается эпическое спокойствие: ищет путей, рвется наружу страсть проповедника»3. Обращение к проблеме социального моделирования, Слову как пророчеству накладывает на художника особую ответственность: жизнь Протченко В.И. Непрерывный поток жизни // Современный советский роман: Философский аспект. - Л.,1976.С. 46. 2 Белая Г. Художественный мир современной прозы. - М., 1983. С. 141. 3 Дедков И. На вечном празднике жизни // Вопросы литературы. 1977. № 6. С. 73. 1 41 писателя-пророка и творимая им Утопия образуют некое нерасторжимое единство, миф. Так А. Солженицын сознательно творит собственный биографический миф, выстраивает жизнь как житие, пытается различить Божеский умысел в происходящем и ему следовать: «…я в своей жизни эту направляющую руку, этот очень светлый, не от меня зависящий смысл привык с тюремных лет ощущать. Броски моей жизни я не всегда управлялся понять вовремя, часто по слабости тела и духа понимал обратно их истинному и далеко-рассчитанному значению. Но позже непременно разъяснялся мне истинный разум произошедшего – и я только немел от удивления. Многое в жизни я делал противоположно моей же главной поставленной цели, не понимая истинного пути, – и всегда меня поправляло Нечто»1. В статье «Что в слове, что за словом?» В. Распутин признается: «…в своей работе мы исходим из воспитательных и духовных целей, которые могли бы иметь более или менее обширное воздействие. Художника можно сравнить с проводником, указующим не приблизительные, а правильные пути. Это уж дело публики – следовать или не следовать им, но художнику неплохо бы знать их безошибочно»2. Причем правильные пути, по мысли писателя, художник должен указывать не только в своей работе – творчестве, но и в поведении в быту, которое воспринимается как изнуряющая нравственная работа, сродни праведническому служению добру. Положительными героями художников-традиционалистов становятся старики, юродивые (старообрядцы), сохранившие святую память о «древлей» Руси, ее легенды, предания, обычаи и могущие очнуть их в дне настоящем. Сам образ Руси-праведницы – Души Мира – аллегорически воплощается в женских персонажах: Матрена у Солженицына, Евдокия-великомученица, Лиза Пряслина у Ф. Абрамова, старухи у В. Распутина, бабушка у В.Астафьева. «Деревенщики», оставляя в стороне имперскую составляющую образа «Руси – Третьего Рима», акцентируют его народно-религиозное прочтение: Русь – Матушка, родная Земля, Природа, Заступница (Богородица). Символически-притчевое звучание обнаруживается и в душевном строе русских женщин, однако в лучших произведениях художников гипертрофированные проявления доброты, любви, преданности и совестливости не противоречат психологическому рисунку характера, соотносясь с высшим, бытийным представлением о жизненной правде. Сакральные образы христианских святых, Богородицы подсвечивают судьбы избранных персонажей («Из Жития Евдокии-великомученицы» Абрамова). Будучи вполне естественны и убедительны в сакрализованном пространстве деревни, герои-праведники не вписываются в цивилизацию машинной индустрии и массовой культуры. Они оказываются обречены вне пределов патриархальной деревни, черты которой еще угадываются в образах Матрениного двора, острова Матеры или Беловодья («Скитальцы» Солженицын А. Бодался теленок с дубом: Очерки литературной жизни. - Париж, 1975. С. 126. 2 Распутин В. Что в слове, что за словом? - Иркутск, 1987. С. 154. 1 42 В.Личутина). Чаемое возрождение, просветление России возможно тогда при условии тотальной власти художественного проекта, мифа над реальностью, превращения страны в утопический остров – икону. В этом традиционном русском гиперморализме, в жажде духовного преображения (чудесным образом) человека и мира проявляется экстатическое ожидание прорыва в иной, совершенный космос, где в каждом, в последнем грешнике, пробудится стыд, совесть, любовь, но более не усилиями смертного, а милостью Божьей. Человек попадает в иной ритм бытия («лад», по Белову), осознает свою связь с трансцендентальным. Эти нравственные ожидания, будучи оправданными каждое в отдельности, вместе составляют неосуществимый в профанной действительности комплекс, миф. Западные интеллектуалы в настоятельном интересе русских авторов к мифологическому космосу видят их близость латиноамериканской словесности (романы Роа Бастоса, Г. Маркеса), когда мифологические мотивы помогают осознать взаимосвязанность разрозненных частей универсума. Мифологический метод, отличающий художественную парадигму ХХ столетия, становиться ведущим и в романах-мифах О. Чиладзе, Ч. Айтматова, Ю. Рэтхеу, А. Кима. 43 Раздел 3. Литература постмодернизма Тема 5. «Истоки и смысл» постмодернизма. Общая характеристика – 0,19 (7 часов) (аудиторные занятия – 4, самостоятельно – 3) План 1. Постмодернизм – «приключения» термина 2. Постмодернизм в визуальных видах искусства 3. Специфика европейского постмодернизма. Этапы становления 4. Эстетика и поэтика постмодернизма Постмодернизм, замыкающий культурное движение ХХ столетия, явился не случайно, он есть реакция на апокалипсические потрясения ХХ века: концлагеря, Вторую мировую, атомную Хиросиму, на идеологию и практику тоталитарных режимов, приведших к существованию кровавых, фантасмагорических государств. Налицо кризисный характер основ постмодернистского мышления, на чем настаивают Ж. Лиотар, У. Эко, Р. Баумгарт и др. При всей противоречивости оценки постмодернистского дискурса следует признать его определяющую роль в европейском искусстве конца ХХ столетия. В данном контексте важно проследить истоки, особенности формирования новой художественной стратегии, своеобразие связи модернизма и постмодернизма. Термин «постмодернизм» появляется в период первой мировой войны в работе Р. Паннвица «Кризис европейской культуры» (1917), где обозначает нигилизм в культуре ХХ века. В 1934 году термин использует испанский критик Ф. де Онис в книге «Антология испанской и испаноамериканской поэзии, 1882-1932», чтобы определить растущую реакцию против модернизма начала века. В 1939 году А. Тойнби в книге «Изучение истории» (т. 5) применяет понятие «постмодернизм» в культурологическом смысле как символ конца западного господства в религии и культуре. Популярность термину придает известная работа Ч. Дженкса «Язык архитектуры постмодернизма» (1977), где термин означает отход от экстремизма, нигилизма неоавангарда, частичный возврат к традиции, акцент на архитектуре как виде коммуникации. Западные философы, культурологи рассматривают постмодернизм либо как противостояние модернизму (Ф. де Онис), либо как его законное продолжение (Ю. Хабермас, З. Бауман, Д. Белл). Статус постмодернизма – художественного явления – связан с развитием визуальных видов искусства США. Теоретической основой его эстетики выступают учения французских постструктуралистов и постфрейдистов, популярность которых достигает пика к 1960-ым годам. Предтечами литературного постмодернизма считают Д. Джойса, У. Фолкнера, Г. Гессе, Г. Миллера. Последний выступает и своеобразным наставником писателей-постмодернистов. Его концепция писательства как инстинктивного, самоценного, бесцельного, открытого 44 художественного творчества соответствует новым представлениям о незавершенности, хаотичности мира как такового. В России постмодернистское искусство получает массовое признание не ранее 1990-ых, когда его западные образцы прививаются на русскую почву, становятся составной частью сложной культурной ситуации, связанной с освоением наследия трех волн эмиграции, искусства андеграунда, «другой» живописи, переоценкой творчества соцреализма. Атмосфера «стихийного постмодернизма» – открытой, поливалентной, эклектичной культуры – соединяются с духом академизма, присущим западным образцам, зачастую иронически оценивающихся в отечественной культуре. Мода на постмодернизм только усиливает ощущение вторичности, пародийности этого феномена, заставляет остро почувствовать его чуждость русскому духовному космосу. Интерес к постмодернистскому творчеству как «иному», «другому» соседствует в современной отечественной культуре с разочарованием, чувством потерянности, рождающих тоску по идеалу, гармонии, связывающихся с искусством постпостмодернизма. В становлении культуры постмодернизма с определенной долей условности выделяют несколько этапов: Первый этап – предпостмодернизм 1950-х годов – отличает интерес к нетрадиционным материалам: пластику, стеклу, алюминию. Это время подчеркнутого внимания к повседневности, индустриальному стилю, дизайну. Символом настоящих исканий принято считать творчество П. Пикассо. Второй этап – «авангардный постмодернизм» 1960-х годов – характеризуется отказом от деления искусства на элитарное и массовое, движением хиппи, рок и поп-искусством, популярностью феминизма, ироническим синтезом прошлого и настоящего, высокого и низкого. Данные тенденции в литературе выражает Д. Сэлинджер, Д. Керуак, в архитектуре – Г. Кролл, стремящийся расширить границы чтения, монтирующий пронумерованные короткие текстовые блоки с элементами рекламы, графики, порнопродукции. 1960-е отличает технократический оптимизм, искусство будущего связывают с компьютерными технологиями. На этот период приходится стихийный протест против истеблишмента, облаченный в игровые, иронические формы. Третий период – «неоконсервативный постмодернизм» 1970-х годов – отличают плюрализм и эклектика. Лидер времени – У. Эко с его ироническим прочтением прошлого, дешифровкой сакрального статуса средневековья в культовом романе «Имя розы». Приобретает популярность неомифологическое творчество Г. Маркеса (знаменитый роман «Сто лет одиночества»), С. Беккет лидирует в драматургии (особой известностью пользуется его авангардистская драма «Дыхание», в финале которой воцаряется полное молчание). Эстетическая ценность произведения соотносится теперь с мастерством автора, новой фигуральностью, орнаментализмом, эстетической направленностью. В сфере идеологии на смену протесту «новых левых» приходит самоутверждение «новых правых» 45 на почве консервации культурных традиций прошлого через их эклектическое сочетание. Начинает складываться искусство, поэтика постмодернизма, растет эротизация и феминизация культуры. Четвертый период – зрелый постмодернизм 1970-1990-х годов – связан с утверждением посткультуры в Европе и, в 1990-е, в России. Возникает политизированная версия постмодернизма – соц-арт, акцентируется интерес к миноритарным культурам: феминистской, экологической, культуре сексуальных меньшинств. Теоритическим лидером времени признан французский философ Ж. Деррида. В философии подчеркнут интерес к культуре Античности, метафизике космоса, гармонии сфер, но в новом контексте: гармоническое мыслится как дисгармоническое, пропорция как диспропорция. Художественный фристайл – основной признак искусства данного периода, когда традиция, память смешиваются с неологизмом. Намеченные особенности новой художественной парадигмы (замкнутость, самодостаточность произведения, акцент на выразительности художественного языка, мифологизм), присущи искусству ХХ столетия в целом, вне зависимости от специфики методов, направлений, антиномичность которых ранее абсолютизировалась: соцреализм в России вбирает магистральные идеи авангарда об искусстве жизнестроения, художникерабочем; соц-арт рассматривает произведения соцреализма как единый метатекст, формализуя, мистифицируя канон, пытаясь оторваться от него идеалогизированными же, но сугубо антитоталитарными методами. Нивелировка границы между русским авангардом и постмодернизмом (варианты соц-арта, концептуализма) позволяет говорить об утрате самобытности, вторичности и, одновременно, сложности последнего. К ведущим чертам постмодернистского дискурса относят смену европейского центризма глобальным полицентризмом, утверждение приоритета свобод человека над интересами государства, стремление к религиозному экуменизму, конформизму, эстетическому эклектизму. Переходный характер, вторичность культуры под знаком «пост-» подтверждает и отсутствие в ней оригинальных эстетических ценностей. Ее художественные стратегии: деконструкция, травестия, профанация, симуляционность… направлены на обыгрывание уже состоявшихся художественных моделей. Постмодернистское искусство характеризуется переориентацией с художественного произведения на процесс его создания (идея самодостаточности текста); с автора – на массовую публику; с вербальности – на телесность, жест (невербальность); утверждением компьютерных методов производства артефактов, когда искусство не подражает жизни, но заменяет ее; формирование игрового типа личности, ориентированной на сон, воображение, бессознательное, соответствующее абсурдистской картине мира. Избранный герой времени постсовременности: «антилидер», юрод-«шизо», которому нет места в героических эпохах (над филистером иронизировало Просвещение, им пренебрегал модернизм, его не замечало 46 советское искусство). Юрод – обладатель некоего кода ушедшей культуры (в том числе модернистской), а «шизо», «дурачок» – безучастный наблюдательскептик, хроникер. Глупость, сдвинутость юродивого, уже лишенного ауры сакрального, приобретает непосредственное значение – просто глупость (образы пристукнутых Е. Попова, сумасшедших старух Л. Петрушевской). Герой постмодернистской словесности, лишенный защиты мифа и прежних «рукотворных» богов (от НТР до Культуры вообще), остается один на один с необратимостью своего конца, смерти. Он заперт в самом низменном, пустом и жестоком быте, из реалий которого и выстраивает свою личную ойкумену, заранее опять же зная, что цена ей грош, что вот-вот и она превратится в ничто, рассыплется в прах. Стало быть, только эти останки, осколки и есть реальность, а манипуляция с ними есть смысл истории. Тогда каждый может объединить, собрать их как сочтёт нужным, мифологизируя уже не только день сегодняшний, но и день вчерашний. Этот «новый мир» в искусстве конца ХХ столетия, реконструируемый из обломков и загадок, обязательно мир частный, свой, непостижимый вне сознания писателя. Художник-постмодернист волен и в приоритетах: воссоздавая образ Вселенной из лоскутков, обрывков прежних культур, он по-своему оценивает их значимость и важность. Смысл мозаистического целого не превосходит значения части. Вселенная как поток осколков, фрагментов принципиально лишена возможности прежней гармонии – это синтез без основы, с надеждой, что сама культура себя объяснит и наполнит. Каждая частица, фрагмент – составляющая неизведанного единства, но существующего в качестве метатекста. Человек «эпохи руин» и пытается обрести «затерянный мир», восполнить недостающие реалии, ибо, найдя деталь, можно синтезировать утраченную культуру. По сути данный процесс восстановления духа из материальных, бытовых, «низких» объектов объясняет коллажную форму постмодернистского романа. Открытие бесструктурного мира и человека делает их ущербными, слабыми, обреченными. Достаточно ошибиться в единственной детали – и мир рушится, подобно карточному домику, герой же погибает без обмана, не может не гибнуть, ибо живы только остатки, останки, а любое единство заранее обречено. Причем сам процесс «руинизации» всего осмысленного, выявление в любом «разумном» его бессмысленных, иррациональных оснований сопровождаются, скорее, чувством облегчения (избавления от хлама прежних культурных доктрин), чем сожаления и боли1. Ужасы жизни постмодернисты изображают бескомпромиссно, буднично, чаще всего не трансформируя, не преображая задачами, специфическими для искусства. Литература становится предельно «телесной». «Антинормативность как принцип, обнимающий все сферы – от морали до языка, выливается в шоковую эстетику («чернуха», «порнуха» и т.д.), центральными категориями которой становятся безобразие, зло, насилие»2. См.: Давыдов Ю. Современность под знаком «пост-» // Континент. Москва – Париж, 1989. С. 301-317. 2 Маньковская Н. Эстетика постмодернизма. - СПб., 2000. С. 296. 1 47 Потеряв сакральное измерение, лишившись и вообще всего чудесного, таинственного (игра, имитации – не в счёт), эта проза стала удивительно незагадочной, потребовав иные критерии художественной оценки. Идеологи посткультуры обращаются к новой эстетической терминологии, которой модернистское сознание чуждо. Слова-сигналы: деконструкция, симулякр, ризома, первописьмо, интертекст, концепт, «шизоанализ»… определяют границы постмодернистского дискурса, содержат скрытую или явную отсылку к образам, символике, разработанным в трудах Ницше, Фрейда, Юнга… Однако вторичность, формализм постэстетики выглядят теоретически оправданными в контексте тех же постулатов об интертексте, деконструкции. Эстетика постмодернистского стиля характеризуется и идеей непрозрачности, замкнутости артефакта, стремлением к слиянию с массовой аудиторией, антииерархичностью, антиаристократизмом (в духовном плане), новым типом утопизма (неудовлетворяющая реальность заменяется гиперреальностью искусственных знаков – утопией сознания), интересом к ценностям «периферии» – низкому, уродливому, злому – «другому» по отношению к традиции (в том числе и модернистской), всепоглощающим эклектизмом, смешением доброго и злого, красивого и безобразного, комичного и трагичного… Классикой европейского литературного постмодернизма стали новеллы Х. Борхеса, «Лолита» В. Набокова, романы Дж. Фаулза, Х. Кортасара, Г. Маркеса, И. Кальвино. Основные опасения у исследователей эстетики постсовременности вызывает ощущение эстетической вторичности текстов; поверхностности, утраты целостности, аутентичности и художественной автономности артефактов; спонтанность, эмоциональность ценностных критериев, применяемых к художественным произведениям; сочетание откровенной иронии, цинизма и одновременно ностальгии по утраченной целостности бытия, красоте мира искусства, что актуализирует «ретро» настроения, интерес к старым вещам. Универсальные трансформации современной культуры под воздействием постмодернизма сводятся к следующему: тенденции неопределенности выражаются в открытости, плюрализме, эклектике, беспорядочности культурной жизни; культурная деятельность напоминает интеллектуальную игру (культовый роман Г. Гессе «Игра в бисер»); интерес с эпистемологической сферы переносится на онтологическую проблематику, художественное растворяется в эстетическом, что позволяет говорить о близости постмодернизма не столько к искусству, сколько эстетике и философии; для западного постмодернизма характерна близость массовой культуре, молодежный бунт 1960-х разрушил традиционную оппозицию массовой и элитарной культур, подготовив постмодернизм. Близость постмодернизма массовой публике, интересам большинства оборачивается эстетизацией массовой культуры через иронию. Массовая культура воспринимается как «другая» по отношению к классической, отторжение высокой традиции компенсируется эстетизацией «мусора 48 культуры», импортированием ценностей экзотических культур (культуры стран третьего мира активно вводятся в исследовательскую парадигму, рождается интерес к региональным культурам, культурам малых народов). Союз с массовой культурой вызывает и панику – страх расшатывает экономику, политику, интимные отношения, ужас перед СПИДом уничтожает страсть, жажду удовольствия. В области словесного творчества особые опасения вызывает судьба литературного языка, граница элитарной и массовой культуры определена через искусство слова, интеллектуалы всегда отличались высокими требованиями к красоте слова, образа, в постмодернизме эти критерии перестают быть актуальными. Поэтика постмодернизма характеризуется поливалентностью, «дисгармонической гармонией», «поэтикой дуализма»; неклассической трактовкой классических традиций далекого и близкого прошлого, что приводит к утверждению постмодернизма как фристайла в искусстве, продолжающего линии маньеризма, барокко, рококо; стилистическим плюрализмом, эклектизмом, влекущим к образованию театрализованного пространства современной культуры, чье изобразительно-выразительное начало утверждается в споре с абстрактно-концептуалистическими тенденциями модерна. Разумеется, модернизм, постмодернизм не исчерпывают всего разнообразия искусства ХХ столетия, но более рельефно позволяют увидеть то новое, что отличает творчество данного времени. В современной культуре сохраняются и неоклассицизм (как вариант – соцреализм), и реализм (творчество И. Бунина, сравнившего серебряный век с Вальпургиевой ночью, И. Шмелева, М. Осоргина, «деревенщиков», А. Солженицына…), однако каждый из стилей маркирован влиянием новой художественной парадигмы. Бунин – демонстративный реалист – в период «Темных аллей» испытывает влияние метода Б. Пруста. В. Распутин, декларирующий собственную принадлежность к трезвым реалистам, обращается к мифологическому методу, старообрядческой мистике в лучших своих вещах. Творчество настоящего мастера никогда не ограничивается рамками одной художественной системы, но стремительно проливается вовне, соединяя несоединимое, придавая многогранность художественному тексту. Нечто подобное можно сказать и о современном искусстве в целом: открытия «художественной революции», «смены перспективы» к концу ХХ столетия все теснее сопрягаются с тоской по традиции. Само понятие классики существенно обновляется: это отнюдь не только наследие античности или «золотого века» отечественной культуры, особый интерес вызывают ранее забытые эпохи и стили: барокко, рококо, средневековье. Культура своеобразно возвращается к истокам, к примитиву, к магии, первобытному искусству с его синкретизмом и мифологизмом. Интертекстуальность, когда в произведении ощутимы целые пласты, сюжеты, символы текстов иных времен – одна из самых ярких примет искусства рубежа ΧΧ – ΧΧΙ веков. 49 Тема 6. Концепты постмодернизма – 0,17 (6 часов) (аудиторные занятия – 4, самостоятельно - 2) 50 План 1. Постмодернизм в свете глобализма и массовой культуры 2. Теория Ницше в интерпретации постмодернистов 3. Концепция посткультуры Деррида 4. Философия ужаса Ю. Кристевой 5. Деконструкция, ее обоснование Лаканном 6. Концепция симулякра Ж. Бодрийара Актуализация искусства постмодернизма непосредственно связана с процессом глобализации, распространением ценностей и приоритетов массовой культуры. Художественная философия постмодернизма состоит в диалоге с хаосом, в своеобразном приятии хаоса, в попытке найти в хаосе новые, неведомые ранее закономерности. В европейской традиции истоки постмодернизма видят в философии Гегеля, его концепции «нового времени» (теория Ю. Хабермаса)1; тогда же определены слова-сигналы новой культуры: революция, прогресс, эмансипация, кризис, дух времени. Первостепенное значение приобретает философия Ф. Ницше, ницшеанство рассматривается как критика идей Просвещения: вместо разума утверждается власть мифа. Для Ницше очевидно, что эпоха Просвещения только усилила расколы и разрывы, предельно выявленные достижениями модерна, разум не обладает необходимой силой синтеза. Возврат к «золотому веку», архаике теряет актуальность – рационализм модернистов делает невозможным восстановление самого духа единения, целостности, свойственного, по Ницше, древнейшим цивилизациям (Египет, Греция). Выход философ видит в сакрализации не прошлого – будущего, в обращении к грядущему Богу (художественное переосмысление культа Диониса как ушедшего Бога). Эстетически обновленная мифология и должна сплотить современное общество, открыть перспективу для освоения архаического опыта. Искусство будущего не будет диктоваться волей отдельного художника, но явится творением народа. В этом тезисе Ницше сближается с Вагнером. Позднее он с презрением отзовется об операх Вагнера, ибо увидит в них романтические основы, но не дионисические. На русской почве идеи Ницше отчасти преломились в мистериальном, теургическом искусстве Д. Мережковского, Вяч. Иванова. Творчество, по Ницше, открывает доступ к дионисическому через экстаз, через преодоление границы субъективности, через слияние с природой внутри и вне себя. Ницше отказывается от нигилистически опустошенного искусства модерна, от ограничений пользы, морали, видит оправдание мира только как эстетического феномена. В «Рождении трагедии» мир есть иллюзия, сотканная из обманов и притворств, за которой нет и быть не может единой Книги Бытия. Мир явлен как игра, искусство тогда и есть жизнетворящая сила. Идеи Ницше оказали серьезное влияние на утопические 1 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. – М., 2003. С. 7-22. 51 проекты представителей серебряного века. Критика модерна Ницше, в прочтении Ю. Хабермаса, продолжена по двум направлениям: 1. Артистическое видение мира, когда можно избежать иллюзии веры в истину. Герой здесь – скептик, который разоблачает неверное представление о воли к власти как воли к видимости вместо признания подлинно метафизической силы искусства. Эту позицию развивают Ж. Батай, Ж. Лакан, М. Фуко; 2. Значимость философии воли к власти (воли к видимости, маске, игре, без чего невозможно искусство) предполагает ее продолжение и развитие. Дионис трактуется в качестве философа, а Ницше – посвященный в его тайну. Данная точка зрения популярна в работах М. Хайдеггера и Ж. Деррида. В трудах названных философов (от Ницше до французских постструктуралистов) складываются основные концепты постмодернизма, главным завоеванием культуры постмодернизма можно считать осознание свободы как основного пафоса культуры. Стержневой для понимания особенностей эстетики постмодернизма стала философия языка, постепенно перетекающая в философию текста, мира как текста. На власть языка над миром указывает еще Ницше, об этом пишет Х. Ортега-и-Гассет, Лакан. Язык – система знаков, паутина, покрывающая мир. Единственная реальность, представленная в языке и есть тогда реальность самого языка, намеченная множеством текстов (Ж. Лакан). Вместе с тем язык способен продуцировать и ложные высказывания-смыслы, формировать однозначные, банальные представления о бытии, с этой точки зрения язык – жесткая тоталитарная система, борьба с которой – важнейшая цель постструктуралистов. В творчестве французских исследователей философия языка трансформируется в философию текста. Текстовые характеристики распространяются на историю, общество, политику, культуру, сознание и бессознание «я». Само понятие текста модифицируется. Текст лишается внетекстового референта (это может быть Бог, Абсолют, Истина), детерминирующего смысл высказывания. Никакого «чистого смысла», предшествующего знаку, тексту, по Ж. Деррида, нет. Исчезновение первотолчка-Истины ассоциируется со смертью Бога, открытием новой бесконечности-Бездны, ничем не корректируемой. Текст в постмодернизме не контролируем и каким-либо надтекстовым детерминантом, что отражает метафора «смерть автора». Образ автора получает особую значимость в культуре романтизма, связан с утверждением неповторимости человеческой индивидуальности. Образ автора сакрализовала христианская культура, в России автор – посредник между Богом-Истиной и человечеством. Автор воплощает некую идеологию, мировоззренческое единство, цементирующее текст произведения (М. Липовецкий). В постмодернизме дискурс автора децентрируется, фигура автора маскируется, расщепляется, исчезает; разрушается и идеология, которую автор мог бы донести до читателя. Лишаясь демиургической миссии, художник превращается в скриптума, он едва успевает записать происходящее, но не анализировать его. Развенчание автора превращает его в 52 слугу текста, диктует необходимость постоянной маскировки, игры, перевоплощений в рассказчика, персонажей. Автор стремится максимально отдалиться от текста и «замести следы» собственного присутствия. В пределе такая стратегия оборачивается самоуничтожением пишущего, грозит молчанием. Текст утрачивает и внутренние доминанты, основанные на принципе целостности мира (текста). В качестве таких доминант ранее выступали направление, стиль, жанр, метод… Некой мерой целостности являлась личность. В постмодернизме «я» оттесняется на периферию мироздания, замещается чем угодно, превращается в разновидность знакового кода. Процесс распыления личности в эстетике постмодернизма получает название «смерть субъекта» (М. Фуко). В итоге компрометируются все практики центризмов (от власти Абсолюта до значимости личности), которые обобщает термин «логоцентризм» (Ж. Деррида). «Смерть автора», «смерть Бога», «смерть субъекта» рассматриваются как положительные события. Текст приобретает аструктурный, ризоматический характер, его смысл принципиально неисчерпаем, процессуален. И. Скоропанова понимает такой текст как разновидность интертекста – всей совокупности текстов культуры1. Теорию интертекста разрабатывают Ю. Кристева - профессор лингвистики и семиотики Университета Париж-VII и ученый-структуралист Ц. Тодоров. В транскрипции Кристевой интертекст – пространство схождения и пересечения всевозможных цитаций, трансформации других текстов. Речь идет не столько о дословных цитациях других текстов, сколько о культурных кодах, следах смыслов, утративших связь с референтом, конструирующихся по отношению к другим смыслам-знакам. В этой ситуации велика роль иронии как результата замены известного смысла на противоположный (феномен смысловой игры), когда цитата переосмыслена и приобретает парадоксальное звучание. В литературе интертекстуальность означает, что узел интриги в характере персонажей. Символизация различных уровней текста раскрывает природу косвенного смысла, способного накладываться на любой текст. Тодоров, однако, предупреждает, что структурный анализ символики текста охватывает интертекстуальные отношения, но не историю создания произведения и не его содержание, изучением которых занимается классическая филология. Основные способы децентрирования текста – деконструкция, шизоанализ, языковые игры. Понятие «деконструкция» введено Ж. Лаканном и теоретически обосновано Ж. Деррида. Деконструкция определяется Деррида как все и ничто одновременно, он сравнивает деконструкцию с поведением мечущейся птицы, отводящей опасность от своего гнезда, суть этого – постоянное смещение, сдвиги, пульсации, направленные на децентрирование центрируемого, захватывающие все элементы текста в его формальной структуре: от знака до типа организации книги. Результатом деконструкции, Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык. – СПб., 2002. С. 18-20. 1 53 на что указывает и Н. Маньковская, является не конец, а закрытие, сжатие метафизики, превращение внешнего во внутритекстовое1. Суть деконструкции – интерес к маргинальному, локальному, периферийному, сближающему ее с постмодернистским искусством. Продукт деконструкции – симулякр как деконструированный знак. Симулякр соотносится не с вещью, которую замещает, не с воображением, а с миром-текстом, с которым взаимодействует в процессе коммуникации. Понятие симулякра введено французским философом Ж. Бодрийаром. Симулякр ассоциируется с муляжом, эрзацем, чистой телесностью, пустой формой, видимостью, вытеснившей из эстетики художественный образ и занявший его место. В симулякре доказательство нехватки, дефицита натуры и культуры, когда естественный мир заменяется подобием, второй природой. В этой логике симулякры – объекты третьей природы, когда вещь вытесняется фетишем, иллюзией, сном, проектом. В симулякре, по Ж. Делезу, наличествует вечное, безумное становление, всегда неуловимое, ускользающее от любого предела. Блуждание симулякров - особый вид хаоса, который в постмодернизме обретает положительные коннотации. Это хаос самоорганизующийся, продуктивный, противостоящий энтропии, всегда содержащий потенциальную возможность самоорганизации, упорядочивания. Хаос в постмодернизме отрицает не логос, а логоцентризм, не позволяет утвердиться ни одной из заявленных людьми мировоззренческих систем. Отсюда представление о множественности истины, обладающей неисчерпаемым количеством смыслов. Стратегия мышления, порождающего такую истину, определяется через понятие ризома. Представление о ризоматическом типе мышления выдвигают Ж. Делез и Ф. Гваттари. Ризома (от фр. корневище) означает открытую систему без Авторитета, без охраняющей власти памяти, организует принципиально открытую структуру текста. В ризоматической системе любая точка может и должна быть связана с любой, что приводит к тому, что ризома способна расчленить язык, децентрируя его в нескольких измерениях и порядках. Ризома сравнивается исследователями с картой, что не калькирует, но конструирует мир. Если центрированную систему мышления Делез и Гватари уподобляют дереву, проросшему в голове (традиционные культуры – «древесные», построенные на принципе мемесиса, подражания, здесь высок авторитет книги), то ризома соотносится с травой (культура ризомы, «корневища» характерна для эпохи постсовременности, где мир – хаос, а книга реализует идею хаосмоса, но не гармонии). В культуре ризоматического типа не так важно, что написано в книге, важно уметь ей пользоваться как шведским столом, с которого берешь, что считаешь необходимым. Ризоматика и должна раскрепостить сознание, выдвинуть бессознательное, а с ним и новые желания, интересы, т. е. изменить мир. Ризома представляет в постмодернизме образ мира как самоорганизующегося хаоса. 1 Маньковская Н. Эстетика постмодернизма. С. 18. 54 Постмодернистская культура меняет устоявшиеся концепции пространства и времени, сам образ человека и бытия. В ХХ веке время как устойчивая категория мира исчезает. Время лишается линейности, гомогенности, одномерности, становится плюралистическим, относительным, ускользающим. Постмодернистское сознание словно отрешается от осмысления категории времени, переживая его движение: «В первый раз общество отказалось от самого древнего механизма своего воспроизводства – вместо вечности одно движущееся, несамодостаточное, кризисное, дергающееся, дышащее, непредсказуемое здесь-и-сейчас»1. Аналогично изменяется и пространство, которое словно поглощается временем, находится в постоянном становлении. Изменившиеся представления о мироздании модифицируют образ истории, общества, мира. История не рассматривается с точки зрения поступательного движения, пути к «светлому будущему», лишается линейных характеристик, осознается рядом случайностей, самоорганизующимся хаосом. Движение истории, утратившей покровительство традиции, Бога, авторитета, признается противоречивым, носит вероятностный характер. Отказ от исторического оптимизма связан с открытием деструктивных принципов коллективного бессознательного (К. Юнг), зачастую сводящего на нет все разумные усилия людей. Невозможность контролировать область коллективного бессознательного, связанного с самой человеческой природой, - важнейшая причина современного исторического пессимизма. В России историю привычно отсчитывают от одного большого социального потрясения до другого, но в быстро меняющемся мире история изменяется ежесекундно и не производит всякий раз ощущение свершившийся революции, глобального катаклизма, вплоть до апокалипсиса. Новым фактором в подходе к пониманию общества, истории стал деантропоцентризм. Человек утрачивает доминирующее положения в мире, из «хозяина природы» обращается в подвластное природе существо, через которое природа и должна познать самое себя (идея, широко представленная в русской «онтологической» прозе). Эти тенденции способствуют формированию экологического сознания, утверждению новых принципов гуманизма, экологической этики. Общество в философии постсовременности рассматривается как сложная, противоречивая, самоорганизующаяся система, развитие которой нельзя предопределить, предугадать, ибо оно подчинено случайности. Подобный взгляд разрушает утопические планы правоверных соцреалистов о непременном наступлении «коммунистического рая» и остановке истории. Вместо скачкообразного плана общественного развития, связанного с логикой революции, утверждается эволюционный путь. Главной задачей человечества провозглашается само сохранение жизни на Земле, отсюда утверждение идей ненасилия, медитации, терпимости, политкорректности, витализма. Дичев И. Шесть размышлений о постмодернизме // Сознание в социокультурном измерении. – М., 1978. С. 38-39. 1 55 Постмодернизм характеризуют именно как время утраты утопических идей, планов. Для модерна и соцреализма утопическая составляющая – одна из важнейших (теории «жизнестроительства» серебряного века, устремленность в «светлое будущее» социалистов, в «светлое прошлое» традиционалистов). Разочарование в утопической идеологии, как считает немецкий философ П. Козловски, оборачивается апокалипсическими настроениями, а затем нигилизмом, ибо апокалипсис не наступает. Избежать тотального отрицания – одна из основных задач постмодернизма. Искусство постмодернизма, перекликаясь с модернистскими темами и идеями, переживает особый интерес к гендерной проблематике. Если классическая культура, безусловно, держится на авторитете патриарха, то сегодня сильны феминистские тенденции в осмыслении общества и истории. Социальная история изучается через призму истории полов, осуществляется критика фаллоцентризма, отрицается диктат маскулинизма как культа рациональности, духовности, силы, агрессии, происходит восстановление в правах эмоциональности, телесности, терпимости, ненасилия, игры соблазна, альтруизма. Тема 7. Философско-эстетические теории посткультуры1 – 0,17 (6 часов) (аудиторные занятия – 4, самостоятельно – 2) План 1. Теория грамматологии Ж. Деррида Материал излагается с опорой на аналитические исследования Ю. Хабермаса, Н.Маньковской. 1 56 2. Андрогинность и транссексуализм как основы эстетики посткультуры 3. Постфрейдистские концепции культуры 4. Основы шизоанализа Ж. Делеза и Ф. Гваттари 5. Эстетика «нового стиля» в философии Ю. Кристевой и Ц. Тодорова Одним их крупнейших теоретиков, определивших философские основания новой художественной культуры, стал Ж. Деррида, разработавший теорию деконструкции. Важнейшие темы его рассуждений: Запад и его «другое» (т. е. Запад, столкнувшийся с «другим» самого Запада, с тем, что заявило о себе в результате политических и экономических потрясений), Запад и «третий мир», крах антропоцентрического мышления, образ бытия-хаоса. Ключевая проблема постсовременности – проблема диалога в европейской и русской философии, что на отечественной почве актуализирует интерес к наследию М. Бахтина, его эстетике диалога. Деррида разрабатывает теорию грамматологии – науки о письме, букве, о членении на слоги, но не анализирует разговорный язык. Грамматология – руководство к критике метафизики, она об основах письма, построенного фонетически, эта наука коэкстенсивна метафизическому мышлению, первична, как и оно. Фоноцентрическое письмо и есть самовыражение западного Логоса, разрушить который можно, начав с разрушения письма. По Деррида, книги существуют, ибо утрачен первоначальный смысл, единой Книги Бытия никогда и не существовало, были ее следы, приметы, которые сегодня практически утрачены. Сомнения в Слове Бога и отразила культура модерности. Модерн ищет следы такого письма, которое не подразумевает обязательной смысловой взаимосвязи, письменный знак – единственное, что не подлежит распаду. Знак остается как след духа, даже если текст не ясен. Деррида подчеркивает самостоятельность знака, запись освобождает текст от всех контекстов и самого автора. Текст всегда может быть прочитан вновь, а значит, по выражению Ю. Хабермаса, графема у Деррида равна завещанию. Язык фундаментально бесчеловечен и ниспослан свыше, что и определяет идею первописьма, предшествующую всем записям в мире. Первописьмо лежит в основании всего написанного и произнесенного, хотя само налично не присутствует. В этом прочтении первописьмо равно открытию мира. Деррида развивает версию о письменно закодированной истории бытия, поэтому деконструкция (декодирование) становится путем к первоначальному смыслу. Сам Деррида определяет деконструкцию как разложение основных понятий западной метафизики, чтобы понять, как они сконструированы. Деконструкция разрушает традиционные ценности, опирается не на новое, на иное, готовит появление новой эстетики, чьи отличительные черты: расставание с универсальным художественным языком; смешение языков, жанров, стилей, эклектика; асистемность, незавершенность; самодостаточность формы вне диктата смысла. В искусстве эти особенности 57 реализуются в приоритете формы, композиции над идеологией; усилении ироничности; тоске по иному миру, новой среде обитания на фоне усталости, исчерпанности современной культуры. В литературе стратегия деконструкции привела к пониманию самодавлеющей, слепой природы произведения; предчувствию исхода из мира тотальности, но не в Утопию, а в Ничто, чистое отсутствие; интерпретации авторства как озарения и клоунады одновременно; замене слова жестом, ритмом, иероглифом. Жан Бодрийар и его эстетика симулякра получили широкую известность в 80-е годы ХХ века. Термин симулякр определился, когда автор занимался психоанализом мира вещей (работа «Система вещей»). Обмен вещами, по Бодрийару, один из способов коммуникации как основы мироздания. Исследователь сопоставляет авангардный интерьер и традиционный, выявляет в первом отсутствие очага, фотографий близких, зеркал, что выступает доказательством конца подлинно интимных переживаний, традиционной семьи. В авангардной обстановке акцент ставится на кричащие расцветки, декоративную мебель, которая лишена традиционных функций и может имитировать что угодно, т. е. форма вытесняет смысл. Ложная форма понимается как симулякр. Нарциссцизм вещной среды – симулякр утраченной мощи, так реклама симулирует соблазн, удовольствие, эротику. Миром, считает французский философ, правит соблазн. Человек вкладывает в вещь то, чего ему не хватает в реальности, поэтому множество вещей и есть знаки фрустрации, свидетельства роста человеческой нехватки. Н. Маньковская, описывая теорию симулякра, подчеркивает, что пределов насыщению нет, а значит культура постепенно вытесняется идеей культуры, ее симулякром, знаком. С данным процессом связан возрастающий интерес современного общества к старым вещам – талисманам аутентичности, сглаживающим ужас исчезновения подлинного. В этой же парадигме популярность искусственных фаллов, надувных женщин, которые утоляют тоску по несостоявшейся страсти. Переходное звено между реальным объектом и симулякром – кич как бедное значениями клише. В массовой культуре художественный образ заменен кичем, в постмодернизме – симулякром. Симулякр и есть единственная реальность постсовременности. Если Деррида, выдвигая теорию деконструкции, оптимистичен в прогнозах на будущее, то Бодрийар, напротив, предупреждает об опасности утраты культурой собственной специфики. Постинерционная, подражательная культура постсовременности описывается через понятие «мести хрусталя», когда перекормленный объект становится все более опасен для субъекта. В качестве выхода из сложившейся ситуации философ предлагает следующие стратегии: контроль более умного субъекта над объектом (эта надежда уже в прошлом); иронию субъекта по отношению к объекту (иррациональный выход) и, наконец, когда субъект принимает правила игры объекта, склоняя голову перед волей фатума. Именно последний путь представляется Ж. Бодрийару наиболее продуктивным, принятие зла открывает путь к мистике, искреннему 58 переживанию. Исследователь считает, что путем зла идет современная Америка, где нет культуры, истории, но есть всесильная реклама. Ж. Бодрийар, отметив власть рекламы, подчеркивает и могущество моды в современном обществе – искусственной, поддельной красоты: увлечение пластическими операциями, всплеск желаний стать похожими на известных актеров, моделей, киногероев. Другой стороной популярности моды стали андрогинность и транссексуализм, где нет иерархий, нет уважения к мужскому, маскулинному началу, но утверждается бисексуальность, принцип удовольствия. Еще один признак новой чувственности: внедрение в искусство «готовой реальности», вырванного из быта жеста, обычая, позы, когда в классический балет врывается, например, «человек с улицы», разрушая все традиционные представления о гармонии. К постфрейдистским концепциям культуры относят работы Ж. Лакана, Ж. Делеза, Ж.-Ф. Лиотара. Философы подвергают критике пансексуализм З. Фрейда, заменяют понятие «либидо» (термин Фрейда, означающий подавленные сексуальные влечения) понятиями означаемого и означающего, что и позволяет, с их точки зрения, выявить общечеловеческие бессознательные структуры во всех видах жизнедеятельности. Постфрейдисты претендуют на создание собственных философскоэстетических школ, наиболее значительная среди них школа структурного психоанализа Лакана. Лакан начинает как практикующий врач, слава приходит к нему после защиты докторской диссертации «О параноидальном психозе и его отношении к личности» (1932). Идеи исследователя легли в основу «параноидальной критики» С. Дали. Признавая огромную роль психоанализа Фрейда, Лакан видит в предшественнике не гуманиста, но трагика и пессимиста, открывшего власть над человеком инстинкта, безотчетных порывов и стихий. Именно эта загадочность человеческого сознания, его непрозрачность для самого себя позволяет творить. Либидо тогда и есть воплощение творческого начала в человеке, залог прогресса. Цель Лакана – в рамках теоретического антигуманизма отыскать механизмы («машины»), которые создают предпосылки для образования социума. «Человек-машина», по Лакану, характеризуется свободой выбора, что отличает его от животного («застопорившейся машины»). Естественный, животный мир – область реального, человеческий – символического. Человеческая свобода реализуется в языке и художественном творчестве, благодаря которым человек преодолевает границы реального бытия. Понимая символическую природу самостановления личности, философ надеется подготовить скачкообразный переход человечества в новое качество. Для этого традиционная педагогика бессильна, необходима лингвизация психоанализа, уравнивания в правах желания и языка – двигателей личной и общественной жизни. Идеи Лакана о многоуровневой структуре психики очень плодотворны. Философ дает новую трактовку бессознательного желания как структурно упорядоченной 59 пульсации, в этом прочтении окультуренное бессознательное, преобразованные пульсации – толчок и двигатель творчества. Основой бытия Ж. Лакан считает трехчлен «реальное-воображаемоесимволическое». Реальное остается вне сферы анализа, а стык граней воображаемого и символического дает толчок к рождению любви. Любят не конкретного человека, но идеальный тип, идею, образ любви. От исследования воображаемого Лакан переходит к анализу символического и его проявлений – языка, речи, искусства. Признак символической природы искусства – художественный образ. Вечное противоречие формы и содержания, сознания и тела приводит к расколотости сознания, на уровне воображаемого это вызывает стремление личности к разрушению объектов отчуждения, подчинению их собственным интересам; идеальным, гармоничным восприятие становится благодаря символическому, воплощенному в образах искусства. Реальный объект, отражаясь в зеркале искусства, превращается в воображаемый образ – феномен сознания. Полнота самореализации субъекта зависит, по Лакану, от приобщения к мифам, обладающим общечеловеческой значимостью (мифы об Эдипе, Геракле, Кассандре, Сизифе). Символизация реального, сказавшаяся в искусстве, сглаживает травмы, переживания, раскол (эдипов комплекс), а затем вытесненный комплекс возвращается на уровне языка, творчества, обыгрывается. Процесс символизации часто протекает бессознательно и подобен сну, художественный процесс и есть тогда «сон наяву». Сон и реальность сближает наличие бессознательных желаний, подобных миражам. Реальность воспринимается во сне как зеркальное отражение, фантом. Миражность творчества Лакан доказывает, анализируя творчество Э. По. Человек в учении Лакана – только звено между миром символическим (языком, текстом) и миром реальным, рождение человека происходит, когда он слышит слово. Слово-символ цензурирует либидо, порождает конфликты на уровне воображаемого и мешает человеку стать рабом инстинктов. Методологически ново стремление Лакана объединить в одной системе означаемое и означающее, знак и значение, язык и речь. Означающее находится в символическом плане языковой синхронии, главенствует над означаемым тем прочнее, чем меньше означает, язык характеризуется системой означающего как такового: «Чистое означающее – есть символ». Фазы символизации в искусстве: метафора и метонимия. Ориентация на то или другое лежит в основе символического или реалистического стилей. Символический стиль ориентирован на символическую связь значений. В реализме целое метонимически замещается частью, на первый план выступают детали (таковы романы Л. Толстого, где портреты героев порой строятся на нескольких красноречивых деталях, А. Солженицына, повести В. Распутина), но и детали могут иметь символический характер, поэтому стоит говорить о «так называемом реализме», ведь язык называет не вещь, а ее значение. Язык тогда сеть, покрывающая вещи, действительность, мир. Он вписывает реальность в план символического. Образ языка-сети, 60 окутывающей мир, превращающей его в иронический текст – философскоэстетическая доминанта культуры постмодернизма в целом. Ж. Делез и его соавтор врач-психоаналитик Ф. Гваттари противопоставили различным вариантам психоанализа собственный метод – шизоанализ. Капитализм и психоанализ в прочтении авторов имеют общую границу – шизофрению. Делез критикует Фрейда и Лакана, ибо бессознательное и язык ничего не означают. Вместо традиционного героя западного мира – «невротика на кушетке» (образ, ассоциирующийся с методологией Фрейда) – предложена модель активной личности – «прогуливающегося шизофреника» (в социально-политическом, но не психиатрическом смысле). «Шизо» – действователь, тотально отрицающий капитализм (теория Делеза родилась после событий 1968 года), живущий по законам «желающего производства». Его прототипы – герои Ф. Кафки, С. Беккета, А. Арто, воплощающие модель человека как «желающей машины». В мире, где вера в Бога утрачена, человеческое существование бессмысленно, бесцельно, что и приводит к тотальному одиночеству, поступки персонажей иррациональны, нелогичны с точки зрения общепринятой этики. Бессознательная машинная реализация желаний – стержень жизнедеятельности, что противостоит «комплексу Эдипа» Фрейда, в котором Делез видит проявление идеализма, мифов – театра. Бессознательное, однако, не театр, а завод желаний, шизоанализ и призван освободить желания, направив энергию на освоение нового социальноисторического контекста. Шизоанализ предполагает: исследование трансцендентального бессознательного, а не метафизического, как у Ж. Лакана; материального, а не идеального; реального, а не символического. Эта методика подразумевает отрицание языка как уникальной среды, литература связывается не столько с языком, сколько с желанием, шизоанализ и должен выявить бессознательное либидо исторического прогресса, не зависящего от рационального содержания. Работающие «машины-органы» производят желания, вдохновленные шизофреническим инстинктом жизни, а параноидальный инстинкт к смерти (вариант «Эдипова комплекса») влечет к остановке машины, «телу без органов». Реализация последнего процесса передана в текстах А. Камю, Ж.-П. Сартра, Беккета. «Тело без органов» образует сгустки антипроизводства в механизме общественного производства, это: деспотии, капитал. Капитал – «тело без органов» капитализма, по которому позвякивают работающие машины – органы. Это противоречие снимается через «машину-холостяка», кочующую по «телу без органов», соединяющую в новое единство «машины-органы», «тело без органов» и субъекта. Особую роль французские исследователи отводят искусству, обращенному к иррационально-бессознательной сфере. Структура бессознательного определяется здесь через безумие, галлюцинации и фантазмы, за фантазмом и признается ведущая роль. Источник фантазма – чувство (субъект представляет себя Богом, Спартаком, Прекрасной Дамой…). Производство желания происходит только через 61 фантазм, подлинный творец тот, в ком силен импульс бессознательного: ребенок, дикарь, революционер, все эти «шизо» сходятся в художнике. Искусство важно, ибо создает групповые фантазмы, объединяя с их помощью общественное производство, художник – господин вещей. Тогда понятен интерес Дали к сломанным вещам, детали которых служат ремонту «желающих машин». Художественные произведения – мины желания, взрывающиеся по приказу художника. Искусство участвует в сжигании либидозной энергии, в этом аутодафе и проявляется высшая форма искусства для искусства. «Литературные машины» (как и искусство – желающая художественная машина», где «литературная машина», «музыкальная машина» – только разновидности) – звенья единой машины желания, готовящие взрыв шизофрении. Чтение – «шизо»-действо, высвобождающее революционную силу текста. Идеальные «шизо»-писатели – Арто, Кафка, а «шизо»-художник – Ван-Гог. Главным признаком современного искусства является эскепийская направленность, линии бегства. Делез представляет эту идею через антиномию: «белая стена – черная дыра», где «черная дыра» сознания противостоит «белой стене» господствующих стереотипов. Лик искусства – белый лист, пронизанный «черными дырами» творчества, через которые и ускользает художник. Линии бегства могут иметь различные конфигурации: угол, разрезающий гладь – у И. Бродского; спираль, состоящая из сакральных кругов – у В. Личутина; прямая, с узлами, затянутыми на память – у А. Солженицына; паутина – у Б. Пруста… Страсть – линия, связывающая «черные дыры» (например, Тристана и Изольду), но желание не равно удовольствию, скорее близко рыцарской аскезе, всегда трагично, поэтому любая линия бегства ведет к поражению. «Плохие концы» – проявление болезни искусства, любое творчество, по Делезу, уничтожение, где музыка – только погоня за молчанием. Творчество шире своих целей и итогов, здесь важна непредсказуемость линии бегства. Бегство от мира – проявление активности и таланта. Французская литература слишком привязана к традиции, считает исследователь, английская в этом контексте ближе идеалу бегства: творчество В. Вульф, С. Фицджеральда. Французская литература – древесная, а англоязычная – травяная, ризоматическая, ее представители более безумны в бегстве, демоничны. В линиях бегства и проявляется писательское становление. Художественное творчество – превращение в кого-то иного, отождествление себя с безъязыким миром: травой, полем, тучей, крысой, совой…, когда происходит предательство своего пола, класса. Смысл творчества тогда – в исчезновении. Философия Ю. Кристевой важна не только обоснованием теории интертекстуальности, но и новым прочтением феномена ужасного в современной культуре. Основу ее метода, в определении Н. Маньковской, составляет сочетание структуралистской «игры со знаками» и психоаналитической «игры против знаков». Оптимальное сочетание этого – литература, которая может оживить знаки брошенных, забытых вещей, она 62 способна вырваться за узкие рамки познания. Литература абсолютизируется, получает статус глобальной теории познания, исследующей структуру бессознательного, язык, религию, социум. Литература способна приблизиться к неназываемому: ужасу, страху, убийству, ее эффективность измеряется тем грузом бессмыслицы, который она способна вынести. Задача искусства – очистить от скверны, в этом ее близость религии – такова основная идея книги Кристевой «Власть ужаса. Эссе о мерзости». Русская классическая литература воспринимается в близком контексте: Слово – Бог, тогда писатель – жрец, посланник, посредник, осуществляющий связь с высшим миром. Кристева натурализирует эстетику: если физически вредное исторгается через рвоту, то духовно мерзкое – через искусство, которое ассоциируется с физическими спазмами. В этой логике актуализируется идея катарсиса, получая физиологическое обоснование (Аристотель путь к очищению видит в сострадании). Заменив религию, литература присвоила право «ужаса», стала его означающим, на чем основана ее «ночная» власть. Это не классическое сопротивление ужасу, но его заклинание, уяснение отвратительного и освобождение от него посредством Глагола. Мерзкое – грань небытия и галлюцинации, которая, если ее не признать – уничтожит личность. Личность рождается из тошноты (архаическая форма отвращения к пище и родителям, которые ее навязывают, из тошноты рождается «я»). Красота является из отвратительного в творчестве Ф. Достоевского, Б. Пруста, Д. Джойса, Ф. Кафки, Ж. Батая, А. Арто. Самым привлекательным героем «Бесов» в этой логике признается Ставрогин, его ирония – свидетельство художественности натуры, отвратительное у Джойса заключено в самой речи. Тогда художественное творчество исчерпывается различными типами формообразующего отвращения, связанными с различиями психическими, повествовательными, отличающими того или иного мастера. Кристева понимает постмодернизм как новый литературный стиль, его главный признак – метаповествование как «кипение страсти и языка, в котором тонут любые идеологии, тезисы, интерпретации, мании, коллективность, угрозы или надежды». Новый стиль переплавит отвратительное в «радость текста», красоту, наслаждение. Для человека в апокалипсическом настоящем литература и есть спасение, вариант Исхода. Данная позиция в чем-то ассоциируется с настроениями представителей русского серебряного века, признающих за литературой возможность построения иного, лучшего мира. Ю. Кристева далека от подобного радикализма и утопизма, однако роль литературы в ее учении – роль дворника, убирающего мусор, и одновременно мага, открывающего ход в чудесный сад, скрытый под гнетом повседневности. Строя свой язык, считает исследовательница, человек переживает первобытный ужас и начинает испытывать от него удовольствие, ибо гадкое не объективность, но двусмысленность, грань знака и пульсации. Границы означаемого (ужаса) нивелируются, художник спасается эстетической 63 терапией. Парадигма творчества строится следующим образом: «отвращение (от ужаса жизни)» – «катарсис» – «творческий экстаз» – структура творчества. Механизм превращения ужаса в возвышенное Кристева связывает со страхом как первичным аффектом, фобии и страхи – метафоры нехватки, которые заменяют фетиши. Высший фетиш – язык, через него и лечат фобии. Писатель – жертва фобий, чтобы не умереть от страха, он прибегает к фетишу, стремится воскреснуть в знаках (для стратегии реализма это нонсенс). Наиболее сильная форма отвлечения от ужаса настоящего – ломка языка, переделка языка в постмодернистском духе (отсюда бунт против языка в творчестве В. Сорокина). У его истоков – ужас перед означаемым (реальностью), спасаясь от которого означающее (знак, буква, текст) не щадит своего панциря, рассыпается, превращается в ноты, звук, «чистое означающее». Ориентиры нового означающего – «новая жизнь» (кровосмешение, скотоложество, автоэротизм) и новая речь – «идеолект». Подобная литература вызывает шок, отвращение, но это вульгарная реакция, осмеяние ужасного смягчает ужас бытия, через смех ужасное сублимируется и обволакивается возвышенным – субъективным образованием, лишенным объекта. (Для русской культуры этот тезис не столь очевиден, здесь, по наблюдению исследователей московско-тартуской школы, может быть смешно и страшно одновременно, примером чему выступает все творчество Н. Гоголя). Через возвышенное творец переносится в иной, неземной мир – царство наслаждения и гибели. Возвышенное, переполняющее художника и транслируемое через него, позволяет одновременно быть «здесь» и «там» сверкающим, радостным. Приобщение писателя к высшему эстетическому началу закрепляется через смерть – главную хранительницу воображаемого музея. Эта трактовка близка по пафосу гностической. Ю. Кристева выдвигает концепцию религиозной функции искусства постмодернизма, ибо исторические формы религиозности исчерпали себя. Суть новой религиозности в переходе от макрофантазма веры к микрофантазму художественного психоанализа. Секс, язык, искусство – открытые системы, обеспечивающие контакты с другими людьми. Отсюда особый интерес к сексуальной символике постмодернистского искусства: в русском варианте этот интерес реализован творчеством Вик. Ерофеева, Э. Лимонова, В. Сорокина. Именно в искусстве, по Кристевой, можно ослабить ошейник, обуздывающий секс-влечения, чтобы дать человеку выжить. Своеобразным продолжением идей Ю. Кристевой стали рассуждения современного философа, живущего в Париже, Т. Горичевой (работа «Православие и постмодернизм», 1991). Исследовательница, рассматривая постмодернизм в горизонте православия, видит в юродивом (юродивой культуре постмодернизма) силу, которая способна вывести искусство из «секулярного ада современности». Глумление, гугнение юродствующей литературы конца ХХ века над останками классической и соцреалистической художественных традиций обещает шанс очищения современности. 64 Граничащий с ужасом смех блаженного издревле наделяется сакральным свойством: найти смысл в абсурде, красоту в безобразии, гармонию в хаосе. По-сути, лишь юрод, в ком сопрягается противоположное, искупается омерзительное, становится своеобразным носителем языка новой культуры. Юродство признаётся постмодернистической формой святости на том основании, что безобразное оказывается сегодня источником красоты: лишь отталкивающее, гротескное, монструозное вызывает остроту переживаний и чувств. Понятие нормы, приличий исчезает, прекрасное и уродливое оказываются взаимообратимы, эстетически равноценны. Через шоковую культуру «дурачка» возможно приблизиться к постижению существующей реальности, где фактом стала не только смерть Бога и человека, но и мира (времени, пространства), его распыление, исчезновение в хаосе. Культура юродивого способствует осознанию и снятию противоречия между идеалом и действительностью, приводит к Богу как высшей ценности. В качестве итогов рассмотренных философских концепций и стратегий можно выделить следующие: 1. Культура, эстетика постмодернизма связаны прежде всего с установкой на целостное познание личности и ее места в изменившемся мире, ученые стремятся найти новые подходы к изучению человека-творца, выявить базовые механизмы эстетической деятельности; 2. Особую роль приобретает тема гедонистических мотивов в эстетике: идеи Р. Барта о «текстовом удовольствии», «наслаждении текстом», когда искусством можно наслаждаться, минуя интерпретацию; 3. Обосновано рационализированное и культурологическое, по выражению Н. Маньковской, понимание бессознательного, язык рассматривается как универсальная знаковая система культуры и искусства; 4. Описаны симптомы болезни разорванности индивидуального и общественного сознания, западной культуры в целом. Обозначив кризис современной цивилизации, французские философы, по тонкому замечанию Маньковской, предлагают весьма традиционные пути преодоления критического состояния. Возможности исхода видят в перспективах лечения западной цивилизации методами психоанализа, «лингвистической революцией», которые отнюдь не безусловны. Противопоставление сознательного и бессознательного бесперспективно, в итоге человек здесь понимается либо как субъект языка, либо как субъект бессознательного «желающего производства». Общество предстает в зеркале несовершенной природы человека. Положительные обретения эпохи постмодернизма особенно проявились в сфере искусства, в пафосе свободы, признании несознательных мотивов творчества, инстинктов и интуиции, в праве на эксперимент, утверждении свободной воли художника. Особенно привлекательны идеи обновления культуры путем диалога и полилога, открытие особой значимости ранее неизученных культур Африки и Азии. 65 Тема 8. Русский прозаический постмодернизм – 0,17 (6 часов) (аудиторные занятия – 4, самостоятельно – 2) План 1. Своеобразие эстетики отечественного литературного постмодернизма 2. Периоды развития отечественного художественного постмодернизма 66 3. Основные направления русского постмодернизма: соц-арт и необарокко 4. Европейский и отечественный постмодернизм: схождения и различия Своеобразие отечественной посткультуры уже не раз становилось предметом специального анализа в работах М. Липовецкого, Н. Маньковской, М. Рыклина, Е. Скоропановой, Ю. Давыдова, Б. Гройса, М. Эпштейна, И. Ильина, О. Богдановой, И. Роднянской. Элементы постмодернистской поэтики актуализируются в отечественной литературе 1960-1970-х годов: «новая проза» В. Катаева, роман «Ожог» В. Аксенова. Происходит критика эстетики «шестидесятников» с ее романтизмом и утопизмом. Литературное подполье становится способом существования. Своеобразным предчувствием постмодернизма считают и прозу «сорокалетних»: «никакой» герой (тексты В. Маканина), «равнодушие» автора к персонажу, игровое начало, стилевая изысканность. Заслуживает внимания гипотеза Эпштейна, считающего, что на российской почве ситуация постмодерна, которую отличает создание гиперреальности, существует уже со времен Петра Первого, ориентирующегося на иную, западную культуру, в литературе самое позднее – с Пушкина, деконструирующего в «Евгении Онегине» жанр романа1. В критической литературе существуют несколько версий периодизации отечественного постмодернизма, в самом общем виде развитие постмодернистской культуры можно разделить на несколько этапов: Первый этап – конец 1950-х – середина 1960-х годов, когда происходит формирование опорных постмодернистских тем, образов, принципов эстетики, складывается переходное искусство соц-арта. Второй этап – конец 1960-х – середина 1980-х годов как время становления и утверждения эстетики постмодернизма, оформления ведущих направлений в постмодернистской словесности, далеких от «союзписательской» литературы. Третий этап – 1980-е – 1990-е годы характеризуется распространением постмодернистских тенденций во всех областях отечественной культуры и, в целом, в жизни общества: в быту, моде, рекламе. В отечественной критической литературе открытие новой эстетики, литературы изначально получает самые разные названия: «другая проза» (С.Чупринин), «калейдоскоп» (И. Дедков), «андеграунд» (В. Потапов), «проза новой волны» (Н. Иванова), «младшие семидесятники», «артистическая проза» (М. Липовецкий), «литература эпохи гласности» (П. Вайль, А. Генис), «актуальная литература» (М. Берг), «типичный сюр» (Д. Урнов), «бесприютная литература» (Е. Шкловский), «плохая проза» (Д. Урнов), «рипарография» (Г. Гусейнов), и только к концу 1980-ых годов термин «русский постмодернизм» утверждается как в европейской исследовательской традиции, так и в отечественной. 1 Эпштейн М.Н. Постмодерн в русской литературе. – М., 2005. С. 102-122. 67 Работы, посвященные специфике отечественного постмодернизма, зачастую строятся с использованием терминологии, концептологии, разработанной западными аналитиками и художественными критиками (пример тому – исследования И. Скоропановой). Иной подход к изучению постмодернизма в России предлагает в своей книге «Постмодерн в русской литературе» М. Эпштейн, претендуя на формирование теории из самой практики, продуцирование оригинальной терминологии. Основной идеей его книги становится утверждение непосредственной связи между культурой советского времени, соцреализмом и постмодернизмом, равными для них гипертекстуальности, антимодерности, идеологическом эклектизме, критике метафизики, эстетическом эклектизме, цитатности, своеобразном утопизме. Обобщая различный исследовательский опыт, можно выделить ряд ведущих особенностей отечественной посткультуры. Прежде всего, это ее литературоцентризм и политизированность, особенно заметная в соц-арте. На отечественной почве новый стиль утверждается не «после модернизма», но «после соцреализма», что во многом определяет его художественные особенности. Отечественный постмодернизм стремится оторваться от идеологизированной почвы идеологизированными, но сугубо антитоталитарными методами. Э. Лимонов, В. Курицын, В. Сорокин, И. Кабаков недвусмысленно высказываются об эстетической самоценности и уникальности феномена социалистического реализма, ибо манифестация значимости метатекста дает возможность его дальнейших художественных интерпретаций, происходит «вторичная» мифологизация советской культуры, рождается новый проект «идеального наследия». М. Липовецкий, анализируя малую прозу В. Сорокина, отмечает, что рассказы, лишенные «внятного соцреалистического элемента», самые уязвимые в художественном отношении1. Кабаков, Сорокин, Монастырский проявляют особый интерес к советской эзотерике, комплиментарно отзываясь об «утопическом реализме» как ярком, интересном художественном явлении2. Э. Лимонов то примеряет роль политического лидера новой большевистской партии, то сближается с правыми, наглядно доказывая «неоутопический» характер всякой власти, опирающейся на власть Слова. Неким переходом от соцреалистической культуры к постмодернистской является соц-арт. Движение от соцреализма к соц-арту осуществляется с середины 1950-х до середины 1970-х годов, от творчества «Лианозовской группы» – неформального союза поэтов и художников, существующего в конце 1950-х – начале 1960-х годов (И. Холин, Г. Сапгир, Вс. Некрасов) – до программных соц-артовских работ В. Комара, А. Меламида, И. Кабакова, Э.Булатова, Д. Пригова. Термин соц-арт образован Комаром и Меламидом в 1972 году и мыслится, в интерпретации М. Эпштейна, как советская параллель американскому поп-арту: на Западе в массовом сознании Липовецкий М. Русский постмодернизм (Очерки исторической поэтики). – Екатеринбург, 1997. С. 257. 2 См.: Постмодернисты о посткультуре: (Интервью с современными писателями и критиками) / Сост. С. Ролл. – М., 1996. С. 125. 1 68 утвердились рыночные атрибуты вещей, в советской России – идеологические атрибуты общих понятий. Искусство и в том и другом случае «опрощается», лишается аристократизма: пластиковые бутылки, консервные банки, сушилки для бутылок – материал поп-арта, уличные призывы и лозунги – соц-арта. Изначально соц-арт воспринимается антитезой ортодоксальному соцреализму, но это противопоставление сохраняет смысл только в рамках коммунистического проекта, поэтому соц-арт вряд ли сохранит популярность за его пределами, будет интересен обществу ХХI столетия. Соц-арт унаследует родовые черты эстетики соцреализма: интерес к идеологии, концептуальным обобщениям, эклектизм, сознательную цитатность и вторичность, но изменяет традиционную интерпретацию, доводит советские постулаты до возможного предела, самопародии. В соц-арте уже очевидна грядущая карнавальная смерть советской Утопии. Соцреализм разлагается здесь на знаковые составляющие, освобожденные от связи с означаемым, реальностью. Эпштейн определяет соц-арт как художественную игру со знаками социализма, освобожденными от необходимости не только соответствовать действительности, но и создавать правдоподобную иллюзию о ней. В творчестве В. Сорокина, Д. Пригова выделяются соц-артовские произведения, например, роман «Норма» или стихи Пригова о милиционерах. К 1990-ым годам соц-арт все чаще воспринимается не как фрондирующее течение, но отождествляется именно с советским искусством как его высшая и завершающая фаза. Настроения иронии отступают перед чувством ностальгии по советской Атлантиде. Своеобразным противовесом политизированной версии русского постмодернизма является творчество авторов, сосредоточившихся на чистой игре, стилизации, превративших пародию в чистый абсурд, прославляющих «пиршество текста». Пафос этого направления – «антилидерство», когда возмущение переплавляется в ностальгию, критический сентиментализм. Наиболее яркие представители этого направления – С. Соколов, Вен. Ерофеев. Утвердившись внутри литературы, отечественный постмодернизм именно за художественной словесностью оставляет право формирования основ нового миропонимания. Не случайно, что протагонисты идей постмодернизма в России группируются вокруг литературных журналов, альманахов постмодернистской ориентации: «Плюч», «Соло», «Вестник новой литературы», «Разбитый компас. Журнал Дмитрия Галковского» и др. В целом к литературному постмодернизму в России относят писателей различной индивидуальности, далеко отстоящих друг от друга по уровню художественного дарования, эстетическим принципам и пристрастиям. В качестве самых общих черт, определяющих единство художниковпостмодернистов, можно назвать их постоянную ориентированность на «вызов и выпад» (С. Чупринин), «наперекорность» и «оппозиционность» (В. Потапов), нарушение правил этикета (об этом пишут С. Рассадин и Н. Иванова). Вряд ли эти категории относятся к сугубо эстетическому плану, но 69 позволяют свести воедино прочие особенности и принципы культуры постмодернизма. Мистицизм, эзотеризм отечественной постмодернистской словесности (особенно ярко проявляющийся в творчестве Ю. Мамлеева, В. Сорокина, А.Монастырского) как следствие ее сближения с творчеством авангардистов, требует подготовленного, «посвященного» читателя, препятствует бурному сближению с массовой аудиторией, что отличает западную версию посткультуры. Русская посткультура более «утопична», чем западная, претендует на замену реальности новой художественной действительностью, здесь актуальны темы «сугубо модернистской мифологии творчества и творения жизни по эстетической логике», что сближает русскую и латиноамериканскую версии (наблюдение М. Липовецкого). Особой популярностью на русской почве пользуются национальные мифы, получающие необычное прочтение. Национальный миф о предназначении Руси как «Третьего Рима» (теория старца Филофея), самобытности «русского пути» в мировой истории складывается веками, реализуясь в учениях староверия, постулатах славянофилов, работах К. Леонтьева, неоевразийцев, традиционалистов. В ХХ веке преемственность с этой традицией сохраняют, вопреки собственным доктринам, авангардисты (искусство жизнестроения оставляет водительскую миссию за Россией), соцреалисты (идея построения коммунизма в отдельно взятой стране) и их оппоненты – художники-традиционалисты и постмодернисты (ретроантиутопия «Кысь» Т. Толстой). Попытку раскрыть черты национального архетипа, показать его воздействие на жизнь нации предпринимают В. Сорокин, Д. Галковский, М. Берг, В. Пелевин. Особенность авторов-постмодернистов в том, что они передают противоречивую природу русского национального архетипа, в зависимости от обстоятельств, характера воздействия на архетип может активизироваться любая из его сторон: и разрушительная и созидательная. Одним из принципиальных различий русского модернизма и постмодернизма можно считать отношение к традиции. Модернизм подчеркнуто дистанцируется от наследия классики, обыгрывая, выхолащивая традиционные ценности, в том числе религиозные, постмодернизм (особенно в его «антишестидесятническом» варианте) реабилитирует культурную традицию, переводя все тексты культуры в модус одновременности, т. е. признавая их равноценность, деиерархизируя. Эта стратегия, однако, не абсолютна, ибо в отечественном постмодернизме существует и обратная тенденция ниспровержения традиции1. В отличие от модернизма, постмодернизм манипулирует любыми стилями и направлениями, для деконструкции интересны и реализм, и модернизм, и социалистический реализм. Отечественный постмодернизм сохраняет склонность к предельным категориям. Читателю явлены предельные жестокость, уродство, абсурд как См.: Абашеева М.П. Русская проза в конце ХХ века: становление авторской идентичности: Диссерт. на соиск. уч. степени доктора филол. наук. – Екатеринбург, 2001. 1 70 неизбывные характеристики бытия: «Жизнь с идиотом», «Страшный суд» Вик. Ерофеева, «Норма» В. Сорокина, «Змеесос» Е. Радова, «Непорочное зачатие» М. Волохова. Соединение в неком игровом поле идеологических клише и архетипов национальной культуры, абсурдистского биографизма (мифологизация образа автора) и сюрреалистически-отвлеченных конструкций приводит к созданию текстов-химер с монструозными героями, безобразие, уродство которых авторы доводят до возможного предела (монстры В. Сорокина, дамы с задницами вместо лиц Ю. Мамлеева, людитрупы Ю. Милославского). Освободившись от сдерживающих уз традиции, цензуры, авторы порой демонстрируют растерянность перед открывшимися перспективами свободы, что оборачивается безвкусием, небрежением мыслью (борьба с логосом отзеркаливает реальным безумием писателя), языковой вседозволенностью, ощущением «неряшливости» текста, рождающими в воспринимающем сознании идею «гибели культуры». Отечественные писатели вскрывают состояние национального бессознательного, его парадоксальное воздействие на жизнь общества. Интерес к этой тематике существенен и в живописи. Один из самых ярких представителей современного неопримитивизма – художник В. Любаров. Очевиден интерес живописца к теме старых вещей, бессознательной стихии жизни, коллективному опыту множества людей, удерживаемого, отраженного в забытых деталях, вещах прошлого1. Бессознательное в душевном строе народа проявляется и через язык, в пословицах и поговорках, поэтому художника так привлекает работа над иллюстрациями к сборникам пословиц (художественный цикл «Русские пословицы»). Через холсты В. Любарова словно просвечивает русское средневековье, но уже стилизованное, эстетически маркированное, что свидетельствует о близости языку постмодернизма, когда изображаются фигуры совершенно несовместимые, разных размеров (в средневековье размер указывает на значительность персоны), вне отношения к пространству. Интерес к провинции, характерный для отечественного постмодернизма, особенно роднит В. Любарова с И. Кабаковым. Исследователи отмечают близость Любарова авангарду начала века, с его идеей отражения-преображения провинциального быта (работы М. Ларионова, М. Шагала, Н. Гончаровой, П. Филонова) с той существенной разницей, что современный живописец игнорирует пафос преображения, напротив, его зарисовки отечественной глубинки самодовлеющи, кажется история здесь остановилась, идет по кругу. Современный отечественный постмодернизм в целом испытывает особый интерес к примитивистской составляющей творческого наследия авангарда, но движется в сторону окостенения и консервации форм повседневной жизни, определенная архаизация образов в рамках данного направления оказывается связана «с достаточно хорошо социально структурированным обществом» (А. Иньшаков). В плане художественной литературы интонация работ Любарова напоминает знаменитые повести Иньшаков А.Н. Российская повседневная жизнь 1990-х годов в живописи В. Любарова // Русское искусство: ХХ век. С. 438-454. 1 71 С. Соколова «Школа для дураков» и «Между собакой и волком», описывающие «медвежий угол» в глубине России. Мастеров сближает интерес к обезличенной стихии жизни, как к некой самоценной реальности. В литературной ретроспективе за работами Любарова угадывается эстетика натурализма, «недотыками» Ф. Сологуба, олицетворившие стихийные, потусторонние силы. В. Любаров внимателен к теме нечисти, но его русалки, летающие рыбы гораздо менее зловещи, чем демоны серебряного века. Отечественную версию посткультуры отличают исторический пессимизм, связанный с жестким разочарованием в перспективах «светлого будущего». Если в европейской традиции категория трагического практически исчезает из поля авторской рефлексии: трагизм не опровергается, но игнорируется, то в русском варианте складывается другая коллизия, связанная со своеобразием собственной духовной традиции, не позволяющей погрузиться в хаос как единственную норму существования. Ситуация современности оценивается как «временная смерть культуры», за которой неминуемо следует возрождение-воскресение1. Так же трактуется и специфика творческого процесса: «Постмодернизм, рожденный предельно глубоким осознанием культурного кризиса – а у нас в полной мере безысходным переживанием тупика советской цивилизации – как бы сознательно создает ситуацию временной смерти культуры», которая «переплавляет в своем потустороннем тигле все нормы и постулаты, все абсолюты прежних эпох»2. Этот стихийный процесс, по мысли М. Липовецкого, и есть изживание трагизма и собственно темы смерти, в образе которой сконцентрирована идея крушения всех ценностей прежнего бытия. Поиск иных основ гуманизма опирается тогда не на веру в идеал, а на опыт существования в абсурдном мироздании, без устойчивых традиций и ценностей, без надежды на достижение прежней гармонии с мирозданием, которое, утратив иерархичность, представляется хаосмосом – «временным и сепаратным перемирием с абсурдной логикой хаоса»3. Человек, затерянный в мире, обладатель столь же поверхностного, неукорененного ни в чем сознания, которое, возможно, и продуцирует абсурдистский образ бытия. По наблюдению С. Чупринина, пространство современной отечественной словесности населено «почти исключительно людьми жалкими, незадачливыми, ущербными» – юродивыми. Трансформируется и авторская позиция, автор зачастую скрыт под маской героя-рассказчика, персонажаписателя, что исключает пророческие интонации, ценностные акценты, обеспечивает «нулевой градус письма» (П. Вайль, А. Генис). И. Скоропанова отмечает – если в период становления отечественного постмодернизма, переоценки ценностей акцент ставится на проблемах массового сознания, то с его развитием авторское внимание смещается на См.: Плеханова И.И. Преображение трагического. Часть 1. – Иркутск, 2001. С. 145. Липовецкий М. Изживание смерти. Специфика русского постмодернизма // Знамя. 1995. № 8. С. 194-205. 3 Там же. С. 205. 1 2 72 тему воздействия коллективного бессознательного на жизнь общества (роман «Оно» А. Слаповского). М. Липовецкий специфику русского постмодернизма видит и в отсутствии деконструкции либеральных ценностей, что характерно для западной версии. Н. Маньковская отмечает создание в русской посткультуре специфической культурной атмосферы, компенсирующей ряд традиционных национальных «комплексов»: вторичности, отставания, пропущенных эпох (ностальгия по «русскому Возрождению»). Римейки больших стилей (московское барокко, русский классицизм, авангард) сочетаются с конструкциями «пропущенных» художественных течений (сюрреализм, экзистенциализм), создавая своеобразный коллаж. Постмодернистское искусство, об исчерпанности, «усталости» которого все чаще пишут и на Западе, связывается с отказом от идеала, аристократизма духа, без чего невозможно высокое творчество. Апелляция к ценностям массовой культуры вызывает чувство скуки, вторичности произведений. Утрата целостности, аутентичности, художественной значимости артефактов грозит забвением природы искусства, его ассимиляцией (как варианты: расслабленное письмо «поколения Х», «тусовочная литература»). Множественность представлений об истине, добре, красоте приводит к «размягчению», распылению самих этих понятий, к обществу без какой-либо духовной надстройки вообще. Сочетание сарказма, цинизма, нигилизма и, одновременно, жажды нового лучшего мира, гармонии усиливает настроения исторического пессимизма, ностальгии по прошлому, мифу. Возможно, именно связанность отечественного постмодернизма с глубокими основаниями русской духовной традиции, национальной мифологией, эзотерикой авангарда позволяет утверждать, что «постмодерн в России больше, чем постмодерн» (Н. Маньковская), он отсылает отнюдь не только к эстетике и поэтике, но философии, социологии, науке, политике. Речь идет как о примерах парламент-арта, приключениях политиков, их концертной деятельности (В. Жириновский), так и об эмблематике телеимеджей, самой атмосфере спонтанного постмодернизма в жизни нации с ее непредсказуемостью, перевертышами, разрывами, эклектизмом. Поэтому, видимо, отечественный постмодернизм то отождествляют с демократией (Б.Парамонов), то с новыми технологиями (и подпольными), применяемыми на выборах (С. Файбисович). Для отечественной традиции период постмодернизма – время интенсивного освоения достижений мировой культуры и, одновременно, опасений за недооцененность собственной. Глобализм, чьи идеи и репрезентирует искусство постмодернизма, конкурирует в общественном сознании со стремлением к самоидентичности, чувством уникальности национальной культуры, истории. Признание неизбежности процессов единения мира, его сращения в клубке виртуальной информации, опротестовывается представлением о глобализации как «бесовском 73 искушении» России – Души Мира дьявольскими силами прогресса – Запада (монография А. Панарина «Искушение глобализмом»). Не разделяя крайностей подобной трактовки, отметим чрезвычайную сложность, многогранность проблемы культурной стратегии, чье решение не сводимо к древней мифологеме о «Москве – Третьем Риме». В многополюсном мире замкнутое существование отдельной культуры – анахронизм, однако взаимовлияние (как диалог на равных) не должно угрожать сохранению культурного ядра, национальной памяти, иначе неминуемы процессы разрушения, упрощения, понижения в статусе духовного бытия мирового сообщества в целом. Условия сосуществования в этом новом культурном пространстве и становятся важнейшим вопросом современности. Тема 9. Ведущие направления отечественного постмодернизма – 0,17 (6 часов) (аудиторные занятия – 2, самостоятельно - 4) План 1. Отечественный передпостмодернизм: творчество Вен. Ерофеева, А.Битова, С. Соколова 2. Поэтика соц-арта. Образ героя 3. Эстетика «антишестидесятничества». Художественные особенности «необарокко» 4. Литература контфакта 74 5. Своеобразие героя эпохи зрелого постмодернизма Начало русского постмодернизма традиционно связывают с художественными открытиями Вен. Ерофеева, А. Битова, С. Соколова. Однако из этой прозы далее прослеживаются векторы разного направления. С определенной долей условности отечественный постмодернизм можно разделить на два основных потока: первый есть своеобразное продолжение соц-арта. Для данного направления характерна политическая озабоченность, эстетическая фронда, ритуал двойничества, деконструирующие стратегии, язык советской культуры. Н. Маньковская выделяет как характерные черты направления – бунт против нормы, пафос обличения, намеренный акцент на телесности, вместо духовности. Доминантой творчества выступают зло, насилие, безобразие: «Русские цветы зла» Вик. Ерофеева. Зло эстетизируется, в творчестве авторов усиливаются гностические настроения, стирается грань между прекрасным и безобразным («маразматическая проза» Е. Радова). Герои этой прозы – «негерои», «пристукнутые», пародирующие идеал «сверхчеловека» – «настоящего героя» соцреализма. Их задавленность, потерянность, «насекомость» («Из жизни насекомых» В. Пелевина) может обернуться безумием, юродством, игрой, когда грань между психологией и психопатией предельно условна, прозрачна. Еще одним решением образа персонажа становится ориентация на натурализм, снятие табу с запретных тем (скотоложество, интерес к нимфеткам), с языка (обращение к ненормативной лексике, стеб). Оборотной стороной разрушения узуса становится лингвистическая энтропия, «импотенция текста»1, который превращается в полую оболочку – симулякр. Открывшаяся пустота заполняется подчеркнутой тенденциозностью, отсылающей к пафосу соцреалистической литературы. Раздавленный, ничтожный герой занят постоянным, перманентным разрушением, внутренняя пустота продуцируется на окрестности. Язык персонажей – смесь мата, стеба и элементов высоких стилей. Автор же зачастую подчеркивает свою отдельность тексту, комментируя целые пласты заимствований из недавних бестселлеров, фиксирующих усталость, разочарование и «остывание» некогда актуальных, горячих тем. Известными представителями направления стали Э. Лимонов, Вик. Ерофеев, И. Яркевич, Д. Пригов, отчасти В. Нарбикова. Второе направление – «антишестидесятники» – характеризуется принципиальной аполитичностью, изысканностью литературной игры, стремлением к стилизации, абсурдизмом. Художник отказывается от самой возможности поиска истины, утверждая многовариантность пути к ее обретению или ее принципиальное отсутствие. Хаос эстетизируется, с ним пытаются вступить в диалог, принять как единственно возможный образ бытия, фатум. Мир хаоса – мир, в котором все ценности однородны, равны, нет привилегированных точек зрения, свободных от обыгрывания зон. М. Липовецкий обозначает данное направление как необарокко. Среди его ярких представителей Т. Кибиров, М. Берг, В. Шаров, Ю. Буйда, отчасти 1 См.: Веллер М. Ножик Сережи Довлатова // Знамя. 1994. № 8. 75 В. Сорокин (текст «Роман»). Особую ценность в поэтике направления приобретает жест, штрих, поза, порой автор вводит в текст собственный имидж-симулякр (персонаж «Дмитрия Александровича» Д. Пригова), скрывается за маской персонажа-писателя, разрушает, пародирует установку на учительство, пророчество. Среди отличительных черт необарокко М. Липовецкий выделяет: полицентризм, рваный ритм повествования, сочетание уникального и банального (Вен. Ерофеева «Москва – Петушки», А. Битова «Пушкинский дом»); словесную избыточность, стилизованную витиеватость, размытость границ текста, монструозность героев («Палисандрия» С. Соколова, тексты Ю. Алешковского); перенос акцента с целого на деталь, фрагмент, множественность, нагнетание деталей (творчество Т. Толстой, Соколова); хаотичность, прерывистость как господствующие композиционные принципы, соединяющие различные цитаты, детали в единый метатекст (проза Вен. Ерофеева, Соколова, лирика Т. Кибирова), доминирование принципа бесформенности как особо понятой формы («Бесконечнывй тупик» Д. Галковского), принципиальная неразрешимость конфликта и нежелание его разрешать, что образует повествование, выстроенное по принципу «узлов», лабиринтов, ловушек, коридоров, тоннелей, порождающее ощущение загадки, тайны, утраты, безвоззвратности. Одновременно – это метафоры замкнутого пространства, отражающие представления об утрате целостности бытия, экзистенциальном кризисе. В данной парадигме метафоры смутного времени или сознания – тьма, мрак, сумерки, побег, полет, сон, глюк, которые доминируют в современной прозе. Направление «антишестидесятников» связано с процессом саморефлексии культуры в формах самой культуры, эстетика складывается на повторах, удвоении художественных кодов, сознательном дилетантизме, граничащим порой с литературным графоманством (творчество И. Кабакова). Одной из первых манифестаций необарокко в русской литературе считают «Палисандрию» С. Соколова. Для литературы данного направления особенно актуальна тема творчества как попытки к обретению свободы, что актуализирует код модернизма. Реальна в мире зеркал и фикций только творящая личность, но и ее существование отнюдь не безусловно. Вопрос о зависимости творящего сознания от симулятивной реальности остается открытым. Герой этой литературы – центон, в котором оживают тематические, ритмические цитатные конструкции, фрагменты больших стилей, что только демонстрирует отсутствие персональной наличности. Политизированная версия посткультуры и необарокко имеют свои различия и сближения. Первая, по мнению М. Липовецкого, тяготеет к поэтике Хармса, необарокко восходит к эстетике В. Набокова. В творчестве художников соц-артовского направления автор скрывается под маскамиимиджами, «рассеивается» в тексте, необарокко, напротив, культивирует авторский миф, что находит отражение уже в творчестве Вен. Ерофеева. Настороженное или циничное отторжение предшествующей традиции в соцарте сменяется в необарокко эстетизацией руин ушедших культур, 76 обыгрыванием фрагментов культурных традиций, знаков, символов, своеобразной ностальгией по невозвратимому. В эстетике необарокко ощутимо влияние «минус-ценностей» декаданса и модернизма, соц-артовская линия тяготеет к художественности авангарда. Однако оба направления отечественного постмодернизма формируются примерно в один и тот же период, выражают кризис постоттепельной идеологии, идеологизированного языка в целом, по-разному, но непременно связаны с эстетикой серебряного века. История постмодернистских изданий берет начало в самиздате, тамиздате, к моменту признания на родине и соцарт и необарокко – сформировавшиеся художественные течения. В высоких образцах отечественного постмодернизма, как правило, очевидны элементы и соц-артовской линии и необарокко: произведения Вен. Ерофеева, Т.Кибирова. В качестве своеобразного явления русского постмодернизма исследователи выделяет литературу контрфакта, в которой легитимизируются воображаемые дискурсы, происходит обыгрывание известных событий отечественной истории. Речь идет о таких известных текстах, как романы В. Шарова («Репетиции», «До и во время»), проза Ю. Алешковского, «Остров Крым» В. Аксенова, «Чапаев и пустота» и «Омон Ра» В. Пелевина, «Четвертый Рим» В. Пьецуха, «Борис и Глеб» Ю. Буйды, «Борисоглеб» М. Чулаки и др. К этой же художественной парадигме принадлежат известные литературоведческие работы М. Эпштейна («Новое сектантство. Типы религиозно-философских умонастроений в России. 70-80 годы ХХ в.»), А. Эткинда («Хлыст. Секты, литература и революция»). Литературоведение рассматривается здесь как продолжение литературы: монологичность автора, самодостаточность исследовательского текста, его замкнутость на себе, уход от оценочности, апелляция к коллективной «ложной памяти», порождающей нонреалистические концепции отечественного прошлого. Сюда можно отнести ряд исследований М. Ямпольского, «Психодиахронологику (Психоисторию русской литературы от романтизма до наших дней)» И. Смирнова. Процесс создания критического текста мыслится как продукт теоретизированной фантазии (О. Дарк). Пафос открытия подлинных фактов, спасения истории из-под гнета сталинской пропаганды существенен уже в литературе «шестидесятников», но там разоблачение абсурдности деяний политиков-ортодоксов, советских мифов не отменяет веру в возможность настоящей, правдивой истории. Именно в это время актуализируется интерес к жанрам воспоминаний, мемуаров, призванных восстановить чувство истинности минувших событий. Авторы-постмодернисты, напротив, исходят из уверенности, что подлинной, «разумной» истории нет в принципе, остаются только загадки, чьи-то отрывочные воспоминания, иллюзии. Человеческая память – слишком легкомысленный источник, не способный удержать даже след, контур события. В сочетании с римейками русской классики («Кавказский пленник» В. Маканина, «Бесы…» А. Бородыни) отечественные писателимистификаторы создают, по выражению Н. Маньковской, своеобразную контрфактическую эстетику. 77 Так в «Репетициях» В. Шарова события раскола XVII века, перенесенные на новую историческую основу – век советский – приобретают иной смысл, превращаются в архетип, фатум, преследующий русских со времен основания мира. В. Пьецух не только советскую, но всю русскую историю считает полной абсурда, ибо русским свойственно исключительное доверие к Слову, особенно к слову печатному, что и позволило литературе взять на себя функции идеологии, религии, философии. В «Русской красавице» В. Ерофеева советская история патологична, соткана из культурных мифов и нелепиц, анекдотов эти же мифы и пародирующих. В окружении бывших советских чиновников, напоминающих марионеток, официально признанных советских писателей и агонизирует Душа Руси – Русская красавица, она же - шлюха. У Пьецуха, Ерофеева история разворачивается в безвременье, в никуда, идет по кругу. Попытки создания новой истории, мифологии сочетаются в отечественном постмодернизме с тенденцией развлекательности, жесткой сюжетности, эпатажа. В критике подобную литературу все чаще характеризуют как «прелестную макулатуру», когда ценится жест, визуальновербальный драйв, артистизм. Постмодернистская литература становится все более ориентирована на визуальный ряд, появляются романы-клипы, романы, выстроенные по принципу многовариативной компьютерной игры, когда стирается грань между персонажем и читателем, читателем и автором, меняется сам статус слова, вытесняемого картинкой, иллюстрацией. Н. Маньковская видит в подобном процессе актуализацию периферийных форм прошлого (прежде всего лубка), перемещающихся в центр современной посткультуры. В живописи к эстетике лубка близки В. Любаров, И. Кабаков. В стремлении осмыслить новую реальность современная литература испытывает все возможные направления, в плане поэтики это выражается в подчеркнутом эклектизме. Б. Парамонов настаивает, что эклектика (от греч. выбирающий) понимается в данном контексте как максимальная степень свободы, возможность выбора, что и отражает разнообразие формальных поисков, актуализация различных смысловых моделей. Утратив ореол сакральности, принцип иерархии, литература стала двигаться вширь, вглубь, вверх, вниз, напряженно расширяя свой художественно-аналитический потенциал, «самой главной сферой инноваций современной прозы становится мир внутренних возможностей человека»1, стремление к осознанию того, что есть человек. Этот интерес особого рода, словесность интересует не человек социальный, не гражданин, но человек феноменологический. С разрушением единой картины мира усиливается процесс деперсонализации, ускользает характер, невозможен типаж, на смену ему явлен человек-архетип. Объяснить такого героя методами классического психологизма невозможно, отсюда интерес к бессознательному и различным способам, формам его передачи. Хаос, царящий в мире и человеческом сознании, порождает необходимость новых художественных принципов моделирования мироздания, в современной прозе оживают архаические 1 Маркова Т. Современная проза: конструкция и смысл. – М., 2003. С. 238. 78 формы (сказ, лубок, сказка, притча), интерес к мифу. В ореоле мифа злободневное и случайное, вечное и минутное переплетаются, существуя на равных. Слово становится пластичным, подвижным, неавторитарным, в литературе актуализируется стратегия эксперимента. Контрфактическая эстетика характерна для отечественного искусства в целом. На уровне архитектуры это направление связывают с «Башней перестройки» Ю. Авакумова, работающего с обычной бумагой. Произведение - демистификация претензии на вечность, ритуал, художник создает симулякр по ассоциации со знаменитым творением В. Мухиной «Рабочий и колхозница», заключая скульптуру в каркас татлинской «Башни III Интернационала». Исследователи видят в бумажном изваянии талантливое сочетание приемов конструктивизма и постсоц-арта. Сюда же можно отнести «обманки» Т. Назаренко – фотографически-иллюзорные римейки отечественной художественной техники ХVIII века в сочетании с собственными известными полотнами мастера. Вместо популярных персонажей современного искусства - «новых русских» - Т. Лаврова создает манекены-муляжи на тему «новых бедных», придавая композиции почти воинственный характер. «Мертвая натура», абсолютные симулякры представлены В. Шваюковым, изобразившим себя с товарищами в пронумерованных гробах. Основоположником «гроб-арта» считают В. Сидур, стремящегося пластически окольцевать хаос, превратив «вампирическую» пустоту в безмолвное изваяние, «памятник современному состоянию»1. Восприняв общие для постмодернизма принципы «нового эклектизма» - смешение направлений, высоких и низких жанров, подлинных и мнимых цитат, многосюжетность по принципу полифонического романа, «анонимность» фильма – современный кинематограф развивает приемы создания «нереальной реальности» такие, как «розовая чернуха» (И.Дыховичный), визуальный стеб (И. и Г. Алейниковы, А. Баширов), пародирование научно-популярных фильмов, «кино в кино» (А. Балабанов), глюкреализм или постмодернистский ремейк собственного творчества (А. Кончаловский). В современной хореографии, драматургии деконструкции подвергается балетная и театральная классика. Среди художников театра, известных своими экспериментальными постановками, выделяют имена С. Мирзоева, П.Фоменко, культовой фигурой русского театра конца ХХ века считают Р.Виктюка с его зрелищностью, живописностью на грани кича, «голубой» проблематикой, выраженным стремлением к созданию атмосферы замкнутой, самодостаточной художественной среды (спектакли «Служанки», «М.Баттерфляй», «Соломея»). 1 См.: Сидур В. Памятник современному состоянию // Знамя. 1992. № 8-9. 79 Тема 10. Итоги постмодернизма. Отечественный неореализм – 0,17 (6 часов) (аудиторные занятия – 2, самостоятельно – 4) План 1. Основные линии критики идеологии и эстетики постмодернизма 2. Ведущие черты «прото-мировоззрения» рубежа ХХ – ХХI веков 3. Эстетические основы «новой литературы» 4. Своеобразие героя в художественной словесности эпохи заката постмодернизма 5. Художественные версии Священного Писания в литературе рубежа ХХ – ХХI веков С середины 1990-х годов как на Западе, так и в России все более настойчиво говорят об исчерпанности постмодернизма, о становлении 80 новой парадигмы мышления, призванной сменить постмодернистскую. «Деконструктивистские» модели, обладая положительным зарядом в момент становления постмодернизма, «в настоящее время утрачивают свою положительную энергию и превращаются в текстуальные клише, обреченные на отмирание», – считает С. Ролл1. М. Берг фиксирует превращение постмодернизма из искусства авангардного толка в истеблишмент, утрату словом заряда деконструктивизма признает В. Ерофеев, указывая на клиширование арт-жеста современным искусством. Постмодернизм оказывается в положении соцреализма, вынужденного осваивать стратегии, художественные модели, потерявшие прежний статус, но литература под знаком «пост-» уже не способна на откровение новых смыслов, ибо любое утверждение, провозглашенное в тексте, тут же становится объектом деконструкции. «Вампирический» характер постмодернистской словесности иллюстрируют всевозможные «ностальгические конструкции», построенные из обломков советского быта (В. Сорокин, И. Кабаков, Д. Пригов), отсылающие к темам классики (поздний Т. Кибиров). В литературе конца ХХ века уже отчётливы признаки рефлексии по свету, традиции. Критические вопросы, которые звучат в адрес постмодернистов, есть некое продолжение не так давно озвученных достоинств их творчества. Исследователи, фиксирующие «смерть автора» и «гибель культуры», вынуждены признать исчерпанность концепции творчества, отличающей постмодернизм. Эстетике постмодернизма, сфокусированной на стремлении вызывать шок, потрясение, отказано в жизнеспособности2. Усиленно декларируемая постмодернистами свобода творчества, независимость художественного текста от единых критериев и ценностей, оборачивается невозможностью эстетических принципов вообще, кроме тех, что провозглашены самим автором. Никакие, утвержденные представления о совершенстве формы, композиции, тогда неприменимы к постмодернистким произведениям, а ценности, провозглашенные отдельными художниками, оказываются актуальны только для их собственного творчества и неприложимы к текстам иных авторов. Искусством на этих условиях можно считать «то, что формально объявлено искусством» (Д. Сегал), а свобода грозит обернуться тотальным отрицанием, игрой вне любых ограничений. Художник-постмодернист, демонстрирующий свободу по отношению к собственному творению (творчество как игра), оказывается свободен и от ответственности за личную позицию, выдвигаемую систему ценностей. Культ безобразного, ужасного, провозглашенный постмодернистами, грозит обесцениванием прекрасного как такового, профанацией искусства. Начиная с 1990-х годов постепенно реабилитируется и понятие «автор». Участники международного сборника «Автор и текст» (1996) выдвигают свои концепции авторства. М. Эпштейн считает, что новая эпоха грозит не уничтожением авторства, напротив, гиперавторством, когда автор разлагается 1 2 См.: Постмодернисты о посткультуре. С. 10. Сегал Д.М. Литература как охранная грамота. – М., 2006. С. 11-49. 81 на множество персонажей, личин1. Художники позднего постмодернизма обращаются и к реабилитации субъекта, самоуничтожение которого грозит распылением, самоустранением искусства. В центре повествования О. Ермакова, А. Слаповского, В. Шарова, В. Маканина «простой», «маленький человек». Любопытен с этой точки зрения путь В. Сорокина: завершает его прогностическую «Трилогию» (тексты «Лед», «Путь Бро») неоутопический роман «23000», в котором ледяное совершенство мира Пустоты уступает место человеку, ничтожному в своей слабости, плотской уязвимости, наивности и зависимости от пошлых страстей. Предложенный автором своему герою (супермену Бро) план, цель которого – зачеркнуть земное бытие, свернув его в гностико-романтический сюжет, направленный против «мясных машин» – людей, проваливается2. Совершенные посланники Света – 23000 воплощенных лучей-демиургов, томящиеся по утраченной гармонии Космоса – рассекают грудь несчастных ледяными молотами, ищут достойных, способных жить только сердцем. Насилие, страх, массовые погромы и расстрелы под знаменами фюрера или Сталина – сердечники идут на все, но «низкая жизнь» отказывается исчезнуть. Недоумение, замершее на мертвых лицах Братьев Света, ушедших в ледяные просторы Ничто, знак предела познания тайны Бытия. Спасение, дарованное выжившим жертвам экспериментов детей Света, близко библейскому чуду, явленному «бедным людям» в момент утраты последней надежды. Эпиграфы из Книги Иова: «Из чьего чрева выходит лед, и иней небесный, – кто рождает его?» и святителя Григория Паламы (XIV век): «Итак, отложим, братие, дела темная, и станем делать дела света, чтобы не только в этом дне нам честно ходить, но и стать “сынами дня”…» свидетельствуют некий религиозный контекст повествования. Бог, даровавший людям свет и землю, иррационален, в его необъятности для сознания самого совершенного или/и праведного (смиренный Иов) есть вечный стимул и спасение. Автор «Трилогии» приближается здесь к идеям Ф. Достоевского о смертной, грешной природе человека, преодоление которой необратимо ведет к гибели мироздания в целом. Современный художник далек от христианских заповедей любви и милости к падшим, его интересует сама логика отрицания мира во имя грядущего совершенства (примером служат различные идеологии: от гностиков, Ф. Ницше, Вл. Соловьева до Сталина и Гитлера), цена, которой оплачивается прозрение. И эта цена всегда одна – смерть вне исхода. Проблема не сводится к демонстрации абсурда человеческого бытия, она в откровении ужаса «ледяного» совершенства («рай» наоборот: вместо тепла, изобилия – лед), где нет места простым смертным. Роман демонстрирует предельную форму отчуждения героя, в котором жив истинный Свет, от всего человеческого: облика, имени, языка, привычных чувств, семьи, общества. Совершенный человек годится только для перехода в ослепительную пустоту Эпштейн М. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. – М., 2004. С. 124. См.: Татаринов А. Нирвана и Апокалипсис: Кризисная эсхатология художественной прозы. – Краснодар, 2007. С. 84. 1 2 82 космоса, но на земле ему невыносимо – он всегда Чужой. Финал романа «23000», напоминающий аллилуйю непостижимому Творцу, дозволившему миру быть, уже и знак усталости, разочарованности заигравшегося с бездной автора, отрекающегося от «проклятых вопросов» традиционным happy end. Сама логика сюжетного действа развенчивает ярых поборников Братства Света, заслуги человеческой в этой победе нет. В. Сорокин, освобождающий словесность от пафоса «учебника жизни», от привычного дидактизма и морализаторства, обнажает прием, заставляет испытывать потрясение от описанных ужасов, именно это, по Ю. Кристевой, приближает человека к духовному очищению, избавлению от мерзости настоящего через глагол, что роднит литературу с религией. Д. Бавильский утверждает, что «с каждой новой книгой религиозный пафос творчества Владимира Сорокина становится все более очевидным»1. Отвратительное переплавляется в «радость текста», «пиршество» языка: «Я против того, чтобы у художественной литературы учились жить. Она для другого. От нее надо получать удовольствие. Она должна бодрить и заставлять голову работать. А не учить как вести себя в обществе», – считает писатель2. Опыт позднего Сорокина важен и как доказательство ностальгии современной литературы по новому идеалу и, в конечном счете, по утопии, когда текст приобретает дополнительную опору в трансцендентальном. Активное сближение эстетики постмодернизма с массовым искусством оборачивается упрощением эстетики и, в конечном итоге, приводит к новому диктату, подконтрольности, вызванной потребностью общества в доступном, понятном искусстве, которое подчиняется законам моды, воздействию масс-медиа с их эстетическим примитивизмом. Конкуренция с рекламой и телевидением для искусства практически невозможна, что вызывает нарастающее беспокойство особенно у западной критики. Подчеркнутое расставание с прежними культурными мифами эти же мифы и обновляет в общественном сознании, обыгрывает, «оживляет». Следующее обретение постмодернизма, подпадающее под критику, свобода от любых моральных, идеологических, стилевых ограничений, открывающая возможность диалога с мировой культурой в целом. Б. Гройс оборотной стороной такой свободы называет свободу от «чужого проекта», вседозволенность, а положительный момент видит в самом акте творчества, создании собственного проекта. Причем первая свобода не имеет со второй ничего общего, ибо свобода в правовом обществе есть своеобразный тоталитаризм - она заканчивается там, где возникает малейшая угроза для свободы другого, такая свобода грозит уничтожением героического и креативного. Подлинного художника не вмещает «маленькое время», обществу потребления неординарные личности, великие открытия – лишние, что приводит к неуверенности самоощущения творца, мучимого проблемой самоопределения, самоидентификации. 1 2 Бавильский Д. Полтинник Сорокина. Текст см.: // http://srkn/ru/criticism/bavilsky4/shtml Сорокин В. Текст см.: http:// www.srkn.ru/interview/davydova.shtml 83 И русские и европейские критики указывают на вторичность эстетики постмодернизма, ее зависимость от предшествующих художественных стратегий и ценностей. А. Генис указывает, что иронизм деконструкции, игровая установка творчества оборачивается редукцией смысла, рефлексия не выходит за рамки самого феномена текста, тексты опустошаются, из них невозможно узнать ничего такого, что читателю не было бы известно до того, как он открыл книгу. В пользу восстановления аутентичности искусства в Европе высказываются с конца 1970-х годов, в критике, литературе демонстрируется невозможность исчерпать творчество исключительно экспериментами со словом, поэтика не сводится к новизне приема, но содержит нечто, неподвластное жесткому научному анализу, нечто, связанное с вдохновением, прозрением, интуицией автора. Основы нового мироощущения, призванного сменить постмодернизм, М. Эпштейн называет «прото»-мировоззрением. Для искусства ХХI века будет характерна иная картина мира, чьи отличительные черты: новое понимание времени, большее доверие к будущему, истории, не сводимой к череде безумств, катастроф и нелепиц; восстановление доверия к слову, человеку (открытие спасительного потенциала самой онтологии человека, удерживающей у «последней черты», как в романе А. Слаповского «Оно») и личности, которая не умещается в рамках одинокого «я», но есть «мультивидуум», «всечеловек» (если использовать термин Ф. Достоевского). Всечеловек современности, по Эпштейну, новое природноискусственное существо, сочетающее свойства человеческого индивида и машины. В век компьютеров человеческие функции стало возможным передать машине (постоянное совершенствование роботов), но возможно и другое: человек, сращиваемый с механизмом (уже сейчас при необходимости мы прибегаем к протезам, линзам, наушникам), перерастает свой биовид, получает доступ в те сферы, которые ранее были доступны только машине (космос, ракета, вечная мерзлота). Новая парадигма нацелена на движение вперед, а не на отпевание прошлого и будущего, не на конечность и катастрофичность, подобно постмодернизму. Все это позволяет увидеть в постмодернизме «переходное» мировоззрение, искусство, стоящее у колыбели новой культуры. М. Липовецкий настаивает, что возрождение культуры, литературы начнется с вспоминания элементарных ценностей, жизненных переживаний, «прозы бытия». В свое время расставание со «сверхчеловеком» соцреализма началось с подобного обращения к насущным ценностям живой жизни, когда «деревенщики» напомнили читателям о красоте проселочной дороги, придорожного цветка, ввели в литературу «обычного человека», далекого от свершений эпохи, занятого крестьянским трудом, семьей, добывающего хлеб насущный, а не мечтающего перестроить мироздание. Новая культура сохранит гуманистический потенциал классики, обратится к идее ответственности, сентиментальности, уважения к человеку, актуализирует поиски доверительной интонации. При этом человек не идеализируется, не отменяется знание о его слабости, противоречивости, 84 вплоть до абсурда, на что указывал Ф. Достоевский, но ему открывается еще один шанс, человек явлен как необходимая попытка мира осмыслить, постигнуть самого себя. Духовность человека получает новое оправдание, смысл, дающий надежду на будущее. Эта вера в духовный потенциал личности, способность «униженных и оскорбленных» построить ковчег и уцелеть вопреки всему отличает уже «прозу сорокалетних» (В. Маканин, А. Ким, А. Курчаткин, Р. Киреев), творчество раннего А. Битова, М. Харитонова, Л. Петрушевской, Ю. Буйды, И. Полянской, новеллистку Т.Толстой. Призрак надежды, который дарован читателю этой прозой, не может не вызывать ответного отклика. На фоне «уставшей», «игровой» культуры постмодернизма и очевидного кризиса традиционного реализма перспективы «новой литературы» (неореализма, постреализма или металитературы, как ее называют в критике) выглядят достаточно убедительными. Разочарование в прежних мифологемах (национальных, социальных) не исключает стремлений к подлинному. Из пустоты, одиночества, с «мусорной кучи» прежней культуры (образ А. Битова в тексте «Человек в пейзаже») раздаются вопрошающие голоса: одинокие кликания, «тяжелый крик», мольбы заполняют тексты В. Маканина, замирают с воздетыми к небу руками герои Л. Петрушевской. В поисках исчезающего бытия эта проза обращается к текстам самой культуры, но не ради игры (постмодернисты) или сотворения новой утопии (модернисты, соцреалисты), а как протест против всевластия энтропии, отчаяния, одиночества. Пространство культуры сохраняет образы утраченного, знаки прежней веры, лишенные абсолютности, ценные как чейто опыт, как надежда, пусть призрачная. Авторы не уповают на всевластие культуры, ибо законы природы, страсти неумолимы, но и жажду отзвука на собственное бытие (пусть не осознанную) у человека не отнять. Эффект соучастия в человеческой судьбе не связывается с Богом, но с волей творящего текст, как отклик художника на призыв читателя подтвердить не напрасность существования. Вне традиционного сакрального контекста общение писателя с миром лишено учительского пафоса, нетерпения в отстаивании идеи. В интервью немецкому журналу Петрушевская соотнесет собственную миссию с миссией проповедника: «Возможно, мои рассказы – это попытка быть проповедником. Но голос проповеди в них совершенно скрыт, поскольку, мне кажется, в искусстве проповедь не может присутствовать явно. Читатель должен сам услышать голос. Я не бросаю читателя на произвол судьбы. Я передаю его его же собственной доброте. Может быть, это как на проповеди. Проповедь не должна хорошо заканчиваться, не правда ли?»1. Сближение «текст – проповедь» ощутимо на уровне идеологии («окончательно уйти в постмодернизм Л. Петрушевской мешает, как ни странно, духовное строительство, от которого абсолютно свободен постмодернизм»2), но с точки зрения поэтики значительно влияние на 1 2 Sinn und Form: Beitrage – zur – Literatur, – Berlin, Germany. 1990. May-June. 42:3 – P. 535. Васильева М. Так сложилось // Дружба народов. 1998. № 4. С. 214. 85 художественный мир писательницы жанров сказки, античной трагедии, идиллии, которые скрещиваются в свете традиции мениппеи1. В рассказе «Новые Робинзоны» автор ревизионирует перспективу пастушьей идиллии в мире после будущего. В данной проекции, когда настоящее сводит счеты с утопиями прошлого, открываются трагические последствия социальных экспериментов. Человек, став жертвой идеи, превращается в мертвеца, мумию, только в этом качестве, по мнению писательницы, он и пригоден для «светлого будущего» или «крестьянского рая» прошлого – абстрактный человек (не-человек) возвращается придуманному пространству текста. Жестокий, безумный мир истории, открывшийся за границами утопий, представлен в рассказе общей судьбой человечества. Боль, ужас, страх, разочарования, как и надежда, признаются Петрушевской неизменными константами человеческого бытия, и в этом писательница продолжает идеи Ф. Достоевского, А. Платонова, В. Шукшина. М. Липовецкий к неореализму относит и прозу, связанную с переосмыслением фундаментальных религиозно-философских систем путем создания оригинальных версий Священного писания. Это работы Ф. Горенштейна (прежде всего, роман «Псалом»), В. Шарова («Репетиции», «Воскрешение Лазаря»), А. Слаповского («Первое второе пришествие»). Авторы, сохраняя реалистическую канву повествования, основные сюжетные линии подчиняют логике мифа. Герои произведений, погруженные в повседневность ХХ века, вновь и при самых обыденных обстоятельствах переживают события, связанные с искушением Христа, казнями Господними («Псалом»), обстоятельствами русского раскола («Репетиции»). Самые обычные, «серединные» люди, погруженные в древние ритуалы, пережитые как глубоко личные события, вынуждены решать задачи претворения хаоса сиюминутного в вечное, добывать сакральное знание о бытии из глубины повседневности. Гуманизм современных авторов и заключается в доверии к человеку, который способен привнести в царящий окрест хаос свои собственные, личные смыслы, которые соотносятся с другими частными смыслами, что и рождает надежду на возможность преодоления одиночества, абсурда жизни хоть на миг. Еще одно литературное течение, которое зародилось в координатах постмодернизма, но не замкнулось в них – «новый автобиографизм», родоначальником которого М. Липовецкий называет С. Довлатова, превратившего историю собственной жизни в масштабный, цельный сюжет творчества. В 1990-е в этом направлении двигаются С. Гандлевский («Трепанация черепа»), Д. Галковский («Бесконечный тупик»), А. Сергеев («Альбом для марок»). Авторы названных произведений противопоставляют иллюзорному настоящему подлинность собственных экзистенциальных поисков и обретений. История приближается, между ней и художником зазор минимальный, речь идет о событиях недавних, неброских, часто незавершенных. Опыт героя от столкновения с «веком-зверем» отнюдь не окончателен, одни и те же события предстают в различном освещении, с 1 Липовецкий М.Н. Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики. С. 295. 86 различных точек зрения, что заставляет героя всякий раз вновь определять свою позицию, в каждой отдельной точке мироздания все начинать заново. Представители этой прозы сфокусированы на отдельном, только повествователю принадлежащем отрезке истории, который и наделяют субъективным смыслом и связями. Достоверность фигуры автора придает убедительность определенной модели бытия, самому философскому эксперименту. Так в современном расколотом мире неореалисты увидели черты извечной трагедии бытия, они не отвернулись от мира, не осмеяли его, подобно постмодернистам, а приняли как собственную судьбу. Хаос не возводится здесь в норму, но внутри «безумного мира» стремятся открыть принципы его внутренней саморегуляции. Мерой бытия становится «маленький», беззащитный герой: юрод, шут, старик, ребенок, который отваживается на путь (или не знает о его опасности) в поисках стершихся следов смысла. Обретенная таким образом истина обязательно частная, связанная с личным прозрением героя, волей автора, но указывающая на архетипичные ситуации и образы. В мире, оставленном Богом, человек может надеяться только на другого человека, главными ценностями жизни становятся со-участие и со-страдание одной души к другой. Раздел 4. Идейно-художественная постмодернизма концепция искусства Тема 11. Изменение внутренней структуры искусства XX века: неклассические принципы развития - 0,19 (7 часов) (аудиторные занятия – 4, самостоятельно – 3) План 1. Неклассические, нелинейные принципы существования искусства 2. «Стиль модерн» как переход к современному искусству 3. Принцип non-finito – основа модернистского и постмодернистского искусства 4. Разрушение традиционных форм искусства Достаточно очевидным является тот факт, что в XX веке закончился процесс трансформации опыта сознания и фундаментальных сдвигов в 87 формах человеческого мышления, начавшийся еще в XIX столетии. То же самое можно сказать и в отношении искусства: ни один период в истории Нового времени не был отмечен такими радикальными трансформациями, как период новейшей истории - изменение традиционной природы искусства, утрата его привычных свойств, рождение новых, порой парадоксальных, художественных языков, а также видов творчества, радикальное переосмысление истории искусства, механизмов идентификации, музейных практик и многое другое, что стало служить опознавательным знаком современного искусства. Одно из объяснений, которое предложили философы и искусствоведы современной ситуации в искусстве, заключается, с одной стороны, в отрыве последнего от своих сакральных корней, а с другой – выходом на сцену европейской истории новых сил – техники и масс, настойчиво диктующих свою волю, формируя потребности, вкусы и взгляды1. Однако мы не будем вдаваться в подробности исследования исторических и социологических причин, сосредоточив свое внимание на изменившемся статусе, а также кардинально переосмысленной природе и структуре такого неотъемлемого атрибута европейской культуры как искусство2. Неклассические, нелинейные принципы существования искусства прошедшего столетия становятся в последнее время предметом пристального внимания исследователей. Традиционная схема поступательного развития оказывается неприменима ко многим направлениям, движениям и периодам в культуре XX века. Вместо нее возникает калейдоскопическая картина взаимодействий, отражений, мерцаний и постоянных возвратов. Развитие искусства часто идет странными эллиптическими путями, образуя не поддающиеся исторической логике сцепления и смешения. Особый «дух современности», о котором возвестил Ш.Бодлер во второй половине XIX века, и относительно которого идет отсчет нового – модернистского искусства уже с момента своего рождения был увлечен поисками самоопровержения и самоотрицания. Внутри модернизма с самого начала По поводу этой проблемы отсылаю к двум превосходным книгам: Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. – М., 1996; ВейдлеВ. Умирание искусства. – М., 2001. 2 При написании данного раздела, кроме первоисточников, автор использовал следующую литературу: 1. Бобринская Е. Русский авангард: границы искусства. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. 2. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины ХХ века. - СПб., 2003. 3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. В 3-х тт. - М., 1986-1993. 4. Иконников А.В. Архитектура 20 века. Утопии и реальность. Издание в двух томах. Том 2 / Под ред. А.Д.Кудрявцевой. - М.: Прогресс-традиция, 2002. 5. Иконников А.В. Зарубежная архитектура: От «новой архитектуры» до постмодернизма. - М., 1982. 6. Искусство. Большой энциклопедический словарь. - М., 2001. 7. Малая история искусств. Искусство 20 века. – М.: Изд-во «Искусство», 1991. 8. Энциклопедия. Искусство ХХ века. - М., 2002. 9. Яковлев Е.Г. Эстетика. – М.: Гардарики, 1999. 1 88 отчетливо звучали голоса, отвечавшие на вызовы современности ее языком, но уклонявшиеся от основных векторов движения, заданных modernite. Другими словами, это вопрос, имеющий в разных областях гуманитарного знания определенную рубрификацию, - вопрос о соотношении модернизма и постмодернизма в европейской культуре. Данный раздел нашего лекционного курса посвящен проблематике формирования и взаимодействия модернистских и постмодернистских элементов в искусстве XX века. Поэтому сразу оговоримся: на наш взгляд, не совсем верно будет выстраивать в отношении современной европейской культуры хронологическую цепочку – «модерн - постмодерн»; постмодернистская установка на отказ от рационалистических проектов Возрождения и Просвещения возникла не «после» модерна, а рядом с ним. Симптоматичный пример: все тот же Бодлер, которого по праву считают одним из представителей модернистского направления в искусстве, «по сути сформулировал стратегию культуры постмодерна»1. Еще пример: одна из крайних версий модернизма – авангардизм – на всем протяжении своей истории довольно неоднозначно реагировал на новую структуру реальности и на те вызовы, которые адресовала «современность» традиционной культуре. Даже такие сугубо прогрессистские и упоенные «проектом современности» движения как итальянский футуризм или русский конструктивизм обнаруживают двусмысленность и противоречивость в своем отношении к современности, проявляя, скорее, негативную реакцию на новую реальность. Видимо, поэтому в русском искусстве первой трети XX века возникают и получают широкое распространение многие явления, сопротивляющиеся модернистской системе: примитивизм, архаизирующий вариант русского футуризма, различные версии органической эстетики, тенденция к смешению стилей и направлений (кубофутуризм, «всечество») и, наконец, преддадаистские тенденции, нередко опережающие собственно европейский дадаизм. Относительно заявленной проблематики сделаем еще одно пояснение в плане терминологическом: используя дефиниции В. Вельша, одного из популярных теоретиков постмодернизма, разграничим, с одной стороны, понятия «модерна» и «постмодерна» как определяющих состояние культуры, и, с другой стороны – понятия «модернизма» и «постмодернизма» как концепции этих состояний, как тип мировоззрения и способ мысли о мире и человеке. Кроме того, необходимо видеть разницу между упомянутыми выше понятиями, имеющими, прежде всего, культурфилософскую природу, и таким, неотъемлемым от истории искусства, понятием, как стиль «модерн». Стиль «модерн» - одно из названий стилевого направления в европейском и американском искусстве конца XIX — начала XX вв. В Бельгии, Великобритании и США оно известно как «новое искусство» (Art Nouveau), в Германии — «югендстиль» (Jugendstil), в Австрии — «стиль Сецессиона» 1 Культурология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 1998. – С. 317. 89 (Sezessionstil), в Италии — «стиль Либерти» («stile Liberty»), в Испании — «модернизм» (modernismo). «Модерн» возник в условиях кризиса буржуазной культуры как один из видов неоромантического протеста против антиэстетичности буржуазного, и в этом смысле – мещанского, конформистского - образа жизни, как реакция на господство позитивизма и прагматизма. Эстетика «модерна» развивала идеи символизма и эстетизма, «философии жизни» Ф. Ницше. «Модерн», по мысли ряда его теоретиков, должен был стать стилем жизни нового общества, создать вокруг человека цельную, эстетически насыщенную пространственную и предметную среду, выразить духовное содержание эпохи с помощью синтеза искусств, новых, нетрадиционных форм и приёмов, современных материалов и конструкций. Наиболее последовательно «модерн» осуществил свои принципы в узкой сфере создания богатых индивидуальных жилищ. Но в духе «модерна», стремившегося стать универсальным стилем своего времени, строились и многочисленные деловые, промышленные и торговые здания, вокзалы, театры, мосты, доходные дома. «Модерн» пытался преодолеть характерное для буржуазной культуры XIX в. противоречие между художественными и утилитарным началами, придать эстетический смысл новым функциям и конструктивным системам, приобщить к искусству все сферы жизни и сделать человека частицей художественного целого. «Модерн» противопоставил эклектизму XIX в. единство, органичность и свободу развития стилизованной, обобщённой, ритмически организованной формы, назначение которой — одухотворить материально-вещную среду, выразить тревожный, напряжённый дух переломной эпохи. Это предопределило появление нового типа художника — универсала, соединившего в одном лице архитектора, графика, живописца, проектировщика бытовых вещей и часто теоретика. (В постмодернизме эта идея нашла свое выражение в понятии «многоцелевой интеллектуал»). Идея синтетического, цельного произведения искусства (Gesamtkunstwerk) ярче всего воплощена в архитектуре интерьеров, лучшие образцы которых отличаются ритмической согласованностью линий и тонов, единством деталей декора и обстановки (обои, мебель, лепнина, панели, арматура светильников), целостностью однородного перетекающего пространства, усложнённого и расширенного зеркалами, многочисленными дверными и оконными проёмами, живописными панно. Искусствоведы рассматривают стиль «модерн», неразрывно связанный с символизмом и стремившейся создать самостоятельную художественную систему, как своего рода переход от традиционных форм XIX века к условному языку новейших европейских течений в XX веке. Представители этого стиля в области архитектуры: А. Гауди (Испания), В. Орт и Х. К. ван де Велде (Бельгия), Ф. О. Шехтель (Россия), И. Хофман, И. Ольбрих (Австрия), Ч. Р. Макинтош (Шотландия); в области визуальных искусств: А.Н. Бенуа, К. А. Сомов, М. Врубель, Л. С. Бакст (Россия), П. Гоген, А. Тулуз-Лотрек,Э. Грассе (Франция), Э. Мунк (Норвегия), К. Мозер, Г. Климт (Австрия), группа 90 парижских художников «Наби» (П. Серюзье, М. Дени, К. Руссель), создавшая своеобразный вариант стиля «модерн». Ощущение кризиса традиционных ценностей западной культуры, с одной стороны, и экзальтированная вера в новое, связанная с поисками абсолютной реальности, – с другой, представляют два основных устремления модернистского искусства. Это тревожное и неустойчивое состояние спровоцировало рождение художественных концепций и творческих методов, направленных на ироничное переосмысление не только модернистских, но и всех предшествующих традиций, основанное на идее абсолютного равенства всех состояний культуры. В дальнейшем постмодернизм программно отказался от какой бы то ни было иерархии, от оценок, от сравнения с прошлым, эстетически смешав и философски уравняв все стили и направления в плане привилегии на истинность. К началу XX века европейская культура теряет веру в прогрессистскую концепцию линейного развития, а к середине столетия исчезновение прогрессистской оптики находит многочисленные научные, философские и методологические обоснования. Вместо линейного времени в искусство приходит новая логика: симультанности (одновременность процессов или действий в какой-либо ситуации) и взрыва, сжимающих линейное движение в мгновенные вспышки; логика озарения и шока, исключающая возможность последовательности и связности. Это новое ощущение времени часто находит выражение в обращении к символическим ситуациям выхода из времени. Инфантилизм и архаика, еще не осознающие необратимость времени, экстаз, опыт катастроф, безумие, - мотивы и образы постоянно притягивают внимание самых разных литераторов и живописцев. Вместо бесконечного движения вперед, воодушевлявшего многие течения в искусстве конца XIX и начала XX вв., искусство все чаще ищет вдохновения в текучей, мерцающей картине действительности. «Форма анархии» воплощающаяся через «принцип случайности», способная уловить хаотическую структуру реальности, в военное и послевоенное время, все чаще привлекает внимание деятелей искусства. Одним из ее воплощений оказывается своеобразный эклектизм - стилистический разнобой, пришедший на смену узнаваемости языка того или иного направления (например, в принципиальном эклектизме, провозглашенном в русской концепции «всечества»: «все стили признаем годными для выражения нашего творчества, прежде и сейчас существующие»1, или в художественной практике дадаистов). Эта «форма анархии», осознанная в качестве позитивного, созидательного аспекта хаотического состояния мира, понятая как эклектичность, как прообраз смешения языков и стилей позднее приобретет свое классическое воплощение в техниках коллажа и ассамбляжа, став центром притяжения в постмодернистских системах мышления. «Порядок» и «хаос» - два понятия, сочетавшись к середине столетия в концепт «хаосмоса» постмодернистского мировосприятия, могут служить своеобразной эмблемой Цит. по: Бобринская Е. Русский авангард: границы искусства. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. – С. 14-15. 1 91 той причудливой игры разнонаправленных векторов, которые определяли облик культуры XX века. Если модернизм ставит акцент на изобретательство и перманентное открытие нового, то именно в этой точке развития искусства происходит окончательный разрыв с логикой прогресса, разворачивающей перед искусством новые перспективы. Даже абстрактное искусство в некоторых своих версиях еще двигалось в направлении, заданном логикой прогресса, пытаясь изобразить невидимое (с точки зрения авангардизма, новое всегда лучше, выше старого). Утрата перспективы, которую прежде рисовал для живописи прогресс, приводит к кризису авангардистской и шире – модернистской идеологий, уходящих своими корнями в эпоху господства логики прогресса. Этот кризис, видимо, спровоцировал наиболее резкие и демонстративные жесты отказа от искусства и разрушение его традиционных форм. Испытание пределов и границ искусства становится на протяжении всего XX века основным вектором развития многих направлений. Сомнению и отрицанию подвергается уже не тот или иной язык или стилистика, но искусство как таковое. Под вопросом оказывается перспектива его существования. Меняются сами основы, внутренняя структура искусства, традиционного и привычного для европейской культуры Нового времени. Необходимость нового понимается теперь как выход за пределы наличного, как перемещение на неосвоенные, неизвестные территории. Это уже не новизна ранних авангардистских движений, обновляющая и оживляющая «усталую» культуру. Теперь предпринимаются попытки создать абсолютно другую логику существования мира искусства. Этот новый контур искусства XX века впервые проступает уже в конце 1910 – начале 1920 гг., заявляя о себе радикальным вопрошанием о природе, «сущности» и пределах искусства. Феномены модернизма и постмодернизма, репрезентирующие культуру XX века, изменяют не только структуру и функции современного искусства, но кардинально переосмысливают всю историю мирового искусства. На сегодняшний день последняя трактуется не как линейная цепочка последовательно сменяющих друг друга исторических эпох, а как чередование классического типа художественного мышления, отличающегося своими устойчивыми, завершенными и статичными формами, типом неклассическим, для которого характерны формы неустойчивые, текучие, динамичные и незавершенные. Первый тип художественного мышления присущ Aнтичности и Возрождению, сформировавшимся в значительной степени под влиянием нормативной эстетики Аристотеля, второй характерен для Cредневековья и барокко. По мнению западного эстетика и искусствоведа, П. Михелиса, современное модернистское искусство, называемое им «искусством, прекращающим быть подражательным» является естественным продолжением искусства барокко и возникло на основе достижений науки. Конечно, существует разница между средневековой и модернистской «незавершенностью»; если средневековый 92 динамизм стремится к трансцендентному (к тому, что находится за пределами человеческого опыта, к божественному), то незавершенность современного искусства вводит реальное движение в область статики, материального исполнения, пытаясь передать сущность «земного» движения - не как движение к вечному, но как мимолетность и преходящесть. В современном искусствоведении «незавершенность» принято называть принципом non-finito. Западные теоретики, занимающиеся проблематикой non-finito, выделяют такие признаки «незавершенности»: динамизм формы, эскизность, бессюжетность, просто незаконченность произведения, нарушение естественных форм, «поток сознания», разрушение характера, ориентация на передачу мгновенного, мимолетного, случайного. Художник, воплощающий в произведении принцип non-finito, обнажает, выводит наружу бессознательные движения своей души. И еще одно, очень важное дополнение, отчасти проясняющее свойственный современной культуре интерес к Востоку. Дело в том, что если в европейском искусстве принцип non-finito возникал спорадически и существовал, собственно, не как принцип, а как прием отдельных мастеров искусств, то на Востоке незавершенность есть универсальный принцип, пронизывающий как традиционное, так и современное искусство, поскольку для восточного мировоззрения совершенство связано с понятием становления: совершенство в восточном искусстве представляет собой «проявление силы мгновения», «преходящее в его наиболее чистом воплощении», по выражению Михелиса (самыми яркими примерами классического воплощения принципа non-finito являются буддийский храм в Индонезии Борободур – 7-9 вв., в визуальных искусствах – восточноазиатская монохромная живопись тушью). Следовательно, с точки зрения неклассического художественного типа мышления, совершенство может быть достигнуто только через незавершенные произведения, в которых выражается преходящий момент вдохновения. Все эти рассуждения и уточнения в отношении нашей темы интересны тем, что проясняют природу таких феноменов как модерн и постмодерн, вплетая их в ткань всеобщих цивилизационных процессов. Учитывая размах глобализационных взаимодействий между культурами, особенно во второй половине XX в., нет ничего удивительного, что Запад и Восток «сочетаются» и «перемешиваются» между собой не только в плане «подражания экзотике», но структурно, будто восполняя некий пробел в своем существовании. По Михелису, произведение non-finito воплощает в себе мгновенное и преходящее в трех аспектах: 1) оно «мгновенно» по субъективному состоянию художника, т.е. это произведение выражает «мгновенный порыв», «мимолетное вдохновение»; 2) вместе с тем это произведение «мгновенно», непродолжительно по исполнению, так как оно есть результат именно мимолетного вдохновения (художник – фокусник, который творит каждую секунду для секунды, погруженный в азарт); 3) и, наконец, у произведения non-finito непродолжительная, «мгновенная» жизнь: постоянная инфляция царит на современной 93 художественной сцене, считают специалисты. К примеру, в изобразительном искусстве это приводит к возникновению таких жанров как боди-арт (игра с телом человека), коллажам из натюрмортов – фруктов и овощей – живущих не более суток, к перфомансу (превращение вещи или группы вещей в знак какого-либо события или явления), и все это становится артефактом, т.е. предметом, взявшим на себя функции искусства. Добавим к перечисленному свойство, сформулированное другим западным искусствоведом, Ф. Баумгартом, стремление изобразить динамизм времени вообще или чистое движение времени, ведь время может стать видимым только как движение. Поэтому изображаемые вещи должны быть описаны так, чтобы возникло впечатление непрерывной изменяемости. Но это возможно только через превращение устойчивой объективности вещей и пространства в квазиневещественные явления, что как раз и происходит во всех модернистских практиках. Иными словами, изображение мира при помощи принципа non-finito лишает его объективности и вещественности и превращает в нечто нефигуративное и невещественное. Мир предстает перед нами как чистый поток времени, чистое движение, поток сознания. В постмодернизме этот процесс усугубляется: принцип non-finito становится основой для выражения не просто мгновенности бытия, но его эфемерности, его абсолютной вторичности от неких иррациональных, неподвластных человеку, неуловимых для его сознания, начал. Образы бренной, исчезающей на глазах и оставляющей после себя только следы, реальности, остатки которой – эфемерные и совершенно нерепрезентативные свидетельства течения жизни – вот, что становится материалом, из которого создается новое игровое – постмодернистское - пространство искусства. Итак, одним из самых характерных жестов современного искусства, присущих как модерну, так и постмодерну, является демонстрация разрушения традиционных форм, в частности - традиционной структуры живописного языка. Сквозь призму специфики данного опыта – опыта испытания границ искусства - можно очертить процесс взаимодействия модернистских и постмодернистских элементов в искусстве XX века. Этот процесс носил далеко неоднозначный характер, представляя собой, с одной стороны, радостное, экстатическое ожидание и предчувствие нового, выражающееся в стремлении обрести некую цельную, синтетическую, абсолютную и окончательную форму искусства, а с другой стороны, тягостное ощущение конца, исчерпанности искусства, дошедшего до своей точки - до «дырки на холсте». Именно вторая тенденция порождает не всегда явный, но подспудно присутствующий – скрытый план, процесса исчерпания и разрушения, выражающейся в протесте (не обязательно осознанном) против тех границ искусства, которые обнаружил для него модернизм. Здесь начинает пролегать разница между ним и постмодерном, выразившаяся в следующем: 1) весьма критическом отношении к «духу современности», прежде всего, к сугубо эстетическому измерению художественного творчества, к его рациональной исчислимости, 94 2) в критике модернистского акцента на субъективизме и, связанному с ним, концепции авторства; 3) а также, постмодернизм отличает тема радикального вопрошания о природе, сущности и пределах искусства. Выход искусства к границам своей территории провоцировал не только особый взгляд назад – неклассическое построение истории, - но и процессы самосознания, связанные с механизмами идентификации. На сегодняшний день эта явная философская рефлексия искусства о самом себе также становится одним из знаков приближения к пределам его классической интерпретации. В работах ряда западных искусствоведов не раз проговаривалось следующее мнение: искусство, в тех формах, в которых мы его привыкли воспринимать уже несколько столетий, начиная примерно с эпохи Возрождения, представляет собой лишь определенный этап или определенную историческую эпоху, обладающую своими законами, нормами и логикой, не действующими, однако, за ее границами. «Эпоха искусства», как ее обозначают в своих работах некоторые исследователи, подобно всем историческим феноменам, временна и преходяща. Конец «эпохи искусства» отчетливо проглядывает именно в XX столетии и именно в тех явлениях культуры, в которых искусство обращается к философскому самоописанию, к решению вопроса о собственной природе: разрушая одну границу за другой, художники вдруг обнаружили, что все границы на их пути исчезли. «Только когда стало ясно, что все что угодно может оказаться произведением искусства, оказалось возможно думать об искусстве философски», - делает вывод современный американский искусствовед, А. Данто1. Нарушение границ между территориями, прежде всего, выводило искусство к области повседневности, в результате чего стало возможным объявлять искусством предметы обыденной жизни, - все это было тесно связано с полемикой или, в иных ситуациях, резкой конфронтацией с устоявшимися институциями и общепринятой практикой использования и интерпретации искусства. Одним из институтов, порожденных культурой Нового времени, с которым иногда весьма агрессивно полемизировало искусство XX века, является музей. Музей создает воображаемое, иллюзорное пространство-время, в котором человеческому сознанию диктуются особые правила восприятия, мышления и самосознания. Некоторые современные исследователи сравнивают появление музеев в европейской культуре с открытием прямой перспективы в эпоху Возрождения. Подобно системе перспективного изображения, музеи также предлагали своего рода модель соотнесения человека с миром, модель его методов освоения реальности. Таким образом, музей в европейской культуре оказывается одним из наиболее эффективных механизмов порождения смыслов, знаний, организации и регулирования способов восприятия. И, наконец, музей становится важнейшим Цит. по: Бобринская Е. Русский авангард: границы искусства. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 118. 1 95 инструментам создания пространства истории и историзации мышления. Иногда музеи сравнивают с еще одним специфическим жанром искусства Нового времени – романом, поскольку беллетристика также представляет собой особую практику конструирования реальности и истории. Разрушение устойчивых повествовательных структур в литературе модернизма было связано с глубокими смещениями в культурном сознании эпохи – такими, как отказ от линейного времени истории и оживление мифотворчества. Программная антимузейность, присущая многим авангардным движениям, конечно, вступала в определенный резонанс с этими тенденциями. Однако же, сразу подчеркнем достаточно амбивалентный характер таких программ, в которых просматривается не столько отрицание в отношение традиционной практики музея, сколько желание переосмыслить их статус и способы существования. Действительно, что заставляет считать искусством несколько дощечек, реек и жестянок, сгруппированных вместе? Только наличие в культуре особых институтов, особых ритуалов и механизмов порождения смыслов и наделения предметов значением. Искусство таких направлений как авангардизм, конструктивизм, концептуализм, а также искусство ассамбляжей, ставшее особым знаком XX века, невзирая на вражду с музеями, были, по выражению Е.Бобринской, «супермузейными» искусствами. Они изначально мыслились только в контексте истории искусства, в ряду других произведений, с которыми оно полемизировало. Наличие истории искусства и особого экспозиционного пространства (музей, галерея) – необходимые условия для возникновения практически всех форм художественного радикализма. Радикальные жесты искусства всего XX века имеют смысл только в контексте истории, потому что они оперируют с колоссальными контекстами, а не с неким смыслом, заключенным в самом произведении: «Черный квадрат» Малевича, контррельефы Татлина или конструкции Лисицкого обретают свое значение через отсылку к многовековой традиции живописи. Один из основных творческих методов модернистского искусства, направленных на умножение перечня явлений или предметов, которые могут получить статус искусства, оказавшись в пространстве музея, - присвоение и деконтекстуализация, игра с перемещениями предметов или «чужих» культур на территорию современного мира искусства. К примеру, использование таких феноменов, как народное искусство, городское фольклорное, детское, непрофессиональное, африканское искусство, архаическое, примитивное и т.д. Допустим, на выставках авангарда часто экспонировались рисунки детей, дилетантов, народные картинки, этнографизмы разного рода. В основе построений некоторых ассамбляжей, коллажей и фотомонтажей можно узнать все тот же жест перемещения, игры с различными территориями. Позднее именно эти процедуры перемещения стали предметом рефлексии в тех направлениях искусства, где модернистское мышление подвергалось сомнению, где вскрывались его внутренние механизмы, - прежде всего, в дадаизме, сюрреализме и постмодернизме. Такое использование институций, игра с существующими механизмами функционирования культуры, 96 обнажение скрытых структур культурного пространства, точно также как выход искусства к границам своей территории и поиск новой изобразительной реальности – все это становится важнейшими тенденциями искусства XX века. Раздел 5. Специфика постмодернизма в различных видах искусства Тема 12. Изобразительное искусство: расширение границ – коллаж и фотомонтаж - 0,17 (6 часов) (аудиторные занятия – 4, самостоятельно – 2) План 1. Роль коллажа в современном искусстве; первые коллажи и разновидности коллажей 2. Коллаж как техника искусства и коллаж как тип мышления 3. Фотомонтаж: деформация границ искусства и реальности 4. Коллажная и фотомонтажная эстетика в пространстве культуры XX века В истории искусства XX века коллаж занимает особое место. Он принадлежит к тем феноменам, которые, оставаясь на периферии, тем не менее, участвуют в формировании магистральных тенденций культуры. Среди присущих современному искусству игровых техник коллаж, безусловно, занимает преимущественное положение. Большинство исследователей на сегодняшний день склоняются к мнению, что коллаж сыграл во многом определяющую роль в формировании и развитии постмодернистского мышления. Он рождается без громогласных лозунгов и 97 развивается как обособленная, боковая тропинка внутри модернистского искусства, как странное ответвление – сбой в последовательности исторической логики. Искусствовед Т. Брокелман пишет по этому поводу: «В коллаже перед нами предстает постмодернизм, переплетающийся с модернизмом, постмодернизм как кризис модернизма, провозглашенный изнутри модернизма»1. Как известно, коллаж считается открытием кубистов. Первые коллажи Пикассо и Брака появляются в 1912 году. Как правило, в их практике коллаж не имеет самостоятельного значения и используется как дополнительное средство в живописных и графических работах. В том же качестве коллаж использовался и футуристами. Но уже в 1910 году появляются коллажи, не связанные с каким-то иными творческими задачами. Особое пристрастие к этой технике питали художники, причастные к дадаизму и различным версиям интернационального конструктивизма. В русском искусстве использование коллажа в живописных произведениях начинается с художников группы «Бубновый валет» (П. Кончаловский «Палитра и краски», 1912; А. Лентулов «Москва», 1913; «Автопортрет», 1915). В дальнейшем коллаж приобретает популярность в кубофутуристических работах, таких как: К. Малевич «Дама у афишного столба», 1914, «Частичное затмение», 1914, Л. Попова «Итальянский натюрморт»», 1914; а также в произведениях кубистов: Н. Удальцова «Синий кувшин», 1915, «Музыкальные инструменты», 1915, Л.Попова «Часы», 1914. Существовали и маргинальные версии коллажа, которые точнее будет назвать аппликациями. Такие работы делали Н. Кульбин «Женский портрет», 1913, аппликация из шелка, М. Ларионов «Портрет Гончаровой». В той же технике выполнены и некоторые городские пейзажи А. Куприна в начале 20-х гг.: «Храм с колокольней у моста», 1922, «Городской архитектурный мотив», 1922. Коллаж как таковой известен давно, но никогда он не считался высоким искусством, вплоть до XX века существуя в качестве прикладного технического трюка в рекламе, в открытках, журнальных иллюстрациях, плакатах или в качестве полудилетантской игры в домашних альбомах. Особенность такого происхождения определила многие важные аспекты эстетики коллажа уже в его профессиональной версии. Не случайно многие коллажи и кубистов, и футуристов, и дадаистов часто сохраняют связь с частным, личным, иногда глубоко внутренним опытом. Коллаж строится как косвенное высказывание, которое содержит намек, напоминание, и, в то же время, основан на прямом, вещественном свидетельстве о каком-либо событии, или впечатлении, или воспоминании. Своеобразным «бытовым коллажем» увлекался писатель А. Ремизов. Возможность создать в коллажном изображении некий мифо-сказочный и одновременно совершенно реальный, даже бытовой, мир составляет одну из самых привлекательных черт этой техники. Не случайно коллажем увлекался датский сказочник Бобринская Е. Русский авангард: границы искусства. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 25. 1 98 Г.-Х.Андерсен. Используя фрагменты репродукций, гравюр, фотографий, коллажи Андерсена стали источником вдохновения для дадаистских и сюрреалистических коллажей Макса Эрнста («Слон из Целебеса», 1921, «Царь Эдип», 1922). В связи с этим отметим существенное свойство коллажной техники: использование готовых образов, своего рода реди-мейд, вследствие чего творческий аспект коллажа связан прежде всего с перекомпановкой, сопоставлением и монтажем готовых «цитат», путем смешения и разделения которых создается новая – загадочная, мерцающая - реальность. Непосредственная связь с артефактом, рождающимся из самого течения жизни, делает коллажную технику особенно привлекательной в русском авангардном искусстве, всегда стремившемся к воплощению ускользающего потока реальности. Это угадывается в подчеркнутом внимании художников и поэтов к жесту и почерку, в концепциях подвижного заумного языка, в программном интересе к непрофессиональному творчеству. Наиболее последовательно дилетантизм в коллаже культивировался в кругу Е. Гуро и М. Матюшина; его использовал в своих ассамбляжах П. Мансуров. И, как ни странно, особое пристрастие к нему питал самый скандальный новатор – А. Крученых. Один из распространенных приемов, особенно русского коллажа: включение произведений искусства (литографий, фотографий, рисунков), собственных или чужих, в новую коллажную композицию. Этот мотив встречается практически у всех художников, занимавшихся коллажем, - у Галаджева, Степановой, Родченко, Телингатера, К. Зданевича и др. Однако наиболее радикально эту тему разработал Крученых в альбомах, создававшихся им на протяжении десятков лет. Альбомы Крученых – гигантский коллаж или альбом-коллаж: смесь искусства, документов, дружеских записок, фотографий, страниц из книг, своих и чужих рукописей. Большой популярностью в 20-х годах обладали коллажи С. Нагубникова, использовавшего их также в «альбомном» жанре. Нагубников один из первых применяет беспредметное искусство, в частности, супрематизм в качестве фона ко всей альбомной композиции. Вообще, здесь следует заметить об особом значении супрематической формы для развития коллажной техники. Супрематическая форма изначально наделена некоей двойственностью: с одной стороны, в ней присутствует высокий уровень философичности и абстрактности, всеобщности и концептуальности, а с другой – крайняя степень деиндивидуализации, позволяющая ей легко соскальзывать в сферу прикладного искусства и массовой культуры. Супрематизм оказался той формой искусства, сквозь которую уже были видны контуры «трансэстетики банального» (Ж. Бодрийяр), формой, изначально предрасположенной к включению в процесс «бесконечного распространения знаков, рециркуляции прошлых и современных форм»1. Кроме того, следует сказать и об особой связи коллажной техники с абстрактным искусством. Так называемый, абстрактный коллаж, конечно, 1 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. – М., 2000. С. 23. 99 имеет прямое родство с развитием кубистическо-футуристической линии. В основе его лежит структурирование из «чистых», беспредметных элементов – плоскость, цвет, линия – тех или иных композиций. Особенность абстрактного коллажа состоит в том, что он работает с однопорядковыми элементами; его композиции строятся не на столкновении разных реальностей, а на комбинировании однородных модулей. Дистанция между беспредметным коллажем и беспредметной живописью оказывается иногда почти нечитаемой. Многие художники, работавшие в абстрактном коллаже, часто переходили к трехмерным конструкциям, в которых воплощались их коллажные открытия (Арп, Ман Рей, Швиттерс, Йостенс). Нередко такой коллаж появлялся в качестве способа оформления книг (Хаусман, Кашшак, С. Делоне). Другими словами, абстрактный коллаж чаще всего имел прикладной характер или характер декора и был связан с формированием и развитием дизайнерских концепций. Довольно часто обращение к абстрактному коллажу было способом поиска беспредметной реальности, нашедшей воплощение в, так называемом, новом и абсолютном реализме. В русском искусстве первых десятилетий XX века схожие мотивировки обращения к беспредметному искусству встречаются в теоретических работах Ларионова, Малевича, Матюшина, Татлина, Филонова. Вообще, при всей взаимоотнесенности следует различать коллаж как технику искусства и коллаж как тип мышления. Исследователи уточняют, что коллаж в 1910-х гг. не «возникает»; о нем, скорее, «вспоминают» как о наиболее подходящем средстве для воплощения определенного состояния сознания, определенного модуса мышления. Коллажное пространство состоит из демонстративных стыков разных реальностей, из ничем незамаскированных швов между текстом и изображением, между изображениями разной природы или разного стиля, между фото и рисунком, тиражным и уникальным материалом, между материалом разных фактур и разной плотности. Многослойность, калейдоскоп разбегающихся контекстов, к которым отсылает каждый коллажный элемент, - все это формирует особую систему коллажного видения и коллажного созерцания, в которой могут существовать формы и образы, не имеющие никаких аналогий в реальности. Уничтожив строгие границы реальности и искусства, коллаж выявил ту волю к мистификации, волю к иллюзии, которые определяли и до сих пор определяют многие качества культуры XX века. В русском искусстве коллажное мышление появилось первоначально в живописи. Коллажная структура пространства присутствует в ряде кубофутуристических работ, таких как: Малевич «Корова и скрипка» 1913, «Авиатор», 1914, «Англичанин в Москве», 1914; Пуни «Мытье окон», 1915, «Парикмахерская», 1915. Коллажное мышление пересекается с таким понятием, как «язык искусства». Коллажный язык искусства не обязательно реализуется в коллажной технике. Перечислим свойства коллажа как языка искусства: немотивированное выделение отдельных предметов и их парадоксальные совмещения, фрагментированность предметов, игра масштабов, создающая впечатление разорванности, неоднородности 100 пространства, стилистический разнобой, текстовые вставки. Еще одно свойство коллажного зрения – гипертрофия детали; отдельные предметы, вырванные из своих контекстов – постоянный мотив алогичных картин Малевича и Пуни. Рядом с коллажем, часто взаимодействуя и пересекаясь с ним, развивался фотомонтаж. В силу общности технических особенностей и эстетических позиций фотомонтаж можно рассматривать как одну из разновидностей коллажа. Хотя, бесспорно, между ними существуют и определенные различия. Техника фотомонтажа возникла почти одновременно с самим изобретением фотографии, но в историю большого искусства фотомонтаж попадает позже, чем коллаж. Как подчеркивают знатоки, включение фотомонтажа в сферу профессионального искусства во многом было связано с усвоением принципов, разработанных в коллаже. В русском искусстве фотомонтаж возникает почти одновременно с европейскими экспериментами в этой области, а в некоторых версиях опережает их. Фотомонтаж Г. Клуциса «Динамический город» (1919) представляет, как принято считать, первый образец использования этой техники в станковом произведении искусства. В 20-е гг. фотомонтаж попадает в центр внимания художников и теоретиков искусства, постепенно вытесняя на периферию собственно коллажную технику. Исчезновение или деформация границ реальности и искусства, которые привнесли с собой коллаж и фотомонтаж, связаны напрямую с рождающимися в первых десятилетиях прошлого столетия психоаналитическими концепциями. Коллаж и фотомонтаж представляли собой идеальные техники для создания зрительно достоверной, узнаваемой – и в то же время абсолютно новой реальности. Это были техники, с помощью которых сновидческая реальность «бессознательного» вторгалась в повседневную жизнь. Не случайно и фотомонтаж, и коллаж часто привлекались для создания разнообразной продукции, призванной воздействовать, прежде всего, на «бессознательное» зрителя – в рекламе и политической пропаганде. Труды З. Фрейда, а впоследствии и К. Юнга, посвященные «работе сновидений», нередко становились своеобразными учебными пособиями для художников и литераторов. Пространство сна и механика его действия, описанные в работах Фрейда, обнаруживают определенные аналогии с принципами коллажного мышления. Основные структурные элементы сновидения у Фрейда соответствуют основным компонентам коллажной техники: «сновидения как бы накладывают друг на друга различные составные части», «работа сновидения производит прекрасную концентрацию или сгущение», «сгущением образов в сновидении объясняется появление некоторых элементов… Таковы составные и смешанные лица и странные смешанные образы, «нельзя найти ни одного элемента сновидения, от которого бы ассоциативные нити не расходились по трем или более направлениям», «сновидение выражает логическую связь сближением во 101 времени и пространстве»1. Интересно, что Макс Эрнст, - чьи коллажи, бесспорно, существуют в сфере видений и сна, - описывал историю своего открытия коллажной техники как внезапную галлюцинацию, возникшую из абсурдного и неожиданного смешения самых разнообразных изобразительных рядов, виденных им когда-то в каком-то иллюстрированном издании. Наиболее подходящий материал для воплощения сновидческой образности предоставляла фотография – в силу своего иллюзионизма и способности схватывать живые фрагменты реальности. Фотомонтаж в практике дадаистов и сюрреалистов часто становился инструментом проникновения в область бессознательного. Характерно, что аналогия между автоматическим письмом и фотомонтажом (или коллажем) была устойчивой темой в текстах сюрреалистов: Андре Бретон проводил прямую параллель между автоматическим письмом, или «фотографией мысли», открытым в психиатрии XIX века, и открытием фотографии, давшей возможность создания автоматических отпечатков действительности. Сновидческая механика создания изображений узнается во многих образах пропагандистской продукции советского времени. Уже один из первых коллажей Г. Клуциса «Электрификация всей страны» (1920) строится на сплетении из различных фрагментов знаковой реальности новой социальной жизни. Один из постоянных, можно даже сказать навязчивых мотивов в работах Клуциса – утрированная, порой доведенная до гротеска, диспропорциональность различных частей композиции. Увеличение отдельных человеческих фигур или даже их фрагментов (рука, голова), их переплетение, смешение с окружающим пространством создает совершенно фантасмагорические образы в духе сюрреализма. К примеру, на одном из фотомонтажей Клуциса – «На борьбу за топливо, за металл», 1932 – гигантские фигуры рабочих в прямом смысле слова прорастают из пространства фабрики. В другом фотомонтаже – «Выполним план великих работ!», 1930 – представлен еще более парадоксальный образ: выделенный жест гигантских голосующих рук, растущих из недр толпы; при этом сама толпа лишена однородности – в каких-то фрагментах она сливается в неразличимую массу, из которой видны отдельные фигуры, движения, жесты, иногда – отдельные человеческие лица, которые, вдруг, разрастаясь, обретают черты портретности. В целом, эта динамика уменьшения и увеличения, удаления и приближения изображений напоминает пульсацию огромного, бесформенного, живого организма. Безусловно, напрашиваются аналогии с многочисленными постструктуралистскими и постмодернистскими теоретическими направлениями, характерными в мысли середины и конца XX века, утверждающими сверхдетерминированный характер индивидуальной жизни, правда, детерминированной не каузальноно, но ризоматически – в пространстве разветвленных, непрямолинейных связей. Так и в фотомонтаже – возникающая ткань новой реальности свободна от линейности и 1 См.: Фрейд З. О сновидении // Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1989. 102 поступательности, часто создавая ощущение вращения на месте, в котором нет направленного движения, развития, нет глубины – она заменяется пульсирующей, мерцающей, текучей поверхностью. Аналогичное мышление, построенное на смешении, сновидческом слипании или сгущении образов, можно отметить и в работах других художников, использующих технику фотомонтажа: Л. Лисицкого («СССР. Русский павильон», плакат, 1929, «СССР на стройке», 1930), В. Елкина («Да здравствует Красная армия!», 1933). Коллаж и фотомонтаж напрямую связаны с таким неотъемлемым атрибутом современного города, как реклама. Само возникновение коллажа во многом обязано широкому распространению рекламы, изменившей облик городской среды, внедрившейся в повседневную жизнь и ставшей постоянным аккомпанементом ежедневных зрительных впечатлений. Реклама и прочая печатная продукция – журнальные иллюстрации, газетные страницы, этикетки, объявления, фрагменты оберточной бумаги, почтовые марки, открытки, конверты – становится любимым материалом для коллажа. И реклама, и коллаж опосредованы формированием совершенно особого типа жизненного пространства, складывающегося в городских мегаполисах уже со второй половине XIX века и существенно меняющего и психологию, и менталитет их жителей. Реклама и в более широком смысле – массовая культура работают на уровне бессознательного, на уровне слияния дневной реальности и сновидений, мечтаний, которые всегда присутствовали в коллаже. Возникновение самой коллажной техники, считают исследователи, во многом и было спровоцировано стремлением увидеть, выявить этот странный мир, уловить ритмику психики современного человека, погруженного в жизнь города. Немецкий философ, культуролог, социолог конца XIX – начала XX вв., представитель философии жизни, Георг Зиммель, в своем сочинении «Метрополии и психическая жизнь», исследовав свойства психической жизни в больших городах, отмечает такие, как эмоциональная поверхностность, возникающая из-за безостановочной смены впечатлений, постоянная подвижность, скользящий характер эмоций и одновременно усиление нервной восприимчивости; анонимный характер производства и потребления, общая имперсональность ритмов жизни. Все эти свойства находят отражение и в коллажной эстетике. Уже в 1910-е и особенно в 1920е гг. поиск связи с миром массовой культуры был одной из важнейших проблем авангардного искусства. Она находила разные формы реализации, начиная от работы в прикладных сферах, в текстильной промышленности, и кончая прямым обращением к рекламе. В западном искусстве авангард искал выходы в масскультуру при помощи, к примеру, таких творческих объединений, как известная группа «ring “neue werbegestalter”», созданная в 1928 г. Куртом Швиттерсом, в которую входили художники из разных европейских стран; задачей этого союза стало программное обращение к работе в коммерческой рекламе. 103 Искусствоведы отмечают, что поворот к рекламе во многом произошел благодаря влиянию русского конструктивизма. Романтизированный техницизм и в том и в другом случае был источником вдохновения для художников. Интересно заметить: в Европе к концу 1920-х гг. стилистика, разработанная в коллажах и фотомонтажах, широко использовалась в коммерческой рекламе и воспринималась как знак высокого искусства. Интересен и такой факт: образы коммерческой рекламы в капиталистических обществах поразительным образом совпадают с пропагандистскими образами социализма. Видимо, сама структура коллажных и фотомонтажных изображений создает единое поле изобразительных средств, апеллирующих не столько к рацио, сколько к эмоциональному схватыванию смысла, не столько к логическому прочтению, сколько к аффектированному соучастию. Характерным примером размытости границ между идеологической и коммерческой сферами использования одних и тех же образов и технических средств в различных контекстах может служить ряд произведений Л. Лисицкого: человеческая фигура с циркулем и линейкой – образ нового художника-инженера, расчерчивающего и выверяющего путь в нелинейном пространстве чистой геометрии и хаоса становится своеобразным модулем для множества работ художника. Причем важно, что этот образ используется им в самых разных контекстах: для создания программных произведенийманифестов – таких, как автопортрет Лисицкого «Конструктор» (1924); для оформлений изданий ВХУТЕМАСа; для коммерческой рекламы одной из западных фирм. Этот блуждающий образ-знак наглядно демонстрирует размытость и подвижность всех смысловых контекстов, столь характерные для коллажного мышления. И еще одно наблюдение: Эрнст Блох, немецкий философ, антрополог и социолог середины XX века, в своей работе «Утопическая функция литературы и искусства», в частности, по отношению к практике фотомонтажа использует понятие «эпистемологического монтажа», обнаруживающего в настоящем некие следы будущего. Монтаж этих «следов» позволяет сознанию сделать скачок в будущее. Массовая культура и реклама используют эти «скачки»; они строят свои высказывания как монтаж желаний. Коллаж и фотомонтаж, спровоцированные массовой культурой и рекламой, есть ничто иное, как мир желаний современного человека, увиденный сквозь призму реальных, знакомых и достоверных образов. Справедливости ради, следует отметить и обратный процесс: влияние и использование масскультуры в качестве источника для авангардного художественного творчества, и в особенности, в соответствующих коллажных и фотомонтажных работах. Столкновение и сопоставление образов массовой культуры и форм нового искусства (чаще всего знаками нового служат абстрактные геометрические формы) – один из наиболее распространенных мотивов в коллажах. Во многих композициях Родченко, Степановой, Лисицкого, Галаджева авангардная форма погружается в среду массовых визуальных клише. Подобные мотивы нередко встречаются в 104 коллажах К. Швиттерса. Абстрактные элементы, внедряющиеся в мир массовой продукции, организуют, структурируют, а точнее – создают вновь парадоксальный анархический порядок. Две силы – порядок и хаос – какимто образом удерживаются в состоянии неустойчивого, подвижного равновесия. Хаотическое смешение и строгий геометрический порядок, банальность и элитарность, узнаваемость и фантасмагоричность, абсурдность, фигуративное и беспредметное – вот реальность, которую создают коллажи и фотомонтажи, пожалуй, наиболее последовательно воплощающие дадаистский идеал, сформулированный Тристаном Тцара, соединение в искусстве «геометрической простоты» и «стихии водопада». Тема 13. Специфика постмодернизма в визуальных искусствах: ассамбляж и конструкция - 0,17 (6 часов) (аудиторные занятия – 4, самостоятельно – 2) План 1. Ассамбляж в контексте критики модернистского проекта культуры 2. Два типа живописных рельефов 3. Техника монтажа в кино и ассамбляжах: сходство и различие 4. Конструктивизм и конструкция: радикальная версия искусства 5. Два типа русского конструктивизма Подобно коллажу, ассамбляж принадлежит к боковой, во многом подрывной ветви модернистского искусства. В нем также угадываются интонации иного типа культуры, уже выходящего за пределы модернизма. Ассамбляж, или «живописная скульптура» (если первый термин принят в западной литературе, то – второй, наряду с понятием «рельеф» - в отечественной) получила наибольшее распространение в русском и европейском искусстве прошлого столетия во второй половине 1910-х гг. и в 50-60-х гг., совпав по времени с кризисными моментами в истории модернизма. Противоречие между «современностью», понятой как движение прогресса, как утверждение господства человеческой рациональности и «современностью» как разрушительной, агрессивной силой, провоцирующей выход на поверхность культуры деструктивных и критических тенденций, – это противоречие создавало внутреннее напряжение в культуре на протяжении всего XX века. Темные, отчуждающие стороны «духа современности» были интенсифицированы в начале столетия Первой 105 мировой, а в середине – «холодной войной», усиливая недоверие к проекту «современности», обнажая его сомнительные стороны. Характерно, что обе «вспышки» увлечения ассамбляжной техникой в искусстве совпадают с поисками выходов за границы модернистского проекта культуры и одновременно, в первом случае – с формированием и развитием дадаизма, во втором случае – с оживлением интереса к нему, с формированием неодадаизма. Если провести грани различия между модернистской практикой художественного языка живописной скульптуры и новыми, впоследствии определившимися как постмодернистские, тенденциями, то можно зафиксировать следующее: 1) вместо автономии искусства ассамбляж предлагает стирание границ искусства и реальности; 2) вместо обособления каждого из искусств – смешение различных видов художественного творчества, различных техник и языков; 3) вместо рационального структурирования – принцип ассоциативной и игровой комбинаторики; 4) вместо аналитических операций, выявляющих структурную четкость и простоту, в ассамбляжах возникает запутанная, иррациональная игра поверхностей, когда теряется грань между реальным и иллюзорным; 5) вместо стремления к «чистому искусству» в живописных скульптурах через элементы «не-искусства» (реальные материалы или предметы) создается разомкнутое, разорванное пространство эстетического, тяготеющее к вариативности и случайности. Историю живописной скульптуры, также как и историю коллажа, принято начинать с изобретений Пикассо. В 1912 г. он создал свою знаменитую «Гитару» - первый опыт выхода в трехмерное пространство. И хотя эта работа еще во многом следовала традиционным изобразительным принципам – бумага, картон и веревка вместо красок изображали гитару, - в ней уже принципиально произошел разрыв с прежними нормативами создания и восприятия искусства. В 1913 г. Пикассо развивает свою идею трехмерных изображений. Делая еще один вариант «Гитары», он размещает в виде живописной скульптуры на плоскости рисованные и реальные, объемные элементы – деревянные рейки и доски. Позднее дадаисты прежде всего с именем Пикассо связывали рождение новой техники искусства. Один из современников так отзывался об этом новшестве: «Благодаря его грандиозным начинаниям в головы пришла идея о введении посторонних материалов в полотно. Рядом с реальностью, которую художник пропускал через себя, он приклеивал реальность непосредственную (из газетной бумаги, волос, тряпок и т.п.). Нужно было не столько передать формы и цвета, сколько подчеркнуть контраст между исходным материалом и тем, что предлагал художник. Старое ремесло было исчерпано. Раскрывались совершенно новые горизонты»1. Если продолжить европейскую линию представителей данной тенденции в искусстве, то окажется, что более всего она связана с дадаизмом, 1 Партенс А. Дада-искусство // Альманах Дада. - М., 2000. С. 65. 106 с такими художниками, как Х. Арп, К. Шад, П. Йостенс, К. Швиттерс, М.Эрнст, Ж. Кротти, Ман Рей, И. Бааргельд, М. Янко. Сюда же примыкают некоторые эксперементы итальянских футуристов: Северини, Балла, Деперо, Прамполини, Маринетти. В 1913 г. происходит весьма принципиальное для истории ассамбляжа событие: М. Дюшан создает свой первый реди-мейд – велосипедное колесо, прикрепленное к табурету (сюда же можно отнести его не менее эффектную «Сушилку для бутылок»). Впервые в истории искусства обычный бытовой предмет подвергается «волшебному» превращению – обретает статус искусства. Впервые сам творческий процесс трансформируется столь радикальным образом, что полностью переносится в область умозрения и воображения: художник «узнает» свой объект в реальности и перемещает его в мир искусства; само же искусство приобретает характер чисто интеллектуальной игры, что, опять же, характерно будет для постмодернистских проектов культуры. В русском искусстве того времени существовало два типа живописных рельефов – «беспредметные», построенные из фрагментов и осколков реального мира вещей, наиболее убедительные версии которых предложил В. Татлин, и «предметные», использующие готовые, узнаваемые бытовые предметы, самые радикальные из которых создал И. Пуни. В противоположность европейскому искусству в отечественной среде ассамбляж получил наибольшую популярность среди художников, связанных с кубофутуризмом, что, в свою очередь, существенно отличает русскую версию использования готовых предметов. Последних интересовали не скрытые смыслы и тайны предметного мира, не построенные с их помощью ребусы для разгадывания, а простое – и как раз в своей простоте ошеломляющее – бытие предмета, «непритворное пребывание вещи», по выражению М. Хайдеггера. Еще в 1914 г. отдельные элементы ассамбляжной техники появляются в кубофутуристических работах у Малевича («Ратник первого разряда», 1914) и Пуни («Аккордеон», 1914). Позднее, в 1915 г. к живописной скульптуре обращаются И. Пуни, Л. Попова, И. Клюн (одна из самых известных его работ – «Пробегающий пейзаж», 1915), О. Розанова. К концу 1920-х ассамбляж становится широко распространенным явлением. В. Стржеминский, В. Ермилов, Л. Бруни, Ю. Анненков, В. Лебедев, С. ДымшицТолстая, П. Мансуров, а также некоторые ученики Малевича – И. Чашник, И. Меерзон, Ю. Васнецов – все эти художники в той или иной мере интересовались новым видом искусства. Кроме того, П. Митуричем была создана особая версия пространственной живописи, в чем-то близкая живописной скульптуре. И, наконец, свою индивидуальную интерпретацию работы с реальными материалами предложил В. Татлин. Если подвести некоторый итог, то можно сказать, что живописная скульптура или ассамбляж по сути своей методики является развитием в трехмерном пространстве коллажных приемов. К. Швиттерс, один из создателей этой техники в европейском искусстве, в качестве основной идеи при работе над своими мерц-скульптурами указывал на стремление стереть 107 границы между различными искусствами, чтобы воплотить универсальное, целостное произведение: «Моей целью было создание совокупного художественного мерц-продукта, объединяющего в себе все виды искусства в единое целое. Сначала я «сочетал» между собой отдельные виды искусства… Я сколачивал гвоздями картины так, что помимо живописного впечатления возникало рельефное впечатление пластики»1. Х. Арп также один из первых обратился к ассамбляжу, связывая свои начинания с поисками абсолютной конкретности языка искусства, считая эти работы «Реальностью, чистой и независимой, без значения или интеллектуальной цели». Два устремления – к новой целостности и к новой конкретности – определяют основную проблематику ассамбляжа в XX веке. Без сомнения, экстремальный реализм живописной скульптуры выводит изобразительный язык в новое пространство, весьма отличное от «реальности» традиционной живописной иллюзии, открывая перед художниками возможность самим создавать объективную и физически достоверную реальность. И еще раз подчеркнем тот факт, что именно в коллажной и ассамбляжной технике искусства существенные элементы модернистской практики подвергаются сомнению и, подчас, радикальной критике и трансформации. В основе живописных скульптур лежит прием, ставший симптоматичным для всего XX века, в особенности для кинематографа – монтаж. Монтаж как техника конструирования, волевой деформации, обнажающая механику порождения смысла, – на первый взгляд должна была противоречить принципам свободных аналогий, игровой комбинаторики и алогизма, на которых строилось большинство ассамбляжей. Специалисты утверждают, что такое представление о природе монтажа опирается на более позднюю версию кинематографа, базирующуюся на принципах аналитического, интеллектуального монтажа. Кино и живописные скульптуры в первой трети XX века во многом пересекались в своих эстетических практиках и, прежде всего, в процедуре взаимодействия подчеркнуто разноприродных и разнородных частей: узнаваемых бытовых предметов и «беспредметных» плоскостей, реальных материалов и живописи, искусства и реальности. На основе сравнения двух типов монтажа в кинематографе и их связь со способами порождения эстетических эффектов в ассамбляжах проясним еще раз ведущие тенденции искусства XX века. С. Эйзенштейн, формулируя основы интеллектуального кино, писал, что монтаж работает, «сопоставляя по возможности однозначные, нейтральные в смысловом отношении, изобразительные кадрики в осмысленные контексты и ряды», при этом «простое сопоставление двух-трех деталей материального ряда дает совершенно законченное представление другого порядка – психологического»2 (курсив мой – И.К.). Эйзенштейн видел в основе интеллектуального монтажа конфликт и столкновение частей; Швиттерс К. Мерц-события // Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне: Тексты, иллюстрации, документы. - М., 2002. С. 347. 2 Эйзенштейн С. Монтаж. - М., 2000. С. 493 -494. 1 108 монтажное соединение кадров он называл «точкой, где от столкновения двух данностей возникает мысль». В отличие от аналитических принципов монтажа, направленных на рождение мысли и конструирование определенного смыслового поля между двумя элементами, приемы монтажа в ассамбляжах держатся на разрушении жестких логических связей. В основе последних лежит создание спонтанных, ассоциативных рядов, свободных смысловых комбинаций. Во внутренней структуре живописных ассамбляжей нет силовых полей, которые бы задавали однонаправленное движение и строгий вектор рождения смысла. В этом отношении в ассамбляжах действует иной монтажный принцип, аналогию которого в кино может составить знаменитый монтажный эффект Л. Кулешова – игровой, незавершенный, вариативный. Кулешов, демонстрируя возможности монтажного кино, сопоставлял различные кадры (тарелка супа, мертвое тело и прочее) и лицо актера Мозжухина, получая каждый раз совершенно новую ситуацию, новый смысл – в зависимости от того, с каким предметным рядом монтировалось одно и то же лицо. Кулешовский эффект открывал в кино способы порождения смыслов не в плане «четко заданных контекстов», но смыслы «плавающие», размытые, неопределенные и изменчивые. Как раз такие контексты и возникают в ассамбляжах. К примеру, монтаж различных деталей в живописных структурах демонстрировал двусмысленную гибкость механизмов порождения смысловых контекстов, что наглядно демонстрирует «Рельеф с тарелкой» И. Пуни. Этот ассамбляж построен на игре с контекстом супрематизма и реализма, представляя ироничную реплику и в адрес одного, и в адрес второго. Прикрепленная к однотонной поверхности настоящая тарелка воспринималась и как обычная, бытовая вещь – доведенная до логического предела концепция реалистического языка, и как геометрическая фигура – круг – парящая наподобие супрематических абсолютных форм в пространстве картины. Таким образом, в живописных скульптурах возникает новый механизм порождения смысла, использующий такие умозрительные процедуры как воспоминание и воображение, отсылающие к тому, что впоследствии в постмодернистской концепции определят как «поэтическое мышление». В конце 1910 – начале 1920 гг. формировалась еще одна тенденция, вызревавшая внутри модернизма наподобие «пятой колонны» и ставшая затем наиболее радикальной версией в искусстве XX века – конструктивизм. Конструктивизм – художественное направление, вырабатывающий особый тип творчества, сближающий работу художника с деятельностью инженера и научной практикой; конструкция – новый вид художественного произведения, который развивает и радикализирует некоторые интенции, проявившееся в ассамбляжах, коллажах и фотомонтажах. Прежде всего, имеется в виду решительный шаг в отношении разрушения границ искусства – свойства, столь характерного для постмодернистской версии искусства. Именно в конструктивизме наиболее остро был поставлен вопрос среди всех тех вопросов, которые задала «современность» традиционной 109 культуре: может ли искусство сохранить свою идентичность в новом агрессивном пространстве технической и научной рациональности? Однако, при всей схожести общей установки между ассамбляжем и конструкцией налицо существенные отличия, помещающие эти техники искусства в разные «системы отсчета»: 1) в отличие от живописных скульптур конструкции полностью свободны от координат картинной поверхности – динамики фактур, игры на разных культурных территориях, смещений границ реального и иллюзорного. В этом плане для конструкции важны не фактуры, не поверхности, но структурные и функциональные качества материалов, потому что ее задачей является исследование, как они могут работать, связываться друг с другом, создавая силовые линии, напряжение реальности, по выражению Х.Балла, «энергетический контур мира». 2) В конструкциях нет ни следов живописи (раскраска, к которой прибегают художники в некоторых конструкциях выполняет чисто техническую роль), ни намека на изобразительность, на какой бы то ни было литературный, сюжетный или психологический контекст. Конструкция рассматривается как своеобразный исследовательский инструмент, с помощью которого изучается логика созидания и механика производства в мире природы или в мире техники. 3) В конструкции границы между искусством и реальностью практически стерты и незаметны; искусство здесь окончательно утрачивает свою автономию, растворяясь в таких глобальных контекстах, как техника, машинная реальность или биологическая жизнедеятельность. 4) Если в ассамбляжах происходило расширение традиционного пространства мира искусства путем трансформации его материальной основы, то в конструкциях делается еще более радикальный шаг в этом направлении: новая материя, с которой имеет дело художник, раздроблена, деформирована, вырвана из своего жизненного контекста. В конструкциях она уже не собирается на поверхности, напоминающей о картине, но группируется в разных сочетаниях в реальном пространстве. Любой фрагмент реальности и материального мира может теперь стать материалом искусства, в результате чего стирается различие между благородными художественными и низкими материалами: в новой концепции окончательно расшатывается и деформируется традиционная материальная основа искусства. 5) Главное же характерное свойство конструкции состоит в особом отношении к науке, причем это отношение весьма неоднозначно. Конструктивизм интересует не собственно классическая версия научного мышления, но его новое прочтение, скорректированное современными открытиями, прежде всего, в квантовой механике. Вероятно, само соприкосновение научного мышления и искусства оказалось возможным только в момент размывания классических контуров науки. Именно этот процесс и открыл возможность существования «искусства как науки». Наука и научный метод мышления, попадая в пространство мира искусства, обнаруживали свои скрытые прежде стороны. Искусство, беря на вооружение 110 науку, вольно или невольно подрывало принципы научной рациональности и, тем самым, непроизвольно, втягивалось в общую тенденцию опровержения и подрыва классической версии науки. И если в начале века между конструктивизмом и неклассической наукой просматриваются определенное взаимодействие, то такое же взаимодействие можно проследить и между конструктивизмом второй половины XX столетия и, изменившей свой статус и стратегии, прежде всего в связи с синергетической парадигмой, постнеклассической наукой. Конструктивистские тенденции в европейском искусстве на первый взгляд решительно противостояли той «форме анархии», которую культивировали кубофутуристические или дадаистские союзы. Однако, считает искусствовед Е. Бобринская, дистанция между ними была не столь уж непреодолимой. Новейшие исследования в истории искусства показали, что существуют некоторые моменты, объединяющие дадаистскую анархию и конструктивистский порядок: отрицание искусства, интерес к геометрической абстракции, увлечение машинной эстетикой, в результате чего дадаизм и конструктивизм можно считать двумя сторонами одной медали, дополняющими друг друга в едином процессе европейской культуры послевоенного времени. Это, в свою очередь, подтверждается многочисленными фактами совместной творческой деятельности среди художников и литераторов дадаистского и конструктивистского толка. К примеру, в 1922 г. в Дюссельдорфе на Конгрессе прогрессивных художников Ван Дусбург, Рихтер и Лисицкий создали Международную секцию конструктивистов (первый и второй – участники дадаистского движения). В том же 1922 г. в Веймаре состоялся совместный конгресс европейских дадаистов и конструктивистов. В русском искусстве существовали две версии конструктивистского мышления – «органическая» и «техническая», причем, первая была наиболее оригинальным, не поддающимся интернациональному тиражированию направлением, тогда как инженерно-технический конструктивизм получил распространение в различных европейских странах, быстро превратившись в популярный интернациональный стиль. В персональном отношении органическая версия конструктивизма появилась в материальных подборах, контррельефах и угловых рельефах Татлина. Помимо Татлина в области работы с реальными материалами органическую эстетику развивали М. Матюшин, П. Мансуров, П. Митурич, отчасти Л. Бруни. Органические конструкции развивали на свой лад широко распространенную в русском искусстве идею о новом произведении искусства, равноценном с произведениями природы или техники. Татлин создает в своих работах вариант органической конструкции, совмещающей естественную, органическую логику и логику искусственную, техническую, ту логику, согласно которой человек созидает из материалов – из материи природы – новый предметный мир. В отличие от игровых, ироничных живописных скульптур Пуни, в отличие от эстетских конструкций Стенбергов или инженерно-аналитических конструкций Иогансона, рельефы 111 Татлина лишены любых эмоциональных, психологических вторжений в жизнь материала со стороны художника. При этом Татлин далек от конструирования функциональных объектов или же оптических композиций из реальных материалов, в которых бы господствовала логика живописи: таковы, например, рельефы Арпа или «супрематические» рельефы Пуни. Татлин переносится в большей степени в сферу действия, а не созерцания – он испытывает, исследует материалы, материальную основу жизни, но не изображает ее, не повествует о ней. М. Матюшин, пожалуй, ближе всех подходит к границам исчезновения, растворения искусства в биологических процессах. Уже в 1913 году Матюшин создает серию работ из корней деревьев, а в 1924 на выставке Отдела Органической культуры в ГИНХУКе он демонстрировал объекты из корней в связи с научно-экспериментальными работами своего отдела, следующих новой логике «искусства как науки». Дело в том, что Матюшин работал в контексте очень модной на тот момент мифологемы «восстановления глаза», главной целью которой было освобождение зрения от стереотипов и иллюзий восприятия, обманчивых оптических эффектов. Одной из таких научных конструкций Матюшина является «Двухфасная вещь» (1923). Конструкция представляла собой вращающуюся коробку с размещенным внутри желтым шаром и длинными гвоздями, укрепленными с противоположной стороны на деревянном планшете. Вращающаяся модель «Двухфасная вещь» исследовала принцип появления дополнительной формы и трансформации «зрительных представлений», экспериментируя своего рода рабочую модель аппарата по созданию, открытию для человеческого глаза и сознания новых «зрительных ощущений». Тем самым центр тяжести в творческом процессе конструктивиста смещается с создания произведения искусства в сторону обретения нового психологического опыта, исследования и развития внутреннего, психологического и физиологического аппарата самого человека. Создавая свои трехмерные конструкции, Матюшин целиком ориентируется на организм человека, на его зрительный аппарат и зрительное восприятие; искусство же в таком случае становится инструментом, рычагом воздействия на организм человека. В работах П. Мансурова в 1910 – 1920-х гг. делается еще одна попытка объединить мир органический и технический. По сравнению с Татлиным Мансуров работает более рационально: он последовательно ищет точки взаимодействия, пересечения реальности человека (мир техники, эстетические явления) и природы. Он раскрывает в них общие закономерности, ритмы, процессы. Выходы к своим живописным формулам Мансуров ищет через сопоставление структурных принципов и методов организации, действующих в пространстве технического и органического мира. Таблицы Мансурова, созданные в начале 20-х гг., можно считать своеобразной умозрительно-научной версией конструкции. Они строились как интеллектуальный монтаж с использованием репродукций, фотографий, собственных чертежей и рисунков, коллажных элементов органических форм (гербарии растений). Через поиск аналогий, общих ритмов, общей логики в 112 таблицах анализировалась «культура конструкций» в сооружениях животных и насекомых, «дикарей», древних людей, современные типы сооружений людей различных стран, сооружения ос, пчел, птиц и т.д. Еще один пример произведения, базирующегося на сопоставлении - его «Рельеф с бабочкой» (1922), построенный на аналитическом сравнении различных состояний материалов и различных методов воздействия на них: скомканный лист бумаги, бабочка и деревянная доска – из этих трех состояний материалов, обозначающих соответственно волевой жест творца, жизнь и вещь - была сооружена органическая конструкция Мансурова. В технической версии конструктивизма разрабатывался иной тип художественного творчества, базирующийся на закономерностях мира техники и науки, в основе которого лежала не структура органического мира, а процессы труда и производства. Первые программные выступления конструктивистов относятся к самому началу 1920-х гг. Однако, общие контуры этого движения можно отметить уже с конца 1910-х в творчестве ряда художников: Родченко, Поповой, Клуциса, братьев Стенбергов и др. Конструкция (здесь уже с полным правом можно применить этот термин) представляет собой попытку из разобранного до первоэлементов мира традиционного искусства создать его новый облик, новый образ художественного произведения и разработать новый тип художественного мышления. Конструкции, безусловно, соотносятся с миром техники и машин. Они иногда просто эстетизируют готовую машинную форму, но чаще пытаются перенять внутренний принцип работы машины: ее функциональность, ее лаконизм, волевое подчинение своим задачам. Но если у дадаистов машинный мир предстает в отчуждающем, ироничном свете, то в конструктивизме всегда сохраняются серьезность и романтизм в прочтении машинной эстетики. Многие особенности конструкций связаны с включением искусства в глобальный и не ограниченный пространством и временем контекст энергетизма. В концепции энергетизма, популярной с конца XX века, именно энергия рассматривалась как первооснова мира, а материя являлась одной из форм существования энергии. Энергия в конструкциях становится тем тотальным началом, с которым соотносится новое произведение. Некоторые конструктивисты в буквальном смысле слова представляли в своих работах игру силовых линий. Так, работа К. Иогансона «Самонапряжение конструкции» (1921), показанная на выставке ОБМОХУ, была построена на силах натяжения. Конструкция из нескольких металлических прутьев удерживала свою конфигурацию в пространстве с помощью специальных тросов, натянутых между металлическими «линиями». В основе большинства конструкций лежит линейное начало. В отличие от привычного для скульптуры и ассамбляжа мышления поверхностями и объемами, линия дает возможность проявить векторы действия сил, передать скрытые от глаз направления движения энергии. «Конструкция» К. Медунецкого (1924) использует этот лаконичный, формульный язык линий. Она смонтирована из четырех металлических 113 прутьев, встроенных в постамент. Две прямых и две изогнутых под прямым углом линии, пересекающиеся в свободном пространстве и пронзающие постамент, создают легкую, центробежную и парадоксальным образом сбалансированную конструкцию. В этой работе, как и во многих других конструкциях, есть экзальтированная напряженность, эмоциональный накал, связанный с преодолением естественных свойств материала, с его подчинением воле художника. Рвущиеся в пространство линии, гнущиеся, закручивающиеся в спирали металлические пластины, натянутые тросы или монолитные тяжелые массы материалы – все это, элементы языка конструктивизма, наделенные совершенно особой эмоциональностью. «Конструкция – организация первоэлементов», - утверждает А. Родченко, но при этом необходимо иметь в виду общую тенденцию, присущую конструктивизму – невозможность целостности и законченности построения. Особенно это устремление просматривается в конструкциях, собранных из одинаковых модулей, использующих принцип бесконечной вариативности однообразных элементов. Таковы работы А. Родченко «Кругв-круге», «Шестиугольник-в-шестиугольнике», «Пространственная конструкция № 16», «Пространственная конструкция № 21» (1920 -1921). Конструкция рассматривалась художниками как эффективная и одновременно эффектная организация элементов материи и, следовательно, как новый тип проектного творчества. Одно из наиболее своеобразных воплощений проектности конструкций было реализовано в творчестве Лисицкого. Беспредметные рельефы Лисицкого в его знаменитой «Комнате проунов» (1923) демонстрируют особый подход к конструктивистской эстетике. «Комната проунов» представляет подвижную и одновременно метафизически недвижимую, абсолютную форму конструкции. Проуны соединяют в себе объемную пластическую форму, разворачивающуюся в реальном пространстве, и жесткую, плоскостную геометрию. Лисицкий выстраивает в своей «Комнате» определенную траекторию движения, чередования объемных и плоскостных форм. Их ритм создает прерывистое и в то же время непрерывное, пульсирующее движение. В результате того, что в основе проунов заложено динамическое восприятие, конструкция Лисицкого открывается с разных ракурсов, порождая плюралистичность точек зрения. Таким образом, его произведение представляет единство живой динамики движущегося в пространстве человека и умозрительной динамики, воплощающейся в жестких геометрических формах. В «Комнате проунов» проступают контуры нового вида деятельности художника, особенно востребованного в постмодернистской концепции искусства – дизайна. Точнее, в ней предстает некая философия дизайна – стремление к прояснению и обоснованию эффектного, эстетически оформленного, и в то же время рационального и делового растворения искусства, стирания его неповторимых контуров. Этот опыт, выходящий за пределы традиционной территории искусства, развитие которого мы продемонстрировали на примерах коллажа, фотомонтажа, ассабляжной техники и конструкции, оказался наиболее продуктивным для развития искусства XX столетия. 114 Тема 14. Постмодернизм как радикальная альтернатива модернизму в архитектуре - 0,17 (6 часов) (аудиторные занятия – 2, самостоятельно – 4) План 1. XX век в контексте двух «архитектурных революций» 2. Новая рациональная архитектура: основные принципы; ведущие архитекторы и строительные организации 3. Национальная романтика и неоклассика как стилевые течения в модернистской архитектуре 4. Архитектура как опыт слияния искусства и техники Пожалуй, можно сказать, что архитектура как искусство в прошлом столетии пережило две революции. И обе они были радикальны по отношению к своему наследию. Верным будет и то, что именно в сфере архитектуры постмодерн проявил себя наиболее критически к модерну. В этом плане середина XX века – одна из самых критических точек развития современной архитектуры – точка, разделяющая две, расходящиеся в противоположные стороны, парадигмы; это - время излома, время «Великого Отказа», напряженных поисков и споров, породивших, пожалуй, самую «авангардную» в истории дискуссию об архитектуре, когда архитекторам стало казаться, что лучшая позиция, которую может занять последний – «отказаться от строительства вообще» (французский архитектор, П. Шнейдер). Возможно, основой для такого крайнего вывода среди других многочисленных факторов послужило 15 июня 1972 года: как утверждают критики – день смерти модернизма в лице идей «новой архитектуры», которую, в первую очередь, связывают с наиболее модернистскими тенденциями – с, так называемой, «рационалистской» архитектурой первой половины прошлого столетия. В этот день в Сент-Луисе (Миссури, США) 115 были взорваны корпуса квартала Проутт-Айгоу. В 1952-1955 гг. квартал соорудили как эталон преобразования трущобных зон, основываясь на центральной для модернистской архитектуры утопической идее социального строительства (среда формирует человека). Надо сказать, что проект получил награду Американского института архитекторов. Переселяемым сюда жителям предоставлялись квартиры в элегантных 14-этажных корбюзианских «жилых единицах», объединенных «улицами в воздухе» с лифтовыми узлами, около которых располагались и места общения. Стерильная простота архитектуры, ее ассоциации с больничными зданиями, ее жесткие планировочные схемы должны были прививать обитателям сдержанные формы добродетельного поведения. Однако эту монументальную проповедь, основанную на идеалах монастырской жизни, жильцы, выросшие в условиях негритянского гетто, не смогли принять как свою среду. Отчужденность от окружения вылилась в агрессивную враждебность. За актами вандализма последовал разгул преступности. Муниципальные власти, окончательно потеряв контроль над кварталом, уже полуопустевшим, приняли решение о его сносе. Событие было воспринято как доказательство провала утопических претензий – лечить социальные болезни средствами «новой архитектуры». Как пишет А. В. Иконников в своем уникальном труде, впервые в отечественной литературе выстраивающем общую картину мирового архитектурного процесса в XX веке, осознать всю меру радикальности, связанной с поиском «нового пути», позволяет характерная для того времени статья, с не менее характерным названием, «Конец архитектуры», написанная американским дизайнером и архитектором Д. Нельсоном. «Дорога идет к побережью. Она проходит через деревню, взбирается на холм, опускается к его подножию и обрывается у скал над морем. Чтобы продолжить путь, необходима лодка»1. По Нельсону, развитие архитектуры в середине столетия достигло такого рубежа, преодолеть который можно только с помощью типов деятельности, не входящих в сложившиеся представления об архитектуре. Не будем забывать: дискуссия о том, что станет «лодкой», то есть заменит архитектуру в принятом смысле слова, развивалась в 60-е гг. под влиянием леворадикальной теории культуры «постиндустриального общества». Их основой были интерпретации Гегеля и Маркса с позиции философии жизни и немецкого экзистенциализма (Герберт Маркузе, Теодор Адорно, Жан-Поль Сартр). Развитое индустриальное общество в любых его вариантах обличалось как тоталитарное по существу; США как разновидность тоталитаризма, базирующаяся на технической рациональности. Маркузе утверждал, что современное общество лишено объемности, плоско, линейно, «одномерно». Пассивной формой его отрицания должен стать «Великий Отказ» - идея тотального отрицания, когда не предполагаются поиски точек опоры для создания нового и когда архитектуре противопоставляется нечто радикально иное - «не-архитектура». Иконников А.В. Архитектура 20 века. Утопии и реальность. Издание в двух томах. Том 2 / Под ред. А.Д.Кудрявцевой. - М.: Прогресс-традиция, 2002. С. 42. 1 116 Однако, что же отрицал и чему противопоставлял себя этот странный «бунт», обратившейся бунтом против самой архитектуры, «архитектуры без архитекторов», по выражению П. Шнейдера? Другими словами, в чем заключается смысл первой – модернистской - «архитектурной революции», вызвавшей такую резкую критику со стороны последующих ее приемников? Если обратиться к истории начала века, точнее – первой его трети, то можно констатировать наличие трех наиболее значимых стилевых течения в архитектурной теории и практики: неоклассика, национальная романтика и новая рациональная архитектура. Две основные характеристики присущи всем трем: 1) преимущественное положение социальной проблематики. Наступило такое время, когда социальная природа и социальные функции архитектуры образовали собой самое важное в развитии творческой деятельности и ее теоретическом самосознании. Конечно, социальная проблематика является постоянно действующим фактором во всей истории архитектуры. Но в острые, переломные моменты его роль возрастает в исключительной степени, потому что здесь концентрируются коренные вопросы жизненного содержания архитектуры и градостроительства. В период после Первой мировой войны, в условиях нарастания революционного движения, в ситуации раскола мира на два непримиримых лагеря на первый план выходит жилищная архитектура. К ней программно и целеустремленно обращаются крупнейшие зодчие разных стилевых течений. В это время считается, что в решении проблемы жилища (в противовес парадным постройкам) заключается социальный прогресс архитектуры, ее деятельность на благо общества. Творческая разработка современных типов жилого дома, а также создание новых по своей концепции жилых комплексов – не только важнейшие направления градостроительства того времени, но и общая установка, свойственная modernite, представляющему искусство, прежде всего как способ обновления и переустройства жизни, а уж потом как произведение в традиционном смысле слова. 2) В те же годы с нарастающей силой на развитие мировой архитектурно-строительной деятельности воздействует научно-технический прогресс. В этом процессе необходимо различать два момента: объективные свойства, присущие самому прогрессу и те свойства, которые представляют собой его интерпретацию в архитектурном творчестве, где они пересекаются с социальными и эстетическими проблемами. К первым можно отнести внедрение в архитектуру железобетона и стекла, опыты индустриализации строительства, разработку новых каркасных конструкций, позволяющих заменить несущие стены навесными экранами, применить сплошное остекление, достигать свободной планировки зданий. Из этих свойств, а также из пластических возможностей монолитного железобетона, проистекает новый тип тектоники, отвергающий ордерный канон, и новый принцип формообразования, соединяющий конструкцию и композицию здания, ликвидирующий разрыв между инженерной и декоративной сторонами архитектуры. Это то, что относится к другой стороне 117 градостроительного процесса – к архитектурной интерпретации научнотехнических данных. Научно-технический прогресс так или иначе затронул все течения архитектуры первой трети XX века, но программным образом исходит из его объективных возможностей, давая им свое развитие и истолкование, новая рациональная архитектура, на которой мы сосредоточим преимущественное внимание. Как считают исследователи, именно в рамках этого направления провозглашается «переворот в истории архитектуры, совершаемый прежде всего на путях смелого инженерного творчества»1. Данное направление, первоначально именуемое как «новая архитектура», опробует, и, в дальнейшем – утвердит, в своих произведениях три основных собственных принципа. Первый принцип – конструктивный – нацелен на разработку новых железобетонных и металлических конструкций, которые, в отличие от иносказательно-изобразительной и декоративной трактовки, к примеру, «стиля модерн», являются выразительными сами по себе, находя в самой конструктивности идейное выражение (сетчатые металлические конструкции инженера В.Г.Шухова в России, Зал Столетия с открытыми ребрами железобетонного свода, построенный немецким архитектором М. Бергом в 1913г. во Вроцлаве в Польше и т.д.). Второй принцип – функциональный – предполагает целесообразную обусловленность архитектурных форм, на этот раз уже не индивидуальными потребностями человека, как, опять же, в «стиле модерн», а безличными процессами, протекающими в здании, или надобностями человека, понятого как среднестатистическая единица. Например, здание завода Фагус в Альфельде в Германии (1916 г.), автор которого, В. Гропиус, возводит сплошную стеклянную стену, обеспечивающую освещенность интерьеров, свободно сочетая металлический каркас с традиционной кирпичной кладкой. Третий – эстетический - принцип заключается в выработке архитектурных форм – лапидарных и геометричных, отвечающих техническим свойствам новых материалов и дающих образное истолкование самим техническим формам. Признанными лидерами этого движения выступают – самый прославленный из них – французский архитектор, родом швейцарец, Ле Корбюзье, немецкие архитекторы В. Гропиус и Л. Мис ван дер Роэ, швейцарец Х. Мейер, итальянец П. Л. Нерви, испанец Э. Торрохи, создавший новые железобетонные конструкции, О. Перре, разработавший новую форму архитектурного ордера, органичную для железобетона, Ф. Л. Райт, развивший концепцию «открытого плана» здания, неразрывно связанного с окружающей средой. Благодаря деятельности лидеров (в особенности, первых трех из вышеперечисленных) нового рационального движения в мировую архитектурную панораму включаются постройки, создающие новую архитектурную эстетику, в основе которой – произведения, наделенные необычайной геометрической выразительностью железобетонных объемов, крупных поверхностей стекла и ленточных окон, 1 Малая история искусств. Искусство 20 века. – М.: Изд-во «Искусство», 1991. – С. 141. 118 непривычной неордерной тектоникой домов-башен, домов-пластин, вольной пространственной композицией построек, не обладающих четко выраженным главным фасадом и многое другое. Наибольшей чистоты и гармоничности стиля, изящества композиции эта архитектура достигает в творчестве Ле Корбюзье, переживавшего в 20– 30-е гг. эволюцию от эстетизации техники, своего рода «культа машины», к поискам художественной выразительности архитектуры, гуманистического начала, побудившего зодчего в 40-е гг. разработать, так называемый модулор – систему архитектурных пропорций, выведенных из пропорций человеческой фигуры. Известны его знаменитые пять пунктов «новой архитектуры»: дом поднимается над землей на столбах; геометрический объем дома завершается плоской кровлей; применение каркаса разрешает свободно планировать интерьер; опоры каркаса отступают вглубь от плоскости фасада, что позволяет компоновать его свободно, независимо от опор; ленточные окна, отвечающие конструкции дома, играют функциональную и эстетическую роль. Как правило, выдающиеся архитекторы были основателями различных союзов и организаций, имеющих большой профессиональный авторитет и оказывающих огромное влияние, подчас - на всю мировую архитектуру. Эстетическая выразительность геометрических форм составляла главную тему творчества, к примеру, такой группы голландских архитекторов и художников как «Де Стейл». В этом же направлении работает Л. Мис ван дер Роэ, эстетически развивая конструктивные и функциональные идеи рациональной архитектуры: четкий графический рисунок каркаса и стеклянные поверхности высотных домов, гибкую планировку малоэтажных зданий, отвечающую функциональному предназначению свободно соединенных друг с другом помещений. В отношении интерьера Мис придерживается того же представления, что и Ле Корбюзье: как подвижной, гибкой среды, формирующейся в соответствии с функциональными потребностями, а здания в целом – как архитектурного организма, существующего во взаимосвязи с окружающим пространством. В творчестве В. Гропиуса и возглавленной им, ставшей впоследствии знаменитой и влиятельной организации «Баухауз» (Германия), вырабатывается опыт своего рода универсальной художественно-технической деятельности, претендующей преобразить жизнь в духе всеобщей утилитарно-рациональной эстетики, обнимающей все виды пластических искусств. Программный тезис всех этих организаций, воплощавших подъем инженерного творчества, составлял интернационализм, действующий в виде независимого от политических пристрастий союза художников и архитекторов. Сюда же можно отнести и возникшую в 1928 г. на основе Международного конгресса современной архитектуры организацию CIAM, представляющую собой всеобщее интернациональное движение, основанное на принципах новой рациональной архитектуры, оперирующее едиными градостроительными и архитектурными – функциональными, конструктивными и эстетическими – постулатами, наиболее важная часть 119 которых была зафиксирована в так называемой Афинской хартии CIAM в 1933 году. Как уже было сказано, в первой трети (практически – в первой половине) XX века в архитектуре возникла оппозиция трех течений - «новой архитектуры», неоклассики и национальной романтики. Нельзя сказать, что новая рациональная архитектура всегда преобладала, напротив, расстановка сил, особенно, на первоначальных этапах, складывалась в пользу как раз двух других – традиционалистских движений. Где-то, ближе к 50-м гг., чаще всего под именем «функционализма», идеи «новой архитектуры» получат всеобщее признание, став преобладающей тенденцией в истории современной архитектуры. Тем не менее, неоклассика, как и национальная романтика, никогда не сходили на «нет», всегда оставаясь устойчивыми явлениями в архитектуре. Все три течения имели своих союзников в изобразительном и прикладном искусстве, вместе с которыми (по примеру «стиля модерн») они образовали совершенно отчетливые стилевые направления, допускавшие, однако, различную идейную и функциональную интерпретацию. Так было уже в 1910-е гг. и тем более в последующие десятилетия XX века. Наиболее близкие друг к другу национальная романтика и неоклассика равно противопоставили как «стилю модерн», так и «новой архитектуре», последовательную ориентацию на историческую традицию. Национальная романтика в начале века приобрела особо важное значение в северных государствах, в архитектуре малых стран Европы. Она существенным образом отличалась от официально-национальной линии в зодчестве рубежа XIX – XX вв. Значительное место в этой стилизаторской архитектуре заняли мотивы, почерпнутые из народного зодчества, а подражание средневековым памятникам оснастилось солидными знаниями о них и умением проникнуть в их образный строй. Национальная романтика в 1910-х гг. охватила практически все типы зданий и сооружений. Она появилась в таких официальных постройках, как ратуша в Стокгольме (1923, Р. Эстберг) – массивном кирпичном здании с башней, повторяющей башни при ратушах старых северных городов; распространилась в церковных сооружениях (в России – А. В. Щусев), повторявшем формы средневековой архитектуры и во многих других типах зданий. Национальная романтика позволила сообщить своего рода национально-географическую выразительность архитектуре железнодорожных вокзалов – Ярославского (1904, Ф. О. Шехтель) и Казанского (1926, Щусев) в Москве, Центрального вокзала в Хельсинки (1914. Э. Сааринен) и др. В архитектуре жилых домов это движение привело к стилизаторскому декорированию фасадов многоквартирных домов в духе национальных традиций. Неоклассика в начале века в свою очередь серьезно отличалась от эклектической архитектуры прошлых лет, прибегавшей к классическим мотивам. Преобладали поиски соединения в одной композиции «неклассических» по типу и формам зданий (многоквартирный дом, вокзал и т.п.) с классическими мотивами, которые давали постройке художественную 120 тему, подобно тому, как мотивы народного или средневекового зодчества сообщали свою тему произведениям национальной романтики. В такой архитектуре классическим – ордерным – формам придавалось не столько конструктивное, сколько изобразительно-пластическое значение. В неоклассическом стиле были созданы уникальные сооружения: Театр Елисейских полей в Париже (1913, О. Перре), отличающийся благородством пропорций и сдержанностью своего ордерного убранства фасада, для которого неоклассические же скульптуру и роспись выполнял А. Бурдель; памятник А. Линкольну в Вашингтоне (1922, Г.Беэкон); Совет Лондонского графства (1922, Р. Нотт); образовавшие целый ансамбль Бородинский мост (1912, Р. И. Клейн) и Киевский вокзал (1914, И. И. Рерберг) в Москве и другие. Неоклассическая тенденция практически не прерывалась в течение всего XX века, но приобретала в различных условиях различное содержание. В 1910 - 1920 гг. в ней воплощались представления ее сторонников о классической традиции как достоянии национальной культуры и понимание ордерной системы как единственного и абсолютного выражения эстетического и тектонического совершенства архитектуры. В последующие десятилетия, вплоть до середины столетия, архитектура административных и общественных зданий, имеющих официальное значение, желая воссоздать классические мотивы, наделенные надежной архитектурногосударственной символикой, побуждает строить такие здания опять же в стилях национальной романтики и неоклассики. Таковы ратуши в Осло в Норвегии (1950, А. Арнеберг и М. Поульсон), в Норвиче в Англии (1938, Ч. Джеймс и Р. Пирс), в Рангуне и Бирме, общественные здания в Югославии (А. Стефанович, Й. Плечник, И. Вурник) и Румынии (П. Черкез); административные и храмовые здания в Китае сооружаются в духе национальной романтики; в ряде стран Латинской Америке прибегают к вычурному «неоколониальному стилю». Особенно же многочисленны украшенные ордерным декором, неоклассические постройки: парламент в Хельсинки в Финляндии (Й. Сирен), в Токио, Национальный Капитолий в Гаване на Кубе (Р. Отеро и др.), полицейское управление в Копенгагене (Х. Кампман), государственные и общественные здания в Англии (Э. Лаченс), Норвегии (Г. Блакстад) и других странах. В уравновешенных пропорциях неоклассики, соразмерной человеку, сооружаются крупнейшие общественные здания Парижа – дворец Шайо (1937, Ж. Карлю и др.) и Музей современного искусства (1937, А. Обер), а также Дворец наций в Женеве (1937, А. Нено). При тоталитарных режимах неоклассика приобретает сверхчеловеческое, абсолютное значение. В таком виде неоклассика распространяется как официальный стиль фашистских режимов Италии и Германии. С несокрушимым постоянством практически повсеместно в традициях неоклассики строятся многочисленные банковские здания. Зато конторские здания предпочитают чаще всего стиль национальной романтики. Большой конторский бум, пережитый с нач. 20-х гг. в Америке, дал толчок широкому строительству каркасных небоскребов, которые изначально 121 декорируются с помощью классических или средневековых архитектурных мотивов («Трибюнтауэр» в Чикаго). С рубежа 30-х гг. под воздействием европейского зодчества и с участием переселившихся в США мастеров – Р. Нейтра, Э. Сааринена, В. Гропиуса, Миса – здесь пускает корни рационалистский стиль. Постепенно более строгие формы приобретают небоскребы – башнеобразные (Эмпайрстейт-билдинг в Нью-Йорке) или имеющие вид пластин (Рокфеллеровский центр). В самой же Европе первым небоскребам в Антверпене, Вене, Варшаве, Стокгольме придается в это время неоклассический декор. И только со временем начинают применяться в отношении небоскребов башенные каркасы со сплошным остеклением фасадов. Совершенно иную картину образует архитектура промышленных и транспортных, учебных, научных и лечебных, спортивных и зрелищных зданий. Здесь экономическое и социальное развитие выдвинуло перед архитектурой новые функциональные задачи, вызвав потребность в разработке нетрадиционных типов построек, в инженерном новаторстве и формотворчестве. В эту область как раз и устремились интересы архитекторов-рационалистов, чья деятельность заняла в ней господствующее положение – если не в количественном отношении, то, во всяком случае, как ведущая творческая сила. Итак, основная роль, которую сыграла новая рациональная архитектура в истории XX века, заключается в опыте слияния искусства и техники. Именно это единство принесло позитивные результаты, но, в то же время, породило свои догмы и предрассудки. Как раз они и стали центром притяжения для новой, не менее мощной, волны преобразований и трансформаций в современной архитектуре. Так, преобладающее значение в теории и практике «новой архитектуры» получило представление о технике как источнике красоты: красивым полагалось то, что хорошо функционирует в утилитарном смысле. Последовательная абсолютизация технического начала привела к представлению об архитектуре как нехудожественной деятельности, вообще чуждой эстетике, опирающейся лишь на физические законы материалов и конструкций, и в этом своем виде призванной решать сугубо прагматические задачи. В своей знаменитой формуле Ле Корбюзье определяет, к примеру, дом как «машину для жилья». Он ратует за индустриализацию архитектуры, серийное проектирование и строительство. Эстетические ценности, не получив самостоятельного значения, подчинялись конструктивному началу и принципу целесообразности. По словам русского писателя и теоретика конструктивизма, С. М. Третьякова, творческая деятельность такого рода художника (в широком смысле слова) должна была «растворить в деле эстетическую, эмоциональную сущность искусства». 122 Тема 15. Ведущие тенденции в искусстве конца XX – начала XXI столетий на примере архитектуры - 0,17 (6 часов) (аудиторные занятия – 2, самостоятельно – 4) План 1. Кризис «новой архитектуры» 2. Творчество Р. Вентури: поиск альтернативы функционализму 3. Ч. Дженкс: принципы архитектурного постмодернизма 4. Стиль хай-тек – «высокие технологии» в архитектуре В середине XX века идеи «новой архитектуры», утвердившись повсеместно и став одним из стереотипов массовой застройки городов, получили всеобщее признание в обеих частях двухполюсного мира, наконец освободившись от идеологических и политических конфронтаций. Принципы функционализма использовались самыми различными творческими направлениями, которые образовали широко расходящийся веер всевозможных архитектурных решений, сохраняющих единую первооснову: рационалистические методы формообразования, веру в прогресс и социальную ответственность архитектора. В это время в архитектурной критике появляется весьма оптимистический тезис о наступлении «тысячелетнего царства» рационалистической архитектуры. Однако, констатирует А. Иконников, «удовлетворенность была недолгой»: «Начавшаяся девальвация основных ценностей побуждала к их критическому пересмотру. Былое единство авангарда распадалось. Признание вчерашних бунтарей со стороны буржуазного истэблишмента превращало их в метров международной моды, самодовольную элиту профессии. Былые пионеры образовали ее жесткий костяк; возникло противостояние поколений»1. Уже в начале 60-х гг. стало ясно, что концепция «новой архитектуры» распалась на множество осколков, которые, Иконников А.В. Архитектура 20 века. Утопии и реальность. Издание в двух томах. Том 2 / Под ред. А.Д.Кудрявцевой. - М.: Прогресс-традиция, 2002. С. 40. 1 123 как после взрыва, разлетались все дальше, порождая новые конкурирующие группы, связанные лишь общностью происхождения. Дискуссии, развернувшиеся между ними, о праве наследовать достояние «рациональной архитектуры», вынесли на поверхность изначальные внутренние противоречия модернизма, обнажив, прежде всего, утопические цели авангардистского движения (через структурирование среды влиять на социальную структуру и функции общества). Кризис «новой архитектуры», или архитектуры модернизма, на Западе обозначился, прежде всего, в сфере социальных установок, этических норм и эстетических ценностей, принимаемых профессиональным сознанием. Настойчивое вовлечение архитектуры в процесс формирования массовой культуры произошло в 60-х гг. под влиянием поп-арта, с его использованием обезличенных форм массовой продукции и обращениями к китчу, с его неожиданными сопоставлениями тривиальных вещей, рождающими новые значения, с его иронией и гротеском. Парадоксы попарта оживили интерес к взаимоотношениям формы и ее значения – традиционной проблеме архитектуры, которая почти забылась в перипетиях развития «рациональной архитектуры». Следствием кризиса идей модернизма в 60-х гг. стали различные творческие направления, пытавшиеся иначе осмыслить цели и задачи архитектуры, которые, однако, большей частью еще создавались на основе трансформированного функционализма. Неофункционализм мыслился как функционализм «с человеческим лицом», сохраняющий прагматичность, а также главный постулат функционализма – «форма следует функции», но включающий в пределы рационального удовлетворения потребности психологии восприятия. На Западе это направление было устойчиво, прежде всего, в жилищном строительстве. Наиболее последовательна в осуществлении данной программы была Великобритания, где задавала тон мощная проектная организация Совета Лондонского графства; в США – архитекторы Л. Дэвис и С. Броди, в западном Берлине – В. Гропиус. Значительнейшим результатом дискуссий об архитектуре, проходивших в 60-х гг., стала небольшая книжка Р. Вентури «Сложность и противоречия в архитектуре». Вообще, следует заметить, что в истории современной архитектуры существуют три «книги века»: первая принадлежит Ле Корбюзье («К архитектуре», 1923 г.), вторая – вышеназванному американцу - Вентури (1966 г.), третья – Ч. Дженксу («Язык архитектуры постмодернизма»), о которой речь впереди. Если книга Ле Корбюзье стала как бы стартовым сигналом для «современного движения» в архитектуре, то книга Вентури показала, что возможности модернизма исчерпаны и потому необходимо создание альтернативной концепции; в свою очередь, Дженкс, осознавший связь между формирующейся культурой постмодернизма и проблемами архитектуры, снова обозначил поворотный момент в профессиональном сознании. В книге Вентури выражен протест, прежде всего, против упрощения и схематизации функционализма. Вентури выступает за архитектуру, которая 124 основывается не на порядке, произвольно навязанном жизни, а на противоречиях самой жизни. Вентури не защищает ни сложность, возникающую из-за отсутствия дисциплинирующего начала, ни произвольную вычурность. Он утверждает неизбежность и благотворность многоплановости и многозначности смысловых значений. Он призывает добиваться целостности, не отсекая живых веток, не исключая элементы реальности, а приводя их к сложному единству. «Трудный порядок», достигаемый обобщением, Вентури распространяет на все уровни проблем архитектуры, которую рассматривает как часть целостной среды. Вентури прагматичен: утопические идеи, по его мнению, не должны закладываться в реальные программы. После уничтожения Проутт-Айгоу цена социалреформистских идей очевидна. Самое главное: Вентури снимает основные «табу», наложенные модернизмом на архитектуру, включая табу на обращение к истории и традиции и, самое страшное – на эклектичность. Отвергает он и самоценность элементарной простоты, которая достигается за счет значений, которые может нести форма. Нужны были еще несколько лет привыкания к этим мыслям, но путь к радикальной реформе – постмодернизму – был намечен. Нельзя не отметить и такого важного аспекта в творчестве Вентури, как отношение к поп-арту, на основе которого он строил свои принципы противопоставления и традиционному эстетизму, и академизму «высокой культуры, идеализирующей интерпретации действительности. Термин «поп» (от англ. «popular» - народный) стал и частью элитарного искусства, использующего поп-культуру в качестве своего материала. Название «поп-арт» применил для обозначения этого направления художественного авангарда английский критик Л. Эллоуэй в начале 60-х гг. Мир поп-арта – это мир знаков, символов, образов, вошедших в привычный обиход массовой культуры, ставших банальным языком и отложившихся в сознании как общий визуальный опыт. Средством преобразования знаков и образов поп-культуры стало реструктурирование, соединение этих знаков в контексты, рождающие новые связи и разрушающие принятые. Вентури попытался транслировать идеи и приемы поп-арта в архитектуру. Среди выдающихся построек, осуществленных Вентури, назовем следующие: частный дом в Честнат-хилл, в Филадельфии, (1963), Гилд-хаус – дом для престарелых в Филадельфии (1966), Мемориальный музей Франклина в США (1972), лыжная хижина в Аспене (Колорадо,, 1977). В середине 70-х гг. в европейско-американской культуре наметилась смена периодов развития, совпадавшая с началом исторических сдвигов и близкой перспективой миллениарного рубежа. В атмосфере конца тысячелетия новые ориентиры появлялись во всех областях искусства и интеллектуальной деятельности. Хотя, напомним еще раз, ощущение кризиса свойственно всей культуре модерна, находящейся под знаком самоопровержения и самоописания. Уже в 1917 г. Р. Панвиц в уже упомянутой книге «Кризис европейской культуры» противопоставлял 125 прогрессистскому модернизму «постмодернизм» наступающих времен1. Тремя десятилетиями позже А. Тойнби повторил термин, заметив, что «Новое время» переходит в постмодерн. Постмодернизм стал распространяться как тип мировоззрения, согласно которому мир не имеет рациональной устроенности, следовательно, система ценностей, созданная европоцентристской наукообразной цивилизацией, ставится под сомнение. Убежденность в исчерпаемости мировых ресурсов повысила значение культурных и символических ценностей, распространяемое и на техномир – его новое качество, возникающее вместе с переходом индустриальной цивилизации в постиндустриальную. Стало возможным появление в его среде символических нефункциональных форм и открытое включение в жилую среду технических форм как знаков и эстетических объектов. Новое мировосприятие, принимая сомнительность и непознаваемость бытия, признавало право на одновременное существование различных гипотез и концепций. Плюрализм, понятый как позитивный фактор, исключал борьбу альтернатив. Парадоксальность «постсовременного» в том и состоит, что оно, определяя характер мировосприятия, влияющего на все области интеллектуальной деятельности, складывалось из «постмодернизмов», возникавших в разных областях культуры и, к тому же, в разное время. Поэтому они подчас плохо стыкуются; но они существуют, по выражению искусствоведов, как сообщающиеся сосуды. Другими словами, постмодернистская ментальность, опрокидывая многие запреты модернизма и снимая, в первую очередь, противостояние альтернатив, допускало сосуществование концепций, связанных на уровне скрытых культурных значений, но воплощавшихся в несхожие визуальные модели – такие, как постмодернизм, хай-тек, деконструктивизм. Это и есть ведущие направления современной архитектуры конца XX – начала XXI вв.; два первых из них – как наиболее характерные для своего времени - станут предметом нашего последующего анализа. Термин «постмодернизм» в связи с архитектурой первым использовал американский профессор Д. Хаднат в названии статьи «Постмодернистский дом», опубликованной в 1945 г. Однако первым, кто применил этот термин содержательно в отношении зодчества, был Ч. Дженкс. Подобно книгам Корбюзье и Вентури, работа Дженкса обозначила собой новый этап в развитии архитектурной мысли. Дженкс выделял метод двойного кодирования: соединение современной техники с чем-то еще (обычно – с традиционным строительством), чтобы создать архитектуру, поддерживающую коммуникацию как с публикой, так и с элитарным меньшинством. Немецкий критик Генрих Клотц подчеркивал в своем определении семантический аспект постмодернизма: освобождение архитектуры от абстракции чистой целесообразности и возвращение в нее эстетической фикции, фантазии, игры, а вместе с ними – воспоминаний, допускающих обращение к истории, а также ироничное к ней отношение, 1 См.: Кюнг Х. Религия на переломе эпох // Иностранная литература. - 1990, № 11. 126 перерастающее в гротеск. В 80-х гг. постмодернизм вошел в моду, став лозунгом, вокруг которого консолидировались разрозненные экспериментаторы. При этом содержание этого понятия менялось и уточнялось. В 1977 г. американец Р. Стерн предложил дефиницию, нашедшую выражение в трех принципах: контекстуальности, аллюзионизме и орнаментализме. Первый признак – подчинение архитектуры факторам, исходящим из конкретной среды и контекстов культуры. Второй – введение в объект намеков (аллюзий), отсылающих к существующей, то есть исторической архитектуре, причем, возможно их различное «прочтение». Третий признак – расширение круга архитектурных элементов за пределы утилитарного и необходимого. Развиваясь вслед за «новой предметностью» поп-арта в живописи и скульптуре, архитектурный постмодернизм во многом следовал их приемам работы с контекстом и аллюзиями. Поп-арт возвратился от беспредметности к предмету: место абстрактных форм стали занимать комбинации изображений или самих вещей. Но в них не искалось отображение некой реальности. Как мы уже говорили, мир поп-арта – это мир знаков, символов, образов и т.д.; образы эти не исходили напрямую от действительности, но являлись манипуляциями ее отражений массовой культурой. Тот же принцип был положен и в основу «аллюзионизма» постмодернистской архитектуры. Рассмотрим теперь конкретные примеры. Обращаясь к классическому ордеру, Вентури как будто бы сохраняет позицию классициста: архитектура воплощает идеи и участвует в коммуникации, основываясь не на конструктивной реальности, а на визуально воспринимаемой форме. Осуществляя эту установку, он, однако, демонстрирует нарочитую наивность, отбрасывая эстетизированную гармонизацию формы. Язык классики Вентури смешивает с имитациями других различных архитектурных форм: к примеру, простейшее, минимальное бунгало, перед которым, как бы независимо существуя, устанавливается плоскость фасада; именно фасад разрабатывается в различных вариантах, разнообразие которых охватывает почти всю историю архитектуры. Вентури примеривал древнеегипетскую, греко-дорическую, ренессансную «маски», которыми становились плоские декорации перед минималистским «ящиком-сараем» («Эклектический дом»,1977; дом в Лонг-Айленд Саунд, Коннектикут, 1983). В таком же стиле работали архитекторы Р. Стерн, Т. Г. Смит и другие. Классический прием «метода двойного кодирования» (для элиты – уровень иронии, для массового потребителя – китч, который им воспринимается всерьез) воспроизвел в своих произведениях Чарльз Мур, соединивший символы «итальянского» (римский фонтан, палладианские архитектурные ордеры, триумфальные арки и т.п.) и, как бы разоблачающий эту ностальгию и превращающий ее в галлюцинацию, неклассический принцип асимметрии со всем арсеналом ироничных намеков современной «говорящей архитектуры» (Площадь Италии в Нью-Орлеане, США, 1980). Вообще, столкновение ассоциаций, рождаемых аллюзиями на классику и 127 модернизм, является характерным свойством постмодернистского направления в архитектуре, и, соответственно, порождает необходимость в некоторой сценографии – такого построения пространства, где этот конфликт может себя выразить. Это такие способы организации пространства как «асимметричная симметрия», «смещение осей», отсутствие некой необходимой детали, например, колоны в портике, как это сделал Х. Холляйн в макете конкурсного проекта небоскреба (Роберт Стерн: Вестчестер-хауз Эрмонк, США, 1976; Ч.Мур, У.Тёрнбалл: Колледж Кресга в Санта-Круз, США, 1974). В данном направлении работали известные архитекторы: Френк Гери, Питер Эйзенман, Ханс Холляйн и др. В качестве «завершающего аккорда» относительно постмодернистского направления в архитектуре приведем размышления А. В. Иконникова: «За четверть века, прошедшие после публикации книги Вентури… которая послужила первым толчком к переносу на архитектуру тенденций постмодернистской культуры, постмодернизм прошел через сложную эволюцию – от направления, освобождающую архитектуру от догматизма и нетерпимости модернизма, к стилю, не имеющему ясной системы принципов и оказавшемуся чрезвычайно податливым к коммерческим импульсам. Отсутствие внятной концептуальной основы сделало постмодернизм стилем одного поколения, который нельзя передать ученикам… Сам Вентури назвал постмодернизм поверхностным и растратившим первоначальную силу плюралистического видения. Как и модернизм ранее, постмодернизм стал претендовать на роль единственного языка проектной деятельности архитекторов и своего рода «гиперпространства», в котором рождаются образы. Все это стало причиной его угасания и распада в начале девяностых»1. Постмодернистская культура распространила свое влияние и на эстетическое освоение техносферы. Этот процесс имел под собой прямую опору в постиндустриальных технологиях, или постфордизме. Как известно, последний термин ввел в научный оборот американский философ и социолог О. Тоффлер, стремясь разграничить три типа цивилизации: аграрную, индустриальную и постиндустриальную. Особенность цивилизации «третьей волны» заключается в отказе переносить принципы массового промышленного производства на все стороны жизни. Постиндустриальные технологии открывают возможности индивидуализации продуктов промышленного производства и сервиса, поскольку перерабатывают не только материю и энергию, но материю, энергию и информацию. В результате чего было сделано реальным массовое создание объектов, каждый из которых индивидуален, а качества, закладываемые в них, изменяются от одного к другому, в соответствии с заданной программой. В конце 70-х гг. идеализируемые начала «третьей волны», как бы эстетически достроенные, получили воплощение в яркой вспышке стиля хай-тек. Иконников А.В. Архитектура 20 века. Утопии и реальность. Издание в двух томах. Том2. С. 287 – 288. 1 128 Слово «хай-тек», «навешанное» на направление, образовано намеренно ироничным сопряжением искусствоведческого термина «high style» «высокий стиль» - и «technology». Несмотря на некоторую легкомысленность и смысловую неточность гибридного названия, термин прижился. По сути дела, это была реализация постмодернистской культуры на специфическом материале продуктов промышленного производства и игровых ситуаций, имитирующих техносферу близкого будущего. Хай-тек тяготеет к символизму и метафорическим «высказываниям»: он ироничен не в меньшей степени, чем другие архитектурные воплощения постмодернизма, так же как они, стремясь отразить свой генезис через намеки на феномены прошлого (правда, не более далекого, чем середина ХIХ века). Казавшийся поначалу несерьезным, хай-тек не только успешно развивался в 80-х гг., но дал многочисленные импульсы архитектуре промышленных зданий, служащих частью техносферы и активно влиял на промышленный дизайн. В 90-х гг., теряя игровое начало и ироничность, хай-тек стал преображаться в гармоничное формообразование объектов, создаваемых с использованием высоких технологий. К числу первых – и наиболее значительных – объектов хай-тека принадлежит Национальный центр искусства и культуры им. Жоржа Помпиду в Париже (архитекторы: Р. Пиано и Р. Роджерс, 1977). В качестве формообразующих начал зодчие использовали два принципа: гибкое использование пространства, основанное на нерасчлененности функциональных площадей, и высокотехничные средства осуществления. Стальные конструкции трубчатого каркаса вынесены за пределы наружного ограждения наподобие строительных лесов. Выведены наружу и сети инженерного обеспечения. Главным элементом шестиэтажного фасада, обращенного к площади, стал косой зигзаг движущихся лестниц, заключенных в стеклянный цилиндр, который пересекает фасадную плоскость по диагонали. Вертикальные трубы инженерных коммуникаций ярко покрашены в соответствии с их назначением. (Нужно сказать, что впоследствии, это станет характерным приемом хай-тека: выведенные наружу трубы, воздуховоды, подъемники, одновременно служащие и для построения метафоры, и для практических целей.) В этой гигантской, сложной и пестрой игрушке впервые появляется то новое, что отделило метафорическое использование атрибутов техники постиндустриальной эпохи от техницистской апологетики модернизма середины XX века: модернистский постулат, основанный на всесилие техники, ее первичности по отношению к социальным функциям воспринимается как объект иронии. Преклонение перед техникой сменилось игровой атрибутикой технического века – зрелищем, полным двусмысленных намеков и рассчитанным не на почтительное созерцание, а на вовлечение в игру. Нельзя не заметить, что сместились уровни в иерархии культурных ценностей. Место традиционного «храма культуры» заняло подобие нефтеочистительной установки. Монументальность традиционной «архитектуры как искусства», как и модернистское выражение 129 функциональной структуры, сменилось деловитой нейтральностью пространственного каркаса для постоянно обновляющейся информации. Центр Помпиду стал не только реальным объектом, но и зданием-мифом, демонстрирующим образы высоких технологий века информатики, в который мир начал входить. Считается, что хай-тек - явление британское, естественно продолжившее традицию «Хрустального дворца», больших лондонских вокзалов и оранжерей английских парков. Точнее полагать, что Британия просто выдвинула двух самых ярких создателей среди этого направления: Ричарда Роджерса, одного из авторов центра Помпиду, и Нормана Фостера, в начале 70-х гг. построившего офис в Ипсвиче. Фостер, как и Роджерс, увлечен конструктивными идеями, выводимыми на уровень метафор, но в его замыслы вовлечено больше взаимодействующих факторов, включая организацию пространства и освещения. Механические аналогии переплетаются с природными. Внимание к деталям обеспечивает его постройкам масштабность и основательность, редкие в пределах стиля хайтек. Здание Гонконгского и Шанхайского банка, построенное Фостером в Гонконге в 1985 г., стало манифестом, заявляющем не только о его собственной позиции, но и о принципиально новой концепции высотного здания, противостоящей постмодернистским упаковкам небоскребов, структурный стереотип которых восходит к 1930-м гг. Анатомия небоскреба пересмотрена Фостером. Обычная схема – множество этажей, нанизанных на центральное ядро с лифтовыми стволами, - отвергнута в пользу открытого плана с выносом инженерных устройств в сторону торцов, в шахты, расположенные вне опор несущей конструкции. Ее пилоны, подобные вертикально поставленным фермам, широко раздвинуты. Их соединяют пояса горизонтальных треугольных ферм, к которым подвешены 47 этажей, разделенных на пять сокращающихся кверху зон. Сверкающий алюминий облицовки выведенного наружу мощного металлического «скелета» четко рисуется на фоне темного светопоглащающего стекла ограждения интерьера. Эта фантазия на тему «техники в эпоху информатики» положило начало соревнованию идей в той гонке небоскребов, которая в конце тысячелетия развернулась по всему миру, и особенно интенсивно – в юго-восточной Азии. Активное участие в этой конкуренции гигантов в 90-е гг. принимал и сам Фостер. Среди выдающихся европейских и американских зданий, построенных в стиле хай-тек, назовем: Конгрессцентр в Берлине, 1979 (Р. Шюлер, У. Шюлер-Витте); ипотечный банк в Мюнхен-Богенхаузене, 1981 (В. Бец, Б. Бец, Э. Менер); офис компании Цюблин в Штутгарте, 1985 (Г. Бём); торговый центр «Геллери» в Далласе, 1983 (Г. Обата); Центр штата Иллинойс в Чикаго, 1985, а также здание управления ярмаркой «Мессетурм» 130 во Франкфурте-на-Майне, 1991, построенные одним из самых ярких представителей хай-тека – Хельмутом Яном. Тема 16. Технообразы и современное искусство – 0,11 (4 часа) (аудиторные занятия – 2, самостоятельно – 2) План 1. Искусство ХХI столетия. Новые художественные приемы, формы, модели реальности 2. Основные направления поспостмодернизма 3. Феномен «технологического искусства» Новое, становящееся искусство ХХI века актуализирует иные, отличные от классики и модерна-постмодерна, художественные приемы, формы, модели реальности. Последними обретениями здесь становятся видео-арт, технообразы, виртуальная реальность, транссентементализм. Возможности, которые открывает Интернет, позволяют судить о будущем искусства как связанном с развитием парадигмы ризомы, паутины, сети, лабиринта. Наступающее время утверждает эстетику хаосмоса (Ж. Делез, М. Липовецкий), конец «героической» эпохи и переход к повседневности, обыденности, «мелочам существования» при одновременной ностальгии по сильному началу. Эти тенденции отражаются на всех областях жизни, в литературе, критике усиливается визуализация образов, знаков. Дефицит времени приводит к редукции эпического сознания, становятся популярны малые жанры, усиливается тенденция к фрагментации художественного текста (эффект коллажа, курсива, цитатности). Одним из пионерских направлений постпостмодернизма можно считать видео-арт, понимаемый как искусство, связанное с видео и виртуальной реальностью. Видео-арт зарождается в 1960-1970-е годы ХХ века и сосредотачивается изначально на экспериментах с телевизионной техникой. Ряд художников начинают практиковать экспериментальные приемы творчества - «искусство процесса», «перформенс» (представление, включающее временами музыку, живопись, входит как составная часть в дадаизм, футуризм), расцвет перфоманса искусства – хэппенинг (действо, 131 соединяющее визуальные искусства и театрализованную импровизацию), боди-арт (представление, берущее основание в моде 1960-х: футурологические модели изготавливались застегивающимися на молнии, наподобие костюмов космонавтов, с появлением лайкры они входят в высокую моду 1990-х, их называют просто «боди»), концептуальное искусство (искусство выражения идеи, для чего применяются фото, видео, письмо, графики, звук, видеоленты, видеоклипы). Видеоклип в современном отечественном искусстве обретает новое качество, этот жанр эволюционирует от банальной антирекламы плохих товаров на фоне всеобщего дефицита до своего рода нового фольклора, сращивающего неолубок с мыльной оперой (истории Лени Голубкова как нового варианта Ивана Дурочка русских сказок). Клипы становятся серийными: триллер, мелодрама, комедия, анекдот. Различие между отечественными и американскими образцами – в высоком уровне художественности русских видеоклипов, их достаточно широкой направленности, не обязательно исключительно коммерческой, учитывая ограниченный характер покупательных способностей многих россиян. Клипы обретают фантазийный, утопический, мифологический характер. Представление о хэппенинге становится популярным в США в 1960-е годы под воздействием теорий композитора Д. Кейджа относительно роли случайности в искусстве. Кейдж передает атональный шум (своеобразная музыка, в которой тональность изменена или вовсе отсутствует), двигается в направлении чистой абстракции – к абсолютной тишине, как в произведении «4 минуты 33 секунды молчания». Композитор утверждает, что сотворчество исполнителя и аудитории гораздо существеннее индивидуального композиторского искусства. Хэппенинги связаны с искусством исполнения и той средой, в которую вписывается действо, особенно часто они ассоциируются с творчеством американского художника А. Капроу, который первым использовал термин в 1959 году. Широкую известность хэппенинги приобретают благодаря творчеству И. Клена и Й. Бойса, работы последнего получили признание в России, стали своеобразным интертекстом отечественного актуального искусства. На Международной выставке 1994 года была представлена инсталляция (от лат. постановка, установка, прием создания композиции из готовых предметов, расположенных с учетом пространственного эффекта) «Самолет Бойса», изготовленная из валенок К. Преображенским и А. Беляевым; московская видео-художница К. Перетрухина назвала свою выставку «Невесты Бойса». Среди наиболее известных акций Й. Бойса – «Я люблю Америку, и Америка любит меня», во время которой художник просидел в одной из нью-йоркских галерей три дня вместе с почитаемым у индейцев койотом, и «7000 дубов», которая состояла в том, чтобы собрать средства, вдохновить общественность на озеленение Касселя, приуроченное к выставке «Документ 7». К наиболее популярным инсталляциям Бойса относят «Распятие», где помещен деревянный столбик с нарисованным на нем вверху кровавым крестом и с бутылками консервированной крови справа и слева, и 132 «Ржавый угол» - в угол комнаты поставлен ржавый треугольник с нанесенным на левой половине белым крестом, закрывающий от зрителя точку, в которой встречаются две стены комнаты и пол, увеличивающий таким образом количество плоскостей в поле зрения наблюдателя. Произведения Бойса, как считают исследователи, отличаются минимализмом художественных средств, редуцируют смыслы до самых первичных вневременных оппозиций: жизнь-смерть, вина-кара, война-мир, хаосгармония, что открывает простор для фантазии интерпретатора1. Среди современных концептуалистов, продолжающих идеи дада, антиискусства, утвердилось стремление исследовать саму природу искусства, часто в процессе иронических акций и дискуссий. Художники отказываются от принципа изобразительности, затрагивают вопросы сущности, особенностей функционирования искусства в обществе. Теоретиком направления считают Сола Ле-Витта, в числе его последователей Д. Косут, Б. Номан. В концептуализме, как правило, ведут диалог «первая реальность» и авторский взгляд на нее. Он может выражаться необычным сочетанием элементов, искажением их пропорций и масштабов, помещением в неожиданную обстановку или любым другим изменением их первоначальных свойств. В изобразительном искусстве концепция может быть представлена с помощью карт, видеофильмов, фотографий и перформансов. Произведение выставляется в галерее или предназначается для реализации в определенной местности. Свои идеи концептуализм заимствует из философии, кино, феминизма, психоанализа и политики. Образ автора изменяется, становится важным не его мастерство художника, но умение представить идею. Концептуальное искусство в зависимости от использования фактора времени, участия зрителей в шоу близко хэппенингу или перформансу, в котором человеческое тело – средство выражения художественной идеи; в случае применения главным образом пространственного эффекта концептуальное искусство сближается с инсталляцией, энвайронментом (искусством создания крупной скульптурной или пространственной композиции, внутри которой располагается зритель, частью такой искусственной среды может быть звук, движение, привлекающие внимание реципиента). Для концептуалистов внешний вид работы не столь и важен, если произведение «имеет материальную форму, оно может выглядеть как угодно» (Ле-Витт). Так в композициях концептуалиста А. Капура соединены традиции Востока и Запада, ряд его работ напоминают тотемные скульптуры: «Се человек» представляет собой прямоугольный блок песчаника, напоминающий древневосточные гробницы. Сам художник говорит, что его цель – соединить природные силы с интеллектом, духовным началом. Концептуальному искусству свойственна афористичность, лаконизм, нередко это искусство, сжатое до его программы, идеи, хотя есть и прямо обратные тенденции, связанные с использованием демонстративно См.: Арская Ю.А. Абсолютное в деконструирующем сознании: Автореф. на соис. уч. степени канд. филол. наук – Красноярск, 2008. 1 133 увеличенных объемов: инсталляции Д. Бюрена, композиции Д. Кунса. В сферу концептуализма входят также многие новейшие направления, использующие современную технику: видео-арт. Произошедший в постмодернизме и закрепленный в постпостмодернизме поворот искусства от изображения к высказыванию наметился уже в модернизме, когда переход от материального к духовному стал равен переходу к абстракции (об этом писали В. Кандинский, К. Малевич). Авторы, работающие в направлении видео-арт, используют новейшие достижения телевидения (кассеты, мониторы, магнитные записи) для передачи различных акций. Позднее появляются манипуляции с телевизионной и видео техникой. Некоторые философы настаивают, что вторжение абсурда в иллюзорный мир телевидения помогает человеку осознать остраненность средств массовой коммуникации. В области видео-арта проявили себя К. Сонньер, У. Уэгмен, К. Ринке, Э. Уорхол, но никто из художников не сделал его единственной возможностью самовыражения. Формальные поиски представителей данного направления оказали серьезное влияние на будущее культуры. Светящиеся слова в композиции Б. Наумана символизируют двусмысленность человеческого общения, загадочность мира. Слова здесь одновременно играют роль изобразительного и повествовательного приема, своей конфигурацией композиция образует форму, напоминающую дорожный запрещающий знак. Работа Б. Виолы «В неустанной мольбе» демонстрирует жизненный цикл от рождения до смерти за двенадцать часов; компьютерная программа повторяет цикл на телеэкране дважды в сутки в течение недели; голос за кадром декламирует отрывки из «Песни о себе» У. Уитмена. В той или иной степени все названные направления в искусстве постпостмодернизма связаны с категорией «технообразы», которая введена в научный оборот А. Коклен. Французская исследовательница рассматривает проблему изменения художественного образа при вторжении в него новейших технологий, ведущих к возникновению «технологического искусства» (синтезированного, виртуального). Принципиальное отличие технообразов от классических художественных образов в том, что интерпретация заменяется «деланием», интерактивностью. Технообраз связан с виртуальным процессом, сетевым способом распространения, в то время как традиционный художественный образ – с текстом, литературой. Технообразы не вписываются в традиционные представления об искусстве, поэтому часто вызывают отторжение и у критики, и у публики. Зритель, читатель ранее, как правило, следовал за идеей авторасоздателя, вырабатывал собственное отношение к тексту, в технологическом искусстве роли читателя и автора, реципиента и нарратора жестко не отграничены, аудитория принимает активное участие в процессе создания технообраза. Обязательным оказывается знание инструкции, возможностей применения, без чего артефакт не может быть актуализирован. Смысл инсталляции постигаем, если знать принципы ее организации, устройства, действия; перформанс, хэппенинг требуют определенных правил поведения, без чего событие искусства не осуществимо. Смыслы, которые 134 находит в актуальном искусстве реципиент, он может вычитать исключительно из собственного культурного опыта. Необходимость соучастия в арт-действии вызывает у неподготовленной аудитории эстетический шок, отторжение и раздражение. Скандал сопровождает многие новейшие арт-акции, одновременно происходит и утверждение революционных приемов творчества. Классикой постепенно признается искусство инсталляции, работы американского скульптора Э. Кинхольца получают эстетическое и философское обоснование. Так инсталляция «Последний буйвол из Уорхли» выражает протест против варварского уничтожения животных, служащих индейцам объектом охоты. Голову буйвола в этой работе окружают предметы из привычного быта белых людей: дамская туфля, стул, электрическая лампочка. Инсталляции порой передают глубоко трагические чувства: работа швейцарца К. Болтанского «Архивы умерших швейцарцев» - две стены из металлических блоков и ряда подсвеченных фотографий из газетных некрологов. У Болтанского есть серии работ, названые архивами, это сумма предметов, помещенных в стеклянные витрины, «призрачные скульптуры», составленные из фрагментов вещей и подсвеченные свечами. Инсталлюция «Два уровня» Д. Бюрена создана специально для Пале-Рояля в Париже. Колонны составлены из вытянутых плиток черного и белого мрамора и размещены на одинаковом расстоянии друг от друга. Так интерпретируется архитектурное окружение и ряд настоящих колонн служит фоном для авангардного произведения, перекликается с ним. Бюрен – один из основоположников французского концептуального искусства – убежден, что всякий смысл определяется контекстом, окружением, в котором появляется художественный текст. В России искусство инсталляции связано с именами А. Мессерера, И. Кабакова. Последний активно использует в своих работах вырванные из контекста слова и словосочетания, презентует это как вариант пространственной прозы, формой существования текста, пограничной между визуальной практикой и словесной. Особенностью русского актуального искусства становится стремление достичь максимального чувственного эффекта при минимализме средств. Образцовым произведением с этой точки зрения выступает «Черный квадрат» К. Малевича, но именно данная работа воспринимается как наиболее загадочная, странная, что утверждает за искусством иной, трансцендентальный статус, вопреки установкам современных художников на творчество-игру, действо, процесс. Сравнительная молодость технологического искусства, отсутствие разработанной эстетики, языка постижения только усиливают процесс непонимания, критического отчуждения. Проблема интерпретации технологического искусства усложняется и тем, считает Н. Маньковская, что принципиально меняется традиционное поле эстетики, ее объект. В модернизме, рассчитанном на эпатаж, пририсовывали усы Джоконде, но сам объект оставался прежним, узнаваемым, теперь объект растворяется в 135 деятельности, киберпространстве, становится текучим, зыбким, ускользающим. Место определенного продукта художественной деятельности занимает подвижный технообраз, практически не подчиняющийся воле автора, но пребывающий в процессе становления. Автор, критик находятся в постоянной погоне за ускользающими артсюжетами, эстетика не может четко фиксировать контуры исследуемых феноменов, не всегда «схватывает» их. Непосредственная связь искусства и его теоретического осмысления – эстетики – утрачена, эстетика испытывает разочарование, «усталость» от погони за призрачными артефактами технокультуры. А. Коклен доказывает, что на смену эстетики приходит философия, только и способная предложить новое, пластичное прочтение современного состояния искусства. Технообразы атакуют классику в лоб, выявляя нечто более сущностное, чем теоретико-эстетическое недомогание (ситуация модерна): речь идет об изменении понятийного аппарата и принципов эстетического знания. Эстетика сегодня не может не выходить за свои пределы – иначе она обескровится. Современное искусство рассчитано в первую очередь на интерактивистов, интерартистов, а не интерпретаторов. Цепочка: художник – маршан – публика заменяется парой мультимедиа – интерактивность. 136 Тема 17. Постпостмодернизм. «Виртуальные миры» в искусстве и эстетике – 0,11 (4 часа) (аудиторные занятия – 2, самостоятельно – 2) План 1. Виртуальная реальность и способы ее осмысления в современной культуре 2. «Дигитальная революция» - отражение на уровне различных видов искусства 3. Тенденции виртуализации в современной словесности, живописи, театре 4. Транссентиментализм в современном искусстве Виртуальная реальность в искусстве изучается новой отраслью знания – виртуалистикой, дающей довольно широкую трактовку понятия «вертуальной реальности», которая включает в том числе ангелизм и имиджмейкерство (искусство создания успешного имиджа). В более традиционном понимании виртуальная реальность – созданная компьютерными средствами искусственная среда, в которую можно проникать, менять ее, испытывая реальные ощущения. Двойственность виртуального мира в его одновременной мнимости, кажимости, потенциальности и реальности. Специфика современной виртуальности: интерактивность, превращение зрителя, читателя в сотворца произведения, формирование нового типа эстетического сознания, разрушение границ художественного объекта. В теоретическом плане, считает М. Эпштейн, эстетика виртуальной реальности шире эстетики постмодернизма, в центре ее внимания – не «третья реальность» постмодернистских художественных симулякров, копирующих «вторую реальность» классического искусства, но виртуальные артефакты как компьютерные двойники действительности, создающие гиперреальность. Виртуальный артефакт – автономизированный симулякр, чья мнимость несовместима с образностью, полностью порывает с означаемым, которое заменяется правилами языковых игр. В виртуальном пространстве исчезает и означающее, его заменяет фантомный объект, лишенный онтологической основы, не отражающий, а вытесняющий реальность, заменяющий ее гиперреальным дублем (определение Н. Маньковской). 137 Принципиальная новизна связана здесь с возможностью зрителя ощутить мир искусства изнутри, погрузиться в него, превратившись из наблюдателя в активного участника процесса. Новая виртуальная картина мира отличается от постмодернистской принципиальным отсутствием хаоса, который сменяет жесткая упорядоченность, каждое действие снабжено четкой инструкцией. Игровая линия сохраняется в возможности виртуальных авторских перевоплощений, перспективе изменения пола, возраста, внешности. Сами идеи виртуальной реальности находят обоснование в новейших научных открытиях: гипотезах о существовании антивещества, антиматерии, антимира как частностей многомерности, обратимости жизни и смерти. Взаимопереходы настоящего и прошлого, бытия и небытия в виртуальном искусстве отражают не только изменения парадигмы художественности, но сдвиги в области этики, эстетики, философии. В виртуальном пространстве всегда и все можно начать с начала (эффект компьютерной игры), что рождает игровое восприятие событий жизни и смерти; гибель, убийство трактуются в русле игровой стратегии как происшествия, лишенные физической конечности, трагизма. У каждого в виртуальном пространстве есть шанс выстроить свой собственный, желанный мир, превратиться в кого угодно, совершить нечто, никогда невозможное в реальности. Мнимоподлинность виртуальных событий, артефактов дает основания для разнообразных эстетических опытов с киберпространством, киберреальностью. В современном экспериментальном искусстве «дигитальная революция» наиболее существенно отразилась на уровне кинематографа. Дигитальный экран, электронные эффекты, специальные приспособления изменили классические представления о киноискусстве. Если ранее элементы компьютерной графики не камуфлировались в процессе монтажа картины («Челюсти», «Кин-Конг»), то теперь искусственность трюков тщательно маскируется (эффект многослойного наложения кадров), актуализируется возможность перевоплощения объектов, форма которых утрачивает всякую определенность (эффект морфинга), становится подвижной, текучей. Утрачивается грань между безобразным и прекрасным, актуализируется их взаимообратимость, эстетические объекты не могут быть иерархизированы. Сам процесс управления изображением становится предельно разнообразным: события можно остановить, повторить, перелистать, стереть, перезаписать и т. д. Подвластная автору виртуальная реальность приучает к восприятию «невозможных» артефактов, персонажей как эстетической нормы. Мультсериалы населены виртуальными героями – киборгами, биороботами, зомби, существующими на грани живого-неживого. Они лишены психологической составляющей, характера, личностных параметров, что рождает новые эффекты, особенно в случае сочетания компьютерной анимации и игрового кино (фильмы «Кто подставил кролика Роджерса?», «Затерянный мир»). 138 В качестве суперсимулякров Н. Маньковская рассматривает виртуальных актеров (фильмы «Правдивая ложь», «Король-лев»). Создаются коноремейки актеров-идеалов прошлых лет – эффект омоложения М.Плисецкой, И. Чуриковой в проекте «Квартет». Данный процесс нивелирует «сопротивление материала» реальности, позволяя погрузиться в мир чистой иллюзии, усиливает концептуально-проектное начало творчества. Есть и обратные варианты, когда «живой» спектакль эмитирует виртуальную реальность, конкурирует с ней (Ф. Жанти «Неподвижный путник»). Перечисленные общие тенденции характерны и для «цифровой фотографии», не требующей пленки; интерактивного телевидения: переключение с канала на канал дает возможность представить мозаику передач, идущих в данный момент. Тенденции виртуальности ярко сказываются в современной литературе. Восходя к принципам постмодернистской поэтики, ризоматики и интертекстуальности (творчество С. Малларме, Х. Л. Борхеса, У. Эко, С.Соколова), гиперлитература оперирует не текстами, но текстопорождающими системами, когда читатель может легко изменить текст, выбрать свой вариант сюжета, свое прочтение финала (видеомы А.Вознесенского, романы-клипы В. Зуева, «Виртуальный след» У. Гибсона, «Полдень» М. Джойса). Образ писателя-компьютерщика принципиально нов, технологическое вмешательство в творческий процесс ассоциируется с работами В. Пелевина («Желтая стрела»), А. Бородыни («Гонщик»), В. Шарова («Мне ли не пожелать»), А. Королева («Эрон»). Общим для всех названных текстов является принцип дискретности, взаимозаменяемости эпизодов-файлов в корневом каталоге произведения. Издержками такой манеры письма исследователи считают речевые штампы, отсутствие элементов психологизма. Автор-компьютерщик превращается в моделистаконструктора, нового демиурга, получает дополнительные возможности дистанцироваться от процесса письма, персонаж произведения сближается с героем компьютерной игры. Появление такой гиперлитературы оборачивается эффектом «подглядывания» за реальностью, всеведением читателя-сотворца, текучестью художественной среды. В живописи появляется проблема виртуального пейзажа, в архитектуре – компьютерные аналоги «бумажной» архитектуры и утопических новостроек начала ХХ века. В театре популярны виртуально аранжированные представления-перформансы, когда детали спектакля отрабатывают на дисплее, представляют облик будущего спектакля в трех измерениях. В музыке не только виртуально можно изменить акустику, зал, привлечь ранее записанные звуки, но превратить человеческое тело в биомузыкальный инструмент, озвучивающий считанную с мозговых извилин информацию и передающий сигналы другим органам тела. В области массовой культуры возникла индустрия интерактивных развлечений: видеоигры, рекламные видеоклипы, виртуальные ярмарки, телешопинги, виртуальные образовательные программы, виртуальный спорт, 139 киберсекс. Идея компьютерного эротизма принадлежит Д. Кроненбергу, ярко заявлена в его фильме «Видеодром», где на героя с экрана все более крупным планом наплывает лицо возлюбленной, он наклоняется к нему и тонет в изображении, сливается с телеэкраном. Телевизионный симулякр признается сильнее жизни. Эта идея вдохновила создателей виртуального сексодрома «Приключения» в Кельне, когда партнеры, находящиеся в разных уголках земли, при помощи «информационных костюмов», снабженных микроизлучателями тепла, пневмопомпами, микроэлектродами различной силы, управляют графическим компьютером, меняя ракурс стереоизображений тела известных телемоделей, киноактеров, королев красоты. Любые сексуальные фантазии становятся осуществимы, человек не ограничен здесь возрастом, моралью, самочувствием, настроением партнера. М. Эпштейн предполагает, что в ХХI веке разные части планеты покроются сюрреалами, напоминающими современные сериалы. Эти куски гиперреальности сегодня заполняют экран, комнату, кинотеатр, завтра им будут доступны стадионы, города, целые страны (перспектива виртолэндов). Ничто в сюрреальности не отличается от физического мира, хотя здесь действуют иные законы. Иннореальность физически доступна и управляема, ее можно наблюдать, с ней можно играть, в ней можно находиться, как внутри трехмерного кино – голографической, трехмерной картины, которую можно запустить и выключить по желанию, в реальности для этого требуется рождение и смерть. Виртуальная реальность проникает во все области искусства, живую реальность, этапным в этом отношении Н. Маньковская считает появление конструктора «Лего» нового поколения, который позволяет собирать «живые», двигающиеся лего-фигуры: лего-собака виляет хвостом, легомышка бегает по комнате, лего-жираф кивает головой – играющий может собрать образ, придав ему разнообразные возможности по собственному усмотрению, используя микропроцессоры, моторчики и сенсорные кубики. Уже ребенок способен задавать свои контуры реальности, создавать свой собственный фантазийный мир. Даже беглый обзор возможностей виртуальной реальности позволяет говорить о принципиальных изменениях в области эстетики, этики восприятия. Именно процесс, игра, а не сам артефакт оказываются в центре действия. Одной из важнейших проблем становится проблема изучения психических процессов, обусловленных общением с виртуальной реальностью, процессов адаптации, навигации, персонификации, конструирования, флуктации и др. Учитывая возможности расширения представлений человека о мире, законах бытия, способах самореализации, предоставляемые виртуальной реальностью, следует отметить и те опасности, которыми чревато проникновение в иномир. Приобщившийся к виртуалистике переживает некоторое отрешение от мира настоящего, равнодушие к «серой» повседневности, ко всему, что не связано с Интернет, в конечном итоге это ведет к утрате личностной социализации, неспособности определить свое место в настоящем, 140 установить контакты с другими людьми. Кроме того, усложнившиеся условия компьютерных игр, требующих все более отточенных реакций, умений, могут обернуться чувством неуверенности в себе для тех, кто не слишком успешен в преодолении игровых препятствий. Навыки существования в виртуальном пространстве, укоренившись, оборачиваются смещением поведенческих реакций: мир реальный начинают осваивать по правилам, выработанным виртуалистикой, воспринимают как виртуальный симулякр. Тогда и появляется соблазн утопических, демиургических проектов, которые переносятся из сферы иллюзии, киберпространства в живую жизнь, где прогнозируются новые «голубые города». Виртуальный мир, обладая определенной заданностью, инструкциями существования внутри себя, гладкописью, тяготеющий к новой сюжетности, фабульности, влечет риск экстенсивного развития эстетического сознания, невостребованности ассоциативности, метафоричности, эмоциональной памяти, снижения способности тонкого восприятия действительности. Банальный вкус, банальное эстетическое восприятие будет удовлетворено банальными сюжетами, которые помещаются в виртуальные кулисы. Проблема сохранения эстетических критериев, чистоты эстетических каналов восприятия – задача, выдвинутая виртуалистикой. Постоянный процесс совершенствования виртуальной реальности требует и новых решений в области этики, юриспруденции. С помощью новых технологий возможна искусная подделка любых документов, изготовление компромата, фальсификация печатной, видео и фото продукции. За появлением компромата на видеостраницах практически невозможно уследить, неизвестен автор подделок, его трудно привлечь к ответственности. Исследователи связывают развитие и усложнение видеореальности с новым расцветом самых необычных утопий-антиутопий, которые далеко превзойдут утопические мечтания авангардистов начала ХХ века и построения ревнителей соцреализма. Речь идет о новых проектах «компьютерной соборности», изменении среды человеческого обитания, виртуальных проектах новых городов, развитии иных способов сексуального удовлетворения, любви. Киберкультура уверенно двигается на смену культуре письменной. Одновременно, несмотря на все растущую сложность влияния виртуальной реальности на мир эстетики, в ее инструментарии, стратегии много приемов, родственных сюжетам волшебных сказок, близких атмосфере чудес, театральных эффектов и мыльных опер. В самоощущении посетителя виртуальной реальности, перспективах его поисков огромную роль играет само отношение к киберпространству. Здесь важно сохранить поисковый запал, не утратить ощущение границы игрового и реального миров, что и делает позицию перспективной и для теории, и для художественной практики, обогащает знанием многомерной, поливалентной культуры грани веков. Обзор направлений развития поспостмодернистской культуры в своей книге «Эстетика постмодернизма» Н. Маньковская завершает 141 обозначением такого явления как транссентиментализм. Следуя логике исследовательницы, отметим, что транссентементализм связан сегодня с формированием постпосткультуры (постконцептуализма, постсоц-арта), для которой в отечественном варианте характерны особая искренность, аутентичность, гуманность, утопизм, синтез лиризма и цитатности, открытость в будущее, ностальгия по отношению к ушедшим традициям, отсутствие жестких эстетических требований и канонов. Транссентементализм знаменует наступление эпохи хотя бы относительной стабильности, когда поднимает голову буржуа, упорядочивается культура среднего класса. Ориентиры транссентементализма связаны с тоской по умеренной, тихой жизни, семейному комфорту, отсылающим к ценностям мещанского мира, идеологии фаворитизма. Не случайно сегодня усиливается интерес состоятельных людей к усадебному быту, садовому искусству – традиционным составляющим культуры сентиментализма. Постпостмодернизм выходит к более упорядоченной картине мира, тяготеет к жанровой чистоте, ей соответствующей, здесь ощутима потребность в новой мужественности, брутальности, супергерое, способном брать ответственность на себя, влиять на события, а не просто фиксировать их. Именно этой ностальгии по силе соответствует рост популярности жанра боевика, сочетающего элементы грандиозности с метафизикой. * * * Подводя некоторые итоги представленному здесь обзору современной литературы и искусства, скажем, что провозглашенные постмодернистами тезисы о «смерти культуры», «гибели автора», «исчезновении героя» оказались отнюдь не окончательными. Культура постмодерности как в России, так и на Западе знаменует переходный период, оказывает плодотворное влияние на формотворческие, языковые поиски художников. В этой логике – она только определенный, отнюдь не итоговый этап развития мировой культуры в целом, за которым неизменно следует новый период, черты которого уже намечены в отечественной традиции современным неореализмом. Многие обретения и противоречия модернизма постмодернизм проявил и подчеркнул, что актуализировало споры о взаимозависимости посткультуры и предшествующего ей модернизма, посткультуры и соцреализма (для России). Настроения подавленности, «конца истории», когда кажется исчезла почва для новых идей и свершений, характерная для атмосферы постмодернизма, сближает период рубежа ХХ-ХХI с периодом поздней Античности. Не случайно в постмодернизме оживает интерес к барочному стилю, идеологии гностицизма, маркирующих время заката «золотого века». Новые эпистемологические, художественные парадигмы вызревают внутри устоявшихся культурных моделей, но слом прежней перспективы, иерархии ценностей неизменно сопровождается настроениями разочарования, подавленности, одиночества. 142 Своеобразие постмодернистской эстетики Н. Маньковская видит в неклассической трактовке классических традиций, утверждении плюралистической эстетической парадигмы, уже не соотносящейся с классическими категориями уверенности, гармонии, красоты. Эстетика постмодернизма лишена жестких канонов, четкой иерархии ценностей, замкнутости концептуальных построений. Представление о несамотождественности текста открывает возможности его реконструкции и трансформации, предполагает выход из духовности в телесность, в область желания, пульсации, соблазна и ужаса (по Ю. Кристевой). Ценность иного, безобразного, неопределенного многократно возрастает, ибо связывается с новым образом мира как бездны, хаоса. Автор, созданный им текст лишаются прежней авторитарности, из пророка, теурга художник превращается в наблюдателя, скриптума, предельно дистанцируется от собственного произведения. Успех читателя – в умении включиться в предложенную нарратором игру, получить возможно полное удовольствие от текста (в том смысле, который предлагают Ж. Бодрийар и Ю. Кристева). Центральное место в эстетике постмодернизма занимает категория комического в своей иронической ипостаси. Иронизм становится смыслообразующим принципом эклектичного постмодернистского искусства. В постмодернистской картине мира отсутствует система бинарных оппозиций реальности (добро-зло, красота-безобразие), субъект как мерило и фокус мироздания рассеивается, его место занимают языковые структуры, машина желаний, анонимные потоки либидо, однако с конца 1990-х годов очевидна и прямо обратная тенденция тоски по героическому началу, утопии. Постмодернистские искания, языковые эксперименты стимулировали стирание грани между высоким и массовым искусством, научным и обыденным сознанием, привели к нивелированию различий между традиционными видами и жанрами искусства, развитию тенденций синестезии, эклектики. Бурные темпы совершенствования технических средств воспроизводства артефактов, развитие возможностей Интернет подвергли сомнению идею оригинальности, неповторимости художественного акта созидания, обернулись его «дизайнизацией», искусство вытесняется рекламой, уходит ощущение трансцендентальности художественного дара. Место художественного образа занимает симаулякр, ознаменовавший разрыв знака и значения, текста и смысла. Для постмодернизма характерна экспансия в нетрадиционные сферы такие, как феминизм, экология, наука. Наиболее существенным мировоззренческим отличием постмодернизма является переход с позиций классического антропоцентрического гуманизма на платформу универсального гуманизма, чье поле вмещает все живое на равных – человечество, природу, космос. В сочетании с отказом от европоцентризма, этноцентризма, переносом интереса на культуру стран Востока, мало изученных 143 цивилизаций, такой подход демонстрирует и перспективность идей культурного релятивизма, утверждающих многогранность, самобытность всех граней творческого потенциала человека. Тема религиозного, культурного экуменизма демонстрирует новое понимание проблем гуманизма, нравственности и свободы. Эстетику постмодернизма отличает дух сомнения, иронии, свободы. Вместе с тем вторичность, эклектизм, непоследовательность эстетики постмодернизма стимулируют дискуссии о путях дальнейшего развития современной культуры, обсуждении все новых концепций посттпостмодерности. Постпостмодернизм отходит от постмодернистского спора с классической эстетикой, переносит акценты на эстетическое поле в целом – его фактуру, восприятие, теоретическое обоснование (наблюдение Н. Маньковской). В. Алтухов видит особенность постпостмодернизма в отказе от классической атмосферы конфликта, дихотомичности, новая художественная парадигма строится на принципах дополнительности, полифундаментальности, толерантности. Такой подход характерен для множества национальных постэстетик, объединенных принципом создания «третьей реальности», рождением артефакта из артефакта, интересом к техническим экспериментам с компьютерами, виртуальной реальностью. Русский постмодернизм имеет ряд серьезных отличий от западноевропейского, что связано с особенностями национальной духовной, культурной традиции. Оценка постмодернизма в современной философии, литературоведении отличается особой противоречивостью, критичностью (Д. Урнов видит в литературе под знаком пост- «плохую» прозу). Национальную культуру, словесность всегда отличали «мессианизм» и «соборность» (этноцентризм), русский человек одержим исканиями воли и «божьей правды», свободных земель, угодных Господу (утопические легенды и по сей день питают творчество «деревенщиков»), во имя этого он с готовностью принимает любые испытания. Для русского непереносимо смешение понятий добра и зла, идеи самодостаточности хаоса, что обесценивает тысячелетние поиски обетованных земель, надежды на Божью справедливость. В отечестве нашем всегда ценили «общее дело» (религиозный проект Н. Федорова), заветы пращуров, современные перспективы самоопределения личности вне всяких авторитетов, «свободы без креста» не могут сочетаться с традиционно русской шкалой ценностей. Философия, эстетика постмодернизма не включает в себя вопросов о существовании Бога, Справедливости, Возмездия, смысла бытия, что дестабилизирует отечественный духовный космос (характерно название программной работы А. Битова «Мы проснулись в незнакомой стране»). В. Курицын замечает: «В постмодернистской модели мира нет категории Истины, как и категории Идеала: всякий из локальных проектов имеет локальный же, ситуативный, контекстуальный идеал и контекстуальную истину»1. Необходимость надежды на откровение правды в русской литературе определила диктат 1 Курицын В. Русский литературный постмодернизм. – М., 2001. С. 35. 144 содержания над формой, предпочтение смысла, идеи их художественному оформлению (образ писателя – пророка наиболее полно воплощает сегодня А. Солженицын), в постмодернизме акценты прямо противоположны, формотворческие поиски признаются наиболее значимыми, они то и определяют ценность произведения (данная стратегия разрушает саму возможность утопизма). За писателем в России закреплялась миссия духовидца, учителя, ведуна, постмодернистская «смерть автора» и внимающего ему героя не вписываются в национальную духовную традицию. М. Липовецкий отмечает, что функция воплощения хаоса в космос через Глагол в России оставалась за художником-демиургом, путь которого и выступал границей праведного и грешного, подлинного и случайного, постмодернизм развивает иную, плюралистическую, парадигму, исключающую бинарные структуры. О. Богданова фиксирует и традиционную «правдивость» отечественной литературы, в которой «все всерьез», словно на исповеди. Для постмодернизма, напротив, характерны остраненность художника от собственного текста, иронизм, игровое отношение к любому «смыслу». Жизнь здесь явлена даже не театром страстей, но «балаганчиком», цирком. И. Скоропанова подчеркивает и про-западную ориентацию постмодернистской культуры, что усиливает настороженное отношение к ней, А. Панарин, совершенно в духе традиционализма, видит в постмодернизме реализацию векового соблазна Руси - Души мира силами зла, воплощенными Западом (идея, предельно выявленная в культуре раскола, сохраняющей ценности отечественного средневековья). Однако, как бы не был сложен процесс адаптации постмодернизма на русской почве, он уверенно занимает свое место в отечественной культуре, сохраняя связанность с формалистическими поисками отечественных модернистов и авангардистов. Причем, прививка «западного дичка» на русское древо идет не по пути сужения пространства его вживания, ограничения западными теориями и постулатами, но через их переосмысление в свете собственных национальных традиций и мифологем. У русской культуры огромен опыт такого рода переосмысления европейских и западных культурных традиций: от эпохи Петра до современности. В русской версии постмодернизма «смерть культуры» предвещает не ее гибель и распыление, как в западной парадигме, но возрождение к новым духовным ориентирам, процесс деконструкции прежнего мира оказывается не менее важен, чем процесс его восстановления и сохранения на иных этических и эстетических основаниях. Особенная, сокровенная связь отечественной словесности с идеологией реализма сказалась уже в формировании неореалистической тенденции, с которой современные исследователи и связывают будущее искусства.