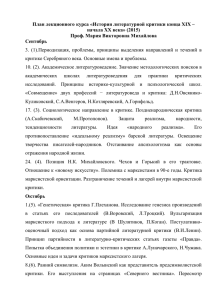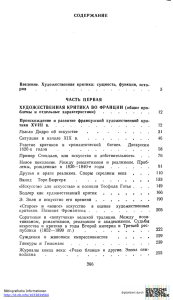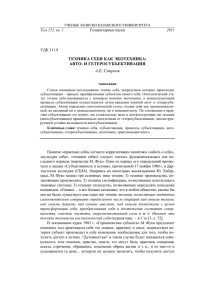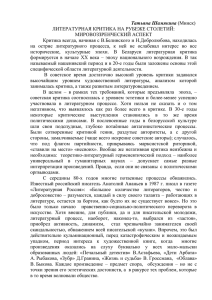49 Ю. А. Говорухина ЯВЛЕНИЕ СУБЪЕКТИВАЦИИ И
реклама
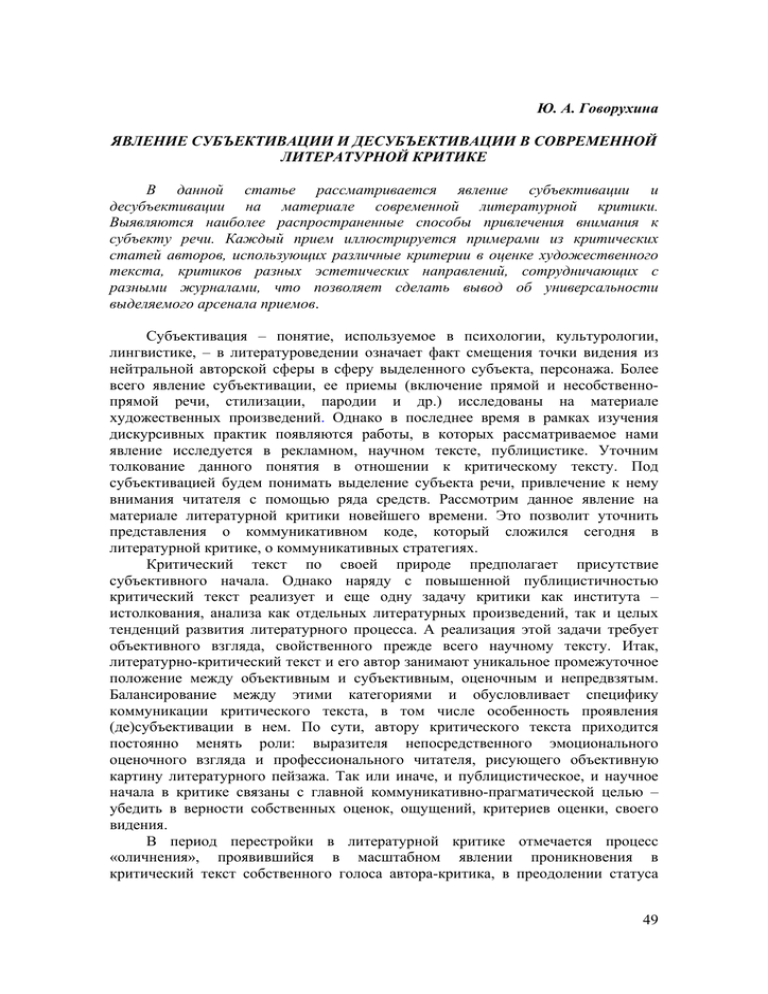
Ю. А. Говорухина ЯВЛЕНИЕ СУБЪЕКТИВАЦИИ И ДЕСУБЪЕКТИВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ В данной статье рассматривается явление субъективации и десубъективации на материале современной литературной критики. Выявляются наиболее распространенные способы привлечения внимания к субъекту речи. Каждый прием иллюстрируется примерами из критических статей авторов, использующих различные критерии в оценке художественного текста, критиков разных эстетических направлений, сотрудничающих с разными журналами, что позволяет сделать вывод об универсальности выделяемого арсенала приемов. Субъективация – понятие, используемое в психологии, культурологии, лингвистике, – в литературоведении означает факт смещения точки видения из нейтральной авторской сферы в сферу выделенного субъекта, персонажа. Более всего явление субъективации, ее приемы (включение прямой и несобственнопрямой речи, стилизации, пародии и др.) исследованы на материале художественных произведений. Однако в последнее время в рамках изучения дискурсивных практик появляются работы, в которых рассматриваемое нами явление исследуется в рекламном, научном тексте, публицистике. Уточним толкование данного понятия в отношении к критическому тексту. Под субъективацией будем понимать выделение субъекта речи, привлечение к нему внимания читателя с помощью ряда средств. Рассмотрим данное явление на материале литературной критики новейшего времени. Это позволит уточнить представления о коммуникативном коде, который сложился сегодня в литературной критике, о коммуникативных стратегиях. Критический текст по своей природе предполагает присутствие субъективного начала. Однако наряду с повышенной публицистичностью критический текст реализует и еще одну задачу критики как института – истолкования, анализа как отдельных литературных произведений, так и целых тенденций развития литературного процесса. А реализация этой задачи требует объективного взгляда, свойственного прежде всего научному тексту. Итак, литературно-критический текст и его автор занимают уникальное промежуточное положение между объективным и субъективным, оценочным и непредвзятым. Балансирование между этими категориями и обусловливает специфику коммуникации критического текста, в том числе особенность проявления (де)субъективации в нем. По сути, автору критического текста приходится постоянно менять роли: выразителя непосредственного эмоционального оценочного взгляда и профессионального читателя, рисующего объективную картину литературного пейзажа. Так или иначе, и публицистическое, и научное начала в критике связаны с главной коммуникативно-прагматической целью – убедить в верности собственных оценок, ощущений, критериев оценки, своего видения. В период перестройки в литературной критике отмечается процесс «оличнения», проявившийся в масштабном явлении проникновения в критический текст собственного голоса автора-критика, в преодолении статуса 49 «говорящего от лица». Критика осваивает приемы субъективации. Уже вскоре они образуют целый арсенал тактик, с помощью которых авторское «я» заявит о себе как о концептуальном центре. Назовем и рассмотрим эти средства. 1. Непосредственное воспроизведение переживаемых здесь и сейчас эмоций, внутреннего монолога. Приведем несколько примеров. Л. Лазарев, возмущенный безапелляционностью заявлений молодой критики, в своей статье «Былое и небылицы» пишет: «Или дурака ломают: для чего? Чего добиваются?.. Непостижимо…» [8. C. 184]. С. Рассадин («Из жизни кентавров»): «Стоп! Что это я? Жаль мне их, что ли, Маркса с Энгельсом? А знаете – да, жаль…» [12. C. 223]. Такая вербализация мысли, чувств способствует не только субъективации, но и сокращению дистанции между автором и читателем, созданию эффекта единомыслия и эффекта присутствия автора «здесь и сейчас». 2. Включение эмоционально-экспрессивной оценочной лексики (определений), номинаций, выражающих непосредственно авторское отношение к предмету. Выдержки из статьи Н. Ивановой (курсив наш. – Ю. Г.): «Помпезный фасад так называемой советской литературы рухнул», «мертвая демагогия», «рассказы Куняева посягают на жанр авторской прозы» [5. C. 222]. Тенденцию насыщения современных литературно-критических текстов «личными» оценками, определениями замечает С. Чупринин, который в статье «Элегия» констатирует, что «человеческое, слишком человеческое, вне всякого сомнения, берет в высказываниях критиков-внуков верх и над идеологией, и над эстетикой, и над этикой...»[18. C. 188]. В этой же работе далее критик пишет о том, что представители нового поколения критиков поняли свободу слова как свободу ничем не стесняемого самовыражения: «Главный интерес для критика новейшего типа – себя показать. Причем не столько свое мнение показать, сколько свою натуру» [18. C. 187]. 3. Еще одно средство субъективации – включение вводных слов со значением (не)уверенности, возможности, достоверности, оценки и т. п. Можно сказать, что вводные слова являются своего рода показателем переключения нейтрального авторского повествования в сферу «личного». Здесь мы лишь называем средство, не включая примеров, несомненно, многочисленных и вполне очевидных для исследуемого нами явления критики. 4. Интерес представляет включение в текст статьи смоделированного диалога с читателем / писателем / критиком или обращения к нему; в нем также звучит живое слово критика. Приведем несколько примеров. Н. Иванова: «Скажем, я так и вижу гневную отповедь Н. В. Гоголя, то есть, извините, я забылась, И. П. Золотусского или в крайнем случае П. Басинского…» [6. C. 195]. В этой же статье ниже встречаем прямое обращение к Константину Кедрову: «Костя, ну и что на это сказать?.. Конечно, я могу понять твою реакцию... Грустно, но что поделаешь – свобода, брат!.. А нынче, Костя, боюсь, придется беспокоиться об издании своих сочинений самому тебе». Обращение на ты в данном случае, использование элементов устной речи моделируют личную ситуацию общения. В этих и подобных примерах наблюдаем изменение статуса автора: критик-профессионал, исследователь в позиции «над» объектом критического анализа оказывается человеком вне профессионального статуса, таким, как читатель – «здесь и сейчас». Такая мена кратковременна, первоначальный статус восстанавливается, как только прием субъективации утрачивает свою потенциальную силу воздействия. 50 Если в доперестроечное время в рамках так называемой официозной критики распространенным было высказывание не личного мнения, но группы, постоянное апеллирование к ней, то в новой критике все чаще обнаруживаются примеры включения в текст информации о личных предпочтениях, о себе, своих нравственных принципах, опытах собственных прочтений. Здесь мы выделяем еще несколько частных приемов субъективации. 5. Включение воспоминаний. С. Чупринин в статье «Первенцы свободы» [17. C. 213] делится личным воспоминанием о спектакле «Чукоккала». Увиденный критиком инородный герой на сцене ТЮЗа позволяет внести негативную оценку при сравнении его с публикациями М. Золотоносова, Ю. Ханина. С. Чупринин использует здесь сразу два приема воздействия на читателя: включение сначала объекта сравнения, порождающего целый комплекс эмоций, значений, ассоциаций, а затем субъекта. Срабатывает механизм сравнения: в сознании реципиента комплекс сем с объекта переносится на субъект; указание на личное воспоминание, что привносит эффект достоверности. Другой пример находим в работе К. Степаняна: «Помню, как я вместе со многими моими коллегами и друзьями радовался появлению рассказа В. Пискунова <…>. Сейчас могу развести руками» [14. C. 193] – позитивное воспоминание позволяет автору создать контраст с настоящим положением вещей, с творческой антиэволюцией писателя. 6. Включение сведений о личном знакомстве с тем или иным лицом. Н. Иванова: «Года два назад Виктор Ерофеев, избравший скандал как норму (форму) своего литературного поведения (в быту, замечу, воспитаннейший человек, а его литературное хамство, даже скорее наглость, не маска ли, причем не всегда хорошо подогнанная?), в «Московских новостях» эпатировал публику заявлением…» [6. C. 186]. В данном случае включение информации о личном знакомстве помогает Н. Ивановой и демистифицировать образ Ерофеева – гения эпатажа, и внести эффект достоверности. Иванова таким образом подготавливает читателя к тому, чтобы далее доказать справедливость слов Ерофеева. Несомненно, использование данного средства субъективации может быть рассмотрено как прием саморекламы, особенно распространенный в текстах начинающих критиков, в газетной критике. 7. Оценивание не идеи, высказываемой другим критиком, а личности. А. Агеев: «Если все будут книжки читать, кто же работать будет?» – недавно повторил один из них расхожую мысль, но повторил с такой истовой убежденностью, что я подумал: «Уж не боится ли он литературы, не чувствует ли в ней – сознательно или интуитивно – потенциального врага своего дела?» [2. C. 181]. Заметим, что критик здесь воспроизводит течение мысли, закавычивая ее; возникает эффект непосредственного порождения мысли субъекта. Оценка личности в подобных случаях осуществляется в соответствии с критериями не столько критика, сколько человека вне профессионального статуса. 8. Включение информации о себе (биографического плана, о собственных заслугах, о своем поколении / времени) – весьма распространено в новой критике. Здесь и элемент саморекламы, и приближение к читателю, «оличнение» текста, и определение собственного статуса. Приведем несколько примеров. А. Агеев пишет: «Во-первых, она (критика) защищает классику от посягательств «наших нигилистов» (среди которых время от времени фигурирует имя автора этих строк)» [2. C. 182] и намекает на свой личный творческий статус. А. Немзер: «Я знал (или скорее чувствовал)… Мне, среднему гуманитарию «советского 51 разлива», будет жить трудно» [10. C. 183]. Н. Иванова: «Упаси меня боже впасть в унылое стародевичье морализаторство и осудить сами праздники, приемы и презентации. Ходила, хожу и буду ходить…» [6. C. 190] – здесь и намек на статус (принадлежность элите), и элемент саморекламы. В следующих примерах указание на профессиональный статус кроме выделения образа автора-критика должно послужить дополнительным свидетельством авторитетности высказываемого. В. Новиков в статье «Промежуточный финиш» пишет: «Когда-то редакторы отделов играли прогрессивную роль, пробивая рискованные тексты сквозь ретроградных или невежественных начальников (знаю это не только по авторскому, но отчасти и по личному опыту)… Я состою в одной из символических редколлегий, печатаюсь в ряде журналов, но “своим человеком” чувствую себя только в “Синтаксисе”» [11. C. 228]. В. Губайловский: «Во второй половине года я, как член жюри премии имени Ю. Казакова, читал в основном рассказы» [3. C. 224]. 9. Выведение собственной позиции, актуализация ее. Здесь мы имеем в виду только те случаи, когда авторская позиция не просто заявлена (что предполагает явление критики), а демонстративно подчеркнута. А. Агеев пишет: «Несмотря на то, что в своей (выделено нами – Ю. Г.) статье я отчаянно утрировал и даже нарушал кодекс либерального поведения, порицая одних за то, что они делают, а других – за то, чего не делают, я склонен скорее примириться с ситуацией, нежели пытаться ее волюнтаристски “формировать”» [2. C. 188]. Обратим внимание не столько на вербализацию автором собственных задач в данной работе, сколько на количество местоимений с указанием на субъекта речи. Часто критики сознательно акцентируют внимание на том, что высказываемая далее идея, мнение, впечатление принадлежит именно им. Так, к примеру, Н. Иванова в статье «Возвращение к настоящему» заявляет: «Поэтому заранее хочу оговорить свою симпатию ко всему из того высказанного тогда в ЦДЛ…» [5. C. 228], а далее: «Можно как угодно относиться к поэзии революционного романтизма (мне, например, она абсолютно чужда…)». Е. Иваницкая: «На мой-то субъективный взгляд, сейчас не просто взошла звезда Сологуба…» [4. C. 189] – выделенное нами повторяется в статье несколько раз с эффектом удвоения субъективности. 10. Выделение себя из референтной группы, противопоставление чужого и своего мнения. Этот способ субъективации обнаруживается в тех случаях, когда критик сначала вводит «чужое» мнение (своего рода контекст): высказывание другого критика / группы критиков, традиционное мнение / мнение большинства, а затем с помощью противопоставления или без него озвучивает собственную позицию. А. Урицкий («Заметки читателя»): «Что вы хотите, скажут мне, ведь это молодые писатели! По моему мнению, никаких “молодых писателей”, никакой “молодой литературы”… не существует». Далее: «многочисленные журналисты после выхода книги утверждали, что она вторична по отношению к “Generation П” якобы хуже написана. На самом деле…» [16. C. 201]. Нередко противопоставлению «чужого» – «своего» сопутствует ирония, иная эмоциональная оценочность. Так, М. Липовецкий («Совок-блюз») воспроизводит логику поведения разоблачителей литераторов-шестидесятников: «Вот он наш совок-блюз – найти крайнего, найти виноватого! И самый кайф, если этот “крайний” не одиозен, как КГБ или КПСС, а как бы даже авторитетен. Нашли: А теперь – ату его!» И затем признание: «Смущают меня, признаюсь, эти попевки» [9. C. 227]. 52 Вариант названного нами приема – озвучивание возможных вопросов (критиков, читателей), собственных вопросов, вопросов общечеловеческого плана или часто задаваемых современным поколением, и ответ на эти вопросы авторакритика. В этом случае также возникает эффект субъективации: мнение авторакритика выделяется на фоне контекста-вопросов. К. Степанян («Нужна ли нам литература?») выводит ряд вопросов, объединенных одним «Что разрушило систему?»: «диссидентское движение? экономический развал?», а затем предлагает собственный вариант ответа: «Мне кажется, что система сломалась на… рядовой личности…» [15. C. 226]. Еще один вариант – противопоставление себя, собственного мнения читательскому в ситуации смоделированного диалога. И. Роднянская («Гипсовый ветер»): «Вы не испытываете неловкости? Воля ваша. А вот мне смешно, и ничего не могу с собой поделать» [13. C. 193]. Обратный, но схожий по результату прием – выделение себя в рамках референтной группы (без противопоставления). Назовем несколько распространенных фраз: «Другим, мне в том числе, казалось…», «Как и большинство <…>, я считаю…», «Все мы, и я не исключение…» и т. п. Субъективации способствуют вставные эпизоды-размышления о нравственных, политических проблемах, философские отступления. В них особенно явно открывается внутренний мир критика, читатель получает представление о его образе мысли, жизни, чувств. 11. Следующий прием субъективации – указание на переживаемые эмоции – обладает сильным воздействующим эффектом, поскольку читателю свойственно «идти вслед» за критиком (накладывая воспринятые оценки, концептуальные положения, озвученные эмоции на собственное прочтение художественного текста, осмысление того или иного явления в рамках литературного процесса). Кроме того, что, как не эмоции, в большей степени может субъективировать повествование? Приведем несколько примеров. Л. Лазарев («Былое и небылицы»), возмущаясь крайней безапелляционностью суждений новых журналистов и критиков, использует риторические вопросы, имплицитно выражающие эмоциональный настрой: «Разве не видели новых изданий мемуаров маршала Жукова и Эренбурга с восстановленным первоначальным текстом, раскрывающих адскую “творческую лабораторию” Главлита? Непостижимо…» [8. C. 184]. Н. Иванова («Сладкая парочка»): «После всего вышеизложенного я ловлю себя на странном чувстве – то ли понимания, то ли отталкивания; отрицания, смешанного с симпатией, или симпатии, смешанной с отрицанием…» [6. C. 195]. Эффекту субъективации, на наш взгляд, способствует и использование в тексте глаголов с семантикой процесса письма, направления читательского внимания. Несколько примеров в подтверждение. А. Агеев: «Я написал “используется” и сразу понял, что грубо ошибся» [1. C. 222], «Дальше я буду говорить банальные вещи» [1. C. 231], «О народе в понимании “патриотической” лирики мне остается договорить немного» [1. C. 227]. Е. Иваницкая: «Ну и довольно, обрываю» [4. C. 193]. Наряду с использованием средств субъективации в критической литературе обнаруживается и явление десубъективации. Явление десубъективации в литературно-критических текстах наблюдаем, когда собственно индивидуально-авторское, субъективное заглушается. Чаще всего это обусловлено стремлением критика представить то или иное наблюдение 53 как объективное, вне оценочности. Самый частотный способ десубъективации – объединение себя с некой референтной группой. Исследованные нами тексты позволили утверждать, что наиболее часто выделяются следующие группы: мое поколение, критики того или иного направления, критика вообще как особый институт, читатели, русские. Говорение от лица группы способствует не только десубъективации, но выполняет немаловажную воздействующую роль: преподнесение той или иной мысли как достоверной (распространенной), поддерживаемой авторитетом большинства. Приведем наиболее показательные примеры использования такого способа. В. Новиков в статье «Промежуточный финиш» так объясняет запойное чтение «Нового мира» в 60-е: «Потому что на журнальных полях выстраивается вся структура биографической памяти, ведь жить и читать было для нас в ту пору – одно» [11. C. 224]. Говорение от лица поколения, свойственное В. Новиковукритику, обнаруживаем и в его статье «Раскрепощение»: «…у нас тоже были свои вехи», «не сами факты поражали: удивить нас можно было не беззакониями, а скорее проблесками законности», «в нашем кругу тогда сталинистов уже не было», «к концу семидесятых годов нам уже стало ясно…», в финале автор представляет психологический и культурный портрет своего поколения: «мы – семидесятники… наш читательский опыт богаче социального… трудно нам быть оптимистами» и т. д. Эффект десубъективации возникает и при сокращении дистанции между автором и читателем, представлении читателя как единомышленника. Сюда отнесем разнообразные авторские «приглашения» читателя к сотворчеству. М. Липовецкий («Совок-блюз»): «Впрочем, давайте присмотримся к портрету духовной культуры шестидесятников, который не без блеска был создан…» [9. C. 226]. К. Степанян: «Здесь мы подходим к очень важному моменту» [14. C. 186]. Достаточно редким, но оригинальным и оттого обладающим высоким потенциалом воздействия способом десубъективации является надевание маски, персонализация. О распространении данного приема в газетной критике 90-х годов пишет С. Чупринин: «Возникает ощущение, что ты либо присутствуешь на спектакле в театре масок, либо смотришь парад-алле перед началом циркового представления, где друг за другом шествуют эстет, хам, умник, смельчак, провокатор, сплетник, ерник, пижон…» [18. C. 188]. Н. Иванова в статье «Сладкая парочка» называет такое явление персонажностью. По мнению критика, «динамика персонажности резко отличает эту литературную критику от традиционной» [6. C. 189]. Говоря о персонажности как о черте, ставшей типичной для газетной критики, Н. Иванова отмечает, что те же самые критики в толстых журналах печатают спокойные увесистые статьи. С этим нельзя не согласиться, однако и критика «толстяков» ощутит на себе влияние критики газетной. Проиллюстрируем сказанное. Автор критической статьи может с первой и до последней страницы выступать в некой роли («не читатель», «просветитель», «провокатор» и др.), а может использовать данный прием как единичный или повторяемый в тексте, надевая и снимая маску, демонстрируя ее, допустим, непрезентабельность. Примером первого может служить работа М. Кронгауза «Несчастный случай для домохозяйки», в которой присутствует и аналитизм, и ирония, и игра с читателем. Игровой момент связан непосредственно с эффектом десубъективации. Уже вначале статьи М. Кронгауз заявляет: «Чтобы более 54 подробно разобраться в сути женского детектива, придется стать тем самым покупателем в книжном магазине, чья рука почему-то все тянется и тянется к детективу с женским именем на обложке» [7. C. 139]. Роль названа, и далее в тексте, анализируя структуру, стиль, авторство детективов, Кронгауз несколько раз напоминает читателю о своей роли: «Короче, она такая же, как мы с вами – одинокие домохозяйки, жизнь которых скучна и обыкновенна» [7. C. 141]. В момент анализа текстов, когда, казалось бы, маска должна сниматься, автор, используя элементы устной разговорной речи, поддерживает ее присутствие. Пример единичного надевания маски обнаруживаем в статье К. Степаняна «Нужна ли нам литература»: «Такое же уподобление понятий – вне зависимости от их идейного содержания – мы совершаем в том случае, когда, одурев от социалистического реализма, отвергаем всякую литературу, которая объясняет мир, чему-то учит и к чему-то призывает. Литература в принципе не должна и не может воспитывать, учить и призывать – утверждаем мы теперь» [15. C. 223] – и далее разрушает это представление, аргументируя правильность своего мнения, оппозиционного масочному. Мы рассмотрели явление субъективации и десубъективации в критике 90-х годов, выделили основные приемы и пришли к выводу о том, что, несмотря на изначальную потенциальную контрастность (де)субъективации, в современной критике они выполняют схожую функцию – обращают внимание на субъекта речи, выделяя его как носителя оригинального и истинного взгляда на литературный процесс / литературное произведение. Достаточно частотное употребление приемов субъективации в рамках одной статьи у критиков разных эстетических направлений, социокультурных взглядов позволяет говорить о рассматриваемом явлении как о типологическом и ввести для его обозначения понятие «субъектоцентризм». Будем понимать под ним максимальную выраженность субъектом личной нравственной, духовной, мыслительной позиции в рамках текста. Если в 70–80-е для критика актуально было стремление не растерять свое «я», и этим было обусловлено обращение к приемам субъективации, то в постперестроечное время коммуникативно-прагматическая задача иная – это желание «засветиться», расширить читательскую аудиторию, привлечь внимание к собственной персоне. Список литературы 1. Агеев, А. Варварская лира / А. Агеев // Знамя. – 1991. – № 2. – С. 221–231. 2. Агеев, А. Выхожу один я на дорогу / А. Агеев // Знамя. – 1994. – № 11. – С. 180–188. 3. Губайловский, В. Место для обгона / В. Губайловский // Дружба народов. – 2003. – № 2. 4. Иваницкая, Е. Постмодернизм = модернизм? / Е. Иваницкая // Знамя. – 1994. – № 9. – С. 186–193. 5. Иванова, Н. Возвращение к настоящему / Н. Иванова // Знамя. – 1990. – № 8. – С. 222–236. 6. Иванова, Н. Сладкая парочка / Н. Иванова // Знамя. – 1994. – № 5. – С. 186– 197. 7. Кронгауз, М. Несчастный случай для одинокой домохозяйки / М. Кронгауз // Новый мир. – 2005. – № 1. – С. 137–147. 55 8. Лазарев, Л. Былое и небылицы / Л. Лазарев // Знамя. – 1994. – № 10. 9. Липовецкий, М. «Совок-блюз» / М. Липовецкий // Знамя. – 1991. – № 9. – С. 226–236. 10. Немзер, А. Двойной портрет / А. Немзер // Знамя. – 1993. – № 12. – С. 183–193. 11. Новиков, В. Промежуточный финиш / В. Новиков // Знамя. – 1992. – № 9. – С. 224–230. 12. Рассадин, С. Из жизни кентавров / С. Рассадин // Знамя. – 1992. – № 3/4. – С. 221–234. 13. Роднянская, И. Гипсовый ветер / И. Роднянская // Новый мир. – 1993. – № 12. 14. Степанян, К. Назову себя цвайшпацирен? / К. Степанян // Знамя. – 1993. – № 11. – С. 184–194. 15. Степанян, К. Нужна ли нам литература? / К. Степанян // Знамя. – 1990. – № 12. – С. 222–230. 16. Урицкий, А. Заметки читателя / А. Урицкий //Дружба народов. – 2004. – № 1. 17. Чупринин, С. Первенцы свободы / С. Чупринин // Знамя. – 1992. – № 5. – С. 209–220. 18. Чупринин, С. Элегия / С. Чупринин // Знамя. – 1994. – № 6. – С. 185–190. 56