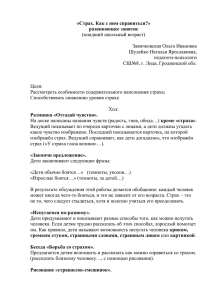Философская антропология: проблемы, эпохи, идеи
advertisement

Философская антропология: проблемы, эпохи, идеи ISBN 978-5-4217-0267-2 Курганский государственный университет редакционно-издательский центр 9 785421 702672 41-71-07 И.Н. Степанова Учебное пособие МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Курганский государственный университет» И.Н. СТЕПАНОВА ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ЭПОХИ, ИДЕИ Учебное пособие Курган 2014 1 УДК 141 ББК Ю612 С 79 Рецензенты: доктор философских наук, профессор кафедры философии гуманитарного института Сибирского Федерального университета Н.В.Омельченко; доктор философских наук, профессор, зав.кафедрой философских наук Челябинской государственной академии культуры и искусств В.С.Невелева; доктор философских наук, профессор кафедры культурологии Пермского государственного института искусства и культуры М.Г.Писманик Печатается по решению методического совета Курганского государственного университета Степанова И.Н. Философская антропология: проблемы, эпохи, идеи: учебное пособие. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2014. 196 с. В учебном пособии рассматриваются основные темы философской антропологии: человеческая природа и ее качества, феномены существования человека и вопросы персонологии. Работа может представлять интерес для университетских преподавателей гуманитарных наук, аспирантов и обучающихся в магистратуре. УДК 141 ББК Ю612 ISBN 978-5-4217 -0267-2 © Курганский государственный университет, 2014 © Степанова И.Н., 2014 2 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................... 4 Глава 1. Дисциплинарный статус философской антропологии .................... 5 Глава 2. Качества человеческой природы .................................................... 14 2.1 Пограничная природа человека............................................................... 14 2.2 Телесность человека ................................................................................ 35 2.3 Деструктивность человека....................................................................... 48 2.4 Жизнь человека ........................................................................................ 61 2.5 Смерть человека ....................................................................................... 70 Глава 3. Формы человеческого существования ........................................... 85 3.1 Судьба человека ....................................................................................... 85 3.2 Свобода человека ..................................................................................... 97 3.3 Одиночество человека ........................................................................... 113 3.4 Страх человека ....................................................................................... 126 Глава 4. Проблемы персонологии .............................................................. 143 4.1 Личность ................................................................................................. 143 4.2 Я – Другой .............................................................................................. 157 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................ 173 Примечания к ссылкам в тексте .................................................................. 174 Список литературы ...................................................................................... 190 Вопросы для повторения ............................................................................ 193 3 Введение В настоящее время изучение учебного курса «Философская антропология» студентами и аспирантами вузов в определенной мере обеспечено учебными пособиями, написанными рядом отечественных философов (В. Губин, П.С. Гуревич, В.И. Курашов, С.А. Лебедев, Б.В. Марков, Л.Е. Моторина, Е. Некрасова и т.д.). В одних работах основное внимание уделяется анализу философско-антропологических учений, в других – исследованию философско-антропологических проблем. Хотя основой этих пособий является федеральный стандарт по философской антропологии, но структура курса, спектр рассматриваемых проблем, акцентирование внимания на тех или иных проблемах обусловлены исследовательскими интересами авторов, их видением специфики философской антропологии. В данном учебном пособии философско-антропологические учения и идеи характеризуются в границах различных проблем. Структура работы выстроена на основе широко распространенного понимания философской антропологии как учения о сущности и существовании человека. В противовес некоторым высказываемым сегодня представлениям о том, что заслуги философской антропологии и ее наиболее известные учения остались в прошлом, автор хотел показать, что и в XXI в. вопрос о том, что такое человек, находится в центре философских и научных дискуссий, особенно в свете рассуждений о том, что имеет место тенденция превращения человека в другой биологический или даже технический вид. Не устарели и важнейшие философско-антропологические вопросы о соотношении души и тела, человеческой деструктивности и духовности, жизни и смерти человека. Как только канул в лету идеологически заданный в советской философии догматический тезис о том, что в человеке нет ничего кроме социального и поэтому он должен рассматриваться исключительно в социологическом знании, обнаружилась многоизмеримость человека, которая адекватно раскрывается в философской антропологии. Параграф 2.1 «Пограничная природа человека» написан в соавторстве с кандидатом философских наук, доцентом Е.Н. Костылевым. Автор выражает признательность преподавателям кафедры философии Курганского государственного университета за сделанные замечания и предложения при обсуждении учебного пособия. 4 ГЛАВА 1. ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СТАТУС ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ Происхождение, предмет и содержание философской антропологии. Актуальность ее проблем в современном обществе О любой области философского знания можно сказать, когда она возникла и каков ее предмет. О любой, кроме философской антропологии. До сих пор ответ на вопросы о её происхождении, предмете и даже названии представляет, если использовать терминологию П. Фейерабенда, пролиферацию (размножение) гипотез. В. Йегер утверждает, что Гераклит был «первым философским антропологом» [1, 229]. П.С. Гуревич [2,52] родоначальником философии человека считает Сократа. М. Шелер [3, 74] полагал, что «первая идея о человеке» возникла в христианской религии (в Священном Писании) и затем трансформировалась в теологические антропологии. М. Бубер, разработавший одну из лучших классификаций учений о человеке, связал начало философской антропологии с учением А. Августина, который задал вопрос «Что же я такое, боже мой? Какова природа моя?» [4, 84]. П. Шульц [5] считал, что работы с названием «антропология» появились в XVI в.: «Антропология человеческого достоинства, природы и его особенности» М. Хундта (1501 г.) и «Антропологическая психология» О. Касмана (1594 г.). Б.В. Марков признает, что «антропология как наука о человеке была предложена в XVII столетии и представляла собой религиозно-философское учение о действенной духовно-телесной природе человека» [6,27]. П.С. Гуревич, наоборот, полагает, что «в XVII в. философская антропология не утвердилась в собственном статусе» [7, 93]. По мнению Н.С. Автономовой, философская антропология возникла в XVIII в. [8, 120]. Поскольку И. Кант в работе «Антропология с прагматической точки зрения» (1772-1773) выделил философскую антропологию как самостоятельную философскую дисциплину и сформулировал ее назначение как жизненной философии о человеке, то М. Фуко связывал возникновение антрополо5 гии с Кантом. «Антропология представляет собою, – писал он, – пожалуй, основную диспозицию, которая направляет и ведет философскую мысль от Канта и до наших дней» [9, 362]. Согласно же К.Н. Любутину, хотя Кант и поставил вопрос об антропологии как универсальной науке, включающей гносеологию, этику и религию, но «тенденция к рассмотрению всех вопросов в аспекте отношения «человек – мир», к созданию «философии человека» в своем специфическом содержании наиболее полно была реализована великим немецким материалистом Людвигом Фейербахом (18041872)» [10, 8]. По мнению Д. Дорофеева, родоначальником философской антропологии является М. Шелер, который «впервые задался масштабной целью представить философскую антропологию в качестве новой philosophia prima и осуществлением этого проекта он активно и продуктивно занимался примерно с 1920 года» [11, 29]. Шелер заложил тенденцию к распространению философскоантропологической парадигмы, которая привела ко множеству учений, книг и различных форм институционализации философской антропологии. Число точек зрения о генезисе философской антропологии можно и дальше расширять, но вопрос заключается в том, какие аргументы использовали философы, с помощью каких критериев конституировался дисциплинарный статус философской антропологии. Те, кто связывал возникновение философской антропологии с учениями античной философии, полагали, что философская антропология представляет философию человека, которая ставит вопрос о том, что такое человек. Иначе подошли к этому вопросу Л. Фейербах, М. Бубер и М. Шелер. К.Н. Любутин обратил внимание на то, что у Фейербаха «человек – не только конечная цель, но и исходный пункт философии» [10,10]. В результате он пришел к выводу о том, что свидетельством философско-антропологического статуса учений о человеке служит использование антропологического принципа как методологического приема, при котором человек принимается за отправную точку философского исследования. 6 М. Бубер утверждал, что философско-антропологическими учениями являются лишь те, в которых речь идет об одиночестве, бездомности и проблематичности человека. «Антропологический вопрос, – разъяснял он, – …прозвучал в ту пору, когда был расторгнут изначальный договор Вселенной и человека и человек почувствовал, что он в этом мире пришелец и одиночка. Распад этого образа Вселенной и, следовательно, кризис ее надежности повлек за собой и новые вопросы беззащитного, бездомного и потому проблематичного для самого себя человека» [4, 87]. Исходя из данного подхода, Бубер не относил учение Аристотеля о человеке к антропологии, хотя тот ввел это понятие, дал определение человека как разумного животного и разработал учение о душе человека, его морали, его месте в космосе и обществе. Шелер рассматривал философскую антропологию как универсальную науку, объединяющую гуманитарное и естественнонаучное знание о человеке. Н.В. Омельченко полагает, что «предметом философской антропологии является сущность (логос) природного, социального и человеческого бытия. Ее предназначение заключается в со-прояснении и со-творении логоса человеческого бытия» [12]. В связи с имеющимся разночтением вопроса о генезисе и содержании философской антропологии некоторые исследователи, например, Л.Е. Моторина [13, 54], вводят употребление термина «философская антропология» в широком и узком смысле слова. В широком смысле это название объединяет все антропологические учения о природе, сущности и предназначении человека, а в узком – обозначает направление в немецкой философии ХХ в. Но из данного понимания выпадают такие антропологические школы, как персонализм и экзистенциализм, ибо они представляют учение не о сущности, а о существовании человека и о личности. Кроме того, здесь четко не определено место философской антропологии в системе философского знания как самостоятельной философской дисциплины, а судя по школам, которые выделяются Моториной, существование философской антропологии относится ею к XIX-ХХ вв. Более правильной представляется идея Е.П. Никитина [14, 8898], признающего антропологизацию философского знания как тен7 денцию, которая проходит через всю историю философии: онтологическая антропология о сущности человека у Платона, Аристотеля, Спинозы, Лейбница; гносеологическая антропология у Бэкона и Декарта; открытая антропологизация философии у Канта; внегносеологическая антропология у Шопенгауэра, Ницше, а также Хайдеггера и других представителей экзистенциализма, с одной стороны, и немецкая философская антропология ХХ в. – с другой. Идея Шелера как универсальной науки была забыта, и появилось множество антропологий: культурная, социальная, религиозная, педагогическая, историческая, психологическая [15], для которых философская антропология служит основанием и выполняет методологическую роль. В настоящее время возникло понимание необходимости создания единой науки о человеке [16, 24-40]. Отсутствует и однозначное понимание названия рассматриваемой нами области философского знания. Одни называют ее философской антропологией, другие – философией человека, третьи – антропологической философией, четвертые характеризуют ее как философское основание общей или интегративной антропологии, Шелер же именовал ее метаантропологией. Ю.М. Резник [17, 45] в своей статье, содержащей обширную информацию по данному вопросу, считает интегративную антропологию (или метаантропологию) новым направлением междисциплинарных исследований мира человека, задачей которой является преодоление разрыва между философской антропологией и частными антропологиями, их «вертикальным синтезом», идея которого о человеке была, кстати сказать, сформулирована еще Пико делла Мирандолой. Под «общей антропологией» Резник понимает всю систему антропологического знания теоретического характера. Столь же неоднозначным является и понимание предмета философской антропологии. В качестве него чаще всего признается определение, данное Шелером, который характеризовал ее как науку о «сущности и сущностной структуре человека» [3, 70]. Но в философской антропологии было две линии – философско-антропологический эссенциализм и экзистенциализм, онтологическим основанием разли8 чения которых является философский реализм и номинализм. Учения, относящиеся к первой линии (в том числе и учение Шелера), имели предметом родового человека с его атрибутивными сущностными свойствами, а учения, относящиеся ко второй линии, имели предметом человека-индивида в его существовании как в форме его субъективности (экзистенция), так и в форме ее объективаций (исповедь и т.д.). Таким образом, в составе философской антропологии имелось две антропологии: эссенциалистская и экзистенциалистская, и определение Шелера относится к первой из них. С нашей точки зрения, правомерно дать определение предмета философской антропологии с помощью философских категорий, которые начинал исследовать еще Аристотель, а продолжил Г.-В.-Ф. Гегель: «форма» и «материя», «сущность», «отношение», «свойство». У Аристотеля каждая вещь, называемая субстанцией, состоит из материи (природы) и формы (сущности). У Гегеля «вещи состоят из разных материй или веществ», «явление есть... прежде всего сущность в ее существовании», «истина явления – это существенное отношение» и т.д. Поскольку их соотношение обстоятельно разработано в диалектике (сущность является, явление существенно, вещь существует в отношениях, в которых проявляются ее свойства, и т.д.), то, применив эту диалектику к пониманию философской антропологии, ее можно определить как учение (теорию) о природе и сущности человека, которая проявляется в отношениях человека к природе, обществу, культуре, Богу, Другому и самому себе, представляющих формы существования человека. Человек существует в отношениях, в которых проявляется его сущность. Но то, как она проявляется, зависит от внешней и внутренней активности человека. Поэтому человек в отношениях созидает самого себя, свою сущность. Эссенциалистская философская антропология исследует отношение человека к природе, обществу, культуре, Богу, а экзистенциалистская философская антропология – отношение человека к Богу, Другому и самому себе. При таком понимании предмета философской антропологии становится понятным и членение антропологий на физическую (биологическую), социальную (историческую), культурную, религиозную, 9 туистическую (Я-Другой), которую М. Бубер именовал диалогической, и психологическую. Заключая этот круг вопросов о философской антропологии, можно согласиться с Д. Дорофеевым [11, 34], что сегодня возникла инфляция самого этого термина, и поэтому корректно вычленять несколько аспектов в понимании статуса философской антропологии. К ним можно отнести историко-философский, институциональный, тематический (тема человека в концепциях различных философов), аспект научных школ (немецкая философская антропология ХХ в.), интегративный (комплексный и междисциплинарный характер антропологических учений) [17]. Темами философской антропологии служат происхождение человека, его природа и сущность, целостность, антропологические константы, модели родового человека, модусы существования человека (жизнь – смерть, быть – иметь (Э. Фромм), судьба – свобода, одиночество – связанность, духовность – телесность, смысл жизни – «экзистенциальный вакуум» (В. Франкл), соотношение души и тела, отношения Я – Ты – Мы, духовность человека, личность, идентичность человека, формы экзистенциальной субъективности человекаиндивида (тоска, скука, апатия, отчаяние, стыд, вина, грех и т.д.), объективации экзистенциального существования человека-индивида (исповедь, дневник, частная переписка, воспоминания, автобиография). Те философы, которые отрицают существование философской антропологии как самостоятельной области знаний о человеке внутри философии, связывают это с тем, что в конце ХХ – начале XXI в. не появилось новых крупных философских учений о человеке, так что современная философская антропология существует только в виде совокупности различных антропологических проблем, а не в виде направления в современной философии. Действительно, начиная с 90-х гг. ХХ в. в философской антропологии возникла «культурная пауза» [18], а ее предмет «ушел в тень» [19, 5]. На смену ей приходят философия науки, постмодернизм, философия виртуальной реальности. Ф. Долмейр, анализируя причины этого, выделил среди них философские и геополитические. К первым он отнес постмодернизм с 10 его идеями «смерть субъекта», «смерть человека», нигилизмом по отношению к предшествующей философии и культуре и антигуманизмом. Широкое распространение постмодернизма в различных формах культуры привело к девальвации дисциплинарного статуса философской антропологии. Ж. Деррида провозгласил наступление поры «антигуманистического и антиантропологического отлива». Второй причиной Долмейр считает ускорение темпов глобализации, что привело к «глобальному единообразию потребительства». Можно выделить и научные причины. Например, биологический редукционизм в понимании человека, обусловленный развитием идей и практик биомедицины и генной инженерии. Или информационный редукционизм с трактовкой человека как квазисубъекта машинной Сети. Но «хоронить» философскую антропологию в современном обществе цивилизационных рисков, подробно исследованных У. Беком, оказалось делом небезопасным. Экономические, военнополитические и экологические глобальные и региональные катаклизмы поставили человека на грань человечности, за которой начинается бесчеловечность. Об этом явлении свидетельствуют трансгуманизм и идеология териантропии. В первом человек идентифицируется со зверем в образе жизни и внешних чувствах. Н.С. Курек [20] выделил две линии в исследовании звероподобной души и звероподобного поведения человека – Аристотеля и Фрейда. Аристотель описал примеры звероподобия человека, а в XIX в. возникли научные теории физического и психического вырождения человека как результата инволюции. З. Фрейд связывал звероподобие человека с его психическими заболеваниями (психической регрессии к зоофобии и тотемизму). Трансгуманизм как идеология имеет своей основной идеей создание постчеловека с нечеловеческим субстратом и нечеловеческим способом существования как новой породы людей [21]. Комплекс психической одержимости зверем имеет место и в современной субкультуре териантропии (идентификация со зверем в чувствах и образе жизни). Обе идеологии порывают с гуманизмом, в котором человек считается высшей ценностью. 11 Данные идеологии представляют неадекватный ответ на многочисленные проявления человеческой деструктивности. Анализируя эти проявления, В. Букреев [22] выделяет среди них неустойчивость человеческой природы, потерю естественных различий между полами, неадекватность поведения, историческое беспамятство, сведение высших форм духовной жизни к упрощенным телесно-витальным формам, деформацию речи, тягу к мертвым вещам, отказ от своего имени, обожествление личной независимости. Этот перечень лишен каких-либо общих оснований и системности, но сами проявления, безусловно, можно квалифицировать как выражение расчеловечивания человека. Исследование подобных идеологий и проявлений деструктивности современного человека является сегодня одной из актуальных задач философской антропологии, в предмет которой входит природа человека. Назначение философской антропологии заключается в разработке стратегий спасения человека от расчеловечивания. Другим не менее значимым явлением, инициирующим возвращение философской антропологии, служит эскапизм человека в сферу виртуальной реальности. В современном человеческом обществе в связи с прогрессом науки помимо объектных реальностей (природа) и субъектных реальностей, созданных человеком (социальная, художественная и т.д.), появилась новая квазисубъектная компьютерносетевая Интернет-реальность, в которой люди представлены формами чистого мышления, не обремененного телом (чатники, сетежители, интернет-коммуникаторы, хакеры и т.д.). Эта реальность, сконструированная с помощью современных технологий, все больше и больше втягивает в себя огромные массы людей, занимает их время, мысли, навязывает эскапистский образ жизни, уводит от решения реальных проблем их жизни, представляя новую форму бегства от свободы. За этой реальностью стоит огромная сила в виде научных сообществ, производителей компьютеров, Интернет-программ, информационных каналов, создателей теорий информационного общества, компьютерно-виртуального мира и т.д. Теперь дети начинают играть в компьютерные игры раньше, чем они постигают грамоту, и виртуальный мир для них оказывается более реальным и необходимым, 12 чем действительная жизнь в обществе. Формируется новый тип человека Homo virtualis, который хочет жить только в сообществе себе подобных и для которого другие являются если не врагами, то, по крайней мере, чужаками. У людей этого типа свой язык, свои ценности, свои способы общения друг с другом. Этот виртуальный эскапизм представляет, говоря словами К. Хорни, «движение от людей». Вот что пишет Хорни о людях отстраненного типа: «Наиболее очевидная из этих особенностей – общее отчуждение от людей. …Другой особенностью …является отчуждение от себя, то есть нечувствительность к эмоциональным переживаниям. …Ключевым моментом… является… решимость никоим образом не допустить эмоциональной вовлеченности в дела других людей. …Они проводят вокруг себя своего рода магический круг, внутрь которого никто не может проникнуть» [23, 54-55]. Сравним эти представления с идеями В.А. Кутырева, увидевшего опасность в погружении современных людей в трансцендентальный виртуальный мир: «Их бегство от субъектности и свободы заканчивается бегством от реальности, ее бессознательным или уже сознательным отторжением, предпочтением ей виртуальной (не)реальности. Противоестественный образ жизни людей «западной» (добавим, а теперь и российской. – И.С.) информационноновационной цивилизации перерастает в их образ (не)жизни. Недалекая перспектива их отношений друг с другом – «от мозга к мозгу», минуя телесное общение, без органов и без слов. Это вожделенный идеал сетевой коммуникации. «Открытое церебральное общество» [24, 69]. Именно философской антропологии предстоит указать людям на эту опасность, изгоняющую их из действительного жизненного мира восприятий и живого телесно-душевного и духовного общения Я с Ты и Я с Мы. Сконструированная человеком квазисубъектная виртуальная реальность не должна обладать монополией на жизнь человека, заменять и подменять ее. Поэтому рано «хоронить» философскую антропологию, ибо у нее есть обширный спектр актуальных проблем, которые необходимо решать, помогая человеку жить в обществе разнообразных рисков, угроз, тревог, неопределенностей. 13 ГЛАВА 2. КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 2.1 Пограничная природа человека Проблема человеческой природы в религии и истории философии. Пограничная природа человека и формы ее бытия Проблема человеческой природы включает рассмотрение таких вопросов, как 1) существует или нет человеческая природа; 2) если существует, то является она неизменной, инвариантной или исторической, изменяющейся; 3) является она биологически врожденной или культурно приобретенной; 4) можно ли считать природу человека метаксической, пограничной; 5) можно ли совершенствовать человеческую природу и каково ее будущее. В философии существуют два подхода к такому объекту, как человеческая природа: исторический и модельно-типологический. Первый представлен, например, в концепции Д.Р. Яворского, который рассматривает «природу» как символ единства социокультурной целостности в европейской философии вплоть до XIX в. Им выделяются теоцентрические учения, господствующие в средневековой европейской философии, и натуралистические, существующие в новоевропейской философии. В границах рассмотрения жанра трактатов о многообразии природ, управляющих отдельными классами вещей в XVII-XVIII вв., автор исследует ряд учений просветителей и французских материалистов XVIII в. о природе человека, считая, что новая трактовка «природы человека» способствовала достраиванию натурализма как «символической модели репрезентации социокультурной целостности» [1]. Второй подход реализуется путем выделения трех философских парадигм понимания природы человека (биологическая, культурная и биокультурная). В биологической, или натуралистической, парадигме природа человека сводилась к телу, страстям и влечениям, инстинктам. В культурной парадигме природа человека понималась как общественно-политическая, общественно-производственная, общественно-воспитательная. В биокультурной парадигме утверждалось, 14 что природа человека представляет результат взаимодействия биологической базы и культуры. По вопросу о признании человеческой природы как универсалии, характеризующей общие свойства, присущие человеческим индивидам, мнения философов разделились. Не претендуя на полноту охвата концепций, выделим некоторые из них. Так, М.Н. Кокаревич высказывает согласие с мнением Н. Аббаньяно, которой считал, что среди проблем, интересующих человека, «центральной и господствующей как раз и является сам человек, т.е. его роль, его природа, его судьба» [2, 51]. Она утверждает, что «человеческая природа как познавательный конструкт наук о духе является интерпретацией и реконструкцией эмпирической данности» [2, 55]. Данный вывод подтверждается путем анализа учений о человеческой природе от Платона до Гелена. П.С. Гуревич отмечает, что отрицание единой человеческой природы было характерным для тех мыслителей, «которые отстаивают тезис об абсолютном первенстве культуры, общественных форм жизни над природными предпосылками человеческого бытия» [3, 63]. К этим мыслителям он, в частности, относит структуралистов, рассматривающих человека как слепок культурных условий. Сам автор признает целостность и неизменость человеческой природы, ссылаясь на данные антропологии, согласно которым вид человека остался неизменным со времен кроманьонцев. Ф. Фукуяма [4, 186-199] анализирует три главных аргумента критиков, считавших, что человеческая природа не существует и ее понятие ведет к заблуждениям. Первый аргумент: отсутствуют человеческие универсалии, которые можно проследить до общей природы человека. Фукуяма считает ошибкой этого заключения узкое понятие универсального. Второй аргумент: генотип человека полностью определяет фенотип, что опровергается автором указанием на позицию зависимости фенотипа от среды, которая может изменить фенотип, так что степень наследуемости свойств сильно варьируется средой. Третий аргумент: люди как культурные существа изменяют свое сознание и поведение путем самообучения и передают знания и уме15 ния последующим поколениям негенетическим путем. Фукуяма полагает, что здесь имеет место подмена другого вопроса: является природа человека неизменной или исторически изменяющейся. Сам Фукуяма утверждает, что «открытый характер человеческого стремления к знаниям полностью совместим с концепцией человеческой природы» [4, 199]. Признает существование человеческой природы и Я.А. Мильнер-Иринин [5], выделяя реальную, физическую и идеальную, нравственную природу человека. Вопрос об изменяемости или неизменности человеческой природы решается в литературе неоднозначно. Так, Гуревич, во-первых, разграничивает понятия «сущность человека» (оно обозначает «верховное, державное качество человека») и «человеческая природа», которая соотносится с происхождением человека и его «биологическим естеством». Во-вторых, под «природой человека» он понимает «стойкие, неизменные черты, общие задатки и свойства, выражающие его особенности как живого существа, присущие хомо сапиенс во все времена независимо от биологической эволюции и исторического процесса [3, 60]. Большинство представителей философско-антропологического эссенциализма считали человеческую природу неизменной. Фукуяма утверждал, что «новая биология по большей части исходит из того, что изменчивость человеческой культуры не настолько велика как это может показаться на первый взгляд» [6, 216]. В частности, он ссылается на то, что «человеческие языки могут быть бесконечно разнообразными, но отражают общие глубинные лингвистические структуры, определяемые лингвистическими зонами новой коры головного мозга, так и человеческие культуры, вероятно, отражают общие социальные потребности, определяемые не культурой, а биологией» [6, 216-217]. Вместе с тем имеется немало философских учений, в которых человеческая природа признается исторически изменчивой. Тот же Гуревич [7, 124-136] подчеркивал незавершенность человеческой природы, ее неопределенность, противоречивость, открытость, проблемность, что имплицитно содержит возможности ее трансформирования. Релятивность человеческой природы многосторонне иссле16 дована представителями культурной антропологии на примере примитивных обществ. К. Маркс основывал свой анализ исторических различий экономических отношений на признании идеи изменчивости человеческой природы. «Если мы хотим… – писал он, – по принципу полезности оценивать всякие человеческие действия, движения, отношения и т.д., то мы должны знать, какова человеческая природа вообще и как она модифицируется в каждую исторически данную эпоху» [8, 623]. В ХIХ в. после создания Ч. Дарвином эволюционный теории идея изменчивости человеческой природы являлась весьма распространенной. Начиная со второй половины ХХ в., после открытия генома человека, в научных публикациях серьезно обсуждается проблема технизации человеческой природы. А.И. Пигалев высказывает любопытную идею о том, что проект модерна в культуре и обществе не просто основывается на общей идее новоевропейских учений о неизменности человеческой природы, но и маскируется, используя эту идею «в качестве чего-то принципиально естественного, соответствующего самой неизменной «человеческой природе», а потому не имеющего завершения, по своей сущности предназначенного для того, чтобы существовать вечно» [9, 241]. Идеология модерна использовала эту антропологическую идею для обоснования естественности рыночной экономики и политики либерализма. «Человеческая природа» превратилась в конструкт, идеологически обосновывающий определенные социальные порядки рыночного капитализма. Поскольку человеческая природа понималась в духе натуралистической парадигмы как совокупность инстинктов, влечений, эгоистических стремлений, то конкуренция, соперничество стали рассматриваться в качестве их экономического аналога, а модернизация – подразумевать создание рыночного типа личности. Идея совершенствования человеческой природы была отдана на откуп генной инженерии и биомедицине, превратившись в проект технизации человеческой природы. Но культурная антропология свидетельствует о том, что первоначально в древнейших обществах господствовал принцип кооперации, сотрудничества, сменившись в других социальных отношениях 17 принципом конкуренции. Кризис модерна и идеологии либерализма «побуждает к постановке назревшего вопроса о переходе от представления о якобы неизменной «человеческой природе», лежащего в идеологических основаниях модерна, к поиску средств, технологий и социальных институтов для реального совершенствования человека» [9, 261]. Эта стратегия требует иных представлений о человеческой природе. История соотношения биологического и культурного в человеке нашла отражение и в науке. Р. Смит описывает изменение позиций в науке по данному вопросу в ХХ в. следующим образом. В начале ХХ в. господствовала идея естественной человеческой природы, сменившись в 30-40 гг. представлениями культурного детерминизма. Расистский и националистический характер идеологии фашизма усиливал эти представления, и евгеника стала рассматриваться как лженаука. Но развитие после войны этологии, приматологии и социобиологии заставило переосмыслить культуру с позиций биологии. Основатель социобиологии Э.О. Уилсон утверждал: «Гены держат культуру на поводке. …Человеческое поведение – как и более глубоко лежащая способность эмоционального реагирования, которая нас побуждает и нами руководит – это циклическое устройство, посредством которого генетический материал человека был и будет сохраняем в неизменности» [10, 31]. Начиная с 1970-х гг. гендерная парадигма привела к эскалации интереса к проблеме соотношения биологии и культуры в человеческой природе. Биологи и психологи отстаивали идеи биологических и психологических констант в человеческой природе, а культурологи утверждали, что «даже если у человека есть какие-то биологические константы, все равно в каждом отдельном случае мы имеем дело с конкретными людьми, чья природа получает выражение только через определенные культурные формы» [10, 36]. Философия тоже вносит свой вклад в решение этой проблемы. Эпистемологический приоритет в этом отношении принадлежит Х. Плеснеру, который ввел в исследование проблемы человеческой природы понятие «граница», считая, что все «живые тела имеют являющуюся, зримую границу» [11, 106], т.е. границу между внутрен18 ним и внешним. В отличие от неживых тел, граница которых с внешним миром является пространственной, контурной, «пустым промежутком», у живых тел она становится аспектной, границей выступает живое тело, проявляющее себя как единство внутреннего и внешнего. Поэтому «органическое тело с присущей ему жизненностью отличается от неорганического своим позициональным характером или своей позициональностью» [11, 128], т.е. способностью дистанцироваться от своей границы, осуществлять «выход за свои пределы», пребывать снаружи себя и внутри себя. В отличие от животного, которое может дистанцироваться от окружающей среды, но не от самого себя, человек обладает двуаспектностью своего существования: внутри и вне своего тела. «Позиционально, – считает Плеснер, – перед нами тройное разделение: живое есть тело, существует в теле (как внутренняя жизнь, или душа) и вне тела как точка зрения, из которой оно представляется и тем и другим вместе. Индивидуум, который с позициональной точки зрения трояко характеризуется подобным образом (тело-душа-дух – И.С.), называется личностью» [11, 255]. Если тело трансцендирует относительно своей границы, переходя ее вовне, то происходит витализация существования человека, выявляемая в реакциях плача и смеха; если же оно трансцендирует во внутрь – происходит усиление психической и духовной сторон в жизни человека. Человек тем самым расколот на «бытие-телом» и «бытиев-теле» и вместе с тем представляет их целостность. Эти рассуждения приводят Плеснера к выводу о том, что человеческая природа погранична, и человек живет в трех мирах: внешнем, в мире своей души и сопредельном трансцендентном мире духовных сущностей. То, что эта идея не была впоследствии развита, обусловлено различием дисциплинарных подходов к человеку. Поэтому им следует противопоставить наддисциплинарный подход к человеческой природе, с опорой на такую наддисциплинарную категорию как метаксическая природа человека (от др. греч. μεταξυ – между). Человек может рассматриваться как «биокультурная система, в которой единство природного и культурного порождает новые человеческие качества, позволяющие характеризовать человека как особой це19 лостности и самостоятельной пограничной формы бытия наряду с природой и культурой» [12, 60]. Данный подход, во-первых, соответствует философскому пониманию границы как феномена, определяющего граничность человеческой природы и человеческого существования, в интерпретации которого можно выявить ряд смысловых линий: топологический смысл (межа, место), демаркационный (различие сфер, систем, разделенных границей), нормативный (граница как мера, должное), телеологический (граница как некая цель), провокационный (противоречие между установлением границы и ее преодолением), агонический (зона постоянного напряжения, противоречий, борьбы, столкновений), трансгрессивный (граница как некий переход, преодоление, пре-ступление) [13, 13,14]. Во-вторых, понимание пограничной сущности человека является метафизическим, подтверждается существованием биологических, культурных и биокультурных свойств человека как эмпирических данностей. В-третьих, это понимание методологически объясняет антропоцентрический принцип выделения базовых форм бытия (природа, общество, культура, человек), ибо человек является осью их соединения и разделения благодаря пограничности своей природы. Напомним, что идея человека-вертикали была предложена еще Пико делла Мирандолой в эпоху Возрождения. К биологическим свойствам человека относят его биологические признаки (генетические, анатомические, физиологические, этологические). Культурными свойствами человека являются прагматические и надпрагматические потребности, ценности, деятельность в различных формах, разумность, духовность и т.д. К биокультурным признакам можно отнести комплекс «трудовой руки», прямохождение, большой объем головного мозга, функциональную ассиметрию коры больших полушарий головного мозга, страсти, техники тела и т.д. Биологическое и культурное в человеке соотносится по принципу пересечения границ между биологией и культурой. Метаксическое начало в человеке возникло в период антропосоциогенеза и продолжает существовать и в настоящее время в условиях технизации человеческой природы. С точки зрения синергетики, возникновение куль20 туры можно рассматривать как аттрактор, обеспечивающий эволюционный коридор для возникновения человека через формирование его биокультурной природы. Поскольку естественный отбор в отношении человека отстает от технико-технологической составляющей развития современной культуры, то возникает проблема экологических перспектив развития человека. Метаксичность человеческой природы выражается в базовых атрибутивных качествах человека: 1) половой дифференциации, 2) сексуальности, 3) воспроизводстве потомства, 4) психике, 5) языке. Половая дифференциация возникла в живой природе в результате отбора, направленного на половое размножение. У человека биологические признаки пола были дополнены разнообразными культурными признаками. На смену биологизаторскому подходу к пониманию пола человека в русле феминистского движения ХХ в. возникло представление о том, что различия между мужчиной и женщиной охватывают только биологию их тела, но не касаются их психики и социокультурных свойств и ролевых действий. Система правового законодательства до ХХ в., (а в мусульманских странах и в ХХ в.), по сути дела, признавала неравенство полов как в семейнобрачной, так и в общественной сферах. В настоящее время в законодательствах экономически развитых странах в значительной мере преодолена женская дискриминация, а некоторые ограничения на женский труд продиктованы заботой государства о здоровье женщины, материнстве и воспитании детей. Метаксическая природа человека в области половой дифференциации подтверждается открытием механизмов совместной детерминации биологии и поведения человека как биологическими факторами его тела, так и программой половой социализации и культурации [14]. Имеется половая дифференциация головного мозга и других органов тела, закладываемая в утробе матери и развивающаяся вплоть до взрослого состояния. Наряду с этим возникает и расширяется число культурных признаков пола под воздействием общественного разделения труда, законодательства, морали, религии и искусства. Кроме того, с помощью биомедицинских технологий сегодня возможно из21 менение пола человека. Половая внешность может быть изменена и на менее глубоком уровне с помощью различных операций косметологического характера, создания модного тела-манекена с помощью диеты и физкультуры, превращения тела профессиональных женщинспортсменок в мужское с применением гормональных препаратов и т.д. Тем самым биологический и культурный уровни половой дифференциации дополняются метаксичным биотехнологическим уровнем. Все это свидетельствует о том, что половая дифференциация испытывает серьезную коррекцию со стороны общества и его культуры. Метаксическая природа половой дифференциации выражается в расширении числа половых признаков за счет включения культурных признаков; биокультурной неопределенности системы половых различий, заданной положением человека между генетическим полом и гендером, социополом; биокультурной детерминации половой дифференциации; биокультурной противоречивости половых различий (биологические или культурные отклонения от нормы); внедрении биотехнологических практик производства пола или коррекции половых признаков человека [15, 13-14]. Генеалогический подход к исследованию сексуальности человека позволил сделать вывод, что ее первичной функцией являются прокреационные отношения с целью производства потомства, но в жизни человека половая любовь приобрела надбиологический смысл. В биологической модели сексуальности, распространенной в науке и философии, особенно в учениях А. Шопенгауэра и З. Фрейда, половое влечение объясняется наличием половых инстинктов либо действием физиологии половых гормонов. Так, Шопенгауэр усматривал основу полового влечения «…исключительно в половом инстинкте». Фрейд трактовал любовь как проявление либидо, изначального биоэнергетического импульса человека. В социокультурной модели сексуальность рассматривалась как результат процессов социализации и культурации. Например, Э. Фромм утверждал что зрелая любовь есть «забота, ответственность, уважение и знание», которые рождаются из потребности преодолеть одиночество и приобретают социокультурную форму. 22 С точки зрения признания метаксической природы человека, биологической основой сексуальности являются врожденные физиологические свойства человека, которые обеспечивают получение наслаждения (релаксационная функция организма). Социокультурная детерминация сексуальности человека начинается с постановки под контроль полового инстинкта, в результате чего происходит ограничение сексуального поведения человека. «Своеобразие эротического изъявления, – утверждает С.И. Голод, – каким бы желательным оно ни представлялось, есть лишь элемент социокультурного контекста» [16, 155]. Исторически первой формой такого ограничения явилась экзогамия – запрет половых отношений между членами одного рода. Экзогамия выводит сексуальные предпочтения индивидов на популяционный уровень, обеспечивая здоровое потомство. Позже правило экзогамии расширялось. В средневековой Европе запрет на сексуальные отношения и браки охватывает не только одноутробных братьев и сестер, но также двоюродных братьев и сестер и лиц, связанных духовным родством. Физические расправы, связанные с умерщвлением плоти как источника вожделений, становятся широко распространенными. Кроме социальных ограничений появляются и психологические ограничения, связанные с наличием у индивидов чувств греховности, покаяния, вины, искупления. В дальнейшем совершенствование половых ограничений происходит с помощью создания моногамной семьи патриархального типа, где доминирующая роль отца была продиктована социальными ролями материального обеспечения женщин и детей и передачи собственности по наследству. Данные ограничения, как и возраст начала половых отношений между мужчиной и женщиной, регламентировались религией и правом. В России до XVIII в. действовали Кормчая книга (сборник греко-римских законов) и рекомендации христианских текстов Библии и отцов церкви, устанавливающих начало сексуальности для девушки с двенадцати лет, а для юноши – с пятнадцати. Петр I своим указом установил еще более поздний возраст: для де23 вушки с семнадцати лет, для юноши с двадцати лет, а для военных – брачный возраст начинался с двадцати пяти лет [17]. В моногамной семье были совмещены все функции сексуальности: релаксационная, реляционная и воспроизводства потомства. Всякие отклонения от норм сексуальных отношений строго наказывались вплоть до ХХ в. Но в ХХ в. возникают новые типы семьи, ослабляется социокультурный контроль над сексуальными отношениями, растет число неполных семей, широко распространяются явления лесбиянства, гомосексуализма, педофилии, садизма, в ряде стран разрешаются однополые браки, появляются гражданские (нелегитимные браки), в результате развития биотехнологий возникает возможность иметь детей у родителей с дефективными генами, распространяется суррогатное материнство и т.д. Все эти социокультурные явления имеют ряд следствий. Усиливается роль социокультурных факторов в развитии сексуальных отношений, ухудшается генетический состав человечества, ослабляется роль моногамной семьи в регулировании половых отношений, происходит разрыв между релаксационной и прокреационной функциями половых отношений. Современная евгеника предлагает такие способы сохранения здорового потомства, как селективные аборты у женщин с наследственными заболеваниями, оплодотворение вне организма матери с использованием донорской яйцеклетки. Наряду с данными биотехнологическими способами, свидетельствующими о возрастании роли общества и культуры в установлении сексуальных отношений, исследователи отмечают процесс их рационализации. Он выражается в финализации (отождествлении сексуальности с удовольствием), декантации (создании норм, легализующих стремление к сексуальному удовольствию, не связанному с чувством любви, созданием семьи и рождением детей), а также технизации сексуальных отношений с помощью использования специфических «сексуальных техник» [18, 14]. Хотя данные явления не получили нормативного оформления, они широко распространены в странах Запада и России, в значительной мере освободив человека от инстинктивного контроля в сфере сексуальных отношений. В странах Востока еще преобладают религиоз24 ный и правовой контроль над сексуальными отношениями и патриархальная семья. В островных примитивных обществах (Океания, Полинезия) до сих пор отсутствуют запреты в области сексуальных отношений. Метаксическая природа человека проявляется в сексуальности в таких ее признаках, как онтологическая неопределенность (между влечением и моралью), противоречивость факторов, детерминирующих половое поведение, усиление роли культурных факторов, относительное преодоление полового инстинкта (его постановка под контроль культуры), разнообразие форм проявления сексуальности под воздействием разнообразия этнических культур [12, 128]. Воспроизводство природных популяций находится в динамическом равновесии с окружающей средой. В понимании воспроизводства человека преобладали два подхода: биологизаторский и социологизаторский. При первом подходе (Т. Мальтус, Г. Спенсер) экологические законы природы переносились в мир человека. При втором подходе основными критериями изменения численности населения считались либо техника и технологии (У. Ростоу, Р. Арон, Д. Белл, Э. Тоффлер), либо экономические отношения (К. Маркс и советские марксисты). Современные науки – историческая экология и историческая демография – считают историю, экономику и демографию триединым комплексом, позволяющим установить место человека между естественным отбором и демографическими законами. Поэтому корректно рассматривать общую демографическую ситуацию как результирующую взаимодействия биологической составляющей процесса воспроизводства и разнообразных социокультурных факторов. Благодаря этому взаимодействию изменяются основные показателииндикаторы человеческой популяции: численность, плотность, рождаемость, смертность, средняя продолжительность жизни и т.д. В развитии человеческой популяции можно выделить четыре периода: зоологический (равновесный), характерный для первобытных и примитивных обществ; традиционный (охватывает доиндустриальную цивилизацию); индустриальный и современный, охватывающий постиндустриальную цивилизацию с ее стремлением регу25 лировать демографические процессы. В первый период воспроизводство человека мало чем отличалось от воспроизводства высших животных и регулировалось лимитирующими экологическими факторами. С точки зрения теории лимитов Андреварты-Бирча, численность населения в первобытный период ограничивалась истощением пищевых ресурсов и условиями размножения или недоступностью этих ресурсов. Первый миллион лет истории человечества прирост населения фактически был равен нулю [19, 25]. Переход к производящему хозяйству (скотоводство и земледелие) позволил преодолеть правило популяционного максимума (Ю. Одум [20]) для биологических видов, сместив соотношение смертности и рождаемости в пользу последней, а традиции предписывали иметь как можно больше детей, что поддерживалось нормами религии и традиционной морали. Вместе с тем различная численность и плотность населения в разных регионах Земли в традиционный период свидетельствует, что на эти показатели, кроме техникоэкономических факторов, влияли и культурные. Начиная с этого периода и по сегодняшний день, действует «сдерживающий эффект» культуры в отношении численности населения. Его смысл заключается в том, чтобы не дать численности населения приблизиться к уровню потребления энергии, вплотную примыкающего к значению асимптоты, определяемой правилом популяционного максимума, означающим жесткую конкуренцию, различные лишения, голод [21, 113]. Этот механизм имеет социокультурный характер. В традиционный период использовались различные ритуалы (принятие родов, инициации и начало половой жизни, обрядовые и селективные детоубийства и т.д.), детерминирующие половозрастную структуру населения. Спрос на рождение мальчиков сохранился до сих пор, особенно в мусульманском мире. Действовали различные табу на инцест, половую связь с кормящей женщиной и несовершеннолетними детьми. В средневековом обществе возникло правило безбрачия католических священников и монахов и кастрации мужчин в ряде религиозных сект. Приумножение потомства является целью поло-репродуктивного поведения в мусульманских странах [22]. 26 В индустриальный период важными демографическими факторами становятся войны, индустриализация, урбанизация [23]. Германия во время тридцатилетней войны XVII в. потеряла 12-13 миллионов человек (более половины населения). На ХХ в. приходятся самые крупные и разрушительные мировые и региональные войны и конфликты, что привело к повышению смертности молодых мужчин и женщин. Во время Второй мировой войны 1939-1945 гг. только СССР потерял более 20 миллионов человек. Развитие медицины и системы здравоохранения в индустриальном обществе ведет к сокращению смертности населения, но вовлечение женщин в систему образования и материального производства сокращает рождаемость. Возникает новая модель полорепродуктивного поведения, направленного на самоценность секса и контроль за рождением детей. Миграция из стран третьего мира в экономически развитые страны приводит там к росту численности населения за счет некоренных народов. Создаются крупные города, которые, как правило, имеют ограниченную территорию и численность населения, превышающую экологическую емкость среды. Урбанизация представляет процесс, лишенный биологического смысла, но выражающий потребность индустриализации, требующей концентрации средств производства и трудовых ресурсов [24]. В результате возник ряд экологических противоречий: увеличение затрат на потребление ресурсов других территорий, нарушение экологического круговорота веществ в атмосфере и почве, рост смертности населения и т.д. Пограничный метаксический характер воспроизводства человека проявляется в биологической неопределенности законов воспроизводства человеческой популяции, которые представляют результирующую взаимодействия биологических и социокультурных процессов; противоречивости культурных факторов воспроизводства, имеющих как позитивный, так и негативный характер; смещении развития на уровне глобальной популяции в сторону увеличения численности [15, 15-16]. 27 Полярность взглядов на природу человека отразилась в концепциях человеческой психики, которая объясняется с точки зрения биологизаторского подхода наличием эволюционных факторов, особенно естественного отбора, а с точки зрения социологизаторского подхода – социальными условиями жизни. Оба этих подхода не объясняют такие противоречия, как наличие в психике человека приобретенного и наследственного, эволюционно-биологического и социально-исторического, физического и психического как социального. Оба эти подхода противоречат эмпирическим фактам. Если бы в психике доминировало природное начало (инстинкты), то поведение всех индивидов в одинаковых условиях было бы унифицированным, что нехарактерно для человека. Если бы в психике доминировало культурное начало, человек мог бы действовать только по культурным инструкциям, но человек в одной и той же ситуации действует вариативно, а нередко и неопределенно, без пользы для себя. На поведение человека действуют как биологические (инстинкты, аффекты, желания), так и культурные (цели, ценности, нормы, смыслы) факторы. Причем исследователи отмечают, что культура воздействует на психику человека не менее эффективно, чем генетические и физиологические программы психики. Э. Фромм в своих работах показывает, что если индивидуальный характер человека создается как биологическими, так и социальными факторами, то социальный характер, свойства характера, общие для тех или иных социальных групп, создается социальным образом жизни и общими переживаниями. Противоречивая природа психики человека определяется его пограничным бытием между миром природы и культуры. Для этого вывода имеются научные и философские основания. Биологические основы психики человека сформировались за период антропосоциогенеза. Исследования, проведенные в эволюционной психологии, показали, что «человеческая психики является не логическим устройством, а скорее специализированным механизмом для решения определенных типов адаптивных задач» [25, 97]. Развитие психики животных напрямую зависит от уровня их общей физической организации (особенно головного мозга) и биологически целесообразной жиз28 недеятельности, тогда как психика человека в своем становлении в филогенезе и онтогенезе является биокультурной, что проявляется в ее субстрате, содержании, функционировании, развитии. Социогенез человека предшествовал его антропогенезу [26]. Антропологические родовые признаки стали появляться у гоминид тогда, когда они уже изготавливали орудия труда и объединялись в общности. Психике человека присуща биокультурная неопределенность, поскольку она является результатом биологической и культурной эволюции. Эта неопределенность выражается в уникальности, непредсказуемости, непредзаданности психических действий и поведения человека-индивида. У него имеется противоборство, конфликт, биологических и культурных мотиваций, обусловленных противоположностью прагматических и надпрагматических интересов и ценностей, традиций и свободы выбора, социальной связанности и стремления к свободе, ориентации поклонения и индивидуальной независимости. «Ошибочно думать, – утверждал известный генетик Ф.Г. Добжанский, – о проблеме природы и воспитания, как о ситуации «или-или». Все признаки от биохимических и морфологических до признаков культуры всегда наследственны и всегда детерминированы средой. Гены и среда не являются автономными сторонами развития. Ни один признак не может развиться, если такая возможность не заложена в генотипе; если развитие протекает в разных условиях среды, то проявление генотипа будет варьировать соответственно меняющимся условиями среды» [27, 13]. Генетически детерминированные потенции психических способностей человека получают реализацию только в социокультурных условиях. Поэтому психика человека по происхождению находится в метаксическом положении между наследственными программами и программами социализации и культурации. Единство этих противоречивых факторов подтверждается многочисленными фактами отклонения психики от нормы, вызванного либо нарушениями морфологии головного мозга, либо неблагоприятными условиями социокультурной среды [28]. Психика биокультурна и по своему содержанию, что подтверждается многими исследованиями (Д.И. Дубров29 ский, Н.П. Антонов, Е.В. Шорохова и др.), в которых идеальное психическое рассматривается как субъективное проявление мозговых, нейрофизиологических процессов [29]. Биокультурный подход к психике позволяет разрешить дилемму врожденного и приобретенного в психике. О метаксической природе психики человека свидетельствует ее функциональная пограничность между биологией и культурой. Исследования, базирующиеся на идеях дарвинизма, привели к выводу о витальной функции психики, обеспечивающей связь организма с окружающей средой. Информационный контроль внешней среды (природной и социокультурной) предполагает создание когнитивной информации, благодаря которой человек осуществляет образ жизни и ситуативное поведение. Этот контроль, с точки зрения эволюционной эпистемологии, обусловлен тем, что культура представляет «определенным образом организованную информационную систему, кодирующую поведенческие и когнитивные характеристики социальных групп, которая включает в себя мифы, верования, искусства, знания, доказательства, другие средства передачи информации и т.д.» [30, 8]. Поскольку эти элементы культуры различаются у разных народов, то при наличии общего видового образа жизни людей в содержании их психики имеются различия. Таким образом, психика человека по своему происхождению, содержанию, функционированию и развитию является биокультурной, метаксической, существующей между инстинктами и свободой. Психическое бытие языка человека также имеет метаксическую природу. Слово «язык» содержит такие коннотации, как система знаков, которая служит средством передачи информации, общения, коммуникации и способностью человека к речевой коммуникации. Согласно биологизаторскому подходу, существуют биологические корни языковой способности человека, которые отмечал еще Ч. Дарвин. Некоторые исследователи признают наличие у человека врожденного языкового инстинкта [31, 284]. В психолингвистической школе Н. Хомского - Дж. Миллера разрабатывалась идея универсальных врожденных правил оперирования языком [32, 9]. Хотя не все при30 знают эти выводы, но установлено, что отклонения в некоторых генах могут приводить к тяжелым нарушениям в развитии и функционировании речи индивида. Существование биологической составляющей языковых способностей подтверждается и функциональным сходством языка человека и животных: прагматический характер языка и его служебная функция. Но хотя список информации, заключенный в сигналах животных, весьма обширен, он представляет закрытую систему, стереотипен, действует только среди представителей данного вида и содержит конечное число сигналов. При социологизаторском подходе языковые способности языка рассматриваются как интериоризованные социальные отношения [33]. Если представления о биологической базе языка человека подтверждаются данными биологии, то представления о социокультурной природе языка – конвенциональным характером языка, исследованным многими философами, начиная с Платона, и лингвистами, а также надпрагматическими функциями языка. Человек использует много специальных названий, понятий, терминов, которые обособлены от реальности и связаны с переходом от сигнальности к символическим формам сознания и способностью оперировать культурными смыслами. Поскольку не все носители культуры владеют одинаковым объемом знаний, то происходит разделение «пространства языка» в сфере семантического пространства текста, дискурса или даже речевой деятельности человека [34, 129]. Несовпадение речевого кода участников коммуникации устраняется метаязыковой функцией языка (прояснение значения незнакомых слов с помощью других слов или жестов). В условиях глобализации происходит межкультурная коммуникация с помощью приобретения некоторыми языками статуса международных. Важной формой знакового языка человека является символический язык, фиксирующий способность вещей и чувственных образов выражать идеальное содержание, отличное от чувственно-телесного языка. «Человек живет, – писал Э. Кассирер, – отныне не только в физическом, но и в символическом универсуме. Язык, миф, искусство, религия – части этого универсума, те разные нити, из которых 31 сплетается символическая сеть, сложная ткань человеческого опыта» [35, 28]. Биологизаторский подход не может объяснить высокую скорость развития языка и его сопряженность с социокультурной средой, а социологизаторский подход не обеспечивает понимание существования стереотипного и видоспецифического механизма освоения ребенком родного языка, а также его грамматических способностей. С точки зрения метаксической природы человека, его языковые способности обладают граничной биокультурной природой. Они являются биокультурными по своему происхождению в антропосоциогенезе. Б.Ф. Поршнев концептуально обосновал идею о членораздельной речи как системообразующем факторе антропосозиогенеза. Биологическая база языка и культурное лингвистическое окружение выступают в онтогенезе дополняющими друг друга факторами развития человека. Это подтверждается наличием у всех людей схемы последовательности прохождения стадий процесса овладения ручью, не зависящих от принадлежности к той или иной культуре. Кроме того, необходим определенный минимальный размер головного мозга, чтобы человек имел возможность овладеть речью. Врожденный дефект или повреждение зоны Брока в головном мозгу приводят к тяжелому речевому расстройству – афазии Брока, при которой человек не может ни понимать речь, ни разговаривать. При повреждении центра Вернике в головном мозгу у человека возникает грамматически правильная, но лишенная смысла речь. Отклонения в овладении речью возникают и при недоразвитии интеллекта (олигофрения, умственная отсталость), связанного с языком, что может быть следствием как генетических, так и средовых социокультурных факторов [36]. Другой биологической предпосылкой становления речи является нормальное развитие речевого аппарата. Нарушение языковых способностей происходит и при отсутствии человеческого лингвистического окружения на ранних этапах развития ребенка (примеры детей, воспитанных животными), особенно до окончании латерализации головного мозга [25, 127]. 32 В отличие от животных язык человека представляет собой открытую систему, порождает бесконечное число сообщений и является надситуативным. Это объясняется произвольностью и неврожденностью сигналов, а также дискретностью информационных сообщений человеческого языка, вследствие чего конкретная информация представляет результат многовариантной комбинации элементов на всех нижележащих уровнях системы, а не готовый сигнал (с помощью одних и тех же слов можно построить противоположные по смыслу предложения). Взаимодействие биологических и культурных составляющих языковых особенностей человека имеет характер взаимного детерминизма. З. Фрейд поставил вопрос о роли бессознательного в деформации рационального и социального по своей сути человеческого языка и открыл существование нескольких каналов проникновения бессознательных влечений в сознание, одним из которых является путь «компромисса и искажения, с помощью которого они обманывают бдительность цензуры» [37, 47] (языковые оговорки, описки, словесные ошибки, юмор и т.д.). Это влияние имеет характер детерминизма языка со стороны биологии. Природа языковых способностей человека является произвольной, что было открыто семиотиком Ф. де Соссюром. Произвольность человеческого языка выражается в его неинстинктивности, освобождении информационного взаимодействия со средой от генетического контроля, что делает язык человека надситуативным. В палеопсихологии и психологии было установлено, что в филогенезе и онтогенезе человек проходит доречевую стадию, а затем речь и мышление пересекаются, мышление становится речевым, речь интеллектуальной. Существует референциальное отношение между языком и мышлением: язык человека является не только средством передачи информации, но и специальным аппаратом ее переработки. С языком связаны высшие когнитивные способности человека, абстрактнологическое мышление (что объясняют символичностью языка), которое обеспечивает получение, хранение и передачу информации об отсутствующих предметах, событиях в отвлеченной от их наличия, 33 пространства, времени форме; способности понимать универсалии паралингвистического типа («угрожающие» стойки животных, выражение удовлетворенности на собачьей морде и т.д.); способности создавать языковые системы незвуковых сигналов (жестовой язык глухонемых, пальцевой алфавит слепых и т.д.). Одной из центральных в философской антропологии является проблема усовершенствования человеческой природы. Уже в первобытных мифах существовало представление об утрате человеком своего совершенства. Начиная с античной философии, это представление оформилось в программу улучшения человека с помощью государственной политики. В философии возник ряд социальных утопий («Государство» Платона, «Утопия» Т. Мора, «Город солнца» Т. Кампанелллы, «Кодекс природы» Морелли, «Кодекс общности» Т. Дезами и т.д.), в которых рассматривался вопрос о том, как улучшить природу человека. Ю.В. Хен пишет, что «евгеническая идея пронизывает всю культурную историю человечества» [38, 123]. В работах ученого XIX в. Ф. Гальтона евгеника стала разрабатываться как научная дисциплина. Бурный рост развития науки, особенно биологии, в XIX-ХХ вв. привел к тому, что евгеника стала опираться на теорию эволюции и генетику как на научный базис. Хен подчеркивает, что евгенические программы содержали три повторяющихся элемента: идеи дегенерации человечества, здоровья как общественного блага, «научный подход» [38, 124], – опираясь на которые представители евгеники предлагали проведение государственной евгенической политики. Осуществление ее в фашистской Германии под лозунгами идей расизма привело к многомиллионным жертвам и скомпрометировало евгенику. Но сама проблема улучшения человеческой природы осталась актуальной в связи с тем, что сегодня человек живет в условиях искусственного отбора со стороны социокультурной среды. А. Буровский выделяет такие виды этого отбора, как «отбор на способность жить в условиях загрязнения», «отбор на способность жить все более интенсивно, все больше и больше работать», «отбор на способность подчиняться общественной дисциплине», «отбор на умение работать с ин34 формацией», «отбор на способность к самооздоровлению» [39, 191] и т.д. Цивилизация и культура, с одной стороны, и преобразованная человеком природа, – с другой, изменяют качество жизни и человеческую природу. Этот процесс будет продолжаться и в будущем. От клонирования человека и создания людей-киборгов сегодня защищают мораль и законодательство, но навряд ли этот контроль сохранится в будущем. Ученые все чаще говорят о создании разных видов постчеловека. 2.2 Телесность человека Проблема телесности человека в религии и истории философии. Взаимодействие человеческого тела с обществом и культурой. Телесна идентичность человека. Совершенствование человеческого тела Телесность человека является одной из важнейших проблем в философии и религии. В Библии и учениях отцов церкви с ней связано большинство христианских догматов. В ветхо- и новозаветных книгах выделяется три ипостаси человека: дух, душа и тело. В первом послании апостола Павла к фессалоникийцам говорится: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23). Идея троичности человека присутствует в работах русской философии [1]. Н.А. Бердяев в своей христианской антропологии подчеркивал, что «трехчленное понимание человека как существа духовного, душевного и телесного имеет вечный смысл и должно быть удержано» [2, 366]. Е. Косевич признавал, что «раннее христианство в известной степени усвоило антропологическую парадигму иудаизма. В иудаистской традиции, основанной на текстах Ветхого Завета, проблематика тела была представлена весьма положительно» [3, 81]. Эта оценка присутствует при рассмотрении основных антропологических проблем. В первой главе книги Бытие, где речь идет об антропогенезе, подчеркивается, что Бог сотворил человека в его половой дифферен35 циации и дал положительную оценку всего творения, в том числе и человека: «И увидел Бог все, что Он создал и вот хорошо весьма» [Быт. 1:31]. При свершении первородного греха Бог грозит Адаму и Еве карами, относящимися к их телесности: жене – страданиями в беременности и родах, мужу – тяжелым трудом, лишением возможностей удовлетворения естественных потребностей и смертью: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю» [Быт. 3:19]. Через весь текст Ветхого Завета повторяются заповеди, являющиеся простыми нормами нравственности, регулирующими жизнь человека в связи с его телесной природой. В десяти заповедях патриарха Моисея эти заповеди сакрализуются именем Бога: «Не убий», «Не прелюбодействуй», «Не кради», «Не желай дома ближнего твоего», «Не желай жены ближнего твоего» и т.д. В Притчах Соломоновых эти нормы конкретизируются применительно к определенным жизненным ситуациям. Особенно строго выглядят заповеди, относящиеся к различным нечестивцам (пьяницам, чревоугодникам, развратникам), детям, которых надо воспитывать, и женам. Да и сам Бог в Ветхом Завете ведет себя как телесный человек: насылает на египетский народ моровую язву, жаб, саранчу, тьму, превращает воды реки в кровь, обрекает на смерть первенцев. В Ветхом Завете показывается, каким трудным был исторический путь к цивилизованности человека, обретению им разума, знания и правды (справедливости). Ряд исследователей считает, что в Новом Завете показывается дисгармония между телом и душой, телом и духом и дается отрицательная трактовка тела как воплощения людских грехов [4, 39-40]. Хотя в Библии имеются тексты, которые можно интерпретировать данным образом [Мат. 6:25, 31], но в целом преобладает положительное отношение к человеческому телу. Чрезвычайно высоко оценивается тело девы Марии, от которого путем партеногенеза (девственное размножение) родился Иисус Христос, чье тело уже при рождении сочетало в себе сакральность (дева Мария «имеет во чреве от Духа Святого» [Мат.1:18]) и телесность. Сам Христос неоднократно проявлял заботу о сохранении здоровья тела людей: исцелил прокажен36 ного, слугу сотника, тещу Петра, расслабленного, двух слепых, немого бесноватого, воскресил дочь начальника и т.д. [Мат. 8:3,13,15,16]. Положительную оценку человеческого тела дает и апостол Павел, которого считают создателем христианской догматики. Он признает человеческое тело воплощением божественного: «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога и вы не свои?» [1 Кор. 6:15,19]; «Вы же – Христовы, а Христос – Божий» [1 Кор. 3:23]. Вместе с тем Павел обращает внимание на то, что «тело мертво для греха» только в том случае, если человек живет «по духу»: «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» [Рим.8:9]; «Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном» [Рим.8:5]; «Живущие по плоти Богу угодить не могут» [Рим.8:8]. «Таким образом, – пишет Косевич, – человеческое тело является храмом, созданным во славу Божию, место особой ценности. Оно обретает статус сакрального бытия, так как есть Божье творение, есть место, в котором пребывает Бог, и в то же время – место Его культа» [3,88]. Тело человека включено в процессы спасения и воскресения как его важное условие: «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная» [Рим.6:22]. Человеческая телесность является вечной темой в философии, которая всегда стремилась определить телесную идентичность человека. Существует параллелизм в рассмотрении человеческой телесности древнегреческими досократиками и представителями философии локаята (чарвака) в древнеиндийской философии. Досократики утверждали, что человек состоит из различных природных стихий (воды, или воздуха, или земли, или огня) или что человека образуют все четыре природные стихии. Локаятики склонялись к последнему мнению. Такой параллелизм можно объяснить общей идеей космизации тела человека, тождества макрокосма и человека-микрокосма в древней философии, которая была космоцентрической. А.Ф. Лосев писал, что в античной культуре «…есть телесно человеческое, но отнюдь не личностно-человеческое» [5, 60]. Киники абсолютизировали 37 отелеснение человека, считая, что даже «сама душа обладает телом» [6, 247]. В противовес им Платон отстаивал усвоенное им от пифагорейцев отрицательное отношение к человеческому телу, истолковывая его как «темницу души». Это понимание сохраняется в стоицизме. «Относись же к своему телу, – пишет в своей исповеди Марк Аврелий, – с таким же пренебрежением, как если бы ты был при смерти; оно лишь кровь да кости, бренное плетение из нервов, жил и артерий» [7, 58]. Он цитирует слова Эпиктета: «Человек – это душонка, обремененная трупом» [7, 86]. Реабилитация человеческого тела происходит только в философии Возрождения. Н.А. Бердяев писал, что в этот период «гуманистическое сознание повернуло человека от духовного человека к природному человеку. Оно развязало природные человеческие силы» [8, 103]. С этим он связывал расцвет духовной культуры, особенно в Италии. Трактат Дж. Манетти «О достоинстве и превосходстве человека» представляет философский апофеоз человеческого тела. Здесь подчеркивается его красота и целесообразность, телесность рассматривается как естественная основа нравственности и причина творчески преобразовательного отношения человека к миру [9]. В философии Нового времени соматическое представление о человеке, базовым свойством которого является телесность, опирается на науки, особенно биологию и психологию. В советский период существования отечественной философии материалистические идеи Нового времени о теле человека и его соотношении с душой оценивались, как правило, положительно, рассматривались в качестве альтернативы идеализму и религии. При этом игнорировалось то, что натурализм в понимании человеческого тела приобрел механистический характер и привел в учениях Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо и Ж. Ламетри к отождествлению его с машиной или животным. Гоббс, имея в виду тело человека, с его инстинктами, писал, что человек является «более хищным и жестоким зверем, чем волки, медведи и змеи» [10, 234]. Ламетри утверждал, что «человек создан не из какой-то более драгоценной глины, чем животные. Природа употребила одно и то же 38 тесто как для него, так и для других, разнообразя только дрожжи» [11, 201]. Тело человека становится важнейшим предметом исследования в философской антропологии Л. Фейербаха, учение которого представляет вершину соматического понимания человека со всеми его достоинствами и недостатками. «Тело, – утверждал философ, – входит в мою сущность; тело в полноте своего состава и есть мое Я, составляет мою сущность» [12, 186]. Но Фейербах признает, что у человека имеется собственная биология, отличная от биологии животных и намного более совершенная. Давая анализ чувств животного, он показывает их видовую ограниченность и рассматривает тело и чувственность человека как свидетельство того, что человек является универсальным существом. «Даже желудок у людей… не есть животная, а человеческая сущность, – считал философ, – поскольку он есть нечто универсальное, не ограниченное определенными видами средств питания. …Если оставить человеку его голову, придав ему в то же время желудок льва или лошади, он, конечно, перестает быть человеком» [12, 201]. Именно Фейербах реабилитировал человеческое тело, рассматривая его не как объект, а субъектно, как телесного человека. Критикуя Б. Спинозу и Г. Лейбница, для которых тело есть лишь объект, он писал: «Свое тело… есть… не только предмет, но и причина видения и чувствования, выражаясь идеалистическим языком, не только объект, но и субъект-объект, и именно благодаря тому, что тело есть предмет для него самого, оно и есть живое, тождественное с нами тело» [13, 356]. Создавая свою концепцию сверхчеловека, Ф. Ницше презрительно относился к человеку. Известно его высказывание, что в современном ему человеке он любит лишь то, что «он есть переход и гибель» [14, 9]. Это высказывание относится не только к добродетелям человека, которые он называет «маленькими» (покорность, скромность, благоразумие, старание, осторожность), но и к его разуму, который он также называет «маленьким», и к его телу, в котором, по его мнению, многое осталось от червя и обезьяны. Но тело как таковое, как некая самость оценивается им чрезвычайно высоко. «За 39 твоими мыслями и чувствами… стоит более могущественный повелитель, – пишет он, – неведомый мудрец, – он называется Само. В твоем теле он живет; он и есть твое тело» [14, 24]. В противовес телу человека Ницше создает культ тела Сверхчеловека. Но описывает его скорее как «тело без органов», если использовать выражение Ж. Делеза и Ф. Гваттари: воля к власти, любовь к дальнему, одиночество, неукротимый дух, ненависть к толпе, из телесных качеств называется лишь здоровье. Такое понимание неслучайно, ибо тело Сверхчеловека есть человеческое тело, которое может болеть и стареть. В противном случае Сверхчеловек является уже не телесным существом, а Богом. В ХХ в. З. Фрейд создал новое понимание телесности человека, доказав, что «бессознательное существует в телесной форме» [15, 17]. В немецкой классической философии проблему человеческой телесности разрабатывали А. Гелен и Х. Плеснер. Вслед за Ницше Гелен обосновал идею о «рискованной конституции человека», его «конституционной ненадежности» и, как следствие, об отсутствии у человека видовой окружающей среды. В этих условиях создание человеком собственной среды – культуры – является способом его выживания, и тем самым культура признается лишь компенсирующим фактором жизни человека. Гелен стремится избежать метафизического понимания сущности человека и остаться в эмпирическом поле исследования, но в результате тело человека рассматривается им как особый биологический организм. Х. Плеснер ставит в своей антропологической концепции задачу найти априорные сущностные закономерности единства мира и человека. Живое тело рассматривается им как граница, в которой находятся в единстве форма и аспекты. Тело человека трактуется как пограничная реальность, в которой живет человек как целое. У человека есть две формы бытия: «бытие-телом» и «бытие-в-теле» (сознание и дух). Человек выводится из дочеловеческого бытия природы и рассматривается как вершина природной иерархии, что позволяет отнести представления Плеснера о теле и телесности к биологизаторским. К. Маркс обосновал представление о социальности человеческого тела. Но известный тезис Маркса о действительности сущности 40 человека как совокупности всех общественных отношений оказался не очень удачно словесно выражен, ибо, как иронически заметил В.Л. Круткин, «у совокупности общественных отношений не болит голова, он нигде не ест и не спит, у него нет пола, а значит, нет детей. Да это же просто идея человека, а не сам человек!» [15, 17]. Основное внимание Маркс уделял телу товара, его трансформациям в обществе, а не телу человека. В ХХ в. идея социальности человеческого тела получила обстоятельную разработку у М. Фуко. «Фуко же для порождения социальности, – пишет В.А. Конев, – берет другой телесный объект – само человеческое тело. Тогда социальность концентрируется в нем и на нем. …у Фуко она заключается в организации “движения” тела, в подчинении этого движения определенным позициям. …Власть реализуется через “технологию тела”, она выстраивает пусть несвязный, но “дискурс тела”» [16, 28-29]. Тело становится экономическим и политическим, встраиваясь в структуру материального производства и сферу политики. Фуко считает, что власть организует специфические техники тела, или «дисциплины», с помощью которых она производит способности человеческого тела к установлению социальных связей надзора и подчинения и тем самым формирует определенный тип общества и человека. «На самом деле, – пишет философ, – власть производит. Она производит реальность; она производит области объектов и ритуалы истины. Индивид и знание, которое можно получить об индивиде, принадлежат к ее продукции» [17, 284]. Власть производит социальность тела с помощью специальных методов«дисциплин», применение которых Фуко проиллюстрировал на примере школьников и заключенных. Идею технического состава тела человека разрабатывали постмодернисты Ж. Делез и Ф. Гваттари, квалифицируя человека как «желающую машину», или машину желаний. Они представляли человека как единство тела с органами и тела без органов (бессознательные желания). Весь социокультурный мир сводился к различным общественным машинам. Желания человека именовались молекулярными, а желания общественных машин – молярными, из которых 41 первые представляют революционный фактор в общественном процессе, а вторые консервативный. Функция первых заключается в том, чтобы, имея творческую природу, запускать механизм общественных процессов, а функция вторых – производить отбор желаний человека и направлять их в общественные желания, а те – в цели. У постмодернистов фрейдистская идея о человеке как машине, заряженной психической энергией, соединена с технократическими взглядами на общество и исторический процесс. Представление о животности и машинности человеческого тела оживает в современной философской мысли, рассматривающей вопрос о будущем человеческой телесности. Утверждается, что уже сегодня человек становится биосоциотехническим существом (искусственные зубы, глазные линзы, кардиостимуляторы, протезы ног и рук и т.д.), вследствие чего люди именуются частичными андроидами (естественно-искусственный человек). Авторы ряда концепций о теле современного и будущего человека высказывают идею, что сегодня роль искусственного отбора выполняет культура, благодаря которой люди различных культур, обеспечивающих различное качество жизни, развиваются телесно и психологически неодинаково. «Повидимому, – пишет А. Буровский, – пора ставить вопрос о сосуществовании популяций, в которых происходит переход к разным формам постчеловека и в которых он не происходит» [18, 196]. Точнее человеческое тело является биосоциокультурным. Общество, с одной стороны, и культура – с другой, детерминируют человеческое тело. Если посмотреть на доспехи средневековых рыцарей, то обнаружится, что их рост и телосложение отстают от биологических параметров тела современного человека, которое является результатом достижений индустриальной цивилизации с лучшей структурой питания, лучшим уровнем медицины и т.д. В исследованиях Ю.И. Новоженова было обнаружено, что из 27 видовых признаков человека минимум 24 имеют культурное происхождение [19, 34]. Кроме проблемы сущности человеческой телесности актуальным является вопрос о взаимодействии тела человека с обществом и культурой. Общество через социальные институты, профессии, соци42 альные группы и социальные вещи воздействует на человеческое тело. «Технология власти, – утверждает В.А. Подорога, – включает в себя не только стратегию подавления, но и стратегию подчинения. …Госпиталь, тюрьма, казарма, завод, семья – тут формируются самые различные дисциплинарные тела» [20, 223,230]. Фуко называл вмешательство и регулирование явлений, связанных с телом человека (рождаемость, смертность, здоровье, продолжительность жизни), «био-политикой народонаселения» [21, 244]. Действительно, социальные и профессиональные институты формируют тело человека. Еще Д. Юм обращал в XVIII в. внимание на то, что тело представителей классов, занимающихся исключительно умственным трудом, отличалось от тела тех, кто занимался физическим трудом, считая, что идентичность человека для других определяется его телом. К. Маркс в 24-й главе «Капитала» описал жестокую социальную маркировку тела в виде клейма, отрезания уха и т.д. у бездомных, бродяг, бедняков, которую осуществляла английская власть в период первоначального накопления капитала. В ХХ в. М. Фуко и Де Серто сформулировали идею «записи закона на теле». Н. Козлова [22] описывает в исторической антропологии тело представителей разных сословий в средневековом обществе. Крестьянин: лицо как маска; работа как работа телом; стереотипность языка; естественно-циклическое отношение к жизни и смерти; подчинение жизни естественным ритмам; речевые фразы короткие, рубленные. Крестьянка: машина для рождения детей. Дворянин-рыцарь: физическая сила, необходимая для турниров, и владение военным оружием, привычка к мясной пище, ритуальный способ решения споров через дуэль. Тело, образ жизни, чувства жестко соответствовали социальным ролям. С телом человека связаны все стороны жизни индивида в обществе (пол, здоровье, работа, специальность, отдых, любовь, брак, рождение детей, речевое общение и т.д.), что позволяет говорить о его социальной универсальности. Все сферы общественной жизни имеют целью обслуживание человеческого тела (производство, потребление, социальное обеспечение). Кроме того, общество и культу43 ра входят в тело человека через генетические механизмы: функциональная ассиметрия коры больших полушарий головного мозга, врожденные центры речи, генетически определенные центры управления движением, нейрогормональная, кардиологическая, мускульная, респираторная системы [15, 108-109]. Различные отрасли медицины социотехнически воздействуют на тело человека (глазная хирургия, трансплантация органов, в том числе и искусственных, вживление стволовых клеток, изменение пола и т.д.). В свою очередь, тело человека воздействует на общество: половая дифференциация человека – на систему общественного разделения труда; витальные потребности человека – на отрасли легкой промышленности (производство обуви, одежды, лекарств, косметики, мебели и т.д.), социальные потребности – на систему власти, демографическую и социальную политику, систему здравоохранения и образования, военную обороноспособность страны и т.д. Не менее тесным является взаимодействие культуры и человеческого тела. М. Мосс провел сравнительное исследование многих техник человеческого тела (плавание, ныряние, копание, маршировка в военном строю, ходьба, положение рук и ног во время отдыха и ходьбы, бега, охоты, сидение, роды и акушерство, сон, бодрствование, ползание, танец, влезание на дерево и спуск, броски в воздух, уход за ртом, прием пищи и т.д.) и обнаружил их различие, обусловленное культурами. Подводя итоги описаний техник тела, Мосс утверждает: «Я думаю, что здесь также, что бы нам ни казалось, мы имеем дело с явлениями биолого-социологическими. Я считаю, что основное воспитание всех этих техник состоит в том, чтобы адаптировать тело к его использованию. …Я думаю, что представление о воспитании рас, производящих у себя отбор с целью достижения определенной производительности, составляет один из фундаментальных аспектов самой истории» [23, 78,79]. Эти техники тела формируются с опорой на мораль, религию, искусство. В свою очередь, тело воздействует на существование и развитие различных форм культуры. Существует женский роман и любовный роман в литературе, мужская и женская скульптура, женский и муж44 ской портрет в живописи. Тело исследуется медицинскими науками, генетикой человека, анатомией и физиологией человека, экологией. В лингвистике телесность присутствует в лексике (мозговой центр, государево око, рука судьбы), в фольклоре в формах паремий – пословицах и поговорках (борода глазам не замена; в сердце нет окна; велик телом да мал делом; глаза – зеркало души; кость да жила, а все сила; нос не по чину; рот шире ворот и т.д.), философии (проблемы человеческой телесности, страстей, речевой коммуникации, соотношения биологического и социального в человеке и т.д.). Огромную роль играет человеческое тело в существовании форм массовой культуры – спорте, телевидении, кино, эстраде. Тема человеческой телесности включает и проблему телесной идентичности человека. Сам термин «идентичность» появляется в работах Д. Рисмана «Одинокая толпа» и «Идентичность и тревога». Благодаря различным учениям сформировалась философия идентичности. С.И. Емельянова понимает под идентичностью «выражение своей причастности к миру, которому придается статус бытия…в нем отражается сущность неповторимо уникального существования идеальной личности…» [24,164]. Э. Эриксон определяет идентичность как «чувство непрерывной самотождественности» [25], В. Хёсле как «сохранение формы объекта во времени» [26,112]. Идентификация рассматривается как механизм формирования идентичности. Проблему идентичности с точки зрения психоанализа рассматривали З. Фрейд и Э. Эриксон, с точки зрения Я-концепции – Р. Бернс, с точки зрения постмодернизма – Ю. Кристева, как проблему конструирования Я – Е.О. Труфанова, как проблему нарциссизма желания – Е.К. Краснухина. Эриксон [25] рассматривает проблему идентичности в концепции восьми стадий жизни человека. Он понимает человеческую идентичность как единство трех аспектов его жизни: телесного, психического и социального. На первой стадии (первый год жизни) ребенок осваивает телесную близость родителей, ухаживающих за его телом; на второй стадии (два-три года) различные техники тела (ходить, лазать, открывать – закрывать, толкать – тянуть, держать, отпускать – 45 бросать); на третьей стадии (четыре-пять лет) ребенок проявляет разнообразную моторную активность; на четвертой стадии (шестьодиннадцать лет) у ребенка формируются трудовые навыки; с пятой (с 12 лет) по восьмую стадии начинают преобладать психическая и социальная идентичность; на шестой стадии (начало зрелости) телесная идентичность играет важную роль при создании семьи и утверждения себя в профессии, на седьмой стадии появляется интерес к общечеловеческим проблемам, а на восьмой стадии жизненного цикла телесная идентичность важна как фактор сохранения здоровья и отсрочивания дряхлости и смерти. Я-концепция характеризует «совокупность всех представлений индивида о себе, сопряженная с их оценкой» [27]. Эта концепция включает три образа Я: реальное Я (представление индивида о себе), зеркальное Я (представление об индивиде значимых других) и идеальное Я (установки индивида о значимых других и о том, каким он хотел бы быть). Телесная идентичность формируется у индивидов в детстве. В младенчестве накапливается опыт переживаний и функций тела (ощущения тела появляются в 18-20 месяцев), в возрасте 3-4 года дети различают свое физическое Я и внутреннее Я, описывая себя, как правило, с помощью внешних физических характеристик. Позже у ребенка формируется половая самоидентичность, ассоциирующаяся с идеальным образом мужского или женского тела. В. Хёсле подчеркивает, что тело является важным фактором личностной идентификации, во-первых, потому что «позволяет другим людям идентифицировать конкретного человека» [26,113]; вовторых, потому что тело формирует чувство самости по отношению к своей физической уникальности и ее соответствия нормативным образцам телесности, существующим в обществе и культуре; в-третьих, потому, что тело является одной из причин кризиса индивидуальной идентичности, возникающего в силу «неспособности человека идентифицировать себя со своим телом» [26,118] при различных телесных изменениях (половое созревание, физическое увечье, старение и т.д.) или при неверном образе своей телесной самости. Последствием кризиса индивидуальной телесной идентичности являются трагические 46 переживания человека из-за его нормативного непризнания другими, утраты социальных ролей, разрушении семьи и т.д. Выход из кризиса телесной идентичности заключается в разумном признании de facto, отказе от завышенных оценок своей телесной самости, переключении на социальные роли, где больше ценятся трудовая и интеллектуальная самость. Современные биотехнологии в состоянии преобразовать тело человека: изменить пол, ликвидировать наследственные заболевания, изготовить запасные части для тела человека и внедрить их в него, улучшить (с точки зрения моды) органы тела человека, замедлить старение человеческого тела, обеспечить рождение детей с помощью искусственных средств и т.д. В результате трудно определить человеческую телесность, ибо органы могут быть искусственными. «Современный человек, – утверждает Круткин, – во многом утратил подобную онтологическую определенность. Бесчисленные «зомби» и «киборги», заполнившие экраны ТВ, отчасти свидетельствуют о кризисе телесной идентичности. ...Не очень веселая перспектива находиться между телесностью зверя и телесностью машины!» [15,9]. Могущество биотехнологий вызывает опасения в отношении их применения к человеку. Первое заключается в том, что изменение человеческого тела связано с риском для жизни, второе – с конкуренцией: люди, тело и психика которых улучшены, имеют преимущество перед другими, так что возникает неравенство доступа к использованию биотехнологий, третье касается свободы и принуждения. В тиранических режимах или в условиях деспотизма в семье, при давлении окружающих контроль за генетикой превращается в генетический деспотизм. «Судя по всему, – пишет Л. Касс, – технологии улучшения будут применяться с рабской приверженностью социальным или просто модным понятиям «превосходства» или совершенства, скорее всего поверхностным и почти наверняка конформистским» [28,41]. В результате возникнет гомогенизация человека, лишение его индивидуальности. Четвертое опасение состоит в том, что бессмертие тела отвлечет человека от реализации его устремлений, нарушит потребности в потомстве и создаст неразрешимые проблемы в социальном 47 обеспечении человека. Совершенство человека, полученное с помощью биотехнологии, обозначается Кассом как «фаустовская сделка, цена которой есть полная утрата человечности» [28,49]. 2.3 Деструктивность человека Понятие «деструктивность». Проблема деструктивности в истории философии. Садизм и некрофилия как формы деструктивности Понятиями, близкими по значению деструктивности, являются «агрессия» и «насилие». В психологии агрессия понимается как «любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения» [1, 26]. Это определение не учитывает того, что агрессия может применяться не только к отдельным людям, но и к группам людей, народам, государствам, и включает она не только действия, но и их цели и результаты. В политологии агрессия понимается как «незаконное вооруженное применение одним или несколькими государствами силы против политической независимости к суверенитету какого-либо государства или народа» [2]. Насилие же трактуется как преднамеренные действия, направленные на уничтожение человека (других живых существ) или нанесение ему ущерба и осуществляемое вопреки его воле» [3]. Таким образом, «агрессия» рассматривается в геополитическом дискурсе, а «насилие» – в антропологическом. Термин «социальное насилие» характеризуется социологией как синоним агрессивности и деструктивности, как «применение или угроза применения силы (в прямой или косвенной форме) с целью принуждения людей к определенному поведению, – господство одной воли над другой, чаще всего связанное с угрозой человеческой жизни» [4]. В юридических науках насилие связывается с нарушением прав человека: «Насилие – физическое или психическое воздействие одного человека на другого, нарушающее гарантированное Конституцией РФ право граждан на личную неприкосновенность» [5]. 48 Агрессия считается понятием международного права: это «любое противоправное с точки зрения Устава ООН применение вооруженной силы» [6]. В социальной философии исследовался феномен социального насилия, который в советский период рассматривался как синоним классового принуждения, подавления, подчинения. Примером такого понимания служит статья Г.И. Киреева «Сущность социального насилия» [7]. А.П. Мальцева указывает, что поскольку различные науки понимают насилие неоднозначно, то «определение насилие связано с борьбой смыслов и сил, их охраняющих» [8, 150]. Ввиду того, что есть насилие индивидуальное и социальное, сразу оговоримся, что далее мы будем рассматривать только первое в границах предмета философской антропологии. В качестве сущностных свойств насилия, понимаемого в философско-антропологическом плане, Мальцева выделяет такие, как ответ на унижение, связь с идентификацией, которую с помощью насилия создают, разрушают или восстанавливают, отсутствие духовного развития, несправедливость, нарушение покойного существования, отказ от культурной идентичности [8, 148-150]. Поскольку неясны основания выделения свойств насилия, то неясно и то, имеется ли их конечное число или к этому перечню можно прибавить и другие свойства. В философской антропологии XIX-XX вв. термин «насилие» связан с работами Л.Н. Толстого и И.А. Ильина. Первый рассматривал феномен насилия в своей этической концепции ненасилия. Не давая самой дефиниции термина «насилие», он использовал его для характеристики таких действий, как избиение и убийство, исполнение социальных ролей, которые связаны с правоохранительной, политической и военной деятельностью, письменное или устное одобрение причинения вреда человеку [9, 82]. Второй не отождествлял насилие с применением силы. Законы права он считал не законами насилия, а законами «психического понуждения», что же касается физического заставления, то насилие он определял как действие противодуховное и противолюбовное, например, «грубое, оскорбительное обращение с заключенными, телесные наказания, лишение их всякого проявления, 49 любви – свиданий, передач, чтения, богослужения, духовника» [10, 29] и т.д. Ильин связывал с насилием аффективные действия и особенно психический результат действий для человека. «Не всякое применение силы к «несогласному», – считал он, – есть насилие. …Противодуховно и противолюбовно не понуждение и не пресечение, а злобное насилие. …Самое насилие, при всей его внешней грубости, несет свой яд не столько телу, сколько духу; самое убийство, при всей его трагической непоправимости, предназначается не столько убиваемым, сколько остающимся в живых. И то, и другое вселяет страх и усиливает действие соблазна, колеблет волю, будит страсти, искажает очевидность» [10, 34, 35, 36]. Можно сделать вывод, что термины «насилие» и «агрессия» полисемантичны и их специфические смыслы связаны с предметом той или иной гуманитарной науки. В основе всех определений насилия находится применение силы. Агрессия относится к геополитическому дискурсу. В понимании феномена деструктивности философы занимают позиции либо биологизма, либо психологизма, либо социологизма и связывают сущность деструктивности с пониманием сущности человека. Биологическое понимание этого феномена присутствует в учениях Т. Гоббса, Р. Декарта, Б. Спинозы, де Сада, Ф. Ницше, З. Фрейда. Т. Гоббс, считая природу человека биологической, искал причины деструктивности в инстинктах человека. «Таким образом, – утверждал он, – мы находим в природе человека три основных причины войны: во-первых, соперничество; во-вторых, недоверие; втретьих, жажду власти» [11, 151]. Для преодоления такого состояния общества, как «война всех против всех», он предлагал путь завоеваний либо путь договорного создания государства, который считал более предпочтительным. Р. Декарт и Б. Спиноза рассматривали феномен деструктивности в теориях аффектов. Декарт полагал, что аффекты-страсти по природе «все относятся к телу и даны душе только постольку, поскольку она связана с телом, так что их естественное назначение побуждать душу к содействию всему тому, что как-нибудь служит для сохранения те50 ла или для его благополучия» [12, 661]. Философ считает сущностью деструктивности такую страсть, как ненависть, детерминируемую чисто физиологически приливом крови от мозга к мускулам желудка и внутренности, что приводит к сужению отверстий кровеносных сосудов и неравномерным температурным режимам крови в сердце; учащенным пульсом, жаром в груди, прекращением деятельности желудка, увеличением вязкости крови и т.д. Спиноза, считавший, что человек представляет модус субстанции, природно-животное существо, наделенное аффектами, относит ненависть к аффекту желанию. Аффект ненависти детерминируется, согласно ему, не только объектом, но и аффектом неудовольствия. Но Спиноза не ограничивается трактовкой аффектов, в частности, аффекта ненависти, а ищет путь их преодоления с помощью познавательной деятельности, руководимой разумом. Философия насилия, созданная маркизом де Садом после французской революции конца XVIII в., основывается на идеях атеизма, равенства людей и абсолютной свободы сверхчеловека («Мы Боги»). Поведение десадовского сверхчеловека направляется инстинктами, его эмоции имеют исключительно агрессивный характер, ему недоступны чувства милосердия и эмпатии, он не знает высоких нравственных побуждений, не уважает людей и саму жизнь, видит в людях лишь объекты своих бесчеловечных сексуальных экспериментов и готов на любые преступления ради удовлетворения своей похоти. Симона де Бовуар писала о его книгах, что «герои Сада ни на минуту не теряют своей животной сущности и одновременно рассудочности. Желание и наслаждение создают кризис, который разрешается чисто телесным взрывом» [13, 146]. Камю называл де Сада «учителем пыток» и «теоретиком сексуальных преступлений», а Ж. Жанен писал о романах Сада как о кошмарах, которые посильнее, чем на улице Вязов [13, 89]. Чтение романов Сада рождает ассоциации то с фашистскими концлагерями смерти, то со злодеяниями современных террористов. Сад описал отвратительные практики либертинажа, группового секса с извращениями и сформулировал декларацию прав эротизма, 51 открыл явления садизма и мазохизма и изобразил портреты либертенов, сексуальных маньяков XVIII в. В аспекте понимания человеческой природы он открыл существование в человеке «“непреодолимой тяги к разрушению” и фундаментальное допущение постоянного и неизбежного стремления к уничтожению всего рождающегося, растущего и стремящегося к жизни» [13, 98-99]. Но Сад полностью биологизировал влечение к смерти, сделав из природы человека машину смерти. Работы де Сада, по сути дела, содержат отрицательный опыт о безудержных разрушительных страстях человека, которые не контролируются сознанием, об опасностях абсолютной свободы, об атеизме как возможном источнике аморальности, о тоталитаризме как самой бесчеловечной форме власти. Исходной у Ф. Ницше в понимании человека является идея о том, «что человек для себя самого самое жестокое животное» [14,159], руководимое инстинктами. Поэтому жизнь человека «тождественна инстинкту роста, власти, накопления сил, упрямого существования» [15, 21]. Рассматривая человека как неустановившееся животное, Ницше разрабатывает идеал сверхчеловека как нового физического и психического типа человека, для которого свойственны индивидуализм, неукротимый дух, злоба и ненависть к другим, отсутствие страха, телесное здоровье. Но если человеческое тело лишается одухотворенности и превращается в самоценность, то последствием такого понимания является нигилизм в области морали и религии и социал-дарвинизм в области общественной жизни. Н.А. Бердяев считал, что у Ницше происходит «переход гуманизма в антигуманизм» в форме идеи сверхчеловека» [16,121]. Идея разрушительности, деструктивности была выдвинута З. Фрейдом в работе «Я и Оно», где он отказался от принципа пансексуализма и признал, что у человека кроме инстинкта жизни, Эроса, имеется и инстинкт смерти, Танатос, и оба эти инстинкта могут смешиваться в одном индивиде или разъединяться. «В садическом элементе полового влечения, – утверждает Фрейд, – мы имели бы классический пример целесообразного смешения влечений, а в чистом садизме как извращении образец разъединения» [17,37]. 52 К психологической модели деструктивности относятся учения Д. Юма, Г. Зиммеля, Ж.-П. Сартра, К. Хорни. Юм считает ненависть одним из базовых косвенных аффектов, имеющих психическую природу. Прямые и косвенные аффекты могут соединяться, смешиваться, усиливаться, порождая всевозможные психические и нравственные состояния, мотивы, оценки. Поскольку из морали изгоняются рациональные моменты, то человек превращается исключительно в эмоционально-чувственное существо. Зиммель в работе «Человек как враг» считает, что «враждебность оказывается, по меньшей мере, некоторой формой или основой человеческих отношений наряду с другой симпатией между людьми» [18,501]. Враждебность охватывает большой спектр психических состояний от антипатии до разрушительности, проявляющей себя в войнах. Сартр рассматривает проблему деструктивности, исследуя проблему Я-Другой. Существование Другого свидетельствует, по его мнению, о неполноте и ущербности человека, которому Другой дает его бытие. Но бытие он отождествляет с обладанием, вследствие чего Другой рассматривается как «похититель моего бытия», превращающий меня в объект. В этой противоречивости отношений Я и Другого уже содержится конфликт. «Конфликт, – утверждает Сартр, – есть изначальный смысл бытия-для-другого» [19, 558]. Он выделяет две установки по отношению к другому: первая – любовь, язык, мазохизм, вторая – безразличие, желание, ненависть, садизм. Сартр определяет садизм как «страсть, холодность, ожесточение». Холодность обусловливается тем, что появляется «желание спастись от тревоги», а ожесточение тем, что представляет «состояние-Для-себя», в котором утрачиваются цель и ценность. «Его (садиста – И.С.) целью, – пишет Сартр, – …является захват и порабощение Другого не только в качестве Другого объекта, но как чистой воплощенной трансцендентности. Но в садизме акцент переносится на инструментальное присвоение воплощенного Другого. …Садизм есть стремление воплотить Другого посредством насилия, и это воплощение “силой” должно быть уже присвоением и использованием другого» [19, 607]. 53 В отличие от садизма ненависть представляет «решение добиваться смерти другого. …Это равнозначно проекту реализовать мир, где другой не существует» [19, 622-623]. Поэтому «ненависть не унижает ненавидимый объект», а хочет его разрушить. Ненавидят не мелкие черты другого, а всего его как психическую целостность, трансцендентность другого. Ненависть вызывается не столько злом, причиняемым мне другим, сколько тем, что я должен испытывать по отношению к нему признательность и значит превращаться в объект, лишаться своей свободы. В лице другого в ненависти к нему Я, по мнению Сартра, ненавидит свое реальное отчуждение и порабощение, так что этот другой превращается в репрезентанта всех других, что порабощали Я: «Ее (ненависти – И.С.) начальный проект в действительности является проектом ликвидации других сознаний» [19, 625]. Сартр признает бесполезность ненависти, ибо, во-первых, ненависть предполагает существование другого, а во-вторых, это существование другого всегда сохраняется со мной даже при смерти другого как бытие в памяти. «Таким образом, триумф ненависти, – делает вывод философ, – при самом своем появлении преобразуется в поражение. Ненависть не позволяет выйти из круга» [19, 625]. Но эти рассуждения Сартра описывают акты «чистого», трансцендентного сознания, где мир вынесен за скобки. Поэтому можно сделать вывод, что Сартр абсолютизирует конфликтность в отношениях между людьми. К. Хорни, рассматривая проблему неврозов, считает, что они вызываются не противоречиями либидо индивида и культуры, а нарушением человеческих взаимоотношений, противоречиями между стремлением к безопасности и чувствами изолированности, беспомощности, страха и враждебности. Ею выделяются три типа взаимоотношений: «движение к людям», «движение от людей» и «движение против людей», – анализируя которые она пытается синтезировать идеи З. Фрейда и Э. Фромма. У человека, отношения которого с другими строятся по типу «движение против людей», доминируют агрессивные наклонности. В его установках по отношению к другим преобладает представление о 54 враждебности других, и поэтому он организует свою жизнь как борьбу против всех: «Всяк за себя и к черту отстающих». В связи с этим его «главной потребностью становится потребность управлять другими… эксплуатировать других, стремление перехитрить кого-то и использовать в своих целях» [20, 46,47]. Данные отношения к другим формируют такие психические качества, как жестокость, неуступчивость, нетерпимость, безжалостность, жизненная позиция «борьбы» со всеми. «Его (человека данного типа – И.С.), – считает Хорни, – система ценностей строится на основе философии джунглей. Сила дает право. Отбрось гуманность и жалость. Homo homini lupus est» [20, 50]. Но хотя Хорни связывает данный характер человека с человеческими взаимоотношениями, она понимает их как исключительно психологические отношения, игнорируя их связь с обществом. Последствия невротических конфликтов имеют у Хорни два сценария. Первый является сценарием неразрешенных конфликтов, следствием которых выступает страх, обеднение личности, состояние безнадежности, садистские наклонности (стремление к порабощению партнера). Другой сценарий характеризует разрешение невротических конфликтов. Описание психологических конфликтов и анализ способов их разрешения представляет заслугу Хорни. К социологическим моделям деструктивности можно отнести учения М. Фуко и Э. Фромма. Жестокость человека, выраженная в его преступлениях, и жестокость общества, выраженная в наказании этих преступлений, является важной проблемой в философии Фуко. В книге «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» им исследуется история наказания осужденных обществом людей как преступников и в связи с ней история пенитенциарной системы в Европе и США. Начиная со средних веков и вплоть до середины XVIII в. в Европе широко распространенной формой наказания преступников являлась публичная казнь. Описывая публичную казнь Дамьена (нанесшего удар ножом королю Людовику XV) путем четвертования, Фуко характеризует ее как выражение жестокости власти по отношению к человеческому телу, проявлявшееся в надругании над ним, как способ устрашения народа и укрепление самой власти, средство приуче55 ния народа к жестокости и развязывание низменных инстинктов толпы, превращение смерти в зрелищную вакханалию. Уголовно-правовые кодексы XVIII-XIX вв. рассматриваются Фуко как свидетельство новой правовой идеологии, согласно которой «искупление, которое некогда терзало тело, должно быть заменено наказанием, действующим в глубине на сердце, мысли, воли, наклонности» [21, 26]. Но еще в XVIII в. во Франции применялись пытки, колесование, виселица, сожжение. Фуко называет такие формы наказания «театром террора», вписанным в политическую и судебноправовую систему. Смещение преступности от «кровавой» к «мошеннической» в связи с развитием капиталистических отношений и бурные протесты народа против публичных казней стимулируют развитие реформистского движения в сфере судебно-правовой системы. Сначала вводится наказание в виде общественных работ, а позже в виде тюремного заключения. Изменение системы наказаний было обусловлено изменением целей наказания от репрессивных к предупреждающим преступления. Но Фуко не идеализирует тюрьму, показывая, что создание тюрем привело к росту правоохранительного аппарата и злоупотреблений тюремной власти над заключенными, к порождению рецидивизма преступлений и превращению заключенных в «деликвентов», объединенных в тюремные сообщества и враждебно настроенных по отношению к обществу. Философ характеризует тюрьмы как «карцерский архипелаг», который переносит пенитенциарную систему управления на все общество, делая карательную функцию государства универсальной. В результате все индивиды оказываются под контролем различных карцерных устройств, а социальные институты превращаются в карцеры, где «прививается послушание и производят деликвентность». «Тюрьма, – утверждает Фуко, – продолжает над теми, кто ей верен, работу, начавшуюся в другом месте и производимую всем обществом над каждым индивидом посредством бесчисленных дисциплинарных механизмов. Благодаря карцерному континууму инстанция, выносящая приговоры, проникает во все те другие институты, которые контролируют, преобразуют и улучшают» [21, 446]. 56 У Фромма проблема человеческой деструктивности становится одной из центральных. Он считает, что «противоречие между эросом и деструктивностью, между связью с живым и связью с мертвым на самом деле является основополагающим противоречием в человеке» [22, 285]. В отличие от Фрейда, который относил инстинкт смерти к нормальной биологии, Фромм относил его к психопатологии. В работе «Анатомия человеческой деструктивности» он стремится в понимании данного феномена синтезировать подходы биологизма, психологизма и социологизма при доминировании социологического подхода. Фромма интересует преимущественно не индивидуальный характер (как Фрейда), а социальный, который понимается им как «та совокупность черт характера, которая присутствует у большинства членов данной социальной группы и возникла в результате общих для них переживаний и общего образа жизни» [23, 230]. Характер является способом компенсации утраченных в значительной мере человеком инстинктов. В структуре характера организована человеческая энергия в виде страстей, часть из которых становится доминирующей компонентой структуры личности, направляющей поведение человека в зависимости от различных социальных условий. Фромм различает два вида агрессии: доброкачественная («биологически адаптивная агрессия служит делу жизни») и злокачественная, которую он называет деструктивностью. В последней философ выделяет спонтанные формы деструктивности (отмщение, экстатическая и поклонение) и деструктивность характера в виде садизма и некрофилии. Фромм анализирует два распространенных подхода к пониманию сущности садизма: желание причинять боль вне зависимости от насилия или отсутствия сексуальных мотивов и усмотрение в садизме сексуального феномена, первородного влечения либидо. Считая сексуальный садизм распространенной формой садизма, Фромм не сводит садизм к сексуальным извращениям, а считает, что «настоящий садист – человек, одержимый страстью властвовать, мучить и унижать других людей» [24, 246]. Причем, по его мнению, «душевная жестокость, психический садизм, желание унизить другого человека и обидеть его распространены, пожалуй, еще больше, чем 57 физический садизм. …Их – тьма в человеческих отношениях. Начальник – подчиненный, родители – дети, учителя – ученики и т.д. и т.п. Иными словами, он встречается во всех тех ситуациях, где есть человек, который неспособен защитить себя от садиста» [24, 248]. Историческим примером психического и физического садизма он считает И. Сталина, Г. Гиммлера, А. Гитлера. Условия, вызывающие садизм, делятся Фроммом на общественные и индивидуальные факторы. К первым он относит господство одной группы над другой, принадлежащей к классовому, расовому, религиозному или сексуальному меньшинству. В качестве вторых факторов Фромм выделяет обстоятельства, которые дают человеку «ощущение пустоты и беспомощности. …К таким обстоятельствам относится все, что вызывает страх, например, “авторитарное” наказание. …Другое обстоятельство, приводящее к утрате жизненных сил, может быть связано с ситуацией душевного обнищания... в безрадостной атмосфере черствости и душевной глухоты» [24, 259]. Но в этом случае группа может усиливать или ослаблять садизм индивида. Таким образом, выделяются две формы садизма: социальный и индивидуальный, личностный, связь между которыми основывается на принципе детерминизма. Второй формой деструктивности характера является некрофилия. Фромм не отрицает существования сексуальной некрофилии (любви к мертвому), но понимает ее гораздо шире. «Итак, некрофилию, – пишет он, – в характерологическом смысле можно определить как страстное влечение ко всему мертвому, больному, гнилостному, разлагающемуся; одновременно это страстное желание превратить все живое в неживое, страсть к разрушению ради разрушения; а также исключительный интерес ко всему чисто механическому (небиологическому). Плюс к тому это страсть к насильственному разрыву естественных биологических связей» [24, 285]. Некрофильский характер имеет свои проявления во внутреннем мире человека, в его непреднамеренных действиях, речевом общении с другими людьми, отношениях к технике. Наиболее ярко влечение к мертвому проявляется во внутреннем мире индивидов в некрофиль58 ских сновидениях, представляющих собой символы смерти. Непреднамеренные некрофильские действия бывают разнообразными: влечение к скелетам и болезням, привычка ломать и рвать на мелкие кусочки все, что под руку попадется, уничтожение произведений искусства (мебель, посуда, статуэтки, художественные полотна, книги), действия, выражающие жажду обладания ценой причинения смерти другому, интерес к болезни и смерти в разговорах, чтение газет, частое посещение кладбищ, интерес к прошлому, особенно собственности, которой владел человек, предпочтение темных цветов в быту (черный, коричневый), пристрастие к дурным запахам, неумение радоваться, смеяться. Некрофильский язык включает слова, смысл которых связан с разрушением, экскрементами, войной, преступлениями. Фромм устанавливает связь между деструктивностью и поклонением технике и технологиям, проявления которой являются разнообразными. К их числу относится увлечение механическими артефактами: чрезмерная любовь к автомобилям, увлечение фотографией, конструирование технических устройств в быту. Некрофильский синдром выражается у людей, у которых «интерес к артефактам вытеснил интерес ко всему живому, и потому они механически с педантизмом автомата занимаются своим техническим делом». Манифест футуризма (1909) рассматривается им как образец выражения деструктивности, особенно некрофилии: «Да здравствует война – только она может очистить мир. Да здравствует вооружение, любовь к Родине, разрушительная сила анархизма, высокие Идеалы уничтожения всего и вся! …Мы вдребезги разнесем все музеи, библиотеки. Долой мораль трусливых соглашателей и подлых обывателей!» [24, 296]. В манифесте встречаются такие элементы некрофилии, как обожествление машин, прославление войны, разрушение культуры. Во втором манифесте футуризма говорится о святости колес и шин, шуршание скоростного автомобиля понимается как «чувство единения с Богом», звучит призыв к разрушению домов и городов ради создания территорий для автомобилей и самолетов. В современном городе этот призыв осуществляется: сносятся дома и вырубаются деревья для строительства автомобильных дорог и стоянок. Вторая миро59 вая война стала войной моторов, превратившись в некое автоматизированное производство техники разрушения и массовой гибели людей. Возникает трудный вопрос: можно ли оценивать дух индустриального и постиндустриального общества с точки зрения некрофильских тенденций? Фромм отвечает на этот вопрос положительно. Деструктивность проявляется в типах личности «Marketing-character» (рыночная личность) и кибернетический человек, представляющих формы отчужденного человека в современности. Для этих типов личности характерна не страсть к мертвым и смерти, а «общая ориентация на все искусственное, на вторую рукотворную реальность, отрицающая все естественное, природное как второсортное» [24, 301]. У таких людей теряется интерес к жизни, людям, природе, чувствам, заменяясь интересом к предметам, вещам, техническим приемам отношения к миру, чувства упрощаются, любовь переносится на машины. «Мир превращается, – пишет Фромм, – в совокупность артефактов, человек весь (от искусственного питания до трансплантируемых органов) становится частью гигантского механизма, который находится вроде бы в его подчинении, но которому он в то же время сам подчинен. У человека нет других планов и иной жизненной цели, кроме тех, которые диктуются логикой технического прогресса» [24, 301]. Но вместе с тем Фромм отмечает противоположную тенденцию силы любви к жизни (движение за мир, против загрязнения окружающей среды, предпочтение духовных ценностей и т.д.). В результате признаются две формы ориентации в жизни: некрофилия и биофилия – и два основных типа личности: некрофил и биофил. Обе ориентации находятся в обратно пропорциональной зависимости. «Некрофилия, – писал Фромм, – вырастает там и настолько, где и насколько задерживается развитие биофилии. Человек от природы наделен способностью к биофилии, таков его биологический статус; но с точки зрения психологии, у него есть и альтернативная возможность, т.е. он может при определенных обстоятельствах сделать выбор, в результате которого он станет некрофилом» [24, 316]. 60 Имеется симптоматика некрофилии, к которой относится неспособность человека вырваться из оков нарциссизма, ощущение своей изолированности и никчемности, «витальная импотенция», желание самоутверждения любой ценой, даже разрушением жизни. Но эта жизненная ориентация реализуется в определенных социальных условиях войны, террористических политических режимов, экономической нестабильности, прагматизации общественной и личной жизни, социальных контрастов между группами, общей атмосфере враждебности и нетерпимости. Деструктивность представляет форму человеческой жизни, которая является одним из решающих факторов в социальном процессе [24, 318]. Деструктивный человек Фромма замыкает длинный ряд определений человека, свидетельствующих о повреждении человеческих качеств (животное, зверь, паук, машина и т.д.), что позволило В. Букрееву [25] назвать современного человека расчеловеченным. Философы настойчиво предлагают различные варианты спасения человека, но современное человечество поражено вирусом «усталого сознания», в нем не чувствуется желания спастись, отсутствует психическая энергия, направленная на обновление и общества, и отдельного индивида. В идеологиях преобладают фанатизм, национализм, мессианизм, экстремизм. Природные и техногенные катаклизмы, мировые экономические кризисы и войны порождают катастрофическое сознание. Эти условия способствуют сохранению человеческой деструктивности. 2.4 Жизнь человека Философско-антропологическое понимание жизни. Проблема жизни в истории философии. Ценность жизни в истории культуры. Стратегии жизни. Проблема вечности жизни Жизнь представляет одну из форм существования материи. Имеются такие типы жизни, как растительная, животная и человеческая. Функциями жизни являются рост, питание, размножение, реаги61 рование на внешние раздражители, активность. В философии и науке существует множество определений жизни, но ни одно не является самодостаточным, что превращает жизнь в тайну, которую философы и ученые пытаются разгадать на протяжении многих веков. В биологии жизнь рассматривается как основной принцип организма, отличающий живое тело от неживого. В культурологии жизнь характеризуется как ценность. В философской антропологии понимание жизни связано с сущностным определением человека, отличающим его от других форм жизни. Различные дефиниции человека в философии задают различную трактовку жизни. Натуралистическое понимание человека как живого существа, родственного животным, обусловливает естественное понимание жизни, лишая ее социальных и трансцендентных измерений. Примером такого понимания может служить учение Ф. Ницше, который заявлял: «Всякий натурализм в морали, т.е. всякая здоровая мораль, подчиняется инстинкту жизни… Жизнь кончается там, где начинается “Царство Божие”» [1, 575]. Психологическое определение человека как чувствующего существа и как человека бессознательных влечений задает психологическое понимание жизни, которое наиболее радикально выражено в психоанализе З. Фрейда. Он обратил внимание на то, что каждый человек обладает психической энергией, которая может накапливаться и разряжаться. Она накапливается при усилении бессознательных психических влечений человека (Эроса и Танатоса – влечений жизни, любви и смерти, разрушения) и разряжается при удовлетворении этих влечений. Благодаря этому психологическому механизму регулируется индивидуальное поведение, развивается история и культура. Фрейд объяснял поведение человека его стремлением уменьшить то психическое возбуждение, которое вызывается энергетическим напряжением его организма. Фрейдистского человека называют биологической машиной, детерминируемой инстинктами. Но сам Фрейд обращает внимание на влияние на человека социального бессознательного, Сверх-Я, представляющего нормы культуры, которые усваиваются человеком, что означает принцип двойной детерминации человека 62 как природными, так и социальными факторами. Психоанализ Фрейда позволяет определить жизнь как влечение к сексуальности и смерти. Социологическое определение человека как социального существа задает социологическое понимание жизни, которое выражено в концепции биофилии, разработанной Э. Фроммом. Он понимал сущность человека не субстанционально, а релятивно, как отношение, выражающее проблемность и противоречивость его бытия: «Сущность человека скорее состоит в вопросе и потребности ответить на него. Различные формы бытия человека не составляют его сущности, это лишь ответы на конфликт, который сам является сущностью человека» [2,89]. Сущность человека выражается в его характере, а тот представляет отношения экзистенциальных и духовных дихотомий. Все характеры людей Фромм разделил на типы биофилов и некрофилов. У биофила преобладает установка на любовь к жизни. «Биофилия, – пишет Фромм, – это страстная любовь к жизни и ко всему живому; это желание способствовать развитию, росту и расцвету любых форм жизни, будь то растение, животное или идея, социальная группа или отдельный человек. …Он больше ориентируется на бытие, чем на обладание. …Он стремится творить, формировать, конструировать и проявлять себя в жизни своим примером, умом и любовью. …Этика биофила имеет свои собственные критерии добра и зла. Добро – это все то, что служит жизни; зло – все то, что служит смерти» [3,315-316]. С точки зрения этого подхода, жизнь можно определить как социально детерминированную форму существования человека. Спиритуалистическое определение человека как духовнонравственного или религиозного существа задает спиритуалистическое, духовно-ценностное понимание жизни. Его примером служит философская антропология М. Шелера, который считал сущностным свойством человека, отличающим его от животного, дух – теоретический и ценностный. «Но сколь бы ни были сущностно различимы “жизнь” и “дух”, все же, – писал он, – оба принципа необходимы в человеке друг для друга. Дух идеирует жизнь. Но только жизнь способна привести в действие и осуществить дух, начиная с его простейшего побуждения к акту и вплоть до создания произведения, ко63 торому мы приписываем смысловое духовное содержание» [4, 182]. С этой точки зрения, жизнь является ценностным феноменом. Понимание жизни содержит в себе определенные ценности жизни. Обратившись к натуралистическому истолкованию жизни, мы обнаруживаем, что Е. Дюринг обосновывал оптимистическое понимание жизни, связывая ее с пользой, здоровьем, подъемом, силой, бодростью, а «акцентирование героики жизни в рамках ее медикофизиологистского истолкования характерно и для Ницше» [5, 9]. Опираясь на дионисийскую традицию греческой культуры, Ницше отождествлял жизнь и культуру и победу аполлонийского начала в классический период рассматривал как разрыв жизни и культуры, а христианство как упадок жизни. Жизнь трактуется Ницше как одна из форм воли к власти: «Жизнь... есть частный случай, нужно оправдывать всякое существование, а не только жизнь, оправдывающий принцип это такой, из которого объясняется жизнь. …Жизнь... только средство к чему-то: она есть выражение форм роста власти» [5, 15]. К характеристикам жизни он относит расширение, стремление к усилию, подъему, борьбу, рост власти и творчество. В.П. Визгин пишет, что «ницшевский витализм изначально активистичен и аксиологичен, что отличает его от витализмов прежних эпох, в которых жизнь понималась как космическое явление, например, от витокосмизма Платона или Бруно» [5, 17]. Ницше отвергает нигилизм по отношению к жизни, провозглашая приоритет жизни над смыслом, подчеркивая становление и величие жизни, существующей без поддержки Бога. Но философ биологизировал жизнь и обожествил ее как витальный космос. В этом качестве жизнь рассматривается им как высшая положительная ценность. А. Швейцер в своей концепции благоговения перед жизнью рассматривает ее как нравственную ценность, призванную облагородить человека, возбудив в нем чувства почитания и признательности к живой природе. Философ формулирует экологический императив жизни: «Я есть жизнь, которая хочет жить, я есть жизнь среди жизни, которая хочет жить» [6, 306]. Жизнь выступает как критерий различия добра и зла и моральности человека. Швейцер критикует этику гедо64 низма и утилитаризма, расширяя предмет этики, так что она превращается у него в науку о ценности жизни. «Этика, – пишет он, – есть безграничная ответственность за все, что живет» [6, 308]. В отличие от Ницше у Швейцера универсальным принципом жизни выступает воля к жизни, которая выражается в противостоянии бездумности, эгоизму и принципу подчинения природы. Все этические категории у Швейцера насыщены экологическим содержанием. Жизнь как отрицательная ценность понимается в буддизме, где она трактуется как страдание (первая благородная истина), а венцом правильного пути признается нирвана как конец страдания и конец жизни. При двойном стандарте жизни ценностью считается либо истинное (мир идей Платона), либо подлинное (экзистенция у М. Хайдеггера) существование, либо как переход от обычной жизни к подлинной (у Н.А. Бердяева). В истории культуры нашли воплощение различные представления о ценности жизни. В античности культивировались чувства богатства жизни, ее красоты, божественности, подчеркивался приоритет политической жизни. «Выдающихся людей [закон] включает в государство не для того, – писал Платон, – чтобы предоставить им возможность уклоняться куда кто хочет, но чтобы самому пользоваться ими для укрепления государства» [7, 301]. В условиях кризиса античного общества среди социальных низов был популярен кинический идеал естественной обмирщенной жизни, а у знати – стоический идеал внутренней жизни души, освобожденной от страстей и испытывающей состояние безмятежности, отстраненности от внешней жизни, внутренней сосредоточенности. В средневековой культуре жизнь ценилась благодаря присутствию в ней Бога. Такое понимание отражено в Ветхом Завете, где показывается повсюдность жизни, ее изобилие, избыточность, разнообразие, созданное творением Бога. И.В. Кирсберг считает, что в ветхозаветной антропологии «ценность жизни дана не как соотнесенный с человеком идеальный смысл, а расположенное к Богу живое. ...Живое самоценно – там, в жизнеприсутствии Бога» [8, 126]. В христианской антропологии святость жизни рассматривается как особен65 ность христианской догматики: «Бог Дух Святой – жизнеподатель», «Господь животворящий». Главными в христианстве являются идеи вечности жизни и спасенияя жизни людей. Иисус Христос говорил о своей роли спасителя: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня если и умрет, оживет; И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек» [Иоан.11: 25, 26]. В воскресении самого Христа жизнь торжествует над смертью. В отличие от Ветхого Завета в Новом Завете Иисус и его апостолы целенаправленно защищают жизнь людей и указывают им путь спасения. Христианство защищало жизнь не только свободных, но и рабов, уравнивая всех в праве на спасение. Но в средневековье высшей ценностью признавалась загробная жизнь и обесценивалась земная, поскольку она считалась греховной и лишь средством для подготовки к загробной жизни. Христианство предлагало людям аскетическую стратегию жизни. Возрождение изменило систему ценностей людей, поставив человека в центр культуры и объявив его высшей ценностью. Но гуманизм Возрождения, как подчеркивал Н.А. Бердяев, имел двойственный характер. С одной стороны, он воспевал могущество человека, а с другой – «принижал человека, потому что перестал считать его существом высшего, Божественного происхождения, перестал утверждать его небесную родину и начал утверждать исключительно его земную родину и земное происхождение. Этим гуманизм понизил ранг человека» [9, 109]. Многие гуманисты рассматривали антропологические проблемы в натуралистической парадигме. Но некоторые из них, как, например Дж. Манетти, сумели соединить в понимании человека идеи его природного происхождения и творческой сущности. «Благодаря выдающейся и исключительной остроте человеческого разума, – писал он, – после первоначального и еще незаконченного (rudem) творения мира, видимо, нами все было изобретено, изготовлено и доведено до совершенства. …никто не будет отрицать, что большая часть того, что видят в мире, была устроена и упорядочена людьми. …Мы думаем и считаем, что самая характерная черта человека – это познание и действие» [10, 25, 26, 35]. Поэтому Манетти 66 называл человека «смертным богом» и «небесным и божественным животным». Гуманисты распространяли среди образованной части общества идеи индивидуализма, свободы, ответственности, выбора собственной судьбы, ценности земной жизни человека. В Новое время в культуре Просвещения сформировался новый образ человека. Французские просветители подчеркивали такие свойства человека, как разумный эгоизм, способность оптимально согласовывать личные и общественные интересы, И. Кант – духовный характер, Г.-В.-Ф. Гегель – диалектическое мышление, Л. Фейербах – красоту и целесообразность устройства органов его тела. В неклассической философии XIX в. понятие «жизнь» становится центральным в направлении философия жизни. Одни из ее представителей акцентируют внимание на природно-биологической стороне жизни человека (воля к жизни, воля к власти), другие – на духовной (способность к символическому общению, ценностное отношение к миру). В культуре Новейшего времени получили отражение такие социальные явления и процессы, как растущее отчуждение человека, рыночный характер отношений между людьми во всех сферах общественной и личной жизни, утрата религиозности как веры в высшие трансцендентные ценности, измельчание и практичность интересов, деиндивидуализация, обезличенность и стереотипность массового мышления и поведения. В экзистенциализме это было осознано М. Хайдеггером как растворение Я в Man, А. Камю – как жизнь в условиях абсурдной свободы, Х. Ортегой-и-Гассетом – как формирование нового антропологического типа «человек-масса», К. Ясперсом – как уподобление человеческой жизни «роению». Оказалось, что научно-технический прогресс автоматически не сопровождается гуманитарным прогрессом, продолжаются войны, периодически возникают экономические кризисы, обесценилась жизнь человека, наиболее распространенные ценности имеют исключительно прагматический характер – богатство, успех, власть. В связи с этим возникает вопрос о тех основаниях, которые делают жизнь ценностью за пределами религиозного мировоззрения. Жизни придает ценность то, что она представляет дар случайный, 67 уникальный, является прорывом неживой материи в сферу духа. Поиски смысла жизни продолжаются в течение всей истории культуры (в религии, философии, художественной литературе). В.А. Конев, имея в виду, вероятно, идеи неокантианцев, что ценности не существуют, а значат, утверждает, что смысл возникает «через отнесение, отсылку, оповещение», и силой, рождающей смысл, является культурная деятельность человека, который выстраивает отнесение себя к природе, обществу, культуре, другим. «Появление смысла, – считает Конев, – держится разделением сущего и бытия, которое совершается благодаря отнесению. Сущее всегда есть, наличествует, а бытие, о котором оно оповещает, должно возникнуть из не-есть, из небытия. Смысл не существует вне сущего, которое его представляет, но он и не сливается полностью с этим сущим, ибо в нем есть нечто “объективное”, есть то бытие, которое отличается от того, что оповещает о нем» [11, 11]. Так, в ткани флага, которая есть сущее, дано бытие государства. Философия всегда стремилась дать ответ на вопрос о ценностях жизни. В одних учениях предпочтение отдавалось ценностям наслаждения, в других – ценностям пользы, в третьих – ценностям блага, в четвертых – ценностям страдания и т.д. Но, так или иначе, следует признать, что ценность жизни повышают творческий труд, гражданская активность, направленная на общее благо, создание семьи и воспитание детей, утверждение общечеловеческой морали, защита природы – все то, что обеспечивает жизнь человека, делает ее плодотворной, осмысленной, освященной нравственным императивом. Доминирование ценности жизни в современных, экономически развитых обществах как признание «наивысшей значимости индивидуального биологического существования» [12, 118] превратило другие ценности (познавательные, нравственные, социальные) в служебные, инструментальные, что привело к разрыву с ценностями культуры Просвещения. Жизнь человека уложена в границы определенной стратегии, даже если он об этом не думает и сознательно ее не выстраивает. В философии существуют различные классификации стратегий жизни. 68 Наиболее интересной нам представляется классификация, разработанная С.Ф. Денисовым, в которой выделяется трансцендентальная, танатальная и витальная стратегии жизни. Первая определяется им как стратегия неподлинного бытия, к особенностям которой он относит безличность, анонимность, отсутствие индивидуальности, обозначаемое понятиями Man, Все, Некто, а также перекладывание своей ответственности на другого или «на безличное «Все», отсутствие высокого смысла жизни (абсурдная жизнь) [13, 164-170]. В процессе осуществления этой стратегии человек может прибегнуть к экзистированию (выходу за свои пределы), которое может осуществляться в разных формах: мечта о подлинном существовании, временные ситуации подлинности, пограничные ситуации перед лицом смерти, бунт против Бога, общества и искусства, бегство из общества и мира культуры [13, 171, 172]. Танатальная стратегия есть стратегия к самоуничтожению, смерти, саморазрушению себя как личности. Формами этой стратегии являются самоубийство, убийство другого человека, некрофилия, апатия, «подпольность» жизни, гедонистическое скольжение по поверхности жизни без понимания ее неподлинности. Противоположностью этим стратегиям является витальная стратегия жизни, к формам которой относятся экологическое отношение ко всему живому, или биофилия, субъектное существование, диалог с миром и другими, свобода нравственного выбора. Актуальной является и проблема вечности жизни. В культуре существует неоднозначное понимание сути этой проблемы. В христианстве вечность жизни связана с догматом о воскресении людей после второго пришествия Христа на землю. В философии общего дела (Н.Ф. Федоров) разрабатывается идея культа предков и их физического воскрешения с помощью достижений науки и техники. В биологических науках вечность жизни связана с естественным воспроизводством, а сегодня – с криогенизацией и клонированием. В космической философии Э. Циолковского разрабатывалась идея сохранения жизни во Вселенной с опорой на идеи атомистики и панпсихизма. Русские космисты [14] сформулировали целый ряд идей о 69 сохранении жизни: А.В. Сухово-Кобылин предлагал сделать тело человека воздушным, эфирным, В.Ф. Купревич – ликвидировать ген смерти в организме человека, А.К. Манеев – превратить тело человека в биопсихополе и т.д. Наряду с этим в культуре имеются идеи о том, что биологическая вечность жизни является негативной ценностью, так как она лишает человека смысла жизни. Более привлекательной является идея социального и культурного бессмертия человека. В этой связи можно вспомнить известные слова А.С. Пушкина: «Нет, весь я не умру! Душа в заветной лире мой прах переживет и смерти убежит». Эта идея плодотворна по отношению к обществам, в которых хранятся и востребуются культурные традиции прошлого. 2.5 Смерть человека Проблема смерти в истории философии. Сущность и смысл смерти. Коллективные восприятия смерти в различные исторические эпохи. Актуальные проблемы смерти в современном обществе Проблема смерти всегда была актуальной в философии. В натурфилософский период существования древнегреческой философии представления о смерти носили космологический характер, и смерть характеризовалась как одна из сил, управляющих миром. Гераклит рассматривал феномен смерти через диалектику противоположностей: «Рожденные жить, они (люди – И.С.) обречены на смерть (на успокоение), да еще оставляют детей, чтобы родилась [новая] смерть» [1, 246]. Эмпедокл характеризовал бессмертие через явление метемпсихоза: «Бродяга, изгнанный из божьего рая, я был уже раньше мальчиком и девочкой, кустом и птицей, немой рыбой, плавающей в море. …Я навсегда избавлен от смерти» [2, 125-126]. Понимание смерти было связано и с идеей бессмертия души. Поэтому те, кто его отрицал (киники, Демокрит, Эпикур, Лукреций Кар), защищали земную жизнь. Отношение к смерти у философов было спокойным. Демокрит рассматривал ее как мировую законо70 мерность, заключающуюся в распадении атомов души и тела. Идея Демокрита «…во вдыхании и выдыхании заключается жизнь и смерть …вследствие невозможности дышать животное умирает» интерпретируется А.Я. Иванюшкиным и К.Ф. Лях как сходное с современным пониманием смерти человека «как смерти его головного мозга, включая стволовые структуры, где находится центр дыхания» [3]. Анаксагор, узнав, что его приговорили к смерти, заявил: «Но ведь и мне давно уже вынесла свой смертный приговор природа!». Эпикур призывал преодолеть страх смерти, указывая на отсутствие связи между человеком и смертью: «Смерть не имеет к нам никакого отношения; когда мы существуем, смерть не присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем». Киренаик Гегесий считал смерть разумным выходом из страданий жизни. После лекций Гегесия нередки были случаи самоубийства. Киник Антисфен утверждал, что «блаженнее всего для человека – умереть счастливым». Философы, которые верили в потустороннее существование души (Пифагор, Сократ, Платон, Плотин, стоики), рассматривали смерть как переход в трансцендентный мир. Сократ характеризовал смерть как «выздоровление» души от неподлинной жизни на земле, Платон – как возвращение души в мир идей, Плотин – как освобождение из плена засоренной части души, пребывающей на земле. Древние греки периода классики ставили посмертную славу выше смерти. Стоики рассматривали смерть как закон Логоса и оценивали ее как разумную необходимость, к которой нужно относиться с безразличием. А.С. Гагарин выделяет такие особенности бытия смерти в греческой ментальности, как неактуализированность биологического измерения смерти, гигиеническое табуирование трупа, непопулярность темы потустороннего мира, доминирование чувства жалости к мертвым над чувством страха перед смертью [4, 112]. Иным было отношение к смерти в средневековой философии. «Философско-теологический христианский подход, – пишет А.С. Гагарин, – ориентирован на примирение человека со смертью, утешение как умирающего, так и его близких и родных. Смерть и загробный мир выступают средоточием размышлений, философских умозаклю71 чений, смерть оправдывается, реабилитируется уже как желанная и благая» [4, 203]. В Ветхом Завете отсутствует глубокий интерес к смерти, нет идеи спасения, и внимание сосредоточивается на жизни, на том, как сделать ее долгой и счастливой. В Новом Завете смерть рассматривается как таинство разлучения души с телом: тело становится смертным, душа бессмертной, и появляется идея спасения, смыслом которой становится воскресение мертвых. В религии различают смерть физическую, когда душа разлучается с телом (первую) и душевную (вторую), в которой душа разлучается с Богом. Выделяется воскресение при покаянии, когда Дух возвращается в душу (первое), и после Страшного суда (второе). А. Сурожский [5, 99] считал, что для христианина умереть означает войти в вечную жизнь Бога и ожидать воскресения. Значительная роль смерти в христианстве привела к тому, что размышление о смерти стало рассматриваться как христианская добродетель, рождающая Страх Божий. Феномен смерти глубоко исследуется в патристике. К.С.Ф. Тертуллиан рассматривает смерть в рамках доктрины воскресения. «Сын Божий распят, – заявлял он о воскресении Христа, – мы не стыдимся, хотя это постыдно. И умер Сын Божий; это вполне достоверно, ибо ни с чем не сообразно. И после погребения воскрес; это, несомненно, ибо невозможно». Он предлагает умереть как можно скорее, чтобы найти выход из мира, который считал темницей. А. Августин рассматривает феномен смерти в свете основных христианских догматов и предлагает человеку путь праведной жизни как способ спасения души от смерти. Человека он понимает как существо греховное и в силу первородного греха смертное. Августин утверждает, что человек не в силах отклонить первую смерть, но с помощью Христа может отклонить вторую смерть и воскреснуть. В отличие от Тертуллиана Августин понимает смерть как всеобщее зло. В эпоху Возрождения появилось несколько моделей в понимании смерти. Дж. Бруно создает космологическую модель, утверждая, что «нет смерти и не только для нас, но также ни для какой субстанции, ведь ничто в субстанции не уменьшается, но в бесконечном про72 странстве все меняет облик» [4, 321-322]. Признавая полную смертность человека и отрицая бессмертие души, Бруно подвергает критике как аскетическую, так и гедонистическую стратегии жизни и предлагает человеку путь героического энтузиазма во имя высоких целей создания культуры. «Но в ожидании своей смерти, – писал он о назначении человека, – своего превращения, своего изменения, – да не будет он праздным и нерадивым в мире!» [6, 295]. Ф. Петрарка создает в канцонах «На смерть Мадонны Лауры» экзистенциальную модель смерти, в которой свое существование после кончины любимой описывает как жизнь-смерть, блаженство, похожее на боль, желанное избавление от жизни-в-утрате: «Приблизься смерть! Тебя давно я ждал. Не медли, смерть! Тебя я вожделею» [4, 325]. Он разрабатывает техники исследования смерти, считая, что человек всегда должен жить с мыслью о смерти. М. Монтень разрабатывает гуманистическую модель смерти. Исходя из положения, составляющего суть гуманизма, что человек есть высшая ценность, он критикует заложенное в религии «презрение к жизни» и ориентирует на признание того, что «природа не дает нам забыться»: «Ваша смерть есть одно из звеньев управляющего вселенной порядка; она звено мировой жизни… Освободите место другим, как другие освободили его для вас. Равенство есть первый шаг к справедливости. …Таковы благие наставления нашей родительницы-природы» [7, 117,119,121]. Но это не означает нейтрального для Монтеня отношения к смерти. Он трактует ее как врага, от которого нельзя убежать, и как зло, от которого нельзя избавиться. Поэтому он предлагает решение, не нарушающее достоинства человека в отношении смерти: «Давайте научимся встречать ее грудью и вступать с ней в единоборство. И, чтобы отнять у нее главный козырь, изберем путь, прямо противоположный обычному. Лишим ее загадочности, присмотримся к ней, приучимся к ней, размышляя о ней чаще, нежели о чем-либо другом. …Благодаря этому мы окрепнем, сделаемся более стойкими. …Размышлять о смерти – значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет 73 нас от всякого подчинения и принуждения» [7, 110]. Относительно себя он высказывает пожелание, «чтобы смерть застигла за посадкой капусты». Если рассматривать огород, который надо возделывать, как символ жизни, то данный афоризм имеет смыслом понимание жизни как активное участие в ней, не оставляющее страха перед смертью. Основатели Реформации также изменили религиозное представление о смерти. М. Лютер предлагал не испытывать страха перед смертью, а усматривать в ней положительный момент, заключающийся в высокой оценке жизни: «Когда Бог убивает, то смертью Он учит вере в жизнь» [8, 330]. Это понимание смерти сближается с гуманистической моделью. Кальвин учил «иметь смерть перед глазами», Лютер отвергал идею чистилища и индивидуального суда после смерти, перемещая центр рассуждений о смерти на проблему всеобщего спасения, а не на описание последнего смертного для человека часа. В философии Нового времени преобладает естественнонаучная модель смерти. Ф. Бэкон рассматривает ее как «наименьшее из зол», и эпитафия на его могиле гласит: «Разрешив все задачи тайн природы и гражданской мудрости, он умер, повинуясь естественному закону: все сложное подлежит разложению». Р. Декарт объясняет смерть чисто физиологическими причинами. «Душа, – писал он, – удаляется после смерти только по той причине, что то тепло исчезает и разрушаются те органы, которые служат для тела» [9, 483]. Б. Спиноза считает, что страх перед смертью преодолевается разумным познанием. «Чем больше вещей, – утверждает он, – познает душа… тем менее она страдает от дурных аффектов и тем менее боится смерти» [10, 613]. Французские материалисты XVIII в. рассматривали смерть натуралистически и призывали избавляться от страха смерти с помощью «просвященного разума». Б. Паскаль создает экзистенциальную модель смерти, которая связывает смерть со страхом и вечностью. Считая человека слабым, смертным, одиноким и несчастным, Паскаль предлагает переключить самосознание индивида со своего Я на Бога и в предсмертной молитве обращаться к Богу с просьбой: «Сделай так, чтобы в этой болезни я сознавал себя как бы умершим, отделенным от мира, лишенным всех предметов моей привязанности, оди74 ноко предстоящим Тебе» [11]. В философии романтизма XVIII – первой половины XIX в. создается коммуникативная модель смерти, где в центре стоит «смерть Другого», а сама смерть понимается как «романтизированный смысл… жизни, …жизнь после смерти» [12, 106]. Проблема смерти стала одной из центральных в философии экзистенциализма ХХ в. М. Хайдеггер выделяет такие экзистенциальные состояния переживания человека о смерти, как безысходность, неотвратимость смерти, конечность «присутствия», «моя смерть», достоверность смерти, одиночество в смерти. Н.А. Бердяев считает, что смерть есть «самый важный факт человеческой жизни, и человек не может достойно жить, не определив свое отношение к смерти. …Человек должен преодолеть животный страх смерти, этого требует достоинство человека» [13, 96-97]. Философ подчеркивал диалектический смысл смерти: «Она есть величайшее и предельное зло», но «свидетельствует отрицательным путем о существовании высшего смысла. Бесконечная жизнь в этом мире была бы лишена смысла» [13, 97]. А. Камю видел в самоубийстве абсурдную попытку преодолеть абсурд существования, тем самым утверждая смысл собственного существования [3, 46]. К существенным свойствам смерти относится, прежде всего, ее таинственность, ибо у человека нет опыта смерти, который он мог бы осмыслить, смерть для человека всегда связана с его будущим, поэтому все его мечты и жизненные планы сопровождаются смертью (успеть бы!). Смерть означает вторжение в жизнь человека, страшное и всегда внезапное. Смерть невозможно определить с помощью положительного мышления. Смертный час часто приходит к человеку, когда он находится в состоянии одиночества, но вместе с тем смерть является, как писал Эпиктет, свидетельством неодиночества (все смертны). Смерть представляет жизнь под взглядом небытия, что осознается как тяжелый груз, бремя смерти. Со смертью связан страх смерти как свидетельство опасности и хрупкости бытия человека. Смерть представляет, с одной стороны, весть о небытии, а с другой – предел бытия, который переступает каждый. 75 Существует и подход в понимании смерти как инобытия Я. В восточных религиях смерть рассматривается как перевоплощение души в другие тела, в христианстве – как переход в инобытие (загробный мир), где живут души умерших. Умереть для христианина означает кануть в вечность. Смерть имеет две ступени: первая физическая смерть и вторая – смерть вечная, если ты не удостоен воскрешения. Смерть представляет испытание жизни – страх перед смертью заставляет любить жизнь. Смерть наряду с жизнью определяет границы человеческого существования, продолжительность жизни. Человек считается самым несчастным живым существом, ибо он знает о своей смертности. Смерть требует от человека достоинства – подвести итог своей жизни, собрать ее воедино, оценить ее смысл и «уйти по-английски», незаметно, без жалоб и стенаний. Смерть, преимущественно после тяжелой и длительной болезни, ощущается как избавление, свобода. Эпифеномен смерти часто присутствует в памяти человека, особенно когда он сталкивается со смертью других. В этом постоянном присутствии смерти в жизни есть некий тайный знак, намек для человека жить по нормам общечеловеческой морали. Присутствуя в человеке, его душе и теле, смерть существует как возможность, потенция, что-то бестелесное и неопределенное. М. Бланшо утверждал, что «смерть для людей – самая главная надежда, их единственная надежда быть людьми» [14, 48]. Смерть призывает человека к ответственности перед жизнью: выстроить стратегию своей жизни, осуществить ее и передать неисполненное потомкам. Хотя у каждого человека имеется субъективное отношение к смерти, в ментальности людей той или иной исторической эпохи складывается коллективное восприятие смерти. На Западе издано несколько книг на эту тему: «Человек перед лицом смерти» Ф. Арьеса, «Смерть и Запад с 1300 г. до наших дней» М. Вовелля, «Цивилизация средневекового Запада» Ж. Ле Гоффа и другие. Арьес разработал классификацию ментального восприятия смерти (которая описана далее) в виде системы идеальных типов, исполь76 зуя эпиграфику, письменные памятники, иконографию, данные о кладбищах, завещаниях и т.д. Первый тип – «смерть прирученная» – охватывает раннее средневековье. В это время считалось, что смерть не должна быть внезапной и одинокой, исключение делалось лишь для святых и рыцарей. Лично-экзистенциальное восприятие смерти растворялось в ритуалах прощания с усопшим. Смерть отличалась интимной простотой и публичностью: вокруг умирающего находились родственники и друзья, и в момент последнего причастия умирающего в комнату мог зайти любой. В ментальности людей присутствовала «смесь бесчувственности, покорности и прилюдности в отношении к смерти» [15, 57]. Погребальные ритуалы символизировали солидарность индивида с общиной и родом. Для общины смерть представляла тяжелое испытание потери своих членов и ослабление ее перед миром дикой природы. Хотя смерть рассматривается как зло, с помощью ритуалов она приручается и освящается догматом о воскресении умерших. Поскольку существовало представление, что мертвые спят до воскресения, то не существовало дистанции между миром живых и миром мертвых, перед которыми не было страха. Кладбище выполняло не только функцию некрополя, но и общественного места. Здесь проводились религиозные обряды, велась торговля, проходили судебные заседания. Мертвых хоронили внутри церковной ограды, возле ее стен, а также возле могил мучеников. В V в. могилы были безымянными, в отличие от античных захоронений. Второй тип – «смерть своя» – охватывает XI-XIII вв., которые называются «вторым Средневековьем». В это время в иконографии появляется тема Страшного суда: «…иконография разворачивает на порталах церквей бесконечную ленту вариантов великой эсхатологической драмы» [15, 115]. В надгробных эпитафиях записываются молитвы за мертвых. В ментальности людей возникает представление о существовании книги жизни, в которой зафиксированы добрые и злые деяния каждого человека, по которой будут судить всех в день Страшного суда. Сама идея Суда отделяется от идеи воскресения, и появляется представление о личной эсхатологии (судьба души реша77 ется в момент физической смерти). В иконографии комната умирающего становится не просто местом прощания с усопшим, а местом, где вершится суд над умершим. Тема Апокалипсиса входит в средневековую живопись в виде пляски смерти, где в хороводе пляшут живые и мертвые. В завещаниях назначаются пышные погребальные похороны. Возникают новые погребальные ритуалы, например, тело умершего заворачивается в саван. Атрибутами прощания с покойным являются прижизненное отпущение грехов, благословение умирающего, окропление святой водой и курение благовоний, изъявления родственников о скорби, хвалебные речи об усопшем, похоронный кортеж, в котором участвуют клирики, бедняки и дети, многочисленные заупокойные мессы с именем умершего во спасение его души, раздача милостыни и подарков. Происходит полная клерикализация смерти. С целью смягчить судьбу умерших появляется идея чистилища, и считается, что на положение находящихся в нем усопших влияют посмертные молитвы живых. Во втором средневековье «установилась определенная корреляция, неизвестная ни античности, ни индустриальному обществу между отношением к богатству и отношением к смерти. …В обмен на благочестивые распоряжения, изложенные в завещании, умирающий получал гарантию вечных благ в потустороннем мире… пользование земными благами оказывалось оправданным, а прижизненная avaritia, страсть к накопительству и привязанность к своему добру реабилитированными перед Богом и церковью» [15, 185, 186]. Тела бедняков и маленьких детей хоронили в братских могилах, тогда как над могилами святых, богатых и могущественных (начиная с XI в.) ставили индивидуальные вертикальные надгробия. «Анонимность погребения постепенно и исподволь преодолевалась» [15, 200]. До XIV в. эпитафии на надгробии включали как фамилию усопшего, даты жизни и социальный статус, так и молитву Богу за его душу. Нередко были и обращения к читателям эпитафий. Таким образом, в этот период уже существовала потребность в индивидуальной посмертной идентификации. Происходит сдвиг человеческой судьбы в сторону ее индивидуализации. 78 Третьим типом коллективного ментального восприятия смерти являлась «смерть далекая и близкая», охватывающая эпоху XIV-XVII вв. В этот период в ментальности происходит девальвация смертного часа, заменяясь представлением научить живых размышлять о смерти. Смерть понимается как способ научить лучшей благой жизни. Считается, что жить надо так, чтобы быть готовым в любой момент умереть. Эта жизнь настороже по отношению к смерти сочеталась с утратой веры в спасительность христианских ритуалов в смертный час. Появляется новая добродетель воздержанности по отношению к земной жизни и к самой смерти (смертный час надо воспринимать без волнения и драматизма). Представление о повседневном благочестии берет верх над средневековым страстным интересом к моменту смерти. Ф. Арьес именует это новое отношение к смерти как «смерть на благоразумном расстоянии», где-то в конце жизни. Рост количества умерших приводил к ослаблению связи «церковь – кладбище»: их стали хоронить и вдали от церкви. Отдаление человека от смерти привело к желанию простоты похоронных обрядов и завещаний. Социальный ритуал скорби на похоронах, свойственный средневековью, превращается в безличность траура: не допускалось выражения боли и горя над телом умершего. Исследователи объясняют отказ от эмоционального отношения к смерти близких «праведным презрением к жизни», презрением к суетностям жизни. Короли в XVII в. положили начало моде на простые надгробия и скромные плиты с датами жизни и именами, которые сравнивались с полом церкви. Искусство смерти (mеcabre) изменило форму: на картинах стали отсутствовать трупы и скелеты, замененные изображением времени (песочные часы, коса смерти, лопата могильщика, старые вещи и т.д.). Эти знаки символизировали быстротечность и ненадежность жизни. Присутствие смерти изображалось в более успокаивающем виде. Захоронения в церквях и возле них сменились кладбищами под открытым небом. Постепенно смерть перестала доминировать в представлениях людей, ее заменила смертная жизнь. Арьес объяснял эти изменения приходом капитализма: «Конец avaritia (наслаждение благами, по 79 Арьесу. – И.С.) и замена ее более аскетическим отношением к жизни и ее благам» [15, 287] были связаны с природой капитализма, предполагающего накопление, а не трату богатства. Происходит некоторая десакрализация смерти, что связано с утратой религией статуса доминирующей идеологии: «Смерть все чаще представляется как Ничто, как уничтожение. Тому способствовала растущая вера в дуализм души и тела, двусоставность живого существа» [15, 293]. На одном из памятников начала XVIII в. на надгробии мужа было одно слово nihil (ничто), а на надгробии жены – umbra (тень, мрак). Ничто тогда отождествляли с понятием природы. Вместе с тем в коллективных представлениях людей растет понимание необходимости уважительного отношения к усопшим и кладбищу как их дому. Запущенность кладбищ стала считаться нестерпимой, что было связано не только со страхом перед эпидемиями, но и с осознанием памяти об усопших. В то же самое время развитие науки привело к тому, что мертвое тело стало объектом анатомического вскрытия, появились труды по изучению трупов, а сами трупы нередко рассматривались как сырье для изготовления эффективных лекарств. Распространялись многочисленные слухи о чудесах, связанных с мертвыми телами. Урок анатомии стал сюжетом картин и гравюр. Получили распространение живописные изображения мученичества святых, реалистически показывающие физические терзания тела. Знаменитые художники часто изображали «трупную красоту». Как писал Арьес, «в эпоху барокко смерть неотделима от насилия и страданий» [15, 317]. Некрофильские настроения в жизни и искусстве усилились в XVIII в. В произведениях маркиза де Сада обнаруживаются страшные картины сексуальных извращений и убийств. Религиозные реформы XIV-XV вв., европейские революции XVII-XVIII вв. привели к расшатыванию моральных и религиозных устоев общества. Природная дикость человека обнаружилась в самых нелицеприятных формах, лишив человека защиты от секса и смерти. Четвертая модель смерти, называемая Арьесом «смерть твоя», охватывает XIX в., когда в коллективном восприятии складывается романтическое отношение к смерти. Оно было засвидетельствовано и 80 литературой того времени в многочисленной переписке и дневниках членов богатых семей. Возникают практики спиритизма, общения с духами умерших как отражение в коллективной ментальности чувств невозможности смириться со смертью другого человека, которые были распространены в протестантских странах. Изготавливаются украшения в виде надгробий и гробиков как свидетельства воспоминания об усопших. В католицизме сохраняется вера в возможности повлиять на судьбу тех, кто находится в чистилище, молитвами, индульгенциями и милосердными делами. Молитвы за души, находящиеся в чистилище, сохраняются до ХХ в., как об этом свидетельствует иконография. Заботу живых об умерших церковь поощряла, тем самым культивируя чувство альтруизма. В завещаниях исчезают распоряжения об индивидуальных ритуалах, а кроме инструкций правового характера, выражается чувство любви к близким, семье. Происходит, по Арьесу, революция чувств, состоящая в «чувстве другого», близости к родным, вечной привязанности к ним. Идея ада становится данью религиозной традиции, а не выражением индивидуальной веры в мир зла в загробной жизни. Чувство общности индивидуальной судьбы и человеческого рода заменяется чувством близкого «другого». Аффект привязанности распространяется только на близких и друзей. Романтический характер коллективной ментальности в XIX в. выражается и в изменении отношения к кладбищам. В средние века роль кладбищ была незначительна, тогда как с начала XIX в. «кладбище возвращается в топографию европейского города. …Кладбище стало… знаком культуры» [15, 387-388], символом сакральности. В проектах светской модели похоронного ритуала и регламента кладбищ присутствуют следы сентиментальной поэзии и глубокой эмоциональной связи между живыми и мертвыми. Возвращаются индивидуальные захоронения, надгробия и трогательные эпитафии, соблюдение траура (французский декрет 1804 г.). Было разрешено частное погребение в имениях. Утвердился гражданский культ мертвых. Кладбища приобрели новую функцию представлять место посещения близкими и друзьями усопших, и многие кладбища превратились в 81 сады с надгробными памятниками. Почитание мертвых было присуще европейскому обществу XIX в. «Культ могил и кладбищ, – подчеркивает Арьес, – это литургическое проявление новой чувствительности, в которой, начиная с конца XVIII в., смерть «другого» становится нестерпимой» [15, 452]. Вплоть до ХХ в. смерть одного человека была связана с социальной группой или сообществом: «Каждый умирал публично, но и смерть каждого становилась общественным событием, трогавшим… все общество» [15, 454-455]. В ХХ в. в технически развитых и урбанизированных странах Запада возникает новое странное отношение к смерти, которое Арьес обозначает как «смерть перевернутая», означающее изгнание смерти обществом. О смерти умирающим не говорят, разыгрывая лживые спектакли о возможном выздоровлении. Религиозные ритуалы откладывают до смертного часа, так что соборование проводится не с умирающими, а умершими. Церковь теперь часто отсутствует в момент кончины человека. Начинается эпоха «медикализации» умирания, описанная в художественной литературе. Смерть перестала рассматриваться как нечто прекрасное и раскрылась во всех ее отталкивающих сторонах: «Формируется новый образ смерти: смерть безобразная и спрятанная. Ее прячут именно потому, что она грязна и безобразна» [15, 463]. В художественной литературе выделяются три направления в раскрытии темы безобразия смерти: смерть на войне, смерть в больнице, смерть «на цыпочках» (незаметная и скромная). Вместо прославления смерти романтиками приходит табу на смерть, она становится непубличной и замалчиваемой в общественном мнении как нечто неприличное. Умирание в одиночестве возрождает представления о возможности существования после смерти. Смерть становится приватным актом, исчезает коммуникативная связь между умирающим или умершим и живыми. Изменяются погребальные ритуалы. В общественном мнении кремация одерживает верх над захоронениями в земле, т.е. отказ от культа могил и кладбищ. Это означает признание приватной скорби по усопшим: «На смену культа могилы приходит культ памяти, поддерживаемый дома» [15, 472]. На Западе исчезает традиция публич82 ного прощания с усопшим и ношения траура. Общественное мнение требует от человека скрывать чувство скорби об усопшем, по крайней мере, публично. Смерть выходит за рамки светских условностей, что связано с изменением кодексов внешнего поведения, в которых проявление эмоций и переживаний, связанных со смертью, считается недопустимым, ничем иным как выражением психических неврозов. Психологи считают такое отношение к смерти ненормальным, социально опасным, противоестественным человеческой природе. Как ответ на замалчивание смерти, в 50-60-е гг. в биоэтике возникает течение, которое призвано изменить ментальность в понимании смерти. После 1955 г. на Западе вышло 340 работ, посвященных теме умирания, в которых речь идет о защите достоинства умирающего, его праве знать о состоянии своего здоровья. Модель «смерти перевернутой» доминирует в общественном сознании США и Англии и лишь позже распространяется в континентальной Европе. Она выражает скорее интересы буржуазии и среднего класса, тогда как в рабочих семьях еще преобладает традиционное отношение к смерти как к глубокой утрате, с которой связаны чувства скорби и горя. Гедонистическое отталкивание смерти связано с наступлением индустриальной цивилизации, расширением благ для человека и его возросшим стремлением к счастью. Прогресс техники и технологий породил представление о том, что они могут подавить смерть, вера в технику сменила старую веру в Бога, и смерть стала рассматриваться как некий «знак бессилия, беспомощности, ошибки или неумелости, который следует поскорее забыть» [15, 481]. Индустриальное общество породило и индустрию смерти, отдав погребальные ритуалы в руки частных фирм (funeral home). Модель «смерти перевернутой» отражает принцип индивидуализма, присущий современному обществу, и отделение приватной жизни от общественной. Атомизированное общество атомизирует и смерть, удаляя ее с арены общественной жизни. К актуальным проблемам смерти относятся проблемы бессмертия и долголетия, медицинских критериев смерти, эвтаназии, гуманизации погребальных практик, личного опыта с жизнью после смерти 83 (в состоянии клинической смерти). Понятие «эвтаназия» было введено Ф. Бэконом в работе «О достоинстве и приумножении наук». «Долг врача, – утверждает он, – состоит …в том, чтобы облегчать страдания и мучения… даже и в том случае, когда уже нет совершенно никакой надежды на спасение и можно лишь сделать самое смерть более легкой и спокойной, потому эта эвтаназия… уже сама по себе является немалым счастьем». Т. Гоббс, не употребляя термина «эвтаназия», признает ее возможность при мучительных страданиях. Д. Дидро поддерживает идею пассивной эвтаназии. Ф. Ницше обосновывает право человека на смерть. Он предлагает в работе «Сумерки идолов, или как философствуют молотом» создать «новую ответственность… врача, для всех случаев, где выше интерес к жизни, восходящей жизни требует беспощадного подавления и устранения вырождающейся жизни». А.Я. Иванюшкин и К.Ф. Лях считают, что «в споре об эвтаназии Ницше, конечно, является ее сторонником» [3, 408]. В ХХ в. философский и научный спор об эвтаназии получил в ряде стран законодательное разрешение. В США принят закон о пассивной эвтаназии и добровольном уходе из жизни. В Китае также принят закон о праве на эвтаназию. В Нидерландах эвтаназия не преследуется законом и т.д. Поскольку у сторонников и противников эвтаназии имеются одинаково весомые аргументы, то, очевидно, правовое решение этого вопроса оказывается не лучшим, но единственно правомочным. В русском космизме XIX-XX вв. разрабатываются философские и научные концепции о бессмертии человека (Н.Ф. Федоров, К.А. Циолковский, В.Ф. Купревич, А.К. Манеев и другие). В 20-е гг. создается движение биокосмистов, издается их манифест, выпускается газета «Биокосмист», журнал «Бессмертие», в которых выражается идея о возможностях выхода человека в космос и обретения им бессмертия [16]. Но научный статус этих концепций, гипотез и идей был невысоким. Сегодня на смену старым представлениям о бессмертии в религии и культуре приходят научные теории, призванные перевести решение этой проблемы в практическую плоскость. Например, в теломеразной теории старения считается, что «бессмертие... человече84 ства как биологического вида обеспечивает фермент теломераза, который обусловливает восстановление утрачиваемых фрагментов ДНК на концах хромосом в клетках полового пути» [17,77]. Станет ли человек от обретения бессмертия счастливым или появятся новые трудности (перенаселение, нехватка продуктов питания, техническая нагрузка на биосферу и т.д.), остается открытой проблемой. ГЛАВА 3. ФОРМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 3.1 Судьба человека Судьба как объект истории философии. Проблемы судьбы в философской антропологии. Время и надежда как ценностно-смысловые структуры в понимании судьбы Образы судьбы первоначально существовали в мифологии разных народов в так называемых близнечных мифах. В славянской мифологии существовали девы судьбы Доля и Недоля, олицетворяющие хорошую и плохую судьбу, которые были небесными пряхами. У восточнославянских племен была богиня судьбы Макош, у южнославянских – девы судьбы-судженицы [1]. В сербском фольклоре их именовали Срега, плетущая прочную нить, и Несрега, плетущая непрочную нить. В древнегреческой мифологии гомеровской эпохи существовали три богини судьбы мойры, из которых Клото и Лахесис пряли, а Антропос обрывала нить человеческой жизни. В древнеримской мифологии вершительниц судьбы звали парками, а в древнескандинавской – норнами. Утверждалось, что ни боги, ни люди не могли повлиять на предсказание или жребий судьбы. Неизбежную судьбу древние отличали от случая, который олицетворялся в древнегреческой богине Тюхе и древнеримской богине Фортуне. Тем самым в мифологии в образах богинь судьбы получили отражение идеи предвидения и законов мира. И только в древнегреческой философии 85 судьба становится философской категорией, а позже и универсалией культуры. В античной философии вопрос о судьбе рассматривался с двух подходов, согласно которым судьба является результатом божественного предопределения или законов природы. Диоген Лаэртский в жизнеописаниях философов пишет, что Гераклит признавал Судьбу естественной силой природы: «Все совершается по судьбе и слаживается взаимной противоположностью… Вселенная конечна, и мир один. Возникает он из огня и вновь исходит в огонь попеременно, оборот за оборотом, в течение всей вечности; совершается это по Судьбе» [2, 361]. По сути дела Гераклит отождествлял Судьбу с законом, Логосом, необходимостью. Так, Аэций утверждал: «Гераклит [учит], что вечный круговращающий огонь [есть бог], судьба же – логос (разум), созидающий сущее из противоположных стремлений. …Гераклит: все происходит по определению судьбы, последняя же тождественна с необходимостью» [3, 275-276]. Демокрит лишает судьбу всякого ореола божественности, не пользуется этим понятием и говорит исключительно о необходимости, отождествляя ее с причинностью, о чем имеются многочисленные свидетельства других философов. Плутарх: «Безначальны причины того, что ныне совершается; искони, с бесконечного времени, они в силу необходимости предсуществуют, предваряя без исключения все [когда-либо] бывшее, [ныне] существующее и будущее». Аэций: «Ни одна вещь не возникает беспричинно, но все возникает на каком-нибудь основании и в силу необходимости». Диоген Лаэртский: «Все совершается по необходимости, так как причиной возникновения всего является вихрь, который он называет необходимостью (ананке)». Евсевий: «Демокрит из Абдеры… полагал, что искони в течение беспредельного времени все вообще – прошлое, настоящее и будущее – совершается в силу необходимости» [3, 327-328]. Таким образом, Демокрит, как и Гераклит, является фаталистом, признает жесткую необходимость, объясняемую им наличием естественных причин. К случаю (олицетворяемому богиней Тюхе) Демокрит относится презрительно, рассматривая его как результат незнания причин. 86 Стобей излагает позицию Демокрита следующим образом: «Люди измыслили идол (образ) случая, чтобы пользоваться им как предлогом, прикрывающим их собственную нерассудительность» [3, 329]. Благодаря Демокриту установилась традиция пренебрежительного отношения к случаю, о чем римский сатирик Ювенал писал, что «…сам же он (Демокрит – И.С.) угрожавшей Фортуне в петлю советовал лезть и бесстрашно показывал кукиш» [4, 28]. Платон не был столь категоричен в своих оценках роли судьбы. Рассуждая о сыне знаменитого персидского царя Дария, известного своими военными победами, Ксерксе, который не был удачливым полководцем, Платон признает: «По-моему, причина здесь не в судьбе, но в дурном образе жизни, который ведут большей частью дети особо богатых людей и тиранов» [5, 167]. В книге десятой «Законов» Платон пишет об учении Демокрита следующее: «Словом, все необходимо и согласно судьбе смешалось путем слияния противоположных [первоначал]» [5, 381]. И далее опровергает это суждение, утверждая, что не природа творит произведения, а сами люди, да и «боги существуют не по природе, а в силу искусства и некоторых законов, причем в различных местах они различны сообразно с тем, какими каждый народ условился их считать при возникновении своего законодательства» [5, 382]. В древнегреческих трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида проблема судьбы и случая трансформировалась в идею необходимости и свободы. Признавалась слепая необходимость законов мира, и вместе с тем подчеркивалась роль свободного выбора человека, его знания и действия. Классический период в развитии античной философии и литературы представлял собой взлет человеческого духа, его мудрости, мужества, героизма, бунта против судьбы. Но уже у стоиков снова появляется идея слепого рока, неизбежной судьбы, которой можно противопоставить только безразличие и равнодушие к своей судьбе. Эта идея часто повторяется в исповеди Марка Аврелия: «Или все происходит как бы в едином теле, беря начало в едином духе, и часть не должна роптать на то, что происходит в Целом, или же существуют атомы и ничего, кроме смешения и рассеяния». Или: «Неизменен 87 круговорот мира в своем движении вверх и вниз, из вечности в вечность. …Скоро всех нас покроет земля, затем изменится и она, и то, что произойдет из нее, будет изменяться до бесконечности. И кто, пораздумав над набегающими друг на друга с такой быстротой волнами изменений и превращений, не преисполнится презрения ко всему смертному?». Или: «Что бы ни случилось с тобой – оно предопределено тебе из века. И сплетение причин с самого начала связало твое существование с данным событием… Существуют ли атомы или же единая природа – прежде всего следует установить, что я являюсь частью Целого, управляемого природой; …Ведь если я буду помнить об этом, то, поскольку я буду сознавать себя частью, я не буду недоволен ничем, ниспосылаемым Целым, ибо то, что полезно Целому, не может быть вредно его части» [6, 164,160-161, 169-170]. В Библии проводится идея божественного предопределения. Пророк Иеремия говорит: «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим» [Иер.:10,11]. В средневековой религиозной философии данная идея проходит красной нитью через решение всех философских проблем. Знаменателен в этом смысле спор Аврелия Августина с монахом Пелагием о свободе воли. Последний признавал, что воля человека является свободной, и если люди поступают добродетельно, то они обретут спасение. Августин же учил, что после первородного греха люди утратили свободную волю и их спасение зависит только от Божьей благодати. Эта идея была возрождена Кальвиным и утвердилась в философии протестантизма. В философии Возрождения человек стал признаваться «смертным Богом», а судьба была вытеснена фортуной, связанной со свободой и творчеством человека. Пико делла Мирандола утверждает, что Бог не указал человеку места в космической и земной иерархии, отдав решение этого вопроса на свободный выбор человека. Пико усматривает в этой возможности «высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, кем хочет». Н. Макиавелли в поэме «О судьбе», хотя и признает ее могущество, считает, что его может умерить «чрезвычайная доблесть» че88 ловека. П. Помпонацци в трактате «О фатуме, свободе воли и предопределении» рассматривает фатум как объективную причинноследственную мировую связь. Не отрицая объективной случайности, он считает, что каждый случай имеет определенную причину, так что случайности представляют проявления всеобщей необходимости на уровне единичного и событийного. Но Помпонацци не отрицает свободы выбора человека, полагая, что он определяется не только внешними обстоятельствами, но и человеческой субъективностью, стремлением к высшему благу или склонностью ко злу. Идея божественного всеведения, с его точки зрения, исключает личную ответственность и суд над людьми. В философии Нового времени проблема судьбы утрачивает свое доминирующее место. Ф. Бэкон прославляет могущество науки, Р. Декарт утверждает, что «во власти человека находятся его разум, его мысли, над которыми не властна никакая судьба» [7, 277-299]. Французские материалисты провозглашают универсальный характер принципа детерминизма и исключают судьбу из жизни человека. И. Кант понимает судьбу как скрытую целесообразность. Он пишет о гарантии вечного мира: «Эту гарантию дает великая в своем искусстве природа (natura daedala rerum), в механическом процессе которой с очевидностью обнаруживается целесообразность, состоящая в том, чтобы осуществить согласие людей через разногласие даже против их воли; и поэтому, будучи как бы принуждающей причиной, законы действия которой нам неизвестны, она называется судьбой, а при рассмотрении ее целесообразности в обычном ходе вещей она, как глубоко скрытая мудрость высшей причины, предопределяющей этот обычный ход вещей и направленной на объективную конечную цель человеческого рода, называется провидением» [8, 194-195]. Г.-В.-Ф. Гегель отождествляет рок с «пустой судьбой» и связывает судьбу человека с его действиями и внутренним миром. Саму судьбу человека он ставит в зависимость от трех причин: внешних обстоятельств, человеческой природы и индивидуальных особенностей каждого человека. 89 Идея судьбы широко распространена в русской философии, особенно в философии Ф.М. Достоевского и Н.А. Бердяева. Бердяев пишет о Достоевском, что у него «был только один всепоглощающий интерес, только одна тема, которой он отдал все свои творческие силы. Тема эта – человек и его судьба» [9, 402]. Бердяев обращает внимание на то, что в художественной конструкции романов Достоевского существует большая централизованность: «Все и всё устремлено к одному центральному человеку, или этот центральный человек устремлен ко всем и всему» [9, 403]. Так, в романе «Подросток» таким человеком является Версилов, и все стремятся разгадать тайну его личности и его судьбы. В романе «Бесы» центральной личностью является Ставрогин, и тайна его судьбы служит единственной темой произведения. В романе «Идиот» все движение идет от центральной фигуры князя Мышкина к судьбе других героев, а в романе «Братья Карамазовы» от Алеши идет «движение ко всем», особенно к Ивану Карамазову. Все содержание романов Достоевского представляет человеческие отношения, в которых выкристаллизовывается судьба героев. Достоевский исследует судьбу героев в состоянии их глубокого духовного кризиса и показывает, что происходит с человеком, его духовным миром. «Достоевский берет человека, – писал Бердяев, – отпущенным на свободу, вышедшим из-под закона, выпавшим из космического порядка и исследует судьбу его на свободе, открывает неотвратимые результаты путей свободы» [9, 407]. Достоевский открывает новую породу человека – людей с «двоящимися мыслями», слабо различающих добро и зло, людей в соблазнах и страданиях, жаждущих свободы и превращающих ее в своеволие, что заканчивается трагедией их жизни. Как выразился Бердяев, «всю свою диалектику о человеке и его судьбе Достоевский ведет как диалектику о судьбе свободы» [9, 419]. Но проводя своих героев через страшные духовные испытания, он открывает им путь к Христу, к спасению. Бердяев исследует проблему судьбы в двух аспектах: как судьбу человека и как судьбу России. Судьба человека рассматривается им как судьба во времени, в истории. Его интересует антропологическое 90 время, преломленное через жизнь человека: «Время понятно лишь через человеческую судьбу» [10, 292]. Поэтому время понимается им как смысл человеческого существования. Он различает два отношения человека ко времени: «переживание настоящего без всякой мысли и рефлексии о будущем и вечном и переживание настоящего как вечного» [10,292]. Первое отношение означает забвение своей судьбы и человеческой истории, тогда как второе помечает во времени моменты, в которых переживается вся полнота жизни, а будущее «переживается или как свобода или как судьба». Он отрицает абсолютный детерминизм судьбы, считая, что в жизни огромную роль играет случай: «Случай гораздо более связан со свободой, чем законы природы. Случай переживает “я” или как свободу произвола, или как судьбу, фатум» [10, 293]. Бердяева особенно интересует судьба человека в истории. Эту судьбу он разворачивает в широкой исторической панораме эпохальных событий: капитализм, демократия, коммунизм, приход массового общества, техника и безработица, национализм и расизм, цезаризм и этатизм, народы Востока, культура, христианство. «Основная тема нашей эпохи, – оценивает Бердяев, – есть вместе с тем и основная тема истории – тема о судьбе человека» [11, 324]. Философ оценил эту эпоху как эпоху дегуманизации, в которой «человек перестал быть не только высшей ценностью, но и вообще перестал быть ценностью» [11,324], эпоху бестиализма (богозвериность), где «атавизм варварских инстинктов преломлен в цивилизации». Философ считает, что бестиализм нашего времени порожден двумя причинами. Первой является война, так что «бестиализм… есть отравленность кровью войны». Второй причиной является возрастание могущества человека. «Ценность могущества техники, – пишет Бердяев, – могущества государства, могущества расы, могущества класса бестиализирует человека, во имя этих могуществ допускается какое угодно обращение с человеком» [11, 326]. Дегуманизация, по мнению Бердяева, идет в двух направлениях – натурализма и техницизма, благодаря чему человек теряет свой образ и подобие Божие. «Человек подчиняется, – полагает Бердяев, – или 91 космическим силам, или технической цивилизации. Мало сказать, что он подчиняется, он растворяется и исчезает или в космической жизни, или во всемогущей технике, он принимает или образ и подобие природы, или образ и подобие машины» [11, 327]. Воздействие цивилизации является всеобщим. «Техническая цивилизация, – предупреждал Бердяев, – требует от человека выполнения той или иной функции, и она не хочет знать человека, она знает лишь функции. Это есть не растворение человека в природе, а уподобление человека машине [11, 327]. Технически-машинная зависимость человека возникает с начала периода индустриального общества, но особенно сильной она стала в современном обществе всеобщей компьютеризации и информатизации. Техника наносит сильные удары по чувственно-эмоциональной жизни человека и имеет во многом роковые последствия для духовности. Она заменяет Бога как Абсолюта, превращаясь в новый Абсолют, требующий поклонения. Она ускоряет время, постоянно подстегивая усилия человека в направлении будущего, и заполняет время заботами о себе самой, так что у человека исчезает время для созерцания Бога, истины, красоты. Поэтому неслучайно Бердяев связывает судьбу человека с техникой: «Вопрос техники неизбежно делается духовным вопросом, в конце концов, религиозным вопросом. От этого зависит судьба человечества» [12, 157]. Он ставит вопрос о новом освобождении человека – от духовного гнета техники. Феномен судьбы широко распространен в гуманитарных науках, но его понимание в качестве философско-антропологической категории не является общезначимым. Некоторые исследователи характеризуют «судьбу» как мифологему, метафору или обывательское представление. Но в философии жизни «судьба» рассматривается как одна из важнейших категорий (Г. Зиммель, О. Шпенглер). Рассматривая вопрос о смысле введения в философию данного понятия, С.Ф. Денисов объясняет это фактичностью самой жизни как формы существования, которая наполнена эмоциональными компонентами, переживаниями, волевыми импульсами, смыслами и ценностями. 92 Опираясь на подходы ряда философов, он пишет, что «судьба – это экзистенциальная категория, служащая для обозначения сил, носящих материальный и идеальный характер, существующих независимо от субъективных воззрений отдельного человека и всего человечества и активно влияющих на человеческую жизнь» [13, 61]. «Судьба» имеет такие смыслы, как часть, доля, суд, рок или речь, слово. Синонимами первого смысла судьбы являются слова удел, участь; второго смысла – приговор как принуждение, действие совести, рассудка, Бога; третьего смысла – «слово богов», пророчество прорицание [13, 71-83]. В понятии «судьба» имеются в виду не только те силы, которые влияют на жизнь людей, но и переживания, связанные с ними (проклинаю или благодарю судьбу), и их оценка (счастливая и несчастливая судьба). «Судьба» характеризует детерминацию человеческой жизни необходимыми или случайными причинами. На смену «судьбе» в Новое время приходят категории «необходимость» и «случайность», которые рассматриваются уже безотносительно человеческой жизни. По сути дела философия и культура разработали два варианта понимания судьбы: как фатума и как процесса ее личностного созидания. При этом представители одних концепций приходят к выводам фатализма, а других – волюнтаризма. Корректнее понимать судьбу как ценностно-смысловую доминанту человеческого бытия, ибо человек не может жить без надежды на будущее и старается разными способами осуществить предвидение относительно этого будущего. Понимание личной судьбы человека и его бытия развивалось в культуре от мифологических интерпретаций к религиозному провиденциализму, а от него – к философским концепциям событийности жизни и далее полунаучным и научным способам сценарного прогнозирования своего будущего. В культуре повседневности судьба понимается двояко: либо как рок, либо как фортуна, случай, удача. Первое значение отразилось в поговорках типа: рок головы ищет; судьба придет – по рукам свяжет; судьбу на кривой не объедешь; судьбу не обманешь; так рок сулил; видно, судьба такая; такова наша доля: на то, знать, мы родились; че93 му быть, то будет. Второе значение присутствует в таких поговорках, как случай надо ловить за волосы; ускользнет – не поймаешь; удача – брага, а неудача – квас; удачливый в гору ползет, а неудачливый и под гору не катится; ум в голове – удача на гряде, а без ума – и счастье из рук ушло [14, 34-37]. Но, так или иначе, судьба рассматривается как место встречи с человеком. Личный опыт человека и исторический опыт общества подсказывают, что судьбу нельзя свести к абсолютно внешней детерминации или абсолютной свободе воли. Е.А. Марченко предлагает рассматривать судьбу как апорию, внутреннее противоречие: «С одной стороны, судьба – это нечто предустановленное, навязанное извне человеку: обреченность, неизбежность, которым он противопоставляет свое желание и волю. С другой стороны, у каждого человека своя судьба, и желать иной судьбы – желать иного себе, а это неосуществимо. Именно эта раздвоенность и определяет судьбу как категорию человеческого и только человеческого существования. По нашему мнению, судьбы нет там, где нет соответствующей человеческой интенции, в ответ на которую те или иные явления становятся судьбоносными. …Поэтому для глубокого анализа судьбы человека правомерно использовать философско-антропологический подход» [15]. Человек всегда связывал представления о своей судьбе с ценностным Абсолютом. В античной культуре им является Космос, в средневековой – Бог, в Новое время – Общество. Но в ХХ в. человек лишился абсолютов, обеспечивающих его опорное существование. Начинается эпоха кризиса культуры и самосознания человека. Он пытается найти его в самом себе, и лозунг Ф. Ницше «Да здравствует сверхчеловек» становится чрезвычайно популярным в Европе и России. Наступает эпоха массового общества и его вождей, эпоха тоталитарных режимов. Но, передав свою судьбу в руки тиранов, человек не становится счастливее. В ХХ в. начинает формироваться время демократических режимов и выступлений масс на арене истории. Эти режимы достаточно совершенны, чтобы человек мог в них существовать и достаточно несовершенны, чтобы человека не покидали 94 надежды на лучшее будущее. Отражением этой надежды является религиозное возрождение. Важнейшими категориями онтологии судьбы человека выступают время и надежда. Человек существует в трех исторических модальностях времени: прошлом – настоящем – будущем. Бердяев отмечал огромную роль фактора времени в судьбе человека: «Прошлое представляется нам детерминированным, и только о прошлом и можно говорить, что оно детерминировано. …О будущем же совсем нельзя сказать, что оно детерминировано, будущее может переживаться или как свобода, или как судьба. Судьба не есть детерминизм, в судьбу включена и моя свобода» [10, 293]. Конечно, Бердяев преувеличивает роль свободы в судьбе человека и рассматривает время в его теологически-эсхатологической перспективе. Время в судьбе является, во-первых, историческим. В разные исторические эпохи существуют различные возможности судьбы. «Каждая культура обладает своей собственной идеей судьбы, в которой отражается внутренний дух того или иного типа культуры» [16]. О. Шпенглер писал в «Закате Европе», что понять каждую культуру означает понять ее душу, а та понимается не только через социокультурные объективации человека, но и через «чувство судьбы» каждой культуры. Во-вторых, время в судьбе является антропологическим. Каждый человек создает свое будущее, свою судьбу, и каждый по-разному проживает и воспринимает настоящее, у каждого имеются свои субъективные воспоминания о прошлом. Если первая интерпретация делает «судьбу» исторической категорией, то вторая – экзистенциальной. Надежда выражает сущность субъективного отношения человека к своей судьбе. Э. Фромм подчеркивал парадоксальность феномена надежды, пытаясь определить его место между пассивным ожиданием и радикальным подстегиванием обстоятельств. «Надеяться, – утверждал он, – значит быть готовым в любой момент к тому, что еще не родилось, но появление чего еще не стало безнадежным» [17, 226]. Он различал несколько видов надежды: пассивную надежду как упование на время, которую он определял как форму безнадежности и бессилия, и псевдорадикальную надежду отсутствия чувства 95 реализма и авантюризм, осознанную и неосознанную надежду (у последней чувство безнадежности находится на бессознательном уровне), мессианскую надежду библейских пророков и К. Маркса о коммунизме. Фромм выделял такие сущностные свойства надежды, как активность, становление, вера. «Надеяться, – признавал он, – это состояние бытия. Это внутренняя готовность, напряженная, но еще не растраченная внутренняя активность. …Надежда – психический спутник жизни и роста. …Надежда – это умонастроение, сопровождающее веру. Вера не смогла бы продержаться без духа надежды. У надежды нет иной основы, помимо веры» [17, 228, 230]. Крушение надежды Фромм характеризует как определенные состояния бытия: покорный бессознательный оптимизм, «ожесточение сердца», разрушительность и насилие. Эти состояния личного бытия соответствуют состояниям общества, в котором укрепляется безнадежность. Экзистенциальные состояния бытия безнадежности: скука, тоска, одиночество, апатия. Итак, античность предлагает фаталистическое понимание судьбы, средневековая культура переводит идею судьбы в идею божественного провидения, культура Нового времени предлагает различные интерпретации судьбы: любовь к року у Ницше, любовь к Богу в религиозных концепциях, создание собственной судьбы человеком как субъектом разума, свободы, прогресса в учениях философии Просвещения. «В современном мире, – пишет Н.А. Агеева, – происходит варваризация человека. …мышление начинает заволакиваться магией и фантастикой, поднятыми чадной волной ярых инстинктов и страстей» [18], причиной чему является кризис разума. В постмодернизме наблюдается феномен «кризиса судьбы» [19]. В технократических концепциях постиндустриального общества идея судьбы человека рассматривается оптимистически, с позиций принципа техницизма. 96 3.2 Свобода человека Проблема свободы в истории философии. Природа свободы. Свобода пространства выбора. Свобода и покинутость Свобода является вечной проблемой в философии. Можно выделить такие версии понимания свободы, как гносеологическая (Б. Спиноза), психологическая (В. Виндельбанд), спиритуалистическая (И. Кант, Вл. Соловьев, И.А. Ильин), антропологическая (Ф.М. Достоевский, А. Камю), онтологическая (Н.А. Бердяев, Ж.-П. Сартр). Наиболее ранней концепцией свободы является концепция Спинозы, который понимает ее в гносеологии как познанную необходимость. У Спинозы субстанция свободна, потому что является причиной самой себя, человек как модус несвободен, служа принужденной вещью, его тело является животным и потому обуреваемым аффектами, в рабстве которых он находится. Единственным способом преодоления этого рабства выступает познание разумом законов субстанции, этой божественной природы. «Поскольку душа, – пишет Спиноза, – познает вещи как необходимые, она имеет тем бóльшую власть над аффектами» [1, 594]. Спиноза рационалистически решил проблему соотношения свободы и необходимости, поставленную еще стоиками. Это решение имеет диалектический характер (свобода есть познанная необходимость), но Спиноза принизил возможности человека как субъекта в силу своего механистического и фаталистического мировоззрения. «Куда бы не обернулось счастье, – считал он, – ожидать и переносить это спокойно, ибо все вытекает из вечного определения бога с той же необходимостью, как из сущности треугольника следует, что три угла его равны двум прямым» [1, 452]. Поэтому единственное, на что он (человек-модус) в этом отношении (счастье и свобода – И.С.) может рассчитывать, заключается в том, чтобы «принять, осмыслить, истолковать внешнюю детерминацию как свое собственное добровольное решение. Это позволяет интерпретировать принуждение как внутреннюю необходимость, а значит 97 как свободу» [2, 247]. Поскольку Спиноза рассматривает феномен свободы в познании, его концепцию свободы можно назвать гносеологической. Виндельбанд [3, 570] признает свое понимание свободы выбора психологическим, как свободы воли. Действительно, он рассматривает разные психологические варианты свободного выбора. По его мнению, «выбор состоит в том, что разные воления сдерживают друг друга» [3, 530], так что выбор представляет внутренний психический процесс. В этом процессе человек испытывает амбивалентные чувства: с одной стороны, чувство свободы, потому что он может по своему усмотрению выбирать, а с другой – чувство отсутствия свободы, ибо ему должно выбирать (вынужденный выбор), тогда как он, например, хочет, чтобы оба его желания одновременно осуществились. Вопрос о том, что человек выберет, связан с мотивами действия, и он, конечно, выберет наиболее сильное желание. Виндельбанд приводит пример, который позже повторит Сартр, о выборе между чувствами любви к родине и своему семейству. Единственно верным критерием выбора Виндельбандт считает опыт. Но при этом может возникнуть ситуация равновесия двух желаний. Философ исследует различные в этом случае возможности выбора. Фактор неосознанных мотивов он отвергает. До открытия бессознательного и его роли в поведении остается три десятка лет, так что Виндельбанд ищет объяснение в психическом механизме ассоциаций внешних чувств и физиологическом механизме тела, объявляя данный выбор немотивированным. Вопрос о свободе выбора ставился им и более широко – как вопрос о причинах выбора. Он рассматривает свободу выбора в зависимости от нескольких причин: цели, средства и следствия выбора, направленности мотивов, наличия постоянных и приходящих мотивов, характера знания и привычки человека – и приходит к выводу, что выбор содержит множество возможностей. Как видно из данного перечня, одни причины являются гносеологическими, а другие – психологическими. 98 Дальнейший ход рассуждений философа приводит к постановке им двух проблем. Первой является проблема детерминизма. По его мнению, есть два значения детерминизма: внешний и внутренний детерминизм. Первый характеризуется им как «одна из тех ветряных мельниц, с которыми вступал в борьбу не один рыцарь печального образа» [3, 559]. Второй признается им. «Если же мы под детерминизмом, – пишет он, – или, чтобы точнее выразиться, под “внутренним детерминизмом” будем понимать то учение, согласно которому преходящие и постоянные мотивы в своей совокупности составляют все содержание нашей воли и определяют наш выбор, то в таком случае, все мы детерминисты» [3, 559]. В качестве причин преходящих мотивов он рассматривает аффекты, а в качестве постоянных мотивов – страсти, под которыми понимает «постоянные и господствующие направленности воли, которые проявляются с необыкновенной силой и играют в наших мотивировках особую значительную и решающую роль» [3, 569]. Поскольку страсти относятся к сущности человека, то они не ущемляют свободы выбора. Но выбор не считается Виндельбандом абсолютно свободным, поскольку существуют ограничения свободы. Эти ограничения разнородны, и среди них философ выделяет телесные (функции мозга, физиология организма, состояние здоровья), психологические (представления, аффекты), гносеологические (знание об общем положении вещей и последствиях выбора), социальные (возможности, связанные с положением человека в обществе). Понимание свободы человека И. Кантом, которого отделяли от Спинозы не только время (127 лет), но и другие социальноисторические условия (войны, революции), являлось спиритуалистическим. Кант исходил из принятой им позиции дуализма мира ноуменов и мира феноменов. Свобода у него относилась к первому, необходимость – ко второму. Противоречие между свободой и необходимостью у Канта было «снято» пониманием человека-субъекта как ноумена. Будучи ноуменом, человек обладает волей и знанием категорического императива, вследствие чего он сам определяет причин99 ность и поступает свободно: «Свободная воля и воля, подчиненная нравственным законам – это одно и то же» [4, 290]. Учение Канта о свободе представляет, по Гегелю, большой шаг вперед, потому что человек руководствуется только свободой. Кантовский человек является субъектом, разум которого осуществляет законодательную деятельность. Тем самым Кант признает творчество человека, обожествляя его самосознание. Не случайно С.Н. Булгаков называл Канта отцом «идеалистического человекобожия», так как его коперниканский переворот в философии «сводится к возведению человеческого разума в роль законодателя мира: отныне вселенная обращается около человека как своего центра, а не человек следует за природой» [5, 464]. По Канту, мышление человека не только диктует законы природе, но и определяет его деятельность в сфере нравственности. Кант объявляет независимость морали от религии, что превращает Бога в следствие категорического императива. Мораль «для того, чтобы познать свой долг, не нуждается в идее о другом существе над ним (Боге. – И.С.), а для того, чтобы исполнять этот долг, не нуждается в других мотивах, кроме самого закона» [6, 7]. Сама свобода считается интерсубъективной, что ограничивает волюнтаризм индивида. Тем не менее, многие свои положительные идеи Кант не смог довести до завершения. Он считал свободу непознаваемой, трансцендентной, объявив пределом познания всеобщий нравственный закон. Его человек является абстрактным существом, действующим свободно только в трансцендентном мире, творчество которого ограничивается сферой мышления. Он не отрицал Бога и религии и признавал деятельность человека в эмпирическом мире подчиненной необходимости. Концепцию Канта о свободе можно назвать спиритуалистической, ибо свобода рассматривается им как духовное свойство человека. Спиритуалистическим является понимание свободы и у Вл. Соловьева. В «Краткой повести об Антихристе», включенной им в работу «Три разговора» [7, 53-192], речь идет о некоем сверхчеловеке, создавшем всемирную монархию, ставшим новым римским императором, но опознанным как Антихрист на Вселенском соборе и погиб100 шим в войне с христианскимим силами, вследствие чего свершилось второе пришествие Христа на землю. С темой свободы эту работу связывает идея «антихристова добра», как назвал его Г.П. Федотов [8], или «поддельного добра», по терминологии Соловьева. Антихрист, которого описывает Соловьев, совершил ряд благодеяний глобального масштаба: прекратил вражду между государствами, установив всеобщий мир и создав единое европейское государство – всемирную монархию, провел всеобъемлющую социальную реформу, обеспечив социально-экономическое равенство, наконец, решил прекратить войну между конфессиями, создав вселенскую церковь. Таким образом, деятельность антихриста проходит в служении добру. В этих пророчествах Соловьева (образ добродетельного антихриста не имеет корней в христианском богословии) просматриваются будущие лозунги большевизма: «землю крестьянам, фабрики рабочим, мир народам». По сути дела Соловьев создает прообраз «социализма как позитивного рая всеобщей сытости, завершающего европейскую цивилизацию» [8], понимание которого он взял у Ф.М. Достоевского. Как философ-гуманист Соловьев подчеркивает ущербность данного осуществленного проекта земного рая, иронически заявляя, что «даже сытые животные хотят обыкновенно не только спать, но и играть». В созданном антихристом обществе, по мнению Соловьева, отсутствует главное для человека – духовная свобода. С попыткой уничтожить ее в области свободы совести философ связывает крушение царства антихриста. Ильин также разрабатывает спиритуалистическое учение о свободе. Он выделяет внешнюю и внутреннюю свободу человека. Первая есть «свобода от недуховного и противодуховного давления, от принуждения и запрета, от грубой силы, угрозы и преследования. Ввиду того, что здесь дело идет об ограждении извне духовного опыта и веры, такую свободу можно обозначить как «внешнюю» или «отрицательную» [9, 165]. Философ отождествляет ее с общественной свободой. Отношение к ней философа амбивалентно: с одной стороны, он признает правомочность права и государства, их предписаний и запрещений, а с другой стороны, недопустимость и неэффек101 тивность принуждения извне к духовному опыту человека. Непризнание духовной свободы «приравнивает человека животному, умаляет человеческое достоинство. …заставляет человека лгать – Богу, себе и людям» [9, 168]. Внешняя свобода включает экономическую (частная собственность, самостоятельная предпринимательская деятельность) и политическую (демократия, защищающая права и свободы человека). Внутренняя свобода есть «сила самоопределения к лучшему», для которой внешняя свобода есть лишь естественное и необходимое условие. По мнению Ильина, «“даровать” народу политическую свободу – иногда значит ввести его в искушение и поставить его на путь гибели. Это означает, что его необходимо всемерно воспитывать к политической свободе; помогать ему в его внутреннем и духовном самоосвобождении» [9, 178]. Диалектика внешней и внутренней свободы усматривается философом в том, что «без свободы – гаснет дух; без духа – вырождается и гибнет свобода» [9, 178]. Проблема человеческой свободы является центральной в творчестве Ф.М. Достоевского. Н.А. Бердяев писал, что «свобода для него (Достоевского. – И.С.) есть и антроподицея, и теодицея, в ней нужно искать и оправдания человека, и оправдания Бога» [10, 420]. Но Достоевский далек от оптимизма Спинозы и Канта, ибо свободу он понимает экзистенциально-антропологически, как бремя и тяжелое испытание для человека. Он видит трагедию свободы в том, что она есть не только свобода добра, но и свобода зла, которые связывает экзистенциальная диалектика перерождения либо в добрую необходимость, либо в злую свободу, что ведет в обоих случаях к исчезновению свободы. Христианское богословие так и не смогло решить дилеммы свободы и судьбы. Все романы Достоевского характеризуют путь бунтующей свободы, которым идут его герои, и в процессе которого бунт перерастает в своеволие. Своевольная свобода губит судьбу его героев: одни кончают жизнь преступлением и угрызениями совести, а другие – сумасшествием или самоубийством. Философ, считает Бердяев, показывает страшную диалектику трансформации свободы в рабство: «Если все дозволено человеку, то свобода человеческая переходит в 102 рабствование самому себе. А рабство у самого себя губит самого человека» [10, 426]. Конец свободы не предопределен: она может привести и к богочеловечеству, и к мировому злу. Идея свободы связана у Достоевского с идеей принуждения добром. Достоевский не признает ни христианского рая, ни социализма, где нет свободы духа. Для него свобода веры важнее самой веры. Поэтому в романе «Братья Карамазовы» он отвергает в христианской религии чудо, тайну и авторитет как формы принуждения человека к вере. Первоначально проблему свободы Достоевский поставил в «Записках из подполья», где «подпольный» человек (безымянность героя подчеркивает, что речь идет о социокультурном явлении – подполье) стремится сделать своеволие аксиомой своего мышления и поведения. Все дальнейшие герои автора, идущие путем своеволия, заканчивают свою жизнь трагически. Исследование свободы перерастает у Достоевского в проблему человекобожия. Раскольников, Иван Карамазов, Ставрогин, Шатов, Кириллов мучаются над вопросом, что если отсутствует Абсолют, то «все дозволено», и значит, сам человек становится Богом. Раскольников совершает преступление из метафизического стремления к свободе и воли к власти. Мировоззренческую позицию Ивана Карамазова его брат Алеша называет бунтом против Бога. Кириллов закончил жизнь самоубийством, чтобы доказать возможность для человека быть Богом. Достоевский показывает, что своеволие приводит к человекобожию, а то – к отрицанию свободы: «Свобода истребляет себя. И этим завершается идейная диалектика» [10, 430]. Герой Достоевского Шигалев заявляет: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом». Достоевский отвергает социализм как общество без Бога и свободы, а в «Легенде о Великом Инквизиторе» отождествляет Инквизитора с Антихристом. Концепция свободы у Достоевского является антропологической в связи с тем, что свобода понимается им как неотъемлемая сторона существования человека. А. Камю исследует трагические измерения свободы в период кризиса культуры в Европе ХХ в. Рассматривая такую «болезнь духа», как абсурд, он считает, что эта болезнь появляется в обществе, 103 где существуют только многочисленные фантомы свободы, а существование превратилось в «ад настоящего». В этих условиях единственным способом освобождения человека выступает осознание необходимости бунта и сам бунт. Камю формулирует дилемму свободы: «Либо мы не свободны и ответ за зло лежит на всемогущем боге, либо мы свободны и ответственны, а бог не всемогущ» [11, 54]. Первая часть этой дилеммы отрицается как аксиома секуляризированного общества, а вторая признается как имеющая абсурдный смысл, ибо жизнь человека утратила смысл, надежду, веру и превратилась в абсурд. Поэтому единственным способом освобождения человека у Камю выступает бунт как протест против абсурдного общества и бессмысленности жизни. Камю рассматривает три формы бунта: метафизический, исторический и художественный. История философии характеризуется им как философия бунта, от бунта Прометея и Ахилла до бунта Ф. Ницше, Ф.М. Достоевского и М. Штирнера. Печальным исходом этого бунта выступает человекобожие человека, самоутверждающего себя в своевольной свободе. Историю общества Камю характеризует как историю террора и революций. Анализируя террор французских якобинцев XVIII в. и русских террористов XIX в., он делает вывод о несостоятельности надежд на социальный бунт. Как человек литературы, сам создавший ряд художественных произведений, Камю связывает свою веру в возможность преодоления абсурда с художественной сферой культуры. По его мнению, литература в лице Достоевского и его героев показывает, что человек должен платить за бунт высокой ценой собственной жизни. Он считает, что именно искусство создает «мир, способный утолить свою жажду к свободе и достоинству, неискоренимую в каждом человеческом сердце». Идеи Камю об абсурдной свободе и преодолении ее в форме бунта можно отнести к антропологическому пониманию свободы. В философии Н.А. Бердяева тема свободы получает онтологическую форму: философ понимает ее как субстанцию. Он рассматривает тему свободы при решении проблемы теодицеи, которая получила различное истолкование в богословских и философских работах. Но 104 рассматривает нетрадиционно, с позиций нехристианских и даже в целом религиозно немонотеистических, ибо признает, что кроме христианского Бога существует некое другое Первобожество, именуемое им термином, введенным Я. Бёме (Ungrund) – Бездной, а сам Бердяев называет Свободой. «В начале, до образования мира, – пишет он, – была также иррациональная бездна, свобода… Бог сотворил мир из свободы. В основе творения должна лежать бездонная свобода, которая была уже до миротворения заключена в ничто» [12, 115]. В этой свободе скрыты возможности и добра, и зла. Бог оказывается невластным над злом, ибо оно заключено в свободе, «лежащей глубже самого бытия». Через признание существование второго Абсолюта, Свободы-Бездны, или Ничто, Бердяев оправдывает Бога и решает христианскую теодицею. Другая часть рассуждений философа связана с отношениями Свободы-Бездны и человека. И в этом отношении Бердяев высказывает идеи, далекие от христианской ортодоксии. Оказывается, что человек является результатом двойного творения: Бог творит человека из добытийственной свободы, а значит, тот несет на себе печать не только богоподобия, но и свободы, в которой укоренено зло. Эти идеи напоминают христианские представления, высказанные, в частности А. Августином, о том, что причиной грехопадения является гордыня человека, душа которого возмечтала, чтобы человек стал Богом. Но только напоминают, потому что они высказываются в границах выстроенной Бердяевым новой нехристианской онтологии: «Зло лежит в глубине человеческой природы, в глубине духа» [12, 118]. Итак, в природе человека заложены оба онтологических начала: добро (от Бога) и зло (от Свободы). Как выразился Бердяев, «в человеческой природе произошло смешение божьего замысла, божьей идеи, божьего образа и подобия с первоначальным ничто, с древним небытием» [12, 118]. Этим смешением Бердяев и объясняет двойственность человеческой природы. Вопрос о преодолении зла решается Бердяевым, хотя и на почве христианства, но нетрадиционно. Поскольку в человеке сохранилось «страстное стремление к божественному», то именно он в сотрудни105 честве с Христом может победить мировое зло. «Мы побеждаем зло, – пишет философ, – лишь приобщаясь к Христу и соучаствуя в Его деле, принимая на себя Его крест. Зло непобедимо никаким внешним насилием» [12, 128]. Бердяев назвал эти действия человека восьмым днем творения, тем самым создав антроподицею, учение об оправдании человека. Эти идеи весьма далеки от христианских представлений о божьей благодати, которая спасет мир и человека. Бердяев критиковал гуманизм за обожествление человека, но его концепция антроподицеи также приводит к данному выводу. Не случайно С.Н. Булгаков назвал ее «мистическим фейербахианством». Исходным пунктом в понимании свободы Сартром является положение, что «моя свобода беспрестанно находится под вопросом в моем бытии» [13, 660]. Под вопросом, потому что человек со всех сторон окружен детерминирующими факторами. «Как бы ни казалось, – пишет Сартр, – что человек “делает себя”, он представляет собой “бытие сделанное”, сделанное климатом и почвой, расой и классом, языком, историей общности, частью которой он является, наследственностью, индивидуальными обстоятельствами своего детства, приобретенными привычками, большими и малыми событиями своей жизни» [13, 720]. Все они являются границами свободы. Поэтому свобода должна пониматься не как свобода «от», а как свобода «для». «Бытие, – пишет Сартр, – называемое свободным, – это бытие, которое может реализовывать свои проекты» [13, 721]. Иначе говоря, свобода заключается в возможностях выбирать, «означает лишь автономию выбора» [13, 722], «она существует только через выбор» [13, 725] и возникает в действии. Сартр считает, что человек не выбирает, быть свободным или нет. Поскольку свобода есть «недостаток бытия», то «мы приговорены к свободе... брошены в свободу или, как заметил Хайдеггер, “заброшены”» [13, 724]. Свобода является фактичностью бытия и являет себя во всех ситуациях, которые обусловливают свободу Я. Фактичность свободы обнаруживается разными способами: моим местом, моим телом, моей позицией, моим фундаментальным отношением к Другому. Мое настоящее место предписано свободой, оно отсылает к 106 другому месту и т.д. вплоть до места, «которое предназначено мне рождением». Фактичность моего места открывается через свободный выбор, который связан с проектами изменений, которые я совершаю. Но выбор уже представляет ограничение, поэтому «свобода может быть бытием действительно свободным, только конституируя фактичность как свое собственное ограничение» [13, 738]. Другое ограничение свободы относится к моему прошлому. Оно существует только потому, что я удерживаю его существование моим проектом будущего. «Все мое прошлое здесь – давящее, настоятельное, повелительное, – пишет Сартр, – но я выбираю его смысл и приказы, которые оно мне дает, через проект моей цели» [13, 743]. Только будущее определяет отношение к будущему: живое оно или мертвое, нуждаюсь я в нем или нет, так что через проекты моего будущего я опрашиваю прошлое, и историзация моей субъективности подтверждает мою свободу. Третьим ограничением моей свободы являются окрестности (окружающие меня вещи). Они противостоят моей свободе, но только свобода открывает эти вещи в опыте, придает им значение. Четвертым ограничением моей свободы выступает мой ближний. «Для-себя-бытие» (мое бытие) существует в мире, являющемся «миром-для-других-для-себя». «Именно посредством возникновения Другого появляются некоторые определения, которыми я являюсь, не выбирая их. В самом деле, вот я еврей или ариец, красивый или безобразный, безрукий и т.п. Всем этим я являюсь для Другого, без надежды понять этот смысл, который я имею внешне, а тем более изменить его» [13, 777]. А за Другим стоят отчуждающие объективации, различного рода и общественные запреты, превращающие меня в объект. Тем самым моя свобода имеет границы в существовании свободы другого. Избежать этого отчуждения мое бытие не может. Единственное, что может сохранить мою свободу, заключается в том, чтобы свободно признать свободу другого: «Этим свободным признанием другого, через испытывание своего отчуждения, я беру на себя мое бытие-для-другого… я его беру на себя как раз потому, что оно является моим свойством союза с другим. Таким образом, я могу 107 постигнуть другого как свободу только в свободном проекте постигнуть его как такового» [13, 781]. Наконец, границей человеческой свободы является моя смерть. Сартр выступает против гуманизации смерти, которую, например, отстаивает М. Хайдеггер. Он считает, что мы приговорены к смерти, ее нельзя ждать, но относиться к ней как к помехе, которую надо принимать в расчет: она является «ничтожением моих возможностей», может «отнять у жизни всякое значение»; «само существование смерти отчуждает нас полностью в нашей собственной жизни в пользу других» [13, 805]; смерть является случайным фактом, «для смерти нет никакого места в бытии-для-себя» [13, 809-810]. Возникает вопрос: чем же является смерть для меня? Сартр дает ответ, близкий тому, который в древнегреческой философии предложил Эпикур, утверждавший, что человек не встречается со смертью и потому не должен ее бояться. Сартр полагает, что смерть «меня не затрагивает», поскольку «для нее нет никакого места в моей субъективности, она всегда вне ее» [13, 811]. Философ предлагает проект бессмертия человека, заключающийся в том, что «для-себя-бытие» сохраняется либо в памяти Другого (в семье, в исторической среде) в его индивидуальной форме, либо в форме коллективного существования («крупные феодалы XIII века, буржуазия XVIII века, советские чиновники»). «Жизнь ушедшего, – пишет он, – характеризует то, что Другой становится ее хранителем» [13, 802]. С фактичностью свободы Сартр связывает тотальную ответственность человека. В 1975 г. в интервью, данном Сартром по поводу своего семидесятилетия, он сказал, что истинная философия «берет за отправной пункт свободу, упущенную из вида, как мне кажется, марксистской мыслью» [14, 184]. Идеи Сартра о свободе рассматриваются в границах онтологии человеческого бытия, понимаемом им феноменологически. Проблема природы свободы является предметом дискуссий в истории философии. Одни считали ее божественной, данной Богом в дар человеку, другие – врожденной способностью человека, указывающей на его трансцендентные способности. Иной подход предла108 гает Г.Л. Тульчинский, обращающий внимание на то, что свобода есть там, где есть Я, осознающее свою ответственность. Эту ответственность вменяют человеку культура и право, тем самым наделяя человека свободой. «Тогда получается, – пишет Тульчинский, – что свобода, сознание свободы воли, самосознание моего Я – не что иное, как эпифеномен культуры» [15, 20]. Таким образом, свобода оказывается результатом вменения личности ответственности, и ответственность, социализированная в личности культурой, порождает ее свободу. Сартровское понимание свободы и ответственности выворачивается наизнанку. Свобода является ответственностью, осознанной Я личности, говоря словами Тульчинского, свобода есть усвоение вменения ответственности. Но в таком случае откуда возникает вседозволенная или абсурдная свобода? Культура не может позволить себе такие извращенные формы свободы, ибо они подрывают ее существование. На это дает ответ экзистенциализм, утверждая, что свобода не есть субстанция и что «вектор свободы направлен не вовне, а внутрь» [15, 26]. Свобода является состоянием Я, которое рационализм отождествлял с самосознанием, а экзистенциализм – с экзистенцией, обладающей интенциональностью, направленной на самого себя. Ответственность и свободу вменяют общество и культура, но рефлексирует над ними личность, и от ее понимания ценностей и норм культуры зависят поступки личности. «Бытие, – заключает Тульчинский, – коренится в душе человеческой, которая есть чувствилище свободы – трансцендентного, добытийного источника (потенциатора) бытия и по сути дела эпифеномена культуры, социализирующей личность на основе вменения ответственности» [15, 31]. Внешняя свобода (экономическая, политическая) представляет лишь условие для внутренней свободы личности. Экзистенциализм утвердил в философии идею человека как выбирающего существа. Поскольку человек живет в создаваемом им социальном и культурном пространстве, возникает проблема взаимосвязи свободного выбора с культурным пространством выбора. А.С. Кармин [16, 202-205] создает плюралистическую концепцию 109 культурного пространства, перенося на него свойства трехмерности физического пространства. В результате им выделяются три измерения пространства: знания, ценности, регулятивы – и выстраиваются координаты оси, образующие три плоскости пространства: духовная, социальная и техническая культура. Личность всегда существует в определенном культурном пространстве, а механизмом обретения индивидом своего духовного мира, в котором главную роль играют ценности, является выбор. Возможны два способа выбора: выбор из готового культурного пространства и выбор построения собственного культурного пространства. В первом случае индивид может разделять существующие ценности группы или общества либо отвергать их. Во втором случае индивид проявляет творчество, внося в культурное пространство новые ценности, идеалы, культурные образцы, идеи. Г.-В.-Ф. Гегель считал, что процесс развития культуры осуществляется через закон отрицания отрицания, обеспечивающий синтез культурного наследия, и индивид в своем развитии повторяет путь развития культуры. С. Кьеркегор же полагал, что овладение культурой представляет индивидуальные акты, происходящие через выбор из двух альтернатив [17, 227]. Гегелевская схема оставляет мало выбора индивиду, а схема Кьеркегора не расширяет пространства выбора индивида. В действительности индивид выбирает из множества возможностей, расширяя пространство выбора и сам в этом процессе обогащая себя. «Индивид, – замечал С.М. Шалютин, – …выбирает, а выбирая… и реализуя выбранное, он творит себя. Более того, в процессе выбора сам этот процесс обычно не рефлектируется. Индивид может рефлектировать и не рефлектировать. Он живет, и в жизненном процессе (а он складывается из оценок, выборов [невыборов], реализаций [нереализаций]) формируется его сущность, его природа. В этом заключается разумный смысл экзистенциалистской формулы существование предшествует сущности» [18, 245]. В процессе выбора и в результате его личность изменяет себя, свой духовный мир, систему ценностей. Через акты выбора реализуется жизненная стратегия личности. В актах выбора свобода индивида является относительной. Даже если 110 он выбирает сам, на этот выбор влияет его наследственность, общество, семья, культура. Поэтому в выборе по становлению он зависим, как писал Ф. Шеллинг, а по бытию – свободен. В связи с тем, что через свободный выбор формируется сущность человека, то свобода представляет весьма значимую ценность для индивида: «В узком смысле ценности существуют там и тогда, где и когда существует человек, способный выбирать, оказывать предпочтение и оценивать» [19, 151]. Некоторые считают, что свобода является субъективным свойством человека. Но в этом случае ее ценность релятивна: одни под свободой понимают свободу творчества, самосовершенствования, реализации добра, а другие – свободу насилия, разрушения, нигилизма, реализации зла. Положительной ценностью свободу делает то, что она представляет универсальную возможность человека по отношению к себе, другим и миру. На эту особенность свободы обратил внимание Пико делла Мирандола, приписав Богу слова, обращенные к человеку: «Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя представляю» [20, 221]. Бог предложил человеку осуществить выбор между сыном Божиим, ангелом или зверем. Существуют типы выбирающих и не выбирающих индивидов. К свойствам свободы относятся недетерминированоость, спонтанность, связь с ситуациями, динамичность, историчность, интенциональность. Формы свободы разнообразны: свобода внешняя и внутренняя, свобода «от» и свобода «для», свобода рациональная и иррациональная, свобода добра и зла, свобода конструктивная и деструктивная. Если свобода проявляется на уровне элементарных чувств, желаний, волевых импульсов, то все люди являются свободными, и проблемы ценности свободы не возникает. Потребность в свободе связана с определенным уровнем культурного развития человека – его самосознанием, убеждениями, ценностными ориентациями. В традиционных и тоталитарных обществах люди жертвуют свободой ради гарантированного благополучия. Страх перед свободой заставляет мириться с неблагополучными условиями жизни. Но если свобода легко достается человеку, он ее не ценит. Борьба за свободу 111 начинается там и тогда, где и когда подавление свободы становится чрезмерным. В философии свобода (путь к цели на основе собственной воли и действий) обычно соотносится с необходимостью, а не с несвободой (действие по принуждению). В результате феномен покинутости (путь человека, действующего по своей воле, но при неконструктивных целях и средствах) отождествляется со свободой, а несвобода с патернализмом (действие с опорой на опеку со стороны кого-либо или чего-либо). По мнению Г.Д. Левина, такое отожествление является неверным, с точки зрения логики, и пагубным, с точки зрения действительности. В качестве признаков абсолютного патернализма он выделяет всеблагость, бескорыстие, всеведение, всемогущество, всевласть, а в качестве признаков идеального клиента – чистое потребительство, абсолютную некомпетентность, полную беспомощность, полное подчинение воле патрона. Поскольку такой клиент не готов к свободе, то патернализм рассматривается автором как колыбель свободы (он исторически первичен) и путь к свободе. Для того, чтобы такого клиента подготовить к свободе, нужно решить четыре задачи: сформировать у него рациональные и конструктивные потребности и адекватные желания, навыки удовлетворения тех и других имеющимися средствами и навыки самостоятельно создавать эти средства [21, 60]. Понятием «свобода» удобно пользоваться как универсалией, тогда как в действительности существуют свободы, и их разнообразие приводит к тому, что человек является свободным относительно. Существует два способа, не отказываясь от свободы, избежать рисков и неудач выбора: минимизировать цели или оптимизировать средства по их достижению. Каждый, так или иначе, избирает эти способы. Но покинутый индивид отличается от свободного тем, что у него имеются внешние предпосылки свободы, и извне он неотличим от свободного, но отсутствуют внутренние. В связи с этим свободу путают с покинутостью. Э. Фромм, открыв явление бегства от свободы, перепутал свободу с покинутостью. Именно для покинутого индивида свойственен страх перед рисками, ответственностью. 112 Формам внутренних предпосылок свободы соответствуют формы покинутости, характеризующиеся отсутствием базовых социальных и духовных потребностей, неосознаваемостью адекватности желаний своим потребностям, отсутствием умений удовлетворять потребности имеющимися средствами, неумением создавать средства для удовлетворения своих потребностей. При рассмотрении соотношения свободы и покинутости в плане не логических отношений, а исторической действительности возникает вопрос о том, как сегодня освободить несвободное общество, не допустив его срыва в покинутость. Левин выделяет два пути: заменять устаревшие социальные институты общества новыми по мере их готовности и подготовить для этого профессиональные кадры или разрушить старое общество до основания. В том случае, если происходит неподготовленное освобождение, то общество переходит не к свободе, а к покинутости: государство перестает выполнять свои функции, а народ в условиях социального хаоса стремится не к свободе, а к порядку, стабильности. Когда в общественном сознании назревает потребность выйти из состояния покинутости, опасным является стремление добиваться ускорения прихода свободы. 3.3 Одиночество человека Феномен одиночества в истории философии. Теоретические исследования одиночества. Связь одиночества с негативными и позитивными экзистенциалами. Формы одиночества Образ Homo Solus появляется в античных трагедиях периода классики. По версии Софокла, его герой царь Эдип, совершивший убийство своего отца и инцест с матерью, ослепил себя, обрекая на одиночество. А.С. Гагарин пишет, что «Эдип по праву является родоначальником… традиции европейских культурных образов Homo Solus – мужественно-пассивный аскетичный трагический герой, вступающий на опасный путь саморефлексии, в отличие от Прометея, 113 мужественно-деятельного героя-одиночки, стоящего у истоков другой, героической традиции» [1, 83]. Полисная Древняя Греция не любила выдающихся мудрецов, обрекая их на изгнание-одиночество (Анаксагор, Протагор, Диагор, Сократ, Аристотель, Феофраст, Стильпон из Мегар, Феодор Киренский) [1, 88]. Отшельнический образ жизни философа Гераклита осуждался, Демокрит был бездомным, Анаксагор был заочно приговорен к смерти, Сократ покончил жизнь самоубийством после смертного приговора, Аристотель был изгнан из Афин. В античном сознании существовало представление о философах как одиноких мудрецах. Этот образ закрепился Платоном, утверждавшим, что философия есть любовь к одиночеству. Аристотель признавал обязательность созерцательной одинокой жизни для философа. Но наиболее распространенным в античном обществе был образ человека, имеющего дружественные связи с другими. Интерес к феномену одиночества появляется в условиях кризиса античного общества. Стоики описали феноменологические установки мудреца в виде бесстрастия (атараксия), блаженного состояния души (эвпатия), самодостаточности (автаркия), укрощения страстей (апатия). Они провозгласили идею о том, что наилучшим уединением для человека является его собственная душа, находящаяся в состоянии внутренней свободы и бесстрастного созерцания. «Ведь самое тихое и безмятежное место, – писал М. Аврелий, – куда человек может удалиться, – это его душа. В особенности же человек, который найдет внутри себя то, вглядевшись во что, он тотчас преисполнится спокойствия; под спокойствием же я разумею здесь не что иное, как сознание своей добропорядочности. Почаще же разрешай себе такое уединение и черпай в нем новые силы» [2, 75-76]. Эпиктет разработал принцип адиафоры, обоюдного безразличия (мира ко мне и моего Я к миру). Эпикурейцы также провозглашали идеал безмятежной умеренности души и одиночества, удаления о толпы. Киники учили не обращать внимания на все невзгоды жизни и уметь беседовать с самим собой: «Мы радуемся одиночеству, скрываясь в чаще деревьев. …Блажен тот, кто ни в чем не нуждается» [3, 143]. Киренаики стре114 мились к обособлению от мира. Но при всем том все они отрицали аскезу и рассматривали одиночество мудреца как испытание духа и подготовку к добрым делам. «Именно в трактате Марка Аврелия, – пишет А.С. Гагарин, – наиболее ярко проявились черты и достоинства солилоквиума, солилоквии (soliloqiua), монолога, обращенного к самому себе, ставшего в средние века после “Исповеди” Августина Аврелия особым жанром философского трактата» [1, 101]. В античной философии было два образа одинокого человека: мудрец, беседующий с самим собой и Богом, и маргинал, не имеющий в силу своих недостатков друзей и потому изгой. Представители большинства школ последнего периода существования античной философии имели в виду одиночество мудреца. Христианство и христианская философия разработали концепцию религиозного одиночества как религиозного опыта подготовки к общению с Богом. Этот опыт выражается в форме молитвы и исповеди, представляющих самоанализ души в уединении от суеты жизни. Одиночество при этом является необходимым условием для того, чтобы человек услышал голос Бога и смог вступить с ним в общение. Особенно одиночество было необходимо для монахов. Священнослужитель И. Кассиан считал, что обрести Царство Божие можно, только имея «чистоту сердца», для чего необходимо отречение от мира (монашество), отречение от телесных и душевных нравов и страстей и отречение ума от видимого и созерцание невидимого (Царство Божие). Монашество может иметь две формы отшельничества: уединение в пустыне и отшельничество келейное. Монах-отшельник считался образцом праведности. Известно, что П. Абеляр после раскрытия его любовной связи с монахиней оскопил себя и ушел вести жизнь отшельника в пустыне, описав в работах «Познай самого себя» и «История моих бедствий» судьбу одинокого человека, искупавшего свои грехи перед Богом. Обобщенное понимание экзистенциала одиночества было дано Ф. Кемпийским в работе «О подражании Христу», где он охарактеризовал образ духовного религиозного человека, 115 к свойствам которого относятся умение слушать Бога, предпочитать одиночество, быть в подчинении к Богу и иметь безмятежную душу. В философии Возрождения проблема одиночества понималась в свете принципа индивидуализма. Ф. Петрарка в трактате «Об уединенной жизни» рассматривает одиночество-уединение как способ самоуглубления в свою душу, «диалога с древними», обретения знаний об античной культуре, дающей наслаждение. К. Салютати подвергает критике монашеский идеал одиночества и усматривает предназначение человека в активной земной жизни. Э. Роттердамский создает образ Мории-глупости как олицетворения культа аскетизма. Идеалом гуманистов был универсальный человека, который может осуществить овнешнение своих способностей только в активной творческой деятельности. В период Возрождения велись дискуссии о том, чему отдать предпочтение: уединенной жизни или же активной жизни в обществе, и гуманисты делали выбор в пользу стратегии активной творческой жизни. Одиночество-уединение признавалось лишь как свидетельство избранничества, необходимого для мудреца и художника, чтобы избавиться от неблагоприятных для творчества внешних условий жизни. Большинство гуманистов подвергали критике концепцию уединенной добродетели. Индивидуализм Возрождения имел гуманистический смысл поиска своего Я и его овнешнения в разнообразной творческой деятельности. В XVI в. в эпоху позднего Ренессанса происходит преодоление гуманистического антропоцентризма, выраженное в «Опытах» М. Монтеня. Он сбрасывает флер привлекательности с деятельной жизни, утверждая, что чаще всего он прикрывает честолюбие и стяжательство, и провозглашает в качестве цели жизни свободу и независимость. Но Монтень критикует и христианский идеал уединения, утверждая, что пороки человека не покидают его с переменой мест. «Недостаточно, – пишет он, – поэтому уйти от людей, недостаточно переменить место, нужно уйти и от свойств толпы, укоренившихся в нас; нужно расстаться с собой и затем заново обрести себя» [4, 306]. Кроме того, по мнению Монтеня, одиночество не связано с уединенным местом, так как одиноким можно быть «и в толчее горо116 дов, и при дворах королей». Философ призывает человека не привязываться к овнешненным формам своих желаний и сделать из своей души целиком собственную «клетушку», «где было бы главное наше прибежище, где мы могли бы уединяться». Подлинное уединение находится в душе человека. «Мы обладаем душой, – пишет Монтень, – способной общаться с собой; она в состоянии составить себе компанию; у нее есть, на что нападать и от чего защищаться, что получать и чем дарить» [4, 307]. Так появляется тема индивидуалистической личности, душа которой представляет собой целый мир, обогащающий человека. Таким образом, одиночество лишается своей прикрепленности к месту, пространству своей жизни. Если одиночество понималось как изоляция от места, то уединение имеет экзистенциальную ценность, оно связано не с местом, а с ценностями, смыслом жизни. Монтень критикует тех, кто уходит в одиночество не для себя, а для своей известности и славы. В обществе Возрождения утвердился культ общественной и личной пользы. Поэтому Монтень предлагает каждому одиночество на закате своих дней, так как ему уже нечего предложить обществу. Он ссылается на Сократа, который учил, что подобает «старикам – отстраняться от всяких дел как гражданских, так и военных, и жить по своему усмотрению без каких-либо определенных обязанностей» [4, 309]. В этих словах и Сократа, и Монтеня слышится голос трезвого реализма, у Монтеня – связанного с мыслями о смерти. Он учит, что в старости человек «должен остерегаться страстей, нарушающих наш телесный и духовный покой; …берегитесь увлечься и устремиться вперед, туда, где к удовольствию примешивается усилие. …старайтесь лишь о том, чтобы вы сами могли говорить с собой о себе. …вы один – театр для себя самого. ...довольствоваться с самим собой, ничего не заимствовать ни у кого, кроме как у себя самого, сосредоточить и укрепить свою душу на определенных и строго ограниченных размышлениях» [4, 314,316]. Эти идеи схожи с идеями стоиков, разве что те относили их к идеалу мудреца, а Монтень говорит о жизни «среднего» человека, которому следует оставить заботу о 117 славе. А.С. Гагарин назвал эти положения концепцией «самоценности автономности обыкновенной индивидуальности». «Монтень, – пишет он, – вводит в философское мыслительное пространство Человека Обыкновенного, Homo Ordinalis, способного на одиночествоуединение… и обретающего цель и смысл бытия… на исходе жизни» [1, 316]. В философии Нового времени феномен одиночества осуждался. Ф. Бэкон утверждал, что «всякий, кто любит одиночество, либо – дикий зверь, либо – Господь Бог». Философия этого времени развивалась в традициях рационализма и эмпиризма, натурализма в понимании человека, поэтому одиночество исключалось из числа экзистенциалов. Исключением является творчество Б. Паскаля, у которого одиночество стало одной из основных тем. Эта тема рассматривается им в двух аспектах. В аспекте социального бытия Паскаль признает необходимость уединения для размышлений о смысле жизни, величии и ничтожестве человека. В космологическом аспекте Паскаль признает заброшенность и покинутость человека в бесконечной Вселенной. М. Бубер писал, что открытия в астрономии эпохи Возрождения и Нового времени привели к тому, что человек почувствовал себя бездомным в устрашающем своей бесконечностью космосе, и лучше всего экзистенциальные переживания человека о Вселенной выразил Паскаль: «С непревзойденной и поныне ясностью он прочувствовал обе бесконечности – бесконечно большого и бесконечно малого – и познал человеческую ограниченность, недостаточность и обусловленность. Космологический восторг Бруно и Кеплера, словно перескакивающий через человека, сменяется здесь ужасающе ясной, меланхоличной, но вместе с тем и доверительной трезвостью. Эта трезвость более чем когда-либо одинокого человека… это новое самообладание личности, которая стала бездомной посреди бесконечного» [5, 86-87]. А.С. Гагарин выделял два периода в философских исследованиях феномена одиночества. В первом периоде одиночество рассматривается как одиночество мистиков, отшельников, философов. В коллективном сознании оно либо отвергается либо рассматривается как 118 уединение для обретения мудрости, в религии в виде идеи спасения. Второй период охватывает Возрождение и Новое время, где одиночество становится предметом осмысления в светской культуре как уединение ради творчества либо как обособление от социального окружения в романтизме и сентиментализме (образы изгоя, бунтаря). В ХХ в. одиночество исследуется психологией и психиатрией, а в культуре в виде проблемы растущего отчуждения человека, особенно в философии экзистенциализма и гуманистического психоанализа Э. Фромма. Фромм [6] продолжил анализ отчуждения, проведенный К. Марксом. Он считает, что в экономике человек стал слугой «вылепленного им голема» технизированного мира, в политике оказался бессильным перед роковым главенством бюрократии, в культуре потребления – оторванным от «истинного, реального нашего «я». «Он не деятельный участник бытия, – пишет Фромм, – он хочет лишь «ухватить» все, что только можно, – присвоить побольше развлечений, культуры и всего прочего. Мерилом оказывается вовсе не истинная ценность этих удовольствий для человека, но их рыночная цена», а взаимоотношения с другими превратились в «отношения двух абстракций, двух живых машин, использующих друг друга» [6]. Вывод Фромма о результатах тотального отчуждения человека является пессимистическим, так как он не видит возможностей преодоления форм отчуждения. Главным следствием отчуждения Фромм считает бездуховность человека. «Человек, – пишет он, – почти не выходит за пределы мира сработанных им вещей и выдуманных понятий; он почти всегда остается в рамках обыденности. …человек рвется за пределы обыденности, но то, какими способами он удовлетворяет эту свою внутреннюю потребность, свидетельствует о безмерном убожестве всех наших поисков и решений» [6]. Представители религиозного экзистенциализма XIX-XX вв. искали путь преодоления одиночества в общении с Богом, а представители светского экзистенциализма приходили к пессимистическому выводу о заброшенности человека и абсурдности его жизни. Так, философия отреагировала на возникновение тоталитарных обществ, 119 насильственного коллективизма, безопорного индивидуализма в среде набирающих силу масс, образующих, по К. Ясперсу, среду «роения». Не случайно М. Бубер писал, что воспринял человека Кьеркегора «как человека на краю. Но человек Хайдеггера делает огромный и бесповоротный шаг в сторону от Кьеркегора – к краю бездны, обрывающийся в Ничто» [5, 134]. Действительно, Хайдеггер скептически относится к бытию индивида с другими, усматривая в них угрозу усреднения, массовости, утраты индивидуальности. «Это бытие-с-другими, – пишет он, – полностью растворяет свое присутствие всякий раз в способе бытия «других», а именно так, что другие в их различительности и выраженности еще больше исчезают. В этой незаметности и неустановимости люди развертывают свою собственную диктатуру» [7, 151]. Философ говорит о необходимости дистанции от других, ибо экзистенциальной чертой людей является середина, которая уравнивает все бытийные возможности индивида, делает его одинаковым с другими, лишает его личного бытия. Теоретическое исследование феномена одиночества находится на стадии его категориального определения по сравнению с другими явлениями. Хотя развитые теории одиночества отсутствуют, Д. Перлману и Л.Э. Пепло удалось выделить восемь теоретических подходов к его пониманию. Психодинамические модели, опирающиеся на клинические практики психоанализа, считают одиночество результатом ранних детских влияний на личностное развитие и акцентируют внимание на тех чертах характера и внутрипсихических конфликтах, которые обусловливают одиночество. Согласно феноменологическому подходу К. Роджерса, «держит людей замкнутыми в своем одиночестве» уверенность, что его истинное Я отвергается другими. Экзистенциализм считает, что люди изначально одиноки и истинное одиночество связано со столкновениями личности с пограничными ситуациями. В социологических интерпретациях одиночество рассматривается как результат действия социальных сил и особенно социальных норм индивидуалистического характера. В интеракционизме одино120 чество понимается как продукт комбинированного влияния личностных и ситуативных факторов. При когнитивном подходе одиночество связывается с познанием личностью противоречия между желаемым и достигнутым уровнем социальных контактов. Согласно интимному подходу одиночество объясняется недостатком доверия в межличностных отношениях, при системном подходе оно рассматривается как механизм обратной связи по отношению к влиянию различных уровней, «действующих одновременно как система». Авторы [8] подчеркивают, что данные подходы представляют начальные попытки анализа проблемы одиночества. Экзистенциал одиночества во всем многообразии его сущностных определений и форм существования раскрывается в соотношении с другими экзистенциалами, как негативными (страх, тоска, смерть), так и позитивными (творчество, игра, свобода, труд). Среди многочисленных страхов человека существует страх одиночества. Э. Фромм среди базовых потребностей человеческого существования выделил укорененность, потребность в обретении человеческих корней взамен утраченных природных. Ребенок находит их в связи с матерью, взрослый – с социальными группами и этническими общностями. «Семья и клан, – пишет Фромм, – а позднее государство, нация и церковь, принимают на себя те же функции, которые изначально выполняла отдельная мать по отношению к ребенку» [9, 34]. Не случайно первой социальной формой организации людей стал матриархат, в которой «мать воплощает природную и безусловную любовь». В этот период человек идентифицирует себя с природой, что нашло отражение в мифах и религиозных тотемических ритуалах. И только позже с появлением патриархальных великих религий человек начинает поклоняться «богам-отцам, представляющим разум, принципы, законы», порывая с природой. Эта идентификация с государством и нацией, воплощенными в фигуре вождя, фюрера, привела к идолопоклонению, тоталитарным обществам, национализму. Тем не менее «равнодушие к своей стране является проявлением недостатка социальной ответственности и человеческой солидарности» [9, 60]. 121 Одиночество как изоляция, эскапизм, бегство от общества и людей лишает человека укорененности и порождает страх перед забвением, безместностью и бездомностью. Но одиночество как условие творчества, культурного самоопределения превращается в позитивный экзистенциал. Тем самым обнаруживается амбивалентность одиночества, где противоположности превращаются друг в друга. Существование в толпе, массе, под диктатом коллектива, который нормирует твою жизнь, порождает стремление к одиночеству, но длительное одиночество угнетает, появляется чувство безопорности, брошенности, страха. Позитивный смысл одиночества как экзистенциала заключается в самоопределении, идентификации своего Я как центра своей душевно-духовной жизни путем установления своих двойников. Негативный смысл одиночества как экзистенциала выявляется в его связи со скукой, тоской и смертью. Одиночество порождает скуку, равнодушие к обыденности и безразличие к монотонному повторению одних и тех же сюжетов своей жизни, рождает чувство «не-посебе». Более глубоким духовным состоянием является тоска. Она может выступать в двух формах. Во-первых, как безразличие к жизни. В этом ее качестве тоску описал М. Хайдеггер: «Глубокая тоска, бродящая в безднах нашего бытия, словно глухой туман, смещает все вещи, людей и тебя самого вместе с ними в одну массу какого-то странного безразличия. Этой тоской приоткрывается сущее в целом» [10, 20]. В тоске выражается чувство собственной нереализованности в жизни. «Тоска, – утверждал Н. Хамитов, – обнажает наше Я, очищает от всего безразличного и стадного. Тоска обнажает наше сердце. …это переживание неукорененности самой обыденности» [11, 176]. Во-вторых, тоска существует как тоска по трансцендентному, которую описал Н.А. Бердяев. Это тоска по миру свободы, новизны, творчества, связанная с пониманием утомительности обыденного существования (еда, болезнь, покупки, быт, общественное мнение и т.д.). Это ощущение своих позитивных возможностей, доверие к своей собственной субъектности, стремление к прорыву в иное более значительное существование, к радости духа. «Тоска направлена, – 122 признавал Бердяев, – к высшему миру и сопровождается чувством ничтожества, пустоты, тленности этого мира. …Но она говорит об одиночестве перед миром трансцендентного. …Она между трансцендентным и бездной бытия. …Скука говорит о пустоте и пошлости этого низшего мира. Нет ничего безнадежнее и страшнее этой пустоты скуки. В тоске есть надежда, в скуке – безнадежность» [12, 45]. Одиночество как экзистенциал тесно связан со смертью, ибо в смерти человек постигает свое одиночное конечное существование («смерть своя»). Смерть всегда бывает личной, а существование в одиночестве (более типичное в старости) порождает мысль о смерти. Творчество требует одиночества, уединения для сосредоточенной жизни души и духа. Но в этом одиночестве-уединении человек никогда не остается один, так как он вступает в диалог с самим собой и создаваемым им произведением, его героями. Поэтому философы говорят о двойничестве художника с создаваемыми им образами, адресным посылом к читателю, слушателю, зрителю и обращением к высшему Абсолюту (Бог, Истина, Наука и т.д.). В средневековой культуре иконописцы не начинали своих действий, не помолившись Богу, и в процессе творчества неоднократно обращались к нему, прислушиваясь к интенциям своей души. Творчество есть важнейший способ преодоления одиночества-изоляции. Роль экзистенциала игры для борьбы с одиночеством двойственна. С одной стороны, игра вовлекает в приключение, тайну, вырывает из обыденности, в игре человек обретает «чувство локтя» с товарищами, испытывает радость и удовольствие. Но так называемая игромания усиливает одиночество, вовлекает человека в иллюзорный мир Зазеркалья, где «все дозволено», отстраняет от действительности и других, превращая игру в самоцель. Труд выполняет позитивную роль установление индивидом межчеловеческих связей и служения общему благу. Но в исторических формах труда имется место отчуждение индивида от других, замкнутость в тисках своих ролевых обязанностей, отношение к другому как врагу, сопернику, конкуренту. Экзистенциалу свободы также присуща амбивалентность. С одной стороны, свобода одиночества необходима для творчества, дает 123 человеку чувство собственного достоинства, понимание значимости своей субъектности в борьбе против всякого принуждения, насилия, чувство независимости от влияния авторитетов. Н.А. Бердяев в своей философской автобиографии подчеркивал, что в своей постоянной борьбе за свободу против общества, социальной и религиозной среды он был всегда одинок. «Личность, – утверждал он, – сознавшая свою ценность и свою первородную свободу, остается одинокой перед обществом, перед массовыми процессами истории» [12, 56]. Но свобода есть, по Бердяеву, «вольность, свободный полет, без-властие, анархия» [12, 56]. Поэтому она может приводить и к добру, и к злу, отсюда необходима свобода самоограничения как альтернатива вседозволенной свободы. Но другая ипостась свободы по отношению к одиночеству негативная, что также было отмечено Бердяевым. «Борьба за свободу, которую я вел всю жизнь, – признавался философ, – была самым положительным и ценным в моей жизни, но в ней была и отрицательная сторона – разрыв, отчужденность, неслиянность, даже вражда. …размышляя о своей борьбе за свободу, я должен признать, что эта борьба часто увеличивала мое одиночество и мой конфликт с окружающим миром» [12, 52, 58]. К формам одиночества относятся социальное, душевное и духовное. По вопросу социального одиночества существуют две точки зрения. Одна была сформулирована в марксизме, согласно которой общество избавляет человека от одиночества, и социальность, коллективность представляет собой родовую жизнь человека. Эту особенность родовой жизни человека подчеркивал и Э. Дюркгейм, считая, что общество формирует человека по своему образу и подобию и через воспитание социализирует его, вводит в общество. Он писал об обществе, что «именно оно рисует нам портрет того человека, каким должен быть каждый, и в этом портрете отражаются все особенности его организации» [13]. Вместе с тем К. Маркс признавал, что в некоторых исторических типах общества существует отчуждение человека, прежде всего в сфере материального производства, а также в других сферах общественной жизни. Э. Дюркгейм также считал, что есть индивидуалистические и коллективистские типы общества. Первые 124 формируют такие свойства человека, как свобода и индивидуализм, а вторые – коллективизм и конформизм. Вторая точка зрения была сформулирована в западном и русском экзистенциализме, согласно которой человек в любом обществе находится в состоянии отчуждения, и его социальность проявляется в подчинении обществу. В связи с этим экзистенциализм отвергал социальность как форму, которая не развивает в человеке свободы духа и возможностей самоопределения. Взамен классический западный экзистенциализм предлагал индивиду путь духовной свободы в религии и культуре, представляющий путь одиночества. Коммуникативный экзистенциализм М. Бубера и Н.А. Бердяева обнаружил третий путь между коллективизмом и индивидуализмом, представляющий путь межличностной коммуникации Я с Ты. «Коллективизм, – писал Бердяев, – есть das Man. …Ложь коллективизма заключается в том, что он переносит нравственный экзистенциальный центр, совесть человека и его способность к суждениям и оценкам из глубины человеческой личности в quasi реальность, стоящую над человеком. В коллективизме человек перестает быть высшей ценностью» [14, 330-331]. Противоположностью коллективизма Бердяев считает коммюнотарность (отношение «я» и «ты») и соборность (отношение «я» и «мы»), которые признают ценность личности и духовную свободу, тогда как коллективизм признает авторитарность. М. Бубер утверждал, что в обществе есть «островки» отношений Я и Ты (С.Л. Франк – отношений Я и Мы), и признавал возможность все большего расширения коммюнотарных отношений, тогда как русские философы считали эту идею утопической. Душевное одиночество представляет собой опустынивание души, когда у человека исчезает психическая связь с другими как актуальная, так и в форме воспоминаний. Это психическое состояние, как правило, окрашено отрицательными эмоциями. Духовное одиночество включает как сознательное уединение человека ради творчества или общения с Богом, так и вынужденное одиночество под воздействием исторических условий и различных социальных сил, обрекающих человека на изоляцию от духовной культуры, возможностей 125 заниматься творчеством. Ф. Ницше устами Заратустры предостерегал тех, кто уходит в уединение ради созидания. Во-первых, потому, что человеческое стадо считает уединение грехом, а ищущий творчества принадлежит стаду и скоро устанет от своего одиночества: «Но когда-нибудь ты устанешь от одиночества, когда-нибудь гордость твоя согнется и твое мужество поколеблется. Когда-нибудь ты воскликнешь: “Я одинок”» [15, 45]. Во-вторых, потому, что отказавшись от единых ценностей, одинокий оказался без личных ценностей. Втретьих, он предостерегает против советов добрых и праведных, так как «они ненавидят одинокого». В-четвертых, в связи с тем, что на пути к творчеству одинокого предостерегают «семь дьяволов» (еретик, колдун, прорицатель, глупец, скептик, нечестивец, злодей), из которых он хочет создать себе кумира. В противовес тем, кто живет по законам толпы, Ницше создает образ одинокого человека-мудреца Заратустры, для которого духовное одиночество является отчизной и который остался в седьмом, последнем одиночестве, лишившись всех: и людей, и Бога. Гимн одиночеству-уединению превратился в гимн одиночеству-изоляции от всех. Экзистенциалист К. Ясперс, критикуя массовое общество, признавал экзистенциальную коммуникацию, но при этом считал ее временной и требовал от уходящих в нее индивидов полностью порвать социальные связи. И Ницше, и экзистенциалисты игнорируют связь духовного и социального, стремятся выхолостить последнее, что неизбежно превращает духовное, лишенное всяких социальных ориентиров, в пустоту. 3.4 Страх человека Страх в классической философии. Страх как экзистенциал. Существование страха в жизни и культуре Слово «страх» обозначается в греческом языке словом «фобос» (φóβοs) со значениями страх, ужас, боязнь, бегство. Он характеризует качество (состояние) субъекта и способ его бытия (жизнь в страхе). В 126 античной мифологии в легенде о боге Пане идет речь о страхе, отсюда появляется словосочетание «панический страх», связанное с представлениями о природе. Оценки явления страха присутствуют в различных учениях античных философов. Зенон Элейский характеризовал его как ожидание зла, Демокрит учил, что избавление от страха дает эвтюмия, пребывание души в состоянии спокойствия и равновесия, а киники рассматривали страх бесстыдства как стыд. Платон выделял естественный страх (страх перед Аидом) и социальный страх (стыд) как страх чужого мнения или страх закона. Аристотель связывал страх с угрозой (злом), смертью, вредом – со всем, что приносит страдание. Здесь страх выступает как неприятное чувственное ощущение. Другими определениями страха у него являлись психический аффект и нравственный порок. Анализируя тексты Аристотеля, А.С. Гагарин, выделяет три идеи философа: «1) Страх возникает в результате нарушения целостности социальных модусов существования; 2) Страх универсален, его сила – в изоморфизме зла (несчастей)… 3) Страх имеет позитивное значение, будучи фактором, мобилизующим на защиту целостности, воспитывающим человека» [1, 160]. В античной философии главным считается страх утраты славы. Эпикур связывал страх с внешней идентичностью человека («Кто кажется страшным, тот не может быть свободным от страха»). У философа имелось немало рассуждений о страхе и безопасности. Чтобы развеять страхи, связанные с природными явлениями, он призывал изучать природу Вселенной, а чтобы развеять страхи, связанные с отношениями людей, предлагал быть невраждебным им и находиться в атараксическом уединении от толпы [2, 438-439]. Эпикур призывал не бояться богов путем сосредоточения на размышлениях души, а страх перед смертью преодолевать путем понимания невозможности ее ощущения: «Привыкай думать, что смерть для нас – ничто: ведь все и хорошее и дурное заключается в ощущении, а смерть есть лишение ощущений» [2, 433]. На основании этого он полагал, что люди должны стремиться к наслаждениям и обретать в них 127 счастье, но главным считал интеллектуальное наслаждение, получаемое от занятий философией. Стоики относили страх к числу главных аффектов (страстей) и учили преодолевать все страсти с помощью апатии (не-страсти), осторожности, воли, адиафоры (двойного безразличия). Эпиктет учил, что истинным является внутренний страх смерти и страдания. «Человек, – писал он, – не должен ничего бояться, он должен быть бесстрашным и вместе с тем он должен жить с опаской» [3, 220]. С наибольшей яркостью стоическое мировоззрение было выражено М. Аврелием, основанием которого являлись два принципа: следование законам природы и покорность судьбе. В свете этих принципов отношение к смерти у философа является спокойным, фаталистическим: «Еще немного, и я уже мертв, и все для меня исчезнет. Если моя настоящая деятельность достойна существа разумного, общественного, подчиняющегося тому же закону, что и бог, то чего еще мне желать?» [4, 138]. Он ищет способы избавления от страха в том, чтобы жить без суеты, не привязываться к своей жизни, понимая, что и позади, и впереди человека находится вечность и следует ценить настоящее. В случае же неразрешимых противоречий не бояться прерывать эту жизнь. «Уйди же из жизни, – пишет Аврелий, – без злобы, как ты опочил бы и по совершении своего дела, сохраняя благожелательность даже к тому, что стояло на твоем пути» [4, 148]. Если Эпикур, а позже Лукреций Кар предлагали интеллектуальное решение проблемы страха, то у стоиков это решение связано с созданием феноменологической топики, в которой чувство страха подвергается размышлениям души о нем как таинственном феномене. Если философы поздней античности обсуждали проблему страха с личностной позиции, то философы средневековья в понимании страха обращались к текстам Библии, особенно евангелистским положениям. В Новом Завете присутствует понимание страха Божьего как страха за душу человека, освобождение ее от грехов и спасение: «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся» [Притч. 10, 27]. По сути дела страх Божий представляет собой не 128 страх перед Богом, а страх отпасть от Бога, оказаться без опоры на Бога, страх впасть в грехи. У средневековых богословов присутствовало два вида страха: «чистый», связанный с любовью к Богу, и «нечистый» – страх наказания за грехи. Первый отождествлялся с благоговением перед Богом, выступал как залог спасения от страха смерти. В отличие от философии стоиков в храстианской мысли (особенно после Соборов V-VI вв.) самоубийство рассматривалось как один из семнадцати смертных грехов, которые не подлежали покаянию. В философии Возрождения страх Божий приобретает социальную ориентацию, выступает как средство обуздания черни. П.-А. Мандзолли в философской поэме «Зодиак жизни» пишет о своих сомнениях в личном бессмертии, провозглашенном как принцип христианской антропологии: Если бы даже так было – об этом молчать подобает. Вещи такие открыто нельзя проповедовать черни… Ведь полудикую чернь обуздать лишь религия может, Страх наказаний один… Ибо чернь и темна, и коварна, И неспособна сама к добродетельной жизни стремиться. Ей ненавистна всегда, и всегда ей тяжка добродетель. Кто же, разумен и благ, посмеет открыто и явно Смертною душу признать, тем самым толпу развращая? [5, 188-189]. Сам Мандзолли усматривает счастье не в этике стоицизма и ни в христианской этике, а в гармоническом соединении духовных и телесных благ. Еще дальше идет Монтень, рассматривая религию (в том числе и религиозное понимание страха) как народный обычай и рассказывая о жестокости христиан, завоевывающих чужие народы, и зверствах католической инквизиции, организовавшей в Европе массовую охоту за «ведьмами». Силу религии он усматривает не в ее святости и истинности, а в общепризнанности. Главной добродетелью человека Монтень считает не страх Божий, не благочестие, а совесть, отрицая тем самым бессмертие души. Он провозглашает позицию индивидуализма, опоры человека на самого себя, исключающей всякий страх за себя и близких. 129 Монтень посвятил размышлению над страхом XVIII главу своих «Опытов», в которой он описывает страх как одну из самых сильных человеческих страстей. Он различает страх индивидуальный и коллективный, который овладевает «большими скоплениями людей». Особо он выделяет панический страх, который, например, овладел жителями Карфагена, ставшими без особых причин убивать друг друга. К причинам страха он относил обстоятельства жизни и воображение человека. Монтень характеризует физиологические признаки страха («окрыляет нам пятки» при бегстве или «пригвождает к месту и сковывает нам ноги») и психологические (безразличие, оцепенение, похожее на ступор). Он считает страх амбивалентным явлением, выделяя как позитивные, так и негативные его функции. Первая выражается в безумной храбрости, а вторая в том, что люди «прозябают в постоянной тревоге». Отрицание страха присуще и другим мыслителям Возрождения. Л. да Винчи утверждал: «Кто в страхе живет, тот и гибнет от страха», Дж. Бруно: «Страх смерти страшнее, чем сама смерть». В протестантизме страх превращается в экзистенциал, имеющий религиозный характер, что связано с тезисом протестантизма «только верую». Вера в протестантском понимании представляет экзистенциально трагическое понимание дистанции между Богом и человеком, которая порождает страх Божий, выражающий смирение человека перед Богом. Протестантизм отвергал различные способы обеспечения личного спасения, например, индульгенции, принятые в католичестве, и тем самым постоянно держал человека в страхе перед смертью. Этот страх усиливался непредсказуемостью Божьей благодати, которая может быть предназначена любому. В философии Нового времени в одних учениях страх понимался как страсть, аффект, а в других, менее распространенных, как экзистенциал. К числу учений первого рода относится психологическое учение о страхе, разработанное Р. Декартом. Он выделял три группы страстей: физиологические, психологические, моральные – и относил страх к психологическим страстям. Материальным субстратом страха у него выступала шишковидная железа в мозгу, которая обеспечивала 130 в экстремальных случаях влияние на действия и поступки человека. Декарт характеризует и физиологические процессы, сопровождающие чувство страха. Способом преодоления страха он считал действия разума, который может определить причины страха и конкретные пути его избегания, просчитывание последствий действий человека. Б. Паскаль дал интерпретацию христианских догматов с позиций экзистенциала страха. При этом идеалом человека он считал Иисуса Христа как страхоборца, который, преодолев свой страх, принес себя в жертву ради людей. Он различает две формы страха: «дурной страх», обусловленный сомнением в существовании Бога, и «благой страх», связанный с верой в Бога и надеждами на него. По Паскалю, именно вера обеспечивает избежание искуса соблазнов и совершения грехов. «Молитесь, – писал он, – из страха впасть в искушение. Впадать в искушение опасно. Ему подвергаются, если не молятся» [6, 244]. В максиме «Трудитесь для своего спасения со страхом» Паскаль выразил идею единства радости и страха, связанных с общением с Богом. В XIX в. экзистенциальное понимание страха разрабатывали Г.-В.-Ф. Гегель и С. Кьеркегор, в ХХ в. М. Хайдеггер и Ж.-П. Сартр. Гегель, рассматривая в «Феноменологии духа» отношения господина и раба, утверждает, что будущее за рабом, ибо его сознание уже «испытывало страх по поводу всей его сущности в целом, потому что оно пережило страх смерти, который является абсолютным господином» [7, 299]. Гегель делает вывод, что именно осознание самого себя раскрывает человека, и оно связано со смертью, угрозой небытия. Кьеркегор связывал боязнь с конкретными ситуациями, а страх понимал как «беспочвенность и предметную неопределенность» (ничто, вызывающее тревожность). Страх характеризовался им как головокружение от одиночества и внутренней свободы. В отличие от представлений древнегреческих философов, рассматривающих страх как нечто постыдное, Кьеркегор понимал его метафизически, как Страх Божий, связанный с первородным грехом. 131 Он выделял следующие формы страха. Первая представляет страх как предпосылку первородного греха и как то, что разъясняет его, вспять, в направлении его истока. Этот страх Кьеркегор обозначает как «жадное стремление к приключениям, к ужасному и загадочному». Здесь отсутствует знание добра и зла, но «общая действительность знания отражается в страхе как ужасное ничто неведения» [8, 145], в котором фиксируется происхождение первородного греха. Вторая характеризует «страх как то, что разъясняет первородный грех вперед, в прогрессии», включающий как объективный страх (состояние невинности Адама) и субъективный страх, являющийся следствием греха. Третья форма указывает на страх как следствие греха неведения (отсутствие сознания греха). Она включает страх бездуховности, где он заслужен, страх перед судьбой и страх перед виной, связанный со свободой. Четвертой формой является страх греха как его следствия в единичном индивиде (страх перед злом и добром). Пятая форма страха представляет «спасающее силой веры». Этот страх есть возможность свободы, и он воспитывает человека силой веры. В индивиде заключены различные возможности, он может их правильно понимать, а может и обманываться, но тогда он никогда не достигнет веры. Тем самым вера понимается как свобода выбора индивида. Все эти формы страха можно рассматривать и как этапы (вехи) пути человека к истинной христианской вере. Кьеркегор называл Авраама рыцарем веры, поскольку в своем Страхе Божием тот соединил страх за судьбу сына и благоговение перед Богом, веру в Него как спасителя своего сына. М. Хайдеггер рассматривает страх как феномен ментальности, одну из фундаментальных априорных структур человеческого бытия, или, как он это обозначает, в качестве модуса расположения, иначе говоря, как присутствие (dasein), представляющее личное «мое бытие», в котором индивид являет себя миру. Он характеризует его в нескольких аспектах: 1) «перед-чем страха», 2) устрашенность, 3) «очем страха» [9, 165]. Перед-чем страха есть страшное, внутримирно встречающееся в образе наличного. Здесь фиксируется присутствие в личном бытии объекта страха. Хайдеггер сюда относит вредонос132 ность в сфере «имения-дела», вредоносность относительно всего, что ею задевается, область того, с чем не «ладно», приближающееся вредоносное (угроза), вредоносное как «близящееся в близи», что «несет... возможность не наступать», но формирует страх. Сам страх как высвобождение угрожающего. Страх вглядывается, уясняет страшное, что необходимо, поскольку устрашенность есть потенциальная возможность бытия-в-мире. То, о-чем страх, есть присутствие страшащего. Страх обнаруживает его угрожаемость, присутствие в бытии вот. Страх «спутывает и заставляет» «терять голову» и вместе с тем дает видеть угрожаемое бытие-в. Страх-о есть испуг как перед каждым сущим, создающим угрозу, так и перед бытием-в, содержащим угрожаемость. Страх-о может касаться и других, выступая как страх за, особенно тогда, когда другой «бросается навстречу угрожающему», но при этом можно не страшиться самому. Все эти формы, по мнению Хайдеггера, являются не ступенями «эмоционального тона», а разными экзистенциальными модусами, разными бытийными возможностями устрашенности. Когда страх врывается в бытие, он превращается в испуг. Если угрожающее имеет характер незнакомого, страх становится жутью, а если угрожающее происходит внезапно, страх становится ужасом [9, 168]. Таким образом, мое бытие, находящееся в мире, «подвержено страху». Страх связан и с другими экзистенциалами: со скукой, чувством пустоты и безразличия, тоской, чувством невозможности обретения подлинного бытия, отчаянием, при котором сотрясаются основы бытия человека, смертью как утратой бытия. Хайдеггер гуманизировал смерть, рассматривая ее как пограничную ситуацию, в которой выражается подлинная сущность человека. Возможно, что тем самым он хотел ослабить страх человека перед смертью. А. де Вэленс считает, что идеи Ж.-П. Сартра аналогичны идеям Хайдеггера о страхе. По Сартру, страх есть способ обнаружения человеческой свободы: «Именно в страхе… человек осознает свою свободу» [7, 304]. Свобода содержит множество непредсказуемых возможностей, в том числе смерть, и страх выражает чувство бессилия перед ними. С точки зрения Сартра, «именно осознание моего бытия 133 моим собственным будущим в мире небытия мы называем страхом. …Свобода полна страха перед самой собой, поскольку ее никогда ничего не вызывает и ничто ей не препятствует» [7, 305]. Все представители экзистенциализма связывают страх с присутствием в бытии возможности ничто. Страх представляет экзистенциально-бытийное состояние человека, имеющее специфические особенности. К их числу можно отнести всеобъемлемость (страх присутствует в жизни каждого человека), негативность (он вызывает отрицательные эмоции, приводящие человека в угнетенное состояние), эпифеноменальность (страх сопровождает человека как тень сопровождает предмет), ориентационность (страх ориентирует человека, предупреждая о возможной опасности). Страх выполняет в жизни человека две важные функции: ориентирующую, сигнализируя человеку о возможных угрозах со стороны внешних сил и обстоятельств, и мобилизующую, помогающую собрать человеку свои внутренние силы для отражения опасности. Причины страхов разнообразны, но их можно свести к двум группам: внешним и внутренним. Первые являются видимыми и поэтому легче преодолимыми. Особенно это относится к страхам, связанным с ситуациями. Но современный человек живет в техногенном мире, где резко возросла его зависимость от техники, технологий и связанного с ними человеческого фактора. Поэтому число внешних страхов сегодня увеличилось, так что философы, например, У. Бек, считают, что мы живем в обществе рисков. Внутренние причины страхов являются психологическими и экзистенциально-духовными. Первые характеризуют определенные состояния души: неуверенность, растерянность, дезориентированность, ожидание неизвестного, неприятного и ненужного человеку. Здесь страх выступает как эмоция, сопровождающаяся физиологическими изменениями в организме. Вторые причины имеют метафизический характер: негативные возможности со стороны внешнего мира, противостоящего человеку, его желаниям и потребностям, и переживание собственной самости, негативных свойств своего Я, неизбежность смерти, Страх Божий. «Через страх, – утверждал В.И. Краси134 ков, – прокладывается курс самосознания, через него определяются координаты самоформатирования. …Страх – это метафизическая плата за способность рефлексии, отстраненного самоанализа» [10,218]. Внутренние страхи вызывают сильнейшие экзистенциальные переживания. Чего же боится человеческое самосознание? Одни страхи перешли к нам от древних. К ним относятся страхи перед ночью и темнотой. Но если те боялись демонических сил, господствующих в ночи, то современный человек боится собственного бессилия, беззащитности перед угрозами. Есть страхи, связанные с Другим, его недоброжелательностью, враждебностью и страхи ожидания лишений. Имеются страхи, связанные со своими грехами, нераскаянностью перед Абсолютом, тем, что в средневековье называли Страхом Божиим. Поэтому верующие стремятся к церковному покаянию, а неверующие – к исповеди, которая может облегчить муки души. Не случайно в романах Ф.М. Достоевского так много исповедей его героев. Существует метафизический страх, о котором писал Н.А. Бердяев, не исполнить своего предназначения перед миром и Богом (не осуществить восьмой день творения, не стать духовной личностью). Имеются страхи эсхатологические – перед возможным концом света, а самым сильным является страх перед своей смертью и бессилием спастись от нее – сотериологические страхи. Кроме этого, существуют различные социальные страхи (безработица, гибель имущества, банкротство, стыд перед общественным мнением и т.д.) и телесные (болезнь, физическая боль и т.д.). Хотя причины страха разнообразны, его условие является общим: «Страх возникает всегда там, где есть что терять и чего хочется избежать» [11, 43]. Функции страха противоречивы: самосохранения и самозащиты и ориентационная в отношениях с миром и другими. Существуют различные классификации страха. Т.К. Касумов и Л.Г. Гасанова [11] выделяют первородный страх и приобретенный, который членят на постоянный и ситуативный, преходящий (состоявшийся, настоящий и возможный), ментальный страх в образе жизни. К этим видам можно добавить страх телесный, психический, социальный и духовно-экзистенциальный; индивидуальный, групповой 135 и общественный; ментальный и поведенческий; страх перед жизнью и страх перед смертью; страх перед природой, обществом, Другим, культурой и т.д. В.И. Красиков разработал шкалу страха по степени интенсивности страха. Страх начинается с беспокойства, озабоченности человека; усиливается в тревожности и настороженности, которые еще не имеют своего адресата; затем в опасливости, где определяются возможные угрозы; позже в смятении (испуге), связанном с нарушением привычного спокойствия и фиксирующем объект страха; боязни, выражающейся в определенном поведении, могущем смягчить страх или избавиться от него; страхе как зависимости человека от предмета страха и ужасе (непонятности и неотвратимости угрозы) [10, 227-234]. Отношение человека к страху обычно является негативным, что имеет ряд причин. Природный страх является очень древним и выражает бессилие человека перед природой еще в первобытном обществе, когда человек жил преимущественно инстинктами. В этих условиях страх выполнял защитную функцию выживания человека в неблагоприятной среде. Жизнь в культуре не избавила человека от страхов, но сформировала определенную жизненную установку Эгоосторожность [11, 36], ориентировавшую человека на избавление от страхов или подготовку к встрече с предметами страхов. Отношение к страху становится рациональным, оценочным (отношение Я, самосознания и экзистенции), что обеспечивает мобилизацию жизненных сил человека на преодоление страха в форме бесстрашия, мужества, смелости, решительности, ответственности, героизма. В античном обществе честь и слава становятся доминирующими добродетелями. Формирование социокультурного отношения к страху было важным в связи с тем, что развитие общества приводило к его усложнению и порождению новых социальных и культурных форм страха (перед Богом, властителями, войнами, преступлениями, законами, неопределенным будущим и т.д.). Культура сформировала у человека чувства стыда и вины и утвердила в качестве нормативных форм такие пороки, как трусость, малодушие, слабость духа, нереши136 тельность, боязнь ответственности. Добродетели и пороки, формируясь под воздействием факторов страха, затем сами оказываются способами отношения Я к страху. В общественном мнении возникли две оценки страха: одна более распространенная, негативная (страх представляет угрозу, опасность, испытание для человека), а другая менее распространенная, позитивная (страх содействует укреплению солидарности людей и душевно-духовных сил человека). В силу наличия негативного отношения к страху в обществе Я научилось скрывать свои страхи и приверженность к ним, которая обычно оценивается как трусость. Бытие страха является неопределенным, безместным. Он находится во внешнем мире, где есть предметы, обладающие способностью вызывать страх (змеи, крокодилы, землетрясения, пожары, цунами, войны и т.д.); во внутреннем мире – страх как психическиэмоциональное и экзистенциально-трансцендентное переживание (Страх Божий, страх перед смертью и т.д.) и между внешним и внутренним миром (отношения Я-Другой, Я-Другие). Назовем последний метаксическим миром. Поскольку связи человека с внешним миром расширяются вместе с ростом его возможностей влиять на этот мир, у человека наряду с жизненной установкой Эго-осторожность формируется установка Эго-вовлеченность, и обе они «контактируют со страхом» [11, 39]. Общество с его развитой техникой и технологиями провоцирует новые виды страха (перед экологическими катастрофами, техногенными авариями и т.д.), а массовая культура делает психику человека более чувствительной к внутренним страхам. Несмотря на широкое присутствие страха в современном обществе и культуре, не существует его однозначного понимания. Его трактуют как психическое оцепенение, чувство боязни, тревожность, ожидание опасности и ненавистного, глубокий испуг, субъективную форму опасности. При динамическом подходе к страху фиксируют смену негативных психических состояний. По отношению к страхам человек может проявлять малодушие, трусость, сострадание, состояние безумия, выражающееся в действии наперекор судьбе, без осознания причин и последствий страха, фата137 лизм и состояние самообладания, связанное со знанием, рефлексией над страхом. При этом возможны различные варианты действий. Одни связаны с избеганием страхов, ограничением круга общения, другие варианты были предложены стоиками, которые учили не бояться страхов, тщательно их изучать и правильно оценивать, проявлять спокойствие и невозмутимость души, быть умеренным в своих желаниях. Эпиктет предлагал способ медитации для преодоления страха: мысленно взять свои страхи в руки, поднести к глазам и созерцать их, взяв их под свой контроль. Таким образом, понятие страха многозначно (телесная реакция, аффект, страсть, эмоция; психическая реакция души, духовноэкзистенциальное переживание), бытие неопределенно, функции амбивалентны, формы разнообразны, причины поливариантны, способы преодоления его двумерны: создавать общество без угроз и рисков и справляться со страхами души с помощью самосознания. Страх присутствует не только в личном битии и обществе, но и в культуре, содержащей коллективное восприятие страха, которое различается в те или иные исторические периоды существования культуры. Страх в античной культуре. В Спарте и Древнем Риме страх имел собственный храм. В античном менталитете страх присутствовал как стыд (aidos), страх перед общественным мнением, утратой чести, регламентируя тем самым поведение гражданского человека. Поскольку матрицей античного понимания пространства выступало «конечное тело», то для древнегреческого мифа характерен метафизический страх выйти за пределы собственной ойкумены – Средиземного моря. Страх рассматривался как то, что приходит из-за границы телесного. Стремление выйти за пределы, границы своего традиционного существования (как пространственного, так и нормативного) осуждалось общественным мнением. Римляне в отличие от древних греков, философия которых родилась из любопытства, удивления перед миром, были суеверными, боялись всего неизвестного, во всем усматривали таинственное. «Римляне возводили алтари чуме, лихорадке, голоду, пожару на 138 хлебных полях – аллегорически-прозаическим силам, основное определение которых есть недостаток и ущерб» [1, 155]. Обожествление мира выступало у них как следствие зависимости и страха перед ним. Поэтому в античном менталитете доминировали представления о победе над всем стихийным, хаосом и установлении гармонии. «Античный человек, – писал Р. Гвардини, – не выходит за пределы мира. Для него немыслим вопрос: что может быть вне мира или над миром? В нем живет бессознательное самоограничение, не решающееся переступить известные границы; …за пределами этого мира у него нет точки опоры. …Античный человек не знает ни одной точки вне мира, поэтому он не может и пытаться взглянуть на него снаружи. Чувством и представлением, поступком и делом он живет в мире» [12, 241]. Поэтому в мире античного человека присутствовало множество страхов, как естественных, так и социальных. Страх выполнял не только негативную функцию (лишал мужества), но и позитивную (практическую, воспитательную, предупреждающую). Страх в средневековой культуре. Средневековье исполнено религиозности, которая пронизывает все сферы общественной и частной жизни. Бог выступает, прежде всего, как онтологический Абсолют, творец мира (творчество вне Бога исключалось). Создается новое религиозное обоснование человеческого бытия как мира, подаренного Богом, и человека как образа и подобия Божия. Возникает религиозная картина космоса, в основе которой находится птолемеевская концепция: выделяется Эмпирей как место Бога и земной мир, иерархизированный на три порядка (неживой, растительный и животный) по критерию степени отображения Бога. Человек занимает в земном мире начальствующее положение, которое обеспечивается его постоянной связью с Богом. Создается впечатление о личном Боге, душа рассматривается как арена борьбы Бога и дьявола. В области изучения мира господствует авторитет Бога в виде Священного Писания. «Слово древних философов, – указывает Р. Гвардини, – рассматривается как просто «данное». Оно, как и природа, является естественным слугой Откровения» [12, 246]. Создаются многочисленные суммы, где решается задача «не исследовать эм139 пирически все, что есть в мире непознанного, не осветить это непознанное светом рационального метода, а выстроить свой “мир” из содержания Откровения, с одной стороны, и воззрений античной философии – с другой» [12, 247]. Мир понимается образно-символически, где каждый символ имеет религиозный смысл, и символы обнаруживаются в культе, науке, искусстве, народных обычаях. Создается новое религиозное понимание времени – церковный год с его многочисленными христианскими праздниками, который организует всю жизнь людей. Центральное место в ней занимает религиозный культ, выражающийся не только в религиозном времени, но и в религиозном пространстве, которое образуют церкви, часовни, кладбища, придорожные могилы и кресты, так что создается, по выражению Гвардини, «освященная страна». Страх играет в жизни средневекового человека огромную роль, что обусловлено как религиозной картиной мира, так и религиозным культом в целом. Люди находятся во власти многих естественных страхов (ночи, гор, лесов, моря, голода, чумы как пространств и явлений, лишенных защиты Бога). Трансцендентное понимание Бога обеспечивает выход человека за пределы земного мира и вместе с тем формируют страх бездомности. Большинство страхов было связано со смертью, посмертным воздаянием, адскими муками, религиозным проклятием. В связи с этим возникло стремление людей найти защиту от страхов, которую искали в Откровении о спасении и в различных религиозных обрядах. Историки пишут о «двумерности» средневекового сознания, в котором соединились страх перед смертью и представление об этом страхе как свидетельстве несовершенной веры. Поэтому страх выступал как способ очиститься от грехов, избежать их, для чего использовались не только индульгенции и аскетический образ жизни, но и пострижение в монахи, паломничество, ритуальное погребение и надгробные эпитафии. Ж. Ле Гофф в работе «Цивилизация средневекового Запада» писал, что «средневековый Запад, пока он жил ожиданием желанного спасения, был миром, проникнутым страхом» [1, 272-273]. 140 Страх в культуре Возрождения. В этот период возникает светская философия и художественная литература. В философии появляются такие новые направления, как философия природы, социальнополитические теории и гуманизм в понимании человека. Гуманисты признают естественную природу человека, считают его главным свойством человеческое достоинство и призывают достигать блаженства в земной жизни. Но открывшиеся новые возможности научного исследования мира вызывают не только интеллектуальную гордость (познаваемо все), но и страх перед новой научной картиной мира. Наиболее отчетливо это чувство было выражено Б. Паскалем. В период Возрождения усиливаются топологические страхи (перед морем, океаном), что было связано с великими географическими открытиями. Возникает и страх перед безумием, которое еще не стало объектом науки, чужаками и Сатаной как олицетворением злых сил. В 1486 г. печатается книга «Молот ведьм», и начинаются массовые инквизиторские процессы над женщинами-ведьмами по всей Европе. С помощью книгопечатания страх Сатаны и демонических сил тиражировался в массовых масштабах. По данным Делюмо [1, 355], во второй половине XVI в. было выпущено 231600 экземпляров произведений, которые были посвящены демоническому миру. Основатели протестантизма инициировали милленаристский страх перед концом света. Существовали и социальные страхи перед восстаниями, бунтами, войнами, потрясавшими Европу. Наука и философия были мировоззрением образованных слоев общества, а в массовом сознании преобладали различные страхи, которые гасились обращением к магии и колдовству, дававших иллюзию человеческого могущества. Страх в культуре Нового времени. Это время прорыва в существовании человека. Возникает рыночная экономика, экспериментальная наука, научная космология, невиданно раздвигающая границы Вселенной, начинается расцвет культуры, и появляется личность с ее субъективностью. Религия приобретает периферийное значение, вместе с ней человек выталкивается из центра бытия, где он находился прежде. В результате «с неведомой раньше силой просыпаются первобытные аффекты: страх, насилие, алчность, возмущение против 141 порядка [12, 263]. Развитие сил техники и власти приводит к возникновению «человека-массы», мировоззрением которого становится конформизм: «Он принимает и предметы обихода и формы жизни такими, какими их навязывает ему рациональное планирование и нормированная машинная продукция, и делает это, как правило, с чувством, что это правильно и разумно» [12, 268]. Отношение человека к природе стало косвенным, формальным, опосредованным техникой. Существование негуманного человека приводит к кризису культуры, ибо вера в прогресс утеряна, и общество представляется чем-то вроде «мастерской или военного лагеря». Страх в культуре Новейшего времени. Культура всегда осмыслялась людьми как мир безопасности, прекрасный и надежный. Существенной особенностью новой культуры ХХ в. стала опасность, исходящая из того, что в ней главное место заняла власть. «Человек свободен, – пишет Гвардини, – и может использовать свою власть, как хочет. Именно поэтому он может использовать ее неправильно, то есть ко злу и разрушению. Что гарантирует правильное использование? – Ничего. …Отныне и навсегда человек будет жить бок о бок с постоянно растущей и угрожающей всему его бытию опасностью» [12, 283-284]. Имеется в виду не только власть экономики и государства, но и власть техники, технологий, науки, идеологии, массовой культуры. В результате всех этих изменений в современном общественном сознании возникло умонастроение катастрофизма, свидетельствующее об упадке культуры. «“Катастрофическим”, – считает О.В. Кузнецов, – …настроениям присуща обеспокоенность за судьбы человеческого общества, вырастающая из страха перед обстоятельствами. …Катастрофизм – это так называемое глобальное мышление, взятое в контексте осмысления путей выхода из остро ощущаемого кризиса» [13, 41-42]. Можно выделить объективные и субъективные причины катастрофического сознания. К числу первых относятся все чаще повторяющиеся явления природных и техногенных катастроф и выступления алармистов, ученых, скептически настроенных в отношении научно-технического прогресса. Начало алармизму положили 142 доклады Римского клуба, предостерегающие против негативных факторов общественного развития. В настоящее время ни наука, ни культура, ни власть не выработали эффективных путей безопасного развития человека, а мировой экономический кризис и войны только ухудшают состояние общественного сознания. «Разрушение традиционного общества, – признает Кузнецов, – привело к возрастанию нестабильности жизни, увеличению социально-психологической напряженности, все большей отчужденности человека; отсюда – чувство тревоги, страха, безысходности. …Паника укоренена в человеке конца ХХ в., знающего, что такое мировые войны, великие кризисы, социальные революции, угроза ядерного уничтожения, неизлечимые болезни и межнациональные конфликты» [13, 44-45]. Паника используется многими силами для манипулирования общественным сознанием. Поэтому снижение уровня тревожности общественного сознания представляет актуальную задачу современных обществ. ГЛАВА 4. ПРОБЛЕМЫ ПЕРСОНОЛОГИИ 4.1 Личность Проблема личности в истории философии. Духовность личности. Смысл жизни личности. Идентичность личности. Самозванство личности Есть два подхода к пониманию личности в истории философии. Один является субстанциальным, согласно которому личность представляет собой субстанцию, изначально данную абсолютную сущность. Истоки этого подхода находятся в работах древнеримских стоиков Марка Аврелия, Боэция и Сенеки, где личность понимается как Я, интеллектуальное самосознание, и «Исповеди» А. Августина, где Я связывается с наличием Бога в душе человека и рассматривается как «проявление безличной идеальной сущности» [1, 173]. Другой подход характеризует личность как социокультурную сущность че143 ловека, причем философы сводят ее либо к социальным, либо к духовным качествам человека. К русским религиозным концепциям личности относятся концепции В.В. Зеньковского и Н.А. Бердяева. Зеньковский считает, что «то, что метафизика может дать антропологии, мы находим в учении о личности и не только в смысле ее “своеобразия”… но главное в смысле уяснения метафизической основы в человеке, субстанционального ядра его индивидуальности» [2, 152]. Он утверждает, что во всех системах метафизики XIX века (от Гегеля до Гартмана и его школы) присутствует имперсонализм. «Личность, – пишет он, – в этих системах, хотя и трактуется метафизически, т.е. имеет в себе внеэмпирическую основу, которой она держится, но эта основа, это духовное начало во всех людях одно, множественность же индивидуальностей относится к сфере явлений» [2, 152]. К этой системе идей он относит и трансцендентализм. Данное противоречие объясняется им тем, что метафизика не может выйти за пределы подобосущего, единства в субстанциальном мире. Выход из противоречия он видит в перенесении на проблему личности учения об образе Божием. По мнению Зеньковского, хотя образ Божий и нужно искать в сущностных особенностях души, но образ Божий является не статическим, а динамическим началом, его нельзя понимать субстанциально, как строение души, но как «способность искать Бога, а, следовательно, способность видеть Его. …Направленность на Безусловное в человеке есть дар Божий, ибо лишь Бог и мог дать нам это свойство» [2, 157]. Личность понимается философом как антиномическое сочетание тварности и божественности. Он различает в личности эмпирическое «я», питающееся из социального опыта, и априорное «я», являющееся центром духовной жизни, которое есть «творческая сила, энтелехийно пронизывающая собой всю жизнь человека (и души, и тела) и определяющая новое качество жизни. …Поэтому в человеке все и личностно, что все целостно и в своей целостности неповторимо и абсолютно единично» [3, 50]. Эта сила и направляет поиски человеком Бога. 144 Бердяев разводит понятия «индивидуум» и «личность». Первое он считает натуралистически-биологической категорией, характеризующей часть рода, подчиненную роду. Социальный индивидуум подчинен обществу, есть часть общества, «атом общественного целого», обозначающий социологическую категорию. «Личность – категория духа, – полагает Бердяев, – а не природы и не подчинена природе и обществу. …не может быть мыслима, как часть в отношении к какому-либо целому» [4, 89]. Наоборот, природа и общество есть часть личности. Личность характеризует человека как микрокосм и потому должна мыслиться в отношениях с другими, миром и Богом. Личность есть духовность человека, она не принадлежит иерархии космической системы, как это полагали Аристотель и Фома Аквинский, ее нельзя понимать как субстанцию. Другими важнейшими характеристиками личности, по Бердяеву, являются ее аксиологический характер и амбивалентное происхождение: «Она творится Богом и самотворится, и она есть Божья идея о всяком человеке» [4, 90]. Личность представляет неизменность в изменении, т.е. сочетание самоидентичности и ее развития. Она есть «единство судьбы», «единство во множестве», предполагает существование сверхличного, вмещает в себя универсальное содержание, которое есть «обогащение жизни личности». Она представляет творческое сопротивление миру, акты субъекта. Личности свойственны свобода и творчество, поэтому она противоположна детерминизму. Личность есть метафизическая боль от несовершения предназначенного, «быть личностью… трудность, бремя, которое человек должен нести». «Личность не закончена», ибо должна осуществить образ и подобие Божие и не самодостаточна, «предполагает существование других личностей, выход из себя в другого». Солипсизм есть отрицание личности, а эгоцентризм отгораживание личности от мира. Личность предполагает жертву, она альтруистична. Личность в достижении своего предназначения следует не внешним влияниям, а внутреннему голосу. Реализация личности предполагает аскезу, но для творчества. Личность единична, оригинальна, «есть исключение, а не правило». 145 Личность не является вещью, объектом и средством. «Личность не есть объект, – утверждал Бердяев, – и не принадлежит объективированному миру, в котором ее нельзя найти. Можно сказать, что личность вне-мирна. Встреча с личностью для меня есть встреча с “ты”, а не с объектом. …Личность есть дух и потому противоположна вещи и вещности, противоположна явлениям природы» [5, 298]. Эгоизм и эгоцентризм разрушают личность, обрекают на жизнь в фантазиях и иллюзиях, отрицают другие личности. Но «не быть поглощенным собой, быть обращенным к “ты” и к “мы” есть основное условие существования личности» [5, 300]. Без обращения к другим нет общения, без общения нет чувства реальности и обогащения внутреннего мира. Результатом эгоцентризма является раздвоение человека. Возвышенный эгоцентризм в идеализме ведет к отрицанию учения о личности, а обыденный эгоцентризм – к одиночеству, пустоте жизни. Проблема личности связана с философской проблемой общего и единичного. Бердяев находит третий путь между реализмом и номинализмом в понимании личности. По его мнению, общее есть результат объективации и социализации. В них господствует число и закрыто существование духа и духовности. Но и единичное, которое всегда есть часть целого, не выражает сущности личности. В своем внутреннем существовании личность не принадлежит ни природе, ни обществу, а принадлежит духовному миру. Духовно личность не одинока, а связана с «ты» и «мы». Существование личности есть парадокс, она представляет «живое противоречие… между личным и социальным», не относится ни к тому, ни к другому, она есть «точка пересечения многих миров. …Существование личности – многоплановое» [5, 303]. Номинализм не может остановить дробление личности, а реализм лишает ее индивидуального своеобразия, вследствие чего эти направления не смогли создать учение о личности. Она может служить идее и даже жертвовать жизнью для нее, но при этом она не становится орудием идеи, а наоборот, превращает ее в орудие своей реализации. Но личности не может быть без и вне сверхличного, ценностного Абсолюта, которым может быть Бог, Наука, Разум и т.д. Личность имеет 146 сверхличное содержание, но при этом сохраняется верховная ценность личности. Проблема личности являлась центральной и в персонализме, теистическом направлении западной философии XIX-XX вв. Основателем немецкого персонализма был М. Шелер, американского – Б.П. Боун, французского – Э. Мунье. Персонализм считает личность высшей ценностью и выделяет три ее особенности: экстериоризация (самоосуществление личности во вне), интериоризация (духовный мир личности), трансценденция (нацеленность на высшие божественные ценности). Назначением человека в персонализме считается личностная коммуникация, создание личностного сообщества. В персонализме имеются определенные достоинства. «Мысль об уникальности, самоценности, незаместимости каждого человека, – пишет П.С. Гуревич, – который неизменно воплощает в себе зону неповторимого культурного творчества, обладает несомненной привлекательностью» [6, 410]. Но персонализм имеет и ряд недостатков, так как провозглашение личности высшей ценностью может приводить к анархии, своеволию, абсурдной свободе, социальному хаосу. Понимая это, некоторые персоналисты выдвигали идею ценностных абсолютов как существования сверхличного. Решение проблемы личности в религиозной философии имеет свою ахиллесову пяту. Во-первых, отрицается возможность самореализации личности в земном мире, так что решение этой проблемы оказывается связанным с эсхатологическими идеями. Во-вторых, апологетизируется вседозволенность личности, опасность которой не замечается. Об этой опасности Ф. Гиренок писал: «Личность плоха тем, что она сама себя делает и запрещает чему-либо участвовать в этом делании. Она навязывает это самоделание человеку, превращая его в какой-то конструктор под названием “сделай сам”. Личность ничего не пропускает в себя без своего на то согласия. Для нее нет места в органической жизни. Она вне времени и пространства. Следовательно, для нее нет причин. Ни одну личность не связывают вяжущие сферы бытия. Традиции и нравы. У нее нет ни папы, ни мамы. Автором личности является сама личность» [7, 135-139]. В-третьих, 147 учение о личности приобретает пессимистический характер, ибо отрицается возможность личностного развития в обществе и культуре, которые являются формами объективации личности. В-четвертых, остается неясным вопрос об отношениях «я» и «ты», «я» и «мы»: если в пространство этих отношений не включаются ни общество, ни культура, значит это пространство сакрализуется, и тогда становится двусмысленной критика Бердяевым учения Бубера о личности, что «у него отношения “я” и “ты” есть проблема библейская» [5, 274]. Личность в отношениях Я-Ты и Я-Мы есть проблема коммуникативной философской антропологии, к представителям которой относятся Н.А. Бердяев, М. Бубер, Э. Левинас и С.Л. Франк. Бубер характеризует отношения Я и Ты как отношения диалога между равнозначными субъектами, а их общение как межличностное отношение. Философ многократно повторял: «У меня нет учения, есть только диалог» [8, 15]. Диалог же представляет такое общение, в котором ни у одной из личностей нет монополии на истину, поучение, проповедь, но они ведут между собой беседу, разговор, в котором находят взаимопонимание. Все люди собеседники, говорит Бубер, и они должны научиться разговаривать друг с другом и договариваться. Отношения Я и Ты у Бубера представляют особую форму реальности, в которой есть субъекты, их отношения, доверие друг к другу и диалог между ними. Если Аристотель полагал, что отношение Я к Другому имеет место лишь в дружбе, то, по Буберу, отношения Я-Ты могут завоевывать социальное пространство, в конечном счете перестраивая общество, этот бездушный мир Оно, на идеях терпимости и сопереживания. Вместо социальных структур Бубер предложил сетевую модель общества в виде огромного числа ячеек Я-Ты, связанных между собой душевно-духовными связями. Философ выделяет три сферы отношений Я-Ты: отношение к природе, с которой возможно общение как с живым существом, отношение человек-человек и отношение человека к Богу, которое он как религиозный мыслитель считал первичным. Путь изменения отношений людей и общества он искал в изменении способа человеческого мышления: теоретизированию философии и научной рацио148 нальности он противопоставляет медитацию в совместном молчании, язык душевных переживаний и поэтических метафор. После работ Бубера субъективность перестала рационализироваться и приобрела аксиологические координаты, отношения людей начали пониматься не как причинные, превращающие Другого в объект для Я, а как телеологические, социальное пространство существования человека – как духовно-эмоциональное. Человек перестал быть функцией разума (идея немецкого идеализма) и превратился в субъект чувствующий, переживающий, любящий, страдающий, такой, каков он есть в действительности. Бубера упрекали за иррационализм, а он говорил, что не создает систем; за то, что он удваивает мир, а, по его мнению, мир существует один, тогда как отношение к нему двойственное. Рассуждения Бубера об обществе как мире Оно, мире сообщений, превращающем людей в объекты, позволили ему выразить с большой эмоциональной силой дух отчуждения, царивший в европейском обществе, и дегуманизацию личности. Понятие духовность (бездуховность) личности характеризует жизнь и деятельность личности в аспекте тех ценностей, на которые она ориентируется. Ценность в аксиологии понимается как субъектобъектное отношение, в котором признается значимость объекта для субъекта. Данное понимание восходит к неокантианству, для которого мир ценностей является миром значений и смыслов. Это означает, что ценность нельзя отождествлять с объективными свойствами вещей, потому что в духовном мире личности ценности не существуют, а значат, предпочитаются. В состав ценностей входят носитель ценности и маркер, ценностный эталон. В предпочитаемых личностью ценностях раскрывается смысл ее жизни, определяется линия ее поведения. Опираясь на идеи И. Канта и М. Шелера, все ценности можно разделить на духовные (в них входят познавательные, нравственные, художественные, религиозные), прагматические (польза, обладание, потребление) и витальные (быт, здоровье, семья, дети). В жизни человека эти ценности переплетаются между собой и влияют друг на друга. Ценности являются основаниями классификации аксиологиче149 ских качеств личности. Духовность характеризует приоритет духовных ценностей в духовном мире личности, бездуховность – соответственно приоритет недуховных ценностей, а псевдодуховность – абсолютизацию одной или всех духовных ценностей. Любой объект можно оценивать с позиций разных ценностей и различных аксиологических качеств личности. Например, к произведениям литературы и искусства можно относиться с позиций духовности (прекрасны – безобразны, имеют – не имеют нравственного смысла), бездуховности (какова их денежная стоимость) или псевдодуховности (позиция эстетизма, для которой художественные ценности являются абсолютными). К разновидностям бездуховности относится вещизм, а псевдодуховности – религиозный фанатизм. Духовные ценности играют особую роль по отношению к другим видам ценностей. «Приоритет духовных ценностей, – пишет С.М. Шалютин, – состоит, прежде всего, в том, что они очерчивают границы, за пределы которых личность не позволяет себе выйти ради реализации витальных и прагматических целей. Приоритет духовности означает также, что в мотивации деятельности они занимают значительное место» [9, 81-82]. Наконец, их ведущая роль заключается и в оценке применяемых средств для недуховной деятельности. Но все это не значит, что духовная личность игнорирует недуховные ценности. Во-первых, она может высоко оценивать ряд недуховных ценностей – профессионализм, деловые и организационные качества или здоровье, семью, наличие детей. Ее доминирующая роль здесь будет выражаться в одухотворении недуховных ценностей. Вовторых, она может отрицательно оценивать псевдодуховные ценности – аскетизм, фанатизм, крайний эстетизм, моральное ханжество, эскапизм и т.д. В-третьих, духовная личность сочетает духовные качества с некоторыми недуховными, например, практичностью, так как мало принимать духовные ценности в качестве идеала или нормы, а надо уметь осуществлять их в жизни (следовать норме в действии). В-четвертых, духовная личность в ситуациях выбора должна учитывать не только возможности, но и последствия, как духовные, так и недуховные. Таким образом, духовная личность должна иметь 150 личностное начало, отдавать предпочтение духовным ценностям, сознательно осуществлять выбор и нести за него ответственность. Смысл жизни личности является одной из вечных проблем философской антропологии. Трудно отыскать известного философа, который не размышлял бы над этой проблемой. Все взгляды философов можно дифференцировать на две группы: учения, в которых отрицается смысл жизни, и учения, в которых он признается. К первым относится учение А. Шопенгауэра, предлагавшего «смотреть на человека как на существо, жизнь которого представляет собой некую кару и искупление… Ибо ни на что так не похожа наша жизнь, как на плод некоторой ошибки и предосудительной похоти» [10, 71]. Отсюда он делает вывод, что «смысл и цель жизни носит не интеллектуальный, а моральный характер». Ко вторым относится учение С.Л. Франка. «Человеческая жажда любви и счастья, – спрашивал он, – слезы умиления перед красотой, – трепетная мысль о светлой радости, озаряющей и согревающей жизнь или, вернее, впервые осуществляющей подлинную жизнь, – есть ли для этого какая-либо твердая почва в бытии человека… А жажда подвига, самоотверженного служения добру, жажда гибели во имя великого и светлого дела – есть ли это нечто большее и более осмысленное, чем таинственная, но бессмысленная сила, которая гонит бабочку в огонь?» [11, 492]. Признавая высший смысл жизни, Франк, будучи религиозным мыслителем, усматривал его в существовании Бога и нашей собственной причастности к нему. Л.Н. Толстой считает вопрос о том, что «выйдет из всей моей жизни», «зачем мне жить», главным вопросом для человека. Он признает, что наука не дает ответа на него, рассматривая жизнь человека как «временное случайное сцепление частиц» эфира или усматривая призвание человека в том, чтобы «содействовать сознанию и осуществлению идеалов человечества» [12, 18, 19]. Философия же задает этот вопрос, но не отвечает на него. По мнению Толстого, существует четыре выхода из данного положения: 1) выход неведения, что жизнь бессмыслица, 2) выход эпикурейства, предлагающего пользоваться благами жизни, 3) «выход силы и энергии», суть которого состоит в 151 том, чтобы, поняв бессмыслицу жизни, уничтожить ее, 4) выход слабости, заключающийся в том, чтобы тянуть лямку жизни, зная о ее бессмыслице [12, 21-22]. Толстой усматривает смысл жизни не в разумном знании, а в религиозной вере. «Вера, – утверждает он, – с тех пор как есть человечество, дает возможность жить, и главные ее черты везде одни и те же. Какие бы кому бы ни давала ответы какая бы то ни была вера, всякий ответ веры конечному существованию человека придает смысл бесконечного, – смысл, не уничтожаемый страданиями, лишениями и смертью. Значит – в одной вере можно найти смысл и возможность жизни» [12, 24]. В.И. Курашовым все концепции смысла жизни укладываются в пять типов: 1) смысла жизни нет или он недоступен человеческому познанию, 2) смысл жизни в смысле жизни, 3) смысл в том, чтобы «посадить дерево, построить дом, вырастить детей», 4) конечного смысла жизни нет, но есть земное счастье, и его «нужно получить как можно больше», 5) смысл жизни религиозный: он в пути к жизни после смерти (в Царство Небесное) или в избавлении от страданий путем достижения нирваны (в буддизме) [13, 133-134]. Эта классификация обобщает представления о смысле жизни в расмотренных философских учениях. Эти представления расширяются в теории логотерапии, разработанной В. Франклом. Он, прежде всего, усматривает смысл жизни в том, что «он направляет ход бытия», т.е. выступает как цель бытия. Сопоставляя смысл с ценностями, Франкл считает, что ценности универсальны, а смыслы уникальны и проективны: «Таким образом, смысл – это, по всей видимости, нечто, что мы проецируем в окружающие нас вещи, которые сами по себе нейтральны» [14, 291]. Но смыслы не конструируются произвольно человеком, как считал Ж.-П. Сартр, «смыслы обнаруживаются, а не придумываются», и в этом плане они объективны, характеризуют ситуации. Смыслы ищутся с помощью совести. «Живая, ясная и точная совесть, – полагает Франкл, – единственное, что дает человеку возможность сопротивляться эффектам экзистенциального вакуума – конформизму и тоталитаризму» [14, 296]. 152 Франкл выстраивает три триады человеческого существования: 1) свобода воли – воля к смыслу – смысл жизни; 2) ценности: творчества – переживания – отношения; 3) осмысление ситуаций: боль – вина – смерть. Быть виновным – это привилегия человека. Его ответственность – преодолеть вину. Ценности отношения считаются самыми высокими из возможных, а смысл страдания – самым глубоким из возможных, потому что оно меняет «к лучшему тебя самого». Логотерапия ставит вопрос о смысле жизни и ее отношении к смерти в форме альтернативы: «Жизнь либо имеет смысл, и в таком случае этот смысл не зависит от ее продолжительности, либо она не имеет смысла и в таком случае было бы бесцельным продолжать ее» [14, 305]. Тем самым человеку указывается путь преодоления страха перед смертью. Признание людьми бессмысленности жизни Франкл определяет как экзистенциальный вакуум и утверждает, что если даже человек лишен ценностей творчества и переживания, у него остается смысл жизни в виде осуществления достойно пройти через боль и страдание. В.И. Курашов предлагает иные доказательства существования смысла жизни. Он выделяет пять его ипостасей в отношении к телу, интеллекту, творчеству, душе и духу и выстраивает иерархию смыслов в зависимости от доминирующих целей [14, 139]. В результате автор приходит к выводу, что поскольку полное достижение целей возможно лишь по отношению к телу (растительная жизнь) и невозможно по отношению к другим измерениям человека, то его жизнь (за пределами ублажения тела) не утрачивает смысла. Тем самым смысл жизни связан со сверхличным и стремлением к его достижению. Термин «идентичность» ввел П. Рисман («Одинокая толпа», «Идентичность и тревога»), теорию идентичности разработал Э. Эриксон. Проблема личности включает вопрос о ее опознании, идентичности. Идентичность представляет соединение определений Я, понимаемое как тождество или как способ выражения себя в мире и в отношениях с другими. С.И. Емельянова определяет идентичность как ощущение тождества и целостности, непринятие иной целостности «и как дистанцирование от полного слияния с другим во 153 имя сохранения своего Я, которое является сутью выражения своего бытия» [15,162-163]. Идентичность существует в отношении с Другим и другими. Поскольку Я индивида изменяется в процессе его жизни, то психологи вводят понятие протеевской идентичности (по имени бога Протея в древнегреческой мифологии, который постоянно менял свой облик). Е.О. Труфанова указывает несколько причин нестабильности идентичности индивида, относя к ним революцию в средствах массовой информации, глобальный экологический кризис, рождающий эсхатологические настроения, и т.д. [16, 99-100]. В результате в Я индивида возникает глубокое противоречие между бездомностью и сохранением своей идентичности. В протеевской идентичности это приводит к возникновению во внутреннем мире индивида нескольких Я, раздвоению его сознания и попыткам адаптировать то или иное Я к различным ситуациям. В истории философии предлагались разные свидетельства идентичности: телесные признаки, память, самосознание, знаковая принадлежность (имя, портрет, фотография, паспорт). В традиционном обществе доминирующей формой идентичности являлась сословная принадлежность (рыцарь, священник, дворянин и т.д.), которая давала право на статусную идентичность. В индустриальном обществе в связи с возникновением множества социальных ролей возникает ролевая идентичность, которая определяется личными качествами человека и выполняемыми им социальными ролями, требующими исполнения различных правил. Ролевая идентичность может приводить к кризисам идентичности индивида, если он утратит чувство своего подлинного Я или перепутает его с другими образами своего Я. Но вместе с тем она позволяет индивиду сотрудничать с Другими. Западные исследователи обращают внимание на существование сегодня сетевой идентичности блогеров, пользователей Интернета, объединенных общими интересами и мнениями. Е.О. Труфанова замечает, что «сеть наглядно демонстрирует потребность и возможность формирования человеком одновременно нескольких псевдоидентичностей» [16,104]. Это требует от индивидов умений сбалансировать свое Я, но не утратить 154 своей базовой идентичности. В постиндустриальном обществе возникает брендовая идентичность, созданная с помощью маркетинговых технологий. Бренд указывает на то, что данная личность востребована. Сегодня бренды личностей (за исключением исторических) характеризуют их повседневное существование, что открывает широкую дорогу самозванству. Цивилизационная смена форм идентичности свидетельствует, что человек в истории освобождается от своей природной и социальной идентичности и превращается в вещь, созданную культурой. Самозванство называют в значительной мере русским феноменом. Это объясняется в значительной мере тем, что самозванство личности появляется в эпохи кризисов, социальных катаклизмов, которых существовало немало в русской истории. Лжедмитрий появился в эпоху Смутного времени, нашествия поляков на Московское государство, княжна Тараканова выдавала себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны, претендуя на русский престол в XVIII в., Пугачев именовал себя Петром II в период крестьянских восстаний при правлении Екатерины II и т.д. Кроме того, в России вплоть до ХХ в. существовало традиционное общество со статусной идентичностью, в котором принадлежность к общности служила именным паролем для занятия места во власти и социальной иерархии. Не случайно с 90-х гг. (период демократизации общества) появляется стремление опереться на свою родословную, возникают дворянские общества и дворянские титулы, возрождается казачье сословие и т.д. В современных условиях тем самым прорастают элементы традиционного общества. Существуют разные определения самозванства, как, например, выступление под чужим именем с претензией на свою исключительность и привилегии. Или экстравагантное определение Д.А. Пригова: «Само-себя-иденти-званство или …наконец само-себя-включая много чего – с преимущественным акцентом на чем-то – при мобильности переноса акцента – с сохранением единства личности – среди многого всего - идентизванство» [17, 54]. Самозванство представляет надевание статусной, ролевой или брендовой маски, социальной или культурной, с определенной целью достижения власти, особого положе155 ния в обществе. Самозванство представляет имитацию чужого для личности образа Я. В традиционном обществе самозванство имело главным образом политические цели и охватывало неширокий круг людей. Л.Г. Тульчинский обратил внимание на то, что в современном массовом обществе масштабы самозванства резко расширились, что объясняется многими причинами. В массовой культуре самозванство персонализировано в виде многих героев, так что имеются многочисленные культурные образцы для подражания. Создание Интернета, где люди общаются в чатах под вымышленными именами-никами, создало широкие возможности для самозванства каждому, в ком есть искра авантюризма. Для TВ стали типичными шоу двойников знаменитостей. Сама рыночная организация общества формирует жизненную стратегию фортуны с помощью присвоения себе чужого лица. «В наши дни, – пишет Тульчинский, – на рынок выводятся не товары и услуги, а мечты, чаянья и надежды потребителей, их представления о себе, какими они хотели бы быть. Не просто идентичность, а идентичность о себе чаемом, хорошем. Тренд – не просто социальный миф, а миф индивидуализированный: в условиях массового производства и потребления, рыночная среда сегментирует рынки вплоть до персоны индивидуального потребителя» [17, 52]. В современном массовом обществе присутствуют все виды самозванства: от «низкого», которое квалифицируется в праве как мошенничество, до «высокого», когда человек выдает себя за известную в обществе личность или претендует на власть. Отечественная художественная литература XIX-XX вв. создает целую галерею образов самозванцев, а политические процессы государственных переворотов ХХ-ХХI вв. в различных обществах нередко приводят к власти политических самозванцев. 156 4.2 Я – Другой Я – Другой как объект истории философии. Вражда и дружба как формы отношений Я и Другой. Я и Чужой. Формы инобытия Я в «подпольном» человеке, зеркале и Другом Проблема Я – Другой появляется в философии только в ХХ в., главным образом, в экзистенциализме и коммуникативной философии. Ж.-П. Сартр («Бытие и ничто») рассматривал Другого как смерть моих возможностей, Медузу-Горгону, при взгляде на которую люди окаменевали. Рассматривая отношения между Я и Другим главным образом через призму свободы, он считает Другого похитителем моей свободы. Отношение с Другим лишены раскованности и представляют жизнь «под взглядом». Расследуя стыд как аспект моего бытия, он признает: «Другой является неизбежным посредником, соединяющим меня со мной самим; я стыжусь, каким я являюсь другому» [1, 362]. Сартр выделяет два способа отношений к Другому. Первый представляет «страсть бытия», поиск самодостаточности и стремление слиться с Другим в форме подчинения его – садизм, второй представляет растворение в Другом, Я отдается Другому – мазохизм. У Сартра Другой не является Ты, он принадлежит к внешнему миру, враждебному для моего Я. Иным является отношение Я к Другому в религиозном экзистенциализме Г. Марселя. Для описания этого отношения он вводит понятие «таинство». Таинство не противопоставляет субъект объекту, оба предстают как переживающее и переживаемое. Таинству присуща сопричастность, и она стирает грань между «вне меня» и «во мне». В результате место вещных отношений занимает интерсубъективность, прообразом которой выступает межсубъектная коммуникация, отношение Я к Ты. Место причинно-следственных отношений, субъекта и объекта здесь занимают вера, любовь, привязанность, верность, ответственность, уважение: «Быть – это значит быть любимым». Интерсубъективность распространяется на все отношения между людьми и отношение к природным вещам, что опосредует переход 157 к абсолютной личности, божественному Ты. Отношение Я и Ты охватывает весь опыт жизни от неожиданной встречи или улыбки случайного прохожего до прочных отношений с другим. В результате мир, полный любви и веры, представляет связующее звено коммуникации с его Творцом-Богом. Бог рассматривается не как представление или объект познания, а как высшее Ты. Отношение к миру как Ты понимается как модус бытия, а как Оно – как модус обладания. Э. Левинас («Время и Другой») выделяет два способа бытия: анонимное, безличностное существование замкнутого Я и личностное, признающее бытие Другого. Он ассимилирует идею Э. Гуссерля об интенциональности сознания, но понимает ее не как направленность сознания на объект, а как обращение человека к другому человеку. Используя библейское выражение «лицом к лицу» для характеристики отношений Я и Другого, Левинас осовременивает это понимание с помощью феноменологии и экзистенциализма. Так, трансцендирование за пределы себя, по Левинасу, возникает не из стремления к знанию или обладанию, а из состояния близости одной субъективности к другой. Этот опыт общения в генезисе является дорефлексивным и возможен благодаря изначальной способности человека встать на место Другого. Близость на уровне изначального опыта характеризуется Левинасом как «один-для-другого», и из этого опыта он выводит культуру. В 60-е гг. он вступил в полемику с М. Бубером по поводу его концепции Я и Ты, представляющей собой симметричное отношение равноценных личностей. Левинас признает, что Другой может пренебрегать взаимностью, поэтому у него отношение Я и Ты является ассиметричным. Позиция взаимности Я и организация им диалога объясняется, во-первых, христианским мировоззрением Левинаса (любовь к ближнему является одним из догматов христианской религии); во-вторых, его пониманием ответственности, опирающимся на идею Ф.М. Достоевского о том, что все люди несут ответственность друг за друга. Поэтому Левинас пишет, что в начале встречи с Другим «для меня маловажным представляется то, кем другой является по отношению ко мне – это его дело; для меня он, прежде всего, тот, за кого я 158 несу ответственность» [2]. В-третьих, его позиция объясняется пониманием конкретного человека как субъекта морального мира. «Встреча Другого, – указывает Левинас, – есть сразу моя ответственность за него. Ответственность за ближнего, которая, несомненно, является высоким именем того, что называют любовью ближнего, любовью без Эроса, милосердием, любовью, в которой этический момент превосходит момент, внушаемый страстью, любовью без вожделения» [2]. Отношение Я и Ты Левинас понимает как этическое отношение, которое формирует и ответственность, и диалог. Смысл человеческой экзистенции в отличие от классического экзистенциализма он ищет не в личных трагических переживаниях по поводу своей субъективности перед миром, а в диалогическом общении с Другим. К. Ясперс в концепции коммуникации рассматривает общение Я с Другим как структуру его собственного бытия. Экзистенциальная коммуникация понимается им как общение, в котором человек не играет роли, уготовленной им обществом, а стремится к раскрытости себя и Другого, верности своим обязательствам. Но такую коммуникацию он считал весьма хрупкой и непродолжительной, отделенной от общества. М.М. Бахтин, как и Левинас, центральной признавал проблему диалога, но его интересовала диалогическая природа слова, объективированного в художественных произведениях. Критикуя экспрессионизм и импрессионизм в эстетике, Бахтин считал эстетическое целое продуктом коммуникации автора и зрителя, в которой главную роль играет «симпатическое сопереживание». Исследуя диалоги героев в романах Ф.М. Достоевского, Бахтин утверждает, что Другой для Я является не предметом сочувствия, а равноправным партнером. Жизнь одних героев переживается с точки зрения других героев, и их диалоги представляют экзистенциальную коммуникацию. М. Бубер выделяет по ту сторону объективного и субъективного существование реальности между. Быть между он считает основной структурой бытия. Значение человеческого существования открывается только в том случае, если человек обращается к Другому, а Дру159 гой отвечает ему. Отношения Я и Другого представляют отношения взаимности без всякого мистического единства, открытости, восприятия в форме проникновения, обращения друг к другу, ответственности друг за друга, пребывания «лицом к лицу», доверия друг к другу. Эти отношения можно обозначить одним словом диалог. «Надо отказаться, – писал Бубер, – от пантехнической жажды или привычки “справляться” с любой ситуацией, все, от тривиальных мистерий повседневности до величия разрушающей судьбы, надо подчинить диалогической власти подлинной жизни» [3, 122]. Слово «филия» (дружба) первоначально содержало родственные, политические и космологические смыслы, инвариантом которых являются «союз», «соединение», а philos (друг) означало «свой», что указывало на связь дружбы с родством. Постепенно «дружба» освобождалась от родственных и политических коннотаций и в период античной классики уже обозначала межличностные отношения. Крупнейшие мыслители периода классики Сократ и Платон высоко оценивали дружбу, а Аристотель «дал в “Никомаховой этике” первый цельный очерк теории дружбы как самостоятельного нравственного отношения, не совпадающего с другими видами социальных связей и эмоциональных привязанностей» [4, 63-64]. Философ выделяет такие сущностные свойства дружбы, как приязнь, сходство в чем-либо, доверие и расположение к Другому, желание друг другу благ, бескорыстие. Он выделяет по мотивам три вида дружбы: польза, удовольствие, благо [5, 221]. Если первые два легко расторгаются, то третий вид дружбы остается постоянным, потому что добродетель представляет «нечто постоянное». Аристотель называет этот вид «дружбой добродетельных». Но у него есть и другая более подробная классификация дружбы по партнерам, отношениям равенства-неравенства, степени приязни. Разработка проблем дружбы продолжается в период эллинизма и древнеримской философии. Эпикур связывает дружбу с пользой, стоики с долгом, Цицерон – с симпатией и убеждениями. Цицерон пишет о достойных людях: «Мы не можем даже предположить, что бы кто-нибудь из них решился потребовать от другого чего-либо та160 кого, что было бы противно совести, противно клятве, противно интересам государства» [6, 41]. Развитие представлений о дружбе свидетельствует, что она понималась и как способ социализации, и как межличностное отношение между индивидами, имеющее ценностноэмоциональный характер. Примером дружбы явились «Нравственные письма к Луцилию» Сенеки, в которых многие страницы посвящены вопросам дружбы. Сенека советует вначале судить другого, разобраться в нем, а потом уже доверять ему и считать другом, или при гибели друга не забывать то лучшее, что дала дружба с ним. «Даже потеряв друга, – пишет он, – а это для нас самый тяжелый урон! – ты должен заставить себя больше радоваться тому, что у тебя был друг, чем горевать об утрате. …Значит, был у тебя друг – и все пропало даром? Столько лет общей жизни и единодушного товарищества во всех занятиях ничего не дали? Вместе с другом ты хоронишь и дружбу? …Поверь мне: пусть случай отнимет тех, кого мы любили, – немалая часть их существа остается с нами» [7, 313-314]. В средневековье дружба отождествлялась с христианской любовью к ближнему и с рыцарским долгом вассальной верности и военно-товарищеского побратимства. А. Августин в «Исповеди» с большой эмоциональной силой пишет о смерти своего друга в юности: «Повсюду искали его глаза мои, и его не было. Я возненавидел все, потому что нигде его нет. …Только плач был мне сладостен, и он наследовал другу моему в усладе души моей». Но церковь отрицательно относилась к дружбе людей, так как считалось, что она отвлекает от бога и может приобрести эротический характер [4, 73]. В период Возрождения в дружбе начинает цениться интеллектуальное общение. М. Монтень посвящает дружбе раздел своих «Опытов». Отделяя дружбу от привязанности, в качестве ее основных свойств он называет отсутствие внешних причин ее существования в виде пользы и наслаждения, духовное братство, взаимопонимание, альтруизм, духовное наслаждение, свободный выбор, согласие желаний, слияние воли обоих, устойчивые, ровные положительно окрашенные чувства, самоотдача души друг другу. Он сравнивает дружбу 161 с любовью, браком, семейными узами, взаимными обязательствами, приятельскими связями и приходит к выводу о невозможности описать ее в понятиях социальных ролей. «В обычных дружеских связях, – пишет Монтень, – можно свое чувство делить: можно в одном любить его красоту, в другом – простоту нравов, в третьем – щедрость; в том – отеческие чувства, в этом – братские, и так далее. Но что касается дружбы, которая подчиняет себе душу всецело и неограниченно властвует над нею, тут никакое раздвоение невозможно» [8, 247]. Монтень утверждает, что друг для него не «Другой», а то же, что Я сам: «Удваивать себя – великое чудо». Очевидно, речь идет об эмпатии, инобытии моего Я в Другом в форме вживания в его душу и духовный мир. Вспоминая о своем друге Ла Боэси, Монтень говорит, что он привык быть его вторым Я. В психологии отождествление одних объектов с другими называется идентификацией. Выделяют два механизма отождествления: аттракцию – идентификацию через проекцию своих черт и понимание ситуации другому человеку и интроекцию – проигрывание в себе состояний другого. Оба эти механизма включают эмоциональное отождествление. Психологическое состояние Монтеня по отношению к его другу можно охарактеризовать как интроекцию. В эпоху Просвещения дружбу начинают рассматривать в нравственном аспекте. Создается, по выражению И.С. Кона, культ дружбы в культуре – литературе, философии, искусстве, в сентиментализме возникает тема «скорбящей дружбы», романтизм противопоставляет идеал дружбы расчетливому социальному миру. Приметами индустриального общества стали урбанизация, миграция, социальная мобильность, которые привели к разрыву традиционных межличностных отношений, публичная мораль утилитаризма внедрила во все формы отношений между людьми принципы полезности, эффективности, а товаризация (коммодификация) обеспечила внедрение в жизнь принципа «использовал-выбросил», массовая культура стала насаждать культурные образцы гедонизма. В результате всех этих изменений произошла утрата интереса к дружбе, свидетельством чего выступает исчезновение таких необходимых для 162 культуры традиционного общества форм общения, как частная переписка, дневник, исповедь, воспоминания. Межличностные отношения сменяются массовой коммуникацией с ее мимолетным, поверхностным общением и равнодушием по отношению к посторонним. Различные социальные катаклизмы, крупные социальные проекты показывают, что у людей имеется тяготение к другим, чувства товарищества и солидарности, но проявлять их стало труднее в существующих социальных условиях. Вражда является еще одной базовой формой отношений Я и Другой, что было предметом философской рефлексии на протяжении всей истории философии. «Видимо, данная враждебность, – писал Г. Зиммель, – оказывается, по меньшей мере, некоторой формой или основой человеческих отношений наряду с другой – симпатией между людьми» [9, 501]. Разные формы вражды – ненависть, агрессия, деструктивность, насилие, садизм, некрофилия – исследовались многими философами от Аристотеля до Э. Фромма. Одни объясняли вражду наличием инстинкта или потребностей, другие выводили ее из психологических состояний человека – аффектов, страстей, чувства антипатии, третьи считали вражду приобретенным свойством – результатом социальных отношений в обществе или продуктом плохого воспитания. Культурная антропология установила, что отношения людей в первобытных обществах всегда были враждебны, ибо война была единственным возможным тогда способом общения и выполняла функцию защитного механизма объединения группы. Эта ролевая функция войны сохраняется вплоть до сегодняшних дней. В последующем развитии исторического процесса имели место две тенденции, одной из которых является вражда и войны, что было связано с интересами людей и общностей, а другой – терпимость, сотрудничество, партнерство. В разные исторические периоды и в разных ситуациях одна из тенденций одерживала вверх. При антропологическом подходе причины вражды ищутся в природе человека. Из всех антропологических концепций исследования феномена вражды более убедительным представляется подход Э. Фромма, который, критикуя теории инстинктивизма в понимании 163 деструктивности, считал, что страсти (аффекты, влечения) человека коренятся в структуре характера (ментальности), который формируется под воздействием социокультурных факторов. Он выделяет два синдрома характера – «жизнеутверждающий синдром» и «синдром ненависти к жизни». Последний реализуется в жизни и поведении человека, в виде деструктивных страстей садизма, жадности, зависти, ненависти. Деструктивный характер выступает в таких социальных типах человека, как садистский, сутью которого является «жажда власти» над любым живым существом, и некрофильский, означающий «страстное влечение ко всему мертвому, больному… страстное желание превратить все живое в неживое, страсть к разрушению ради разрушения, ...исключительный интерес ко всему чисто механическому» [10, 285]. Онтологическим основанием человеческой деструктивности является социальная нестабильность, экономические кризисы общественной жизни, отсутствие политической свободы, а экзистенциальными – бессилие, отсутствие духовной свободы, чувства жестокости и жажды власти, влечение к разрушительности. В современных условиях везде, где происходят войны, политические кризисы власти, появляются индивиды с деструктивным типом характера, которые «сеют» ненависть и смерть. Таким образом, Другой может осознаваться как свой, друг и как чужой, враг. В современной литературе разрабатываются попытки создать ксенологию, науку о чужом. В.Г. Лысенко, например, обосновывает три принципа ксенологии: свое Я осознается лишь через «не-Я», другое, чужое; социальная и личная идентичность актуализируется при столкновении и конфликте с чужой идентичностью; «НеЯ», чужое остается конструкцией нашего Я, потому что мы выделяем в нем то, что перекликается с нашим «Я» [11, 62]. В результате на основе исследования материалов культуры западной (европейской), восточной (индуской) и российской цивилизаций автор описывает ряд моделей чужого. 1. Этологическая модель отношения к чужому как угрозе мне, группе, обществу, человеческому роду. «Я-образ» находится вне рефлексии, и вся вина сваливается 164 на чужого. 2. Мифологическая, или фантастическая модель. Подчеркивается ненормальность чужого. 3. Модель антиподов. Проводится идея о духовной ущербности другого и о собственном духовном превосходстве. 4. Модель рас. Чужой относится к другому биологическому виду. 5. Модель первоначального состояния. Чужой относится к культуре человеческого детства, находящейся на более низкой стадии развития. 6. Пассеистская модель. Идеализация чужого как принадлежащего к утраченному золотому веку (в романтизме). 7. Модель «естественного состояния». Чужой как идеальный варвар. 8. Гетеротопическая модель. Чужой как принадлежащий другому миру, к которому надо относиться с осторожным любопытством. 9. Универсалистская гуманистическая модель. Другой и Я, чужие и Мы разные, но равные в своем бытии [11, 63-70]. По сути дела, в этих моделях представлены три типа отношений к Другому: полное неприятие Другого (1-4 модель), патерналистское отношение к Другому как старшего к младшему (5-7 модели), признание Другого в силу наличия у него некоторых достоинств или в силу общности человеческого рода (8-9 модели). Эти модели охватывают отношение Я-Другой как на личностном уровне, так и на межцивилизационном. Этнические конфликты XX-XXI вв. в антропологическом аспекте могут быть объяснены как разные формы отношений Я к Другому, обусловленные социокультурными и психологическими факторами. Инобытие Я осуществляется в различных формах: человеческой деятельности и ее результатах – вещах и произведениях культуры, в отношениях между людьми и в Другом. Я представлено в Другом идеально своими желаниями, интересами, ценностями. Я чаще всего стремится поделиться с Другим тревогами и радостями, проектами и достижениями, покаяться и спросить совета. Христианство установило для такого общения церковную исповедь и молитву. В повседневной жизни Я обращается к авторитету или даже анонимному источнику. Например, герой «Крейцеровой сонаты» Л.Н. Толстого Познышев рассказывает о том, как он убил свою жену, случайному попутчику в поезде. Я находит в Другом наиболее полное и эффективное 165 воплощение, при условии расположенности к нему Другого, так как между ними отсутствует отчуждение и имеет место автономия от социального мира. Существуют такого рода профессии, для которых вживание в мир Другого и понимание его является социальным долгом – врач, адвокат, священник, учитель. Другой позволяет Я лучше понять себя, почувствовать моральную поддержку, избавиться от одиночества, разделить ответственность. В культуре инобытие Я в Другом выражено в таких эпистемах (основополагающие коды культуры), как «подпольный» человек, «человек-зеркало», «человекобог» [12]. С наибольшей силой эпистема «подпольного» человека была выражена Ф.М. Достоевским. Писатель утверждал: «Я горжусь тем, что впервые вывел человека русского большинства и впервые разоблачил его подлинную и трагическую сторону» [13, 329]. С.А. Никольский выдвинул гипотезу, что в основных романах писателя («Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы») Достоевским представлены «разные стадии развития и формы жизненного воплощения центрального героя Достоевского – “подпольного” человека» [14, 81]. Всем «подпольным» присущи общие черты. Одной из них является радикализм мышления, выражающийся в максимализме стремления одним рывком изменить не удовлетворяющую их жизнь. Другой особенностью служит идейность: каждый из них вынашивает свою идею, которую потом стремится превратить в реальность действий, игнорируя нравственные императивы. Целью действий Ганечки являются деньги, Петр Верховенский хочет устроить маленькую революцию, Раскольников стремится испытать себя, выяснить кто он – «тварь дрожащая или право имею», Ипполит Терентьев мнит себя народным трибуном. Общим свойством «подпольных» является деструктивность то в форме садизма (они любят унижать других людей и жаждут власти над ними), то в форме мазохизма (самоуничижения). «Подпольные» не знают самокритики и не признают критики, не считают свои поступки злом и не способны к раскаянию. Они склонны к культу человекобожия и себя пробуют на роль владыки мира. Рас166 кольников сожалеет, что не оказался Наполеоном, Кириллов решил доказать, что можно преодолеть страх смерти и сравняться в этом с Богом, осуществив самоубийство. Все «подпольные» не приемлют христианства и христианских моральных ценностей, поэтому они жестокосердны к людям и любуются своими пороками. Все «подпольные» являются людьми с раздвоенным сознанием, инобытие их Я выражается в другом их Я. Они являются в различных масках, претендуя на незаурядность, выдающиеся идеи, громкие дела, но в действительности оказываются мелкими бесами, соблазняющими людей. Зеркало служит любимым образом в мифологии, фольклоре и религии. Л.В. Стародубцева выделяет две трактовки древнегреческого мифа о Нарциссе – как самовлюбленного в собственное отражение юноши и как мудреца, обретающего самопознание [15, 41]. Обе трактовки являются допустимыми, так как нарциссизм можно объяснить как раздвоение Я на реальное и отражающееся в объективированной или идеальной форме. Идея зеркального образа как двойника реального Я активно разрабатывалась на протяжении всей истории философии. У Платона эйдосы рассматривались как модели вещей, а те – как их зеркальные копии. А. Августин утверждал, что когда человек находится вдали от Бога, тот отражается в его душе не «лицем к лицу», а таинственно и неполно. Н. Кузанский рассматривал Бога как зеркало истины, а его творения как искривленные зеркала. В философии Нового времени, где преобладала гносеологическая проблематика, сознание рассматривалось как зеркало, дающее адекватное или искаженное изображение (Ф. Бэкон, Р. Декарт). Л. Фейербах выявляет антропологический смысл метафоры зеркала, рассматривая Бога как зеркало человека. К. Маркс считал зеркалом другого человека для Я. «Человек, – писал он, – сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку» [16, 62]. Проблему нарциссизма в своей концепции психоанализа разрабатывал З. Фрейд, считавший нарциссизм «либидозным дополнением к эгоизму инстинкта самосохранения, известную долю которого с 167 полным правом предполагают у каждого живого существа» [17, 129]. В концепции Фрейда развитие Я связано с отходом от первичного нарциссизма детства в форме отделения от его «я-либидо» «объекталибидо» и превращения оставшегося «я-либидо» в идеал. Этот идеал оказывается возмещением «утерянного нарциссизма детства». Объект либидо (другие) вступает в отношение взаимопомощи с идеалом. Н.А. Бердяев считал, что «преодоление нарциссизма в том, чтобы “я” искало отражение в другом “я”, а не в самом себе» [18, 277]. В нарциссизме была поставлена проблема раздвоения Я и поиска индивидуальной идентичности. Конечно, любовь к себе может проявляться в различных паттернах – ценностях, мотивах, поведении или в форме самолюбования, в оценках других или в зеркале. Е.К. Краснухина объясняет суть метафоры зеркала тем, что есть «две оптики, два вида зрения»: стекло дает образ «предметности, относящейся к сфере не-Я. Зеркало порождает иной род видимости, другое зрение. …Этот образ уже нельзя однозначно отнести к внешнему миру не-Я, на который я любуюсь в окно» [19, 8]. Это объясняется тем, что в зеркале возникает образ, который является результатом взаимодействия субъекта и объекта: Я и Другого Я, между которыми возникает отношения любования, желания, оценки. Образ человека в зеркале есть его зеркальный двойник, без которого он не может идентифицировать себя, это форма инобытия Я в зеркале. Между Я и его зеркальным двойником складываются различные отношения: Я может опознать себя или признать зеркальный образ чужим, а не другим Я. Ф. Ницше пишет о сне Заратустры: «“О Заратустра, – сказал мне ребенок, – посмотри на себя в зеркале!” Посмотрев в зеркало, я вскрикнул, и сердце мое содрогнулось: ибо не себя увидел я в нем, а рожу дьявола и язвительную усмешку его» [20, 58]. Рожа дьявола служила символом искажения учения Заратустры. Эпистема «человек-зеркало» широко распространена в художественной литературе: сказках А.С. Пушкина, произведениях Ф. Кафки, поэзии С. Есенина, повестях и романах Ф.М. Достоевского, О. Уайльда, О. де Бальзака, Р. Стивенсона и т.д. Во всех этих произведениях речь 168 идет о раздвоении Я на Я-Сам и Я-Другой как сосуществование в рамках одной личности конкурирующих идентичностей. Рассмотрение взаимоотношений между ними раскрывает проблемы личности, Я-Другой, самоидентификации, эроса, познания себя и Другого, субъективной реальности, прототипов и т.д. «Нарцисса, – пишет Л.В. Стародубцева, – любили живописцы и скульпторы. …Но все же больше, нежели живописно-пластическим, повезло интерпретациям концептуальным. И их было немало – философских, поэтических, психологических, религиозно-мистических. Одних привлекал в мифе о нарциссе мотив удвоений, близнецов и двойников. Иных – мотив отражений и зеркал, взаимопересвечивания реальности иллюзорной и подлинной, образа и первообраза. Третьи искали здесь проявление вечной темы “познания самого себя” и видели в Нарциссе намек на игру «я» и «не-я». Четвертых интересовала в мифе проблема самоидентификации… Конечно же не было недостатка в психоаналитических концепциях неудовлетворенной страсти» [15, 46]. Эпистема «человек-зеркало» свидетельствует не только о существовании гносеологических идолов, но и о создании Я из другого Я кумира, что в современном обществе массового потребления свидетельствует об эгоизме и эгоцентризме как базовых принципах самоидентификациии. Неменьшее распространение получила в философии и эпистема «человекобог». Идея человекобога появляется в философии Возрождения. Н. Кузанский, введя образ человекобога, выделяет такие его характеристики, как «развертывание» божественной человеческой природы, «ограниченный максимум», «микрокосм», творение человеческой вселенной, «человеческий бог» [21, 259]. Дж. Манетти называл человека «смертным богом», который благодаря творчеству создает свой особый мир – культуру. Пико делла Мирандола дает новую интерпретацию творения человека, утверждая, что Бог предоставил тому право самому определять свой образ и жизненный путь. Идея человекобожия возникла потому, что произошел слом религиозного мировоззрения. Гуманисты Возрождения, не отрицая суще169 ствования Бога, возвысили человека до Бога, уравняв его в правах с Богом. Наука в период Нового времени сделала невозможным сакральное понимание человека, и идея человекобога была похоронена до XIX в. Возрождение этой идеи было связано с реакцией духовной элиты Европы на последствия развития капитализма (коммерциализация общественной жизни и пренебрежение к духовной культуре), а также на механистический материализм с его идеей человека-машины в философии. В результате немецкий идеализм провозглашает идею всемогущества человеческого разума, а в романтизме появляется образ Фауста как смертного Бога. С.Н. Булгаков назвал И. Канта духовным отцом «идеалистического человекобожия», поскольку его коперниканский переворот в философии сводится к возведению человеческого разума в роль законодателя мира: «Отныне вселенная обращается около человека как своего центра, а не человек следует за природой» [22, 464]. Идея человекобожия присутствовала у И. Фихте, а также у Г.-В.-Ф. Гегеля, который утверждал, что «дух человека, познающий божество, есть в то же время дух божества». Чувствительный удар по идее Бога-Абсолюта нанесла философия Л. Фейербаха, в которой Бог рассматривался как отчуждение, объективация сущностных сил человека. «Место веры, – писал Фейербах, – теперь заняло неверие, место Библии – разум, место религии и церкви – политика, место неба – земля, место молитвы – работа, место ада – материальная нужда, место Христа – человек» [23, 110]. Фейербах, превратив философию в антропологию, обосновав позицию натурализма в понимании человека и устранив идею Бога, открыл дорогу нигилизму и атеизму. Разъясняя смысл понимания человека у Фейербаха, Булгаков признавал, что у него идет речь «именно о религиозном обожении человечества в лице ли первого встречного ты или же совокупного человеческого рода» [22, 177]. Фейербаховская идея человекобожия трансформируется у М. Штирнера и Ф. Ницше в идею сверхчеловека. Штирнер является противником духа, идей, считая, что все формы духа, включая религию, представляют призраки, привидения. Он критикует культуру за 170 то, что она не научила побеждать Бога. По мнению Штирнера, каждый человек, который отказывается от следования общезначимым ценностям и нормам, есть сверхчеловек, т.е. Бог: «Человек как таковой и есть нынешний Бог, и прежняя богобоязненность теперь сменилась страхом человеческим» [24, 38]. Он утверждает приоритет Я как Единственного и уподобляет человека Богу по атрибутам могущества, невыразимости и совершенства. «Как в боге, – пишет Штирнер, – нет ничего кроме бога, так и во Мне нет ничего, кроме меня; Я Единственный. …Для меня нет ничего выше меня» [25, 42]. Он объявляет Единственного критерием истины, творцом мира и ценностей, абсолютным собственником и святым, поскольку он превращает Бога в свою собственность. По сути дела, Единственный Штирнера есть существо сверхчеловеческое. Идеи атеизма и нигилизма являлись предпосылкой учения Ф. Ницше о сверхчеловеке. Его сверхчеловек находится вне культуры (по ту сторону добра и зла) и вне общества, поскольку все человеческое ему чуждо. Все его качества являются антихристианскими: он отвергает любовь к ближнему, милосердие и апологетизирует инстинкты и волю к власти. Ницше верит в приход сверхчеловека: «Этот «антихрист и антинигилист, этот победитель Бога и Ничто – он-таки придет однажды» [26, 471]. С образом сверхчеловека Ницше связывает отрицание христианской этики: «“Добродетель”, “долг”, “добро само по себе”, доброе с характером безличности и всеобщности – все это химеры» [27, 638]. В качестве добродетелей обосновываются те, что связаны с человеческой телесностью и обеспечивают телу человека такие удовольствия, как сладострастие, властолюбие, себялюбие. Осуществляется восстание против разума, а в истории усматривается борьба рас господ и рабов. Проект сверхчеловека оказался утопией, который вместе с тем несколько раз осуществлялся в истории ХХ в., принося неисчислимые бедствия для народов. В XIX в. идея сверхчеловека пользовалась огромной популярностью. Немецкая литература этого времени содержала множество произведений с образом сверхчеловека, который оценивался весьма положительно. 171 В русской философии преобладало негативное отношение к идее сверхчеловека. Во многих романах Ф.М. Достоевского крайне отрицательно описывались его образы. В.С. Соловьев в «Краткой повести об Антихристе», вставленной в работу «Три разговора», развенчал образ сверхчеловека как исторической личности. С.Л. Франк [28], считая идею человекобога ложной, предлагает рассматривать Бога и человека как два аспекта богочеловечности: Бога как актуального, человека как потенциального. Н.А. Бердяев раскрывает роковую диалектику гуманизма, заключающуюся в том, что обожествление человека без признания его связи с Богом, приводит к истреблению человека во имя сверхчеловеческого (тоталитаризм). «Человек, – писал он, – стоит на высоте лишь как образ и подобие высшего божественного бытия, он подлинно человек, когда он сыновен Богу» [29, 82]. В ХХ в. в философской антропологии возникает парадокс: чем более могущественным становится человек, вооруженный достижениями науки и техники, тем более пессимистично оценивается значение эпистемы «человекобог». Утверждается, что будущее принадлежит постчеловеку, которого называют андроидом, сапиентиссимусом, киборгом, виртуальной Мессией. Возникает движение трансгуманизм, которое поддерживает идею использования новых технологий для технического улучшения человеческой природы. Человек будущего рассматривается как постчеловек, «потомок человека, технологически усовершенствованный до такой степени, что он уже не является человеком. …Постчеловек может быть полностью синтетическим существом» [30, 22]. Идея сверхчеловека, как показала история человечества ХХ в., является социально опасной утопией. Но и идея киборга оказывается не лучше, и они обе уничтожают подлинное призвание человека: сохранять и преумножать человеческий род во имя общего блага. 172 Заключение Тело, душа и дух представляют аспекты человека, а социальность – его интегральное качество. Человек является многоизмеримым объектом в философской антропологии, задающим разнообразную проблематику его рассмотрения. К числу основных проблем относится, во-первых, человеческая природа, имеющая пограничный характер между биологическим и культурным в человеке. Старый философский спор «природа или воспитание?» с созданием генетики человека утратил свой смысл, но остаются недостаточно проясненными вопросы о балансе биологического и культурного в человеке, которые могут быть «сняты» пониманием пограничной биокультурной сущности человека. К атрибутивным человеческим качествам относятся телесность, деструктивность, жизнь и смерть. Хотя телесная составляющая присутствует во всех них, они не сводятся к ней, включая также социальность и духовность. Понятие «человеческое существование» охватывает собой жизнь человеческих индивидов в ее разнообразных проявлениях: судьба и свобода, одиночество и страх, представляющих негативные экзистенциалы. Конечно, существуют и позитивные экзистенциалы (любовь, счастье, вера, благодарность, терпимость и т.д.), но первые раскрывают трагическую сторону человеческой жизни, в которой выявляется пассивность и борение человеческого духа за свое самоосуществление. Поэтому внимание автора сосредоточено на их анализе. Коммуникативная антропология обстоятельно обосновывала идею о том, что человек не является самодостаточным существом, а нуждается в общении с другим, Я с Ты. Поэтому проблемы персонологии (личность, Я и Другой) являются чрезвычайно важными для философской антропологии. Хотя диапазон рассматриваемых проблем является достаточно широким, он не претендует на завершенность, а скорее характеризует тот минимум проблем, без которых не может быть философской антропологии. 173 Примечания к ссылкам в тексте ГЛАВА 1 1 Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека. – М., 2001. – Т.1. 2 Гуревич П.С. Философская антропология: учебное пособие для вузов. – М., 2001. 3 Шелер М. Человек и история // М. Шелер. Избранные произведения. – М., 1994. 4 Бубер М. Проблема человека // М. Бубер. Я и Ты. – М., 1993. 5 Шульц П. Философская антропология: Введение для изучающих психологию. – Новосибирск, 1996. 6 Марков Б.В. Образ человека в постантропологическую эпоху // Вопросы философии. – 2011. – № 2. 7 Гуревич П.С. Философская антропология: опыт систематики // Вопросы философии. – 1995. – № 8. 8 Автономова Н.С. Структуралистская антропология // Буржуазная философская антропология ХХ в. – М., 1986. 9 Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. – М., 1977. 10 Любутин К. Человек в философском измерении: от Фейербаха к Фромму. – Псков, 1994. 11 Дорофеев В. О статусе философской антропологии // Рефлексии. – 2011. – № 2(4). 12 Омельченко Н.В. Первые принципы философской антропологии. URL: http://rudocs.exdat.com 13 Моторина Л.Е. Философская антропология: учебное пособие для вузов. – М., 2003. 14 Никитин Е.П. Об одной тенденции в развитии философии // Вопросы философии. – 2001. – №10. 15 Смирнов С.А. Современная антропология // Человек. – 2004. – № 1, 2, 3. 16 Борзенков В.Г. Единая наука о человеке за пределами редукционизма // Человек. – 2011. – №2. 174 17 Резник Ю.М. Общая антропология в системе человекознания // Человек. – 2011. – № 6. 18 Смирнов С.Л. Философская антропология // Человек. – 2003. – № 4. 19 Долмейр Ф. Возвращение философской антропологии: субъективные размышления // Человек. – 2010. – № 4. 20 Курек Н.С. Звероподобное поведение. Линии Аристотеля и Фрейда // Человек. – 2009. – № 1. 21 Летов О.В. Человек и «сверхчеловек»: этические аспекты трансгуманизма // Человек. – 2009. – № 1. 22 Букреев В. Проблема человека в современной философской антропологии // Вестник РФО. – 2006. – № 3(39). 23 Хорни К. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза // Психоанализ и культура. Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фромма. – М., 1995. 24 Кутырев В.А. Крик против небытия // Вопросы философии. – 2008. – № 8. ГЛАВА 2 2.1 1 Яворский Д.Р. Социокультурные импликации понятия «природа» в европейской философии: автореф. дис. … д-ра филос. наук. – Волгоград, 2013. 2 Цит. по: Кокаревич М.Н. Философский эссенциализм как методология реконструкции культурно-исторической реальности: дис. … д-ра филос. наук. – Томск, 2004. 3 Гуревич П.С. Философия человека. – М., 1994. – Ч.1. 4 Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. – М., 2004. 5 См.: Мильнер-Иринин Я.А. Понятие о природе человека и его место в системе науки этики // Вопросы философии. – 1987. – № 5. 6 Фукуяма Ф. Великий разрыв. – М., 2004. 7 Гуревич П.С. Проблема целостности человека. – М., 2004. 8 Маркс К. Капитал // К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч. – М., 1960. – Т. 23. 175 9 Пигалев А.И. Модерн, модернизация и концепция человека // Человеческое существование в условиях социальной модернизации. – Волгоград, 2012. 10 Цит. по: Смит Р. Человек между биологией и культурой // Человек. – 2000. – № 1. 11 Плеснер Х. Ступени органического и человек: Введение в философскую антропологию. – М., 2004. 12 Костылев Е.Н. Граничное биокультурное начало в природе человека: дис. … канд. филос. наук. – Омск, 2007. 13 Бахтызин А.М. Граница: бытие, сущность, рефлексия: автореф. дис. … канд. филос. наук. – Омск, 2004. 14 См.: Кон И.С. Половые различия и дифференциация социальных ролей // Соотношение биологического и социального в человеке. – М., 1975; Белкин А.И. Биологические и социальные факторы, формирующие половую идентификацию (по данным изучения лиц, перенесших смену пола) // Соотношение биологического и социального в человеке. – М., 1975; Бутовская М.Л. Тайна пола. Мужчина и женщина в зеркале эволюции. – Фрязино, 2004. 15 Костылев Е.Н. Граничное биокультурное начало в природе человека: автореф. дис. … канд. филос. наук. – Омск, 2007. 16 Голод С.И. ХХ в. и тенденции сексуальных отношений в России. – СПб., 1996. 17 Цатурова М.К. Русское семейное право XVI-XVIII вв. – М., 1991. 18 Бежен А. Рационализация и демократизация сексуальности // Социология сексуальности. Антология / науч. ред. С.И. Голод. – СПб., 1997. 19 Тэннэхилл Р. Секс в истории. – М, 1995. 20 Одум Ю. Экология. – М, 1986. 21 Костылев Е.Н. «Сдерживающий эффект» культуры в развитии человеческой популяции // Машины. Люди. Ценности. – Курган, 2006. 176 22 Ильясов Ф.Н. Архетип поло-репродуктивного поведения и конфликт западноевропейской и исламской цивилизаций // Человек. – 2005. – № 2. 23 Поляков Л.Е. Цена войны. Демографический аспект. – М., 1985. 24 Сенявский А.С. Российская урбанизация: экологические последствия и их влияние на демографические процессы // Историческая экология и историческая демография. – М., 2003. 25 Палмер Дж., Палмер Л. Эволюционная психология. Секреты поведения Homo sapiens. – СПб., 2003. 26 Шалютин Б.С. Становление свободы: от природного к социокультурному бытию. – Курган, 2002. 27 Добжанский Ф.Г. Мифы о генетическом предопределении и о tabula rasa // Человек. – 2000. – № 1. 28 Соловьев И.М. Патология познавательной деятельности нормальных и аномальных детей. – М., 1981. 29 Дубровский Д.И. Психические явления и мозг. – М, 1971; Дубровский Д.И. Проблема идеального. – М., 1983. 30 Меркулов И.П. Эволюционная эпистемология: история и современные подходы // Эволюция, культура, познание. – М., 1996. 31 Пинкер С. Язык как инстинкт. – М., 2004. 32 Слобин Д. Психолингвистика. – М, 2006. 33 Выготский Л.С. Проблемы общей психологии // Л.С. Выготский. Полн. собр. соч.: в 6 т. Т.2. – М., 1982. 34 Шамне Н.Л. Пространство языка и коммуникативные барьеры // Человек в современных философских концепциях: в 2 т. Т.2. – Волгоград, 2004. 35 Кассирер Э. Опыт о человеке. – М, 1998. 36 Тиганов А.С. Патология психического развития. URL: http: // www.koob.ru 37 Волошин В.Н. Фрейдизм. – М., 1993. 38 Хен Ю.В. Теория и практика усовершенствования человеческой «породы» // Вопросы философии. – 2006. – №5. 177 39 Буровский А. После человека // Т.Ю. Чеснокова. Постчеловек. От неандертальца к киборгу. – М., 2008. 2.2 1 Булгаков С.Н. Философских смысл троичности // Вопросы философии. – 1989. – № 12. 2 Бердяев Н.А. Дух и реальность // Н.А. Бердяев. Философия свободного духа. – М., 1994. 3 Косевич Е. Категории тела и пола в Ветхом и Новом Завете // Человек. – 1996. – № 5. 4 Пивоваров Д.В. Дух, душа и смысл жизни человека: (Философия религии). – Екатеринбург, 1993. 5 Лосев А.Ф. История античной эстетики (ранняя классика). – М., 1962. 6 См: Платон. Теэтет // Платон. Сочинения: в 3 т. Т. 2. – М., 1970. 7 Аврелий Марк. Наедине с собой. Размышления. – СПб., 2012. 8 Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1990. 9 Манетти Дж. Трактат «о достоинстве и превосходстве человека» // Итальянский гуманизм эпохи Возрождения: сб. текстов. – Саратов, 1988. 10 Гоббс Т. Основы философии. Ч. 2. О человеке // Т. Гоббс. Избранные произведения: в 2 т. Т.1. – М., 1965. 11 Ламетри Ж.О. Человек-машина // Ж.О. Ламетри. Сочинения. – М., 1989. 12 Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Л. Фейербах. Избранные философские произведения: в 2 т. Т.1. – М., 1955. 13 Фейербах Л. Изложение, развитие и критика философии Лейбница // Л.Фейербах. История философии: собр. соч. в 3 т. Т.2. – М., 1974. 14 Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ф. Ницше. Сочинения: в 2 т. Т.2. – М., 1990. 178 15 Круткин В.С. Онтология человеческой телесности. – Ижевск, 1993. 16 Конев В.А. Природа социальности // Ничто и порядок. Самарские семинары по французской философии. – Самара, 2004. 17 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. – М.,1999. 18 Буровский А. После человека // Т.Ю. Чеснокова. Постчеловек. От неандертальца до киборга. – М., 2008. 19 См.: Огурцов А.П. Антропность биологии и образы человека // Биология в познании человека. – М., 1980. 20 Подорога В.А. Власть и познание (археологические поиски М. Фуко) // Власть. – М.,1980. 21 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти, сексуальности. Работы разных лет. – М.,1996. 22 Козлова Н. Социально-историческая антропология. – М., 1998. 23 Мосс М. Техники тела // Человек. – 1993. – № 2. 24 Емельянова С.И. Что такое идентичность? // Дискурс Пи. – 2005. – Вып. 5. 25 Эриксон Э. Детство и общество. – СПб., 1996. 26 Хёсле В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности // Вопросы философии. – 1994. – №10. 27 Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М.,1986. 28 Касс Л. Нестареющие тела, счастливые души... // Человек. – 2003. – №6. 2.3 1 Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб., 2001. 2 Политология. Словарь. URL: http: // enc-dic.сom/politology/ Agressia-3104. html 3 Политология. Словарь. URL: http://h-sciences.ru/dictionaries/ 200-politologicheskij-slovar.httml 4 Социологический словарь. URL: http://enc-dic.om /sociology/ Socialnoe -Nasilie-Agressivnost-Sustruktivnost-8638. html 179 5 Юридический словарь. URL: http://vslovare.ru /slovo/juridicheskiij-slovar.nasilie 6 Юридический словарь. URL: http://law-enc.net/word/agressija80.html 7 Киреев Г.И. Сущность социального насилия // Философские науки. – 1986. – № 1. 8 Мальцева А.П. Насилие как феномен и как понятие // Человек. – 2013. – № 3. 9 Толстой Л.Н. Христианская этика. – Екатеринбург, 1994. 10 Ильин И.А. О сопротивлении злу силою // И.А. Ильин. Путь к очевидности. – М., 1993. 11 Гоббс Т. Левиафан, или материя, формы и власть государства церковного и гражданского // Т. Гоббс. Избранные произведения: в 2 т. Т 2. – М., 1965. 12 Декарт Р. Страсти души // Р. Декарт. Избранные произведения. – М., 1950. 13 Маркиз де Сад и ХХ век. – М., 1992. 14 Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ф. Ницше. Сочинения: в 2 т. Т. 2. – М., 1990. 15 Ницше Ф. Антихристианин // Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм, А. Камю, Ж.-П. Сартр. Сумерки богов. – М., 1990. 16 Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1990. 17 Фрейд З. Я и Оно. – М., 1990. 18 Зиммель Г. Человек как враг // Г. Зиммель. Избранное: в 2 т. Т.2. – М., 1996. 19 Сартр Ж.-П., Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. – М., 2009. 20 Хорни К. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза // Психоанализ и культура: Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фромма. – М.,1995. 21 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. – М.,1999. 22 Фромм Э. Душа человека. – М.,1998. 180 23 Фромм Э. Человеческий характер и социальный процесс // Э. Фромм. Бегство от свободы. – М., 1995. 24 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М.,1994. 25 Букреев В. Человек агрессивный (Истоки международного терроризма). – Иерусалим – Москва, 2005. 2.4 1 Ницше Ф. Сумерки идолов, или как философствуют молотом // Ф. Ницше. Сочинения: в 2 т. Т. 2. – М., 1990. 2 Фромм Э. Духовная сущность человека. Способность к добру и злу. Гл.6. Свобода, детерминизм, альтернативность // Философские науки. – 1990. – №8. 3 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М.,1999. 4 Шелер М. Положение человека в Космосе // М. Шелер. Избранные произведения. – М., 1994. 5 Визгин В.П. Жизнь и ценность: опыт Ницше // Жизнь как ценность. – М., 2000. 6 Швейцер А. Культура и этика. – М.,1973. 7 Платон. Государство // Платон. Собр. соч.: в 4 т. Т.3. – М., 1999. 8 Кирсберг И.В. Ценности жизни в Ветхом Завете // Жизнь как ценность. – М., 2000. 9 Бердяев Н.А. Смысл истории. – М.,1990. 10 Манетти Дж. Трактат «О достоинстве и превосходстве человека» // Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. – Саратов, 1988 . 11 Конев В.А. Онтологические особенности мира человека. – Самара, 2003. 12 Трунев С.И. Жизнь как ценность: проблемы и противоречия // Философия и общество. – 2008. – №4. 13 Денисов С.Ф. Библейские и философские стратегемы спасения: антропологические этюды. – Омск, 2004. 14 Русские космисты: Антология философской мысли. – М., 1993. 181 2.5 1 Фрагменты ранних греческих философов. – М., 1989. 2 Цит по.: Элиаде М. Аспекты мифа. – М.,1995. 3 Иванюшкин А.Я, Лях К.Ф. Тема смерти в истории философии // Вестник Мурманского гос. техн-го ун-та. – Т. 14. – 2011. – №2. 4 Гагарин А.С. Экзистенциалы человеческого бытия: одиночество, смерть, страх. От античности до Нового времени. – Екатеринбург, 2001. 5 Митрополит Антоний Сурожский. Оживший из мертвых // Человек. – 1997. – №1. 6 Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980. 7 Монтень М. Опыты. – М.; Л.,1954. 8 Лютер М. О рабстве воли // Эразм Роттердамский. Философские произведения. – М.,1986. 9 Декарт Р. Страсти души // Р. Декарт. Сочинения: в 2 т. Т.1. – М., 1989. 10 Спиноза Б. Этика, доказанная в геометрическом порядке и разделенная на пять частей // Б. Спиноза. Избранные произведения: в 2 т. Т.1. – М., 1957. 11 См.: Паскаль Б. Мысли. – М., 1999. 12 Новалис. Фрагменты // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М.,1980. 13 Бердяев Н.А. Проблема человека (К построению христианской антропологии) // Ступени. – 1991. – №1. 14 Бланшо М. От Кафки к Кафке. – М., 1998. 15 Арьес Ф.Человек перед лицом смерти. – М., 1992. 16 Русский космизм: Антология философской мысли. – М., 1993. 17 Ханжин Б.М., Бердышев Г.Д., Вишев И.В., Ханжина Т.Ф. Проблема практического бессмертия человека. – М.; Астрахань; Владимир, 2004. 182 ГЛАВА 3 3.1 1 См.: Высоцкий А.П. Концептуализация судьбы в русской культуре: автореф. дис. … канд. филос. наук. – Волгоград, 2007. 2 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979. 3 Антология мировой философии: в 4 т. Т.1. – М., 1969. 4 Цит. по: Коган Л.Н. Человек и его судьба. – 1988. 5 Платон. Законы // Сочинения: в 3 т. Т.3. Ч.2. – М., 1972. 6 Марк Аврелий. Наедине с собой. Размышления. – СПб., 2012. 7 Декарт Р. Избранные произведения. – М., 1950. 8 Антология мировой философии: в 4 т. Т.3. – М., 1971. 9 Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского // Н.А. Бердяев. Смысл творчества. – М., 2004. 10 Бердяев Н.А. Я и мир объектов // Н.А. Бердяев. Философия свободного духа. – М., 1994. 11 Бердяев Н.А. Человек в современном мире. К пониманию нашей эпохи // Н.А. Бердяев. Философия свободного духа. – М., 1994. 12 Бердяев Н.А. Человек и машина (Проблема социологии и метафизики техники) // Вопросы философии. – 1989. – №2. 13 Денисов С.Ф. Жизненные и антропологические смыслы правды и неправды. – М., 2001. 14 Пословицы. Поговорки. Загадки. – М., 1988. 15 Марченко Е.А. Судьба человека: философскоантропологический подход: автореф. дис. … канд. филос. наук. – Ставрополь, 2004. URL: http://www.dslib.net 16 Грожан Д.В. Проблема судьбы в западноевропейской культуре: автореф. дис. … канд. филос. наук. – Ростов н/Д, 2003. URL: http:// www.lib.иа-ru 17 Фромм Э. Революция надежды // Э. Фромм. Психоанализ и этика. – М., 1993. 18 Агеева Н.А. Идея судьбы в противостоянии мифологического и рационального мышления: автореф. дис. … канд. филос. наук. – Ростов н/Д., 2004. URL: http://www.dissercat.com 183 19 Захарова Л.И. Проблема судьбы человека: тенденции развития: автореф. дис. … канд. филос. наук. – Ростов н/Д., 2007. URL: http://www.dissercat.com 3.2 1 Спиноза Б. Этика // Б. Спиноза. Избранные произведения: в 2 т. Т.1. – М., 1957. 2 Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII в. – М., 1974. 3 Виндельбанд В. О свободе воли // В. Виндельбанд. Избранное. Дух и история. – М., 1995. 4 Кант И. Основы метафизики нравственности // И. Кант. Сочинения: в 6 т. Т.4. Ч.1. – М., 1965. 5 Булгаков С.Н. Религия человекобожия у Л. Фейербаха // С.Н. Булгаков. Сочинения: в 2 т. Т.II. Избранные статьи. – М., 1993. 6 Кант И. Об изначально злом в человеческой природе // И. Кант. Сочинения: в 6 т. Т.4. Ч.2. – М., 1965. 7 Соловьев В.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории. Великий спор и христианская политика. – М., 2011. 8 Федотов Г.П. Об антихристовом добре. URL: http:// www. vehi.net/fedotov/soloviev.html 9 Ильин И.А. Путь духовного обновления // И.А. Ильин. Путь к очевидности. – М., 1993. 10 Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского // Н.А. Бердяев. Смысл творчества. – М., 2004. 11 Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // А. Камю. Бунтующий человек. – М., 1990. 12 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. Проблематика и апология христианства // Н.А. Бердяев. Философия свободного духа. – М., 1994. 13 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. – М., 2009. 14 Цит. по: Киссель М.А. Дороги свободы Ж.-П. Сартра // Вопросы философии. – 1994. – №11. 184 15 Тульчинский Г.Л. О природе свободы // Вопросы философии. – 2004. – №4. 16 Кармин А.С. Культурология. – СПб.; М.; Краснодар, 2004. 17 Кьеркегор С. Наслаждение и долг. – Киев, 1994. 18 Шалютин С.М. Заметки о выбирающей личности // С.М. Шалютин. Машины. Люди. Ценности. – Курган, 2006. 19 Борзенко И.М., Кувакин В.А., Кудишина А.А. Человечность человека. Основы современного гуманизма. – М., 2005. 20 Пико делла Мирандола. Речь о достоинстве человека // Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир – эпоха Просвещения. – М., 1991. 21 Левин Г.Д. Свобода и покинутость. Методологический анализ // Вопросы философии. – 1997. – №1. 3.3 1 Гагарин А.С. Экзистенциалы человеческого бытия: одиночество, смерть, страх. От античности до Нового времени. – Екатеринбург, 2001. 2 Аврелий Марк. Наедине с собой. Размышления. – СПб., 2012. 3 Цит. по: Нахов И.М. Киническая литература. – М., 1981. 4 Монтень М. Опыты. – М., 1954. 5 Бубер М. Проблема человека // М. Бубер. Я и Ты. – М., 1993. 6 Фромм Э. Человек одинок. URL: http://scepsis.net 7 Хайдеггер М. Бытие и время. – Харьков, 2003. 8 Перлман Д., Пепло Л.Э. Теоретические подходы к одиночеству // Лабиринты одиночества. – М., 1989. URL: http://psyberlink. flogiston.ru 9 Фромм Э. Человеческая ситуация. – М., 1995. 10 Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Время и бытие. – М., 1993. 11 Хамитов Н. Философия человека: от метафизики к метаантропологии. – М., 2002. 12 Бердяев Н.А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). – М., 1990. 185 13 Дюркгейм Э. Социология образования. URL: http://socio. msk.ru 14 Бердяев Н.А. Царство Духа и царство Кесаря. – М., 1995. 15 Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ф. Ницше. Сочинения: в 2 т. Т. 2. – М., 1990. 3.4 1 Гагарин А.С. Экзистенциалы человеческого бытия: одиночество, смерть, страх. От античности до Нового времени. – Екатеринбург, 2001. 2 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979. 3 Эпиктет. В чем наше благо? // Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. – М., 1995. 4 Аврелий Марк. Наедине с собой. Размышления. – СПб., 2012. 5 Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980. 6 Паскаль Б. Мысли. – М., 1996. 7 Вэленс А. де. Заметки о понимании страха в современной философии // Феномен человека: Антология. – М., 1993. 8 Кьеркегор С. Понятие страха // С. Кьеркегор. Страх и трепет. – М., 1993. 9 Хайдеггер М. Бытие и время. – М.; Харьков, 2003. 10 Красиков В.И. Конструирование онтологий. Эфемериды. – М., 2007. 11 Касумов Т.К., Гасанова Л.К. Страхи в жизни и жизнь в страхе // Вопросы философии. – 2014. – №1. 12 Гвардини Р. Конец Нового времени // Феномен человека: Антология. – М., 1993. 13 Кузнецов О.В. Психологические и социальные основания «катастрофического» сознания в западной культуре // Философия ценностей. – Курган, 2004. 186 ГЛАВА 4 4.1 1 Цит. по: Кон И.С. Открытие «Я». – М., 1978. 2 Зеньковский В.В. Об образе Божием в человеке // Вопросы философии. – 2003. – №12. 3 Зеньковский В.В. Проблема воспитания в свете христианской антропологии. – М., 1993. 4 Бердяев Н.А. Проблема человека (К построению христианской антропологии) // Ступени. – 1991. – №1. 5 Бердяев Н.А. Я и мир объектов // Н.А. Бердяев. Философия свободного духа. – М., 1994. 6 Гуревич П.С. Философская антропология. – М., 2001. 7 Гиренок Ф. Удовольствие мыслить иначе. – М., 2010. 8 Цит. по: Лифинцева Т.П. Философия диалога Мартина Бубера. – М., 1994. 9 Степанова И.Н., Шалютин С.М. Духовность как качество личности и проблема ее воспитания. – Курган, 2004. 10 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // А. Шопенгауэр. Избранные произведения. – М., 1992. – Т. 3. 11 Франк С.Л. Смысл жизни // Смысл жизни: Антология. – М., 1994. 12 Толстой Л.Н. Христианская этика. – Екатеринбург, 1994. 13 Курашов В.И. Начала прагматической антропологии. – М., 2007. 14 Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990. 15 Емельянова С.И. Что такое идентичность? // Дискурс Пи. – 2005. – Вып.5. 16 Труфанова Е.О. Идентичность и Я // Вопросы философии. – 2008. – №6. 17 Цит. по: Тульчинский Г.Л. Самозванство, массовая культура и новая антропология // Человек. – 2008. – №1. 187 4.2 1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. – М., 2009. 2 История философии. Энциклопедия. В. Воробьева. Левинас // URL: http://velikanov.ru 3 Бубер М. Диалог // М. Бубер. Два образа веры. – М., 1995. 4 Кон И.С. Дружба. – М., 1989. 5 Аристотель. Никомахова этика. Соч.: в 4 т. Т.4. – М., 1984. 6 Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. – М., 1975. 7 Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М., 2011. 8 Монтень М. Опыты. – М., 1954. 9 Зиммель Г. Человек как враг // Г. Зиммель. Избранное. Т.2. Созерцание жизни. – М., 1996. 10 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М., 1994. 11 Лысенко В.Г. Познание чужого как способ самопознания: Запад, Индия, Россия (попытка ксенологии) // Вопросы философии. – 2009. – №11. 12 Степанова И.Н. Антропологические эпистемы. – Курган, 2011. 13 Достоевский Ф.М. Подросток. Рукописные редакции. Подготовительные материалы (заметки, планы, наброски. Январь – ноябрь 1875) // Ф.М. Достоевский. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. XVI. – Л., 1976. 14 Никольский С.А. Достоевский и явление «подпольного» человека // Вопросы философии. – 2011. – №12. 15 Стародубцева Л.В. Философский нарциссизм и припоминание // Вопросы философии. – 2001. – №11. 16 Маркс К. Капитал // К. Маркс, Ф.Энгельс. Соч. 2-е изд. – М., 1960. 17 Фрейд З. Основной инстинкт. – М., 1997. 18 Бердяев Н.А. Я и мир объектов // Н.А. Бердяев. Философия свободного духа. – М., 1994. 19 Краснухина Е.К. Нарциссизм желания, или метафора зеркала в философии. – СПб., 2005. 188 20 Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ф. Ницше. Сочинения: в 2т. Т.2. – М., 1990. 21 Кузанский Н. О предположениях // Н. Кузанский. Сочинения: в 2 т. Т. 1. – М., 1979. 22 Булгаков С.Н. Религия человекобожия у Л.Фейербаха // С.Н. Булгаков. Сочинения: в 2 т. Т. II. Избранные статьи. – М., 1993. 23 Фейербах Л. Необходимость реформы философии // Л. Фейербах. Избранные философские произведения: в 2 т. Т. 1. – М., 1955. 24 Штирнер М. Единственный и его собственность. – СПб., 1909. 25 Цит. по: Курчинский М.А. Апостол эгоизма: Марк Штирнер и его философия анархии. – М., 2007. 26 Ницше Ф. К генеалогии морали. Полемическое сочинение // Ф. Ницше. Сочинения: в 2 т. Т.2. – М., 1990. 27 Ницше Ф. Антихрист. Проклятие христианству // Ф. Ницше. Сочинения: в 2т. Т.2. – М., 1990. 28 Франк С.Л. Человек и Бог // Человек. – 1992. – №1. 29 Бердяев Н.А. Смысл творчества. Опыт оправдания человека. – М., 2004. 30 Летов О.В. Человек и «сверхчеловек»: этические аспекты трансгуманизма // Человек. – 2009. – №1. 189 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Учебная литература 1 Буржуазная философская антропология. ХХ в. – М., 1986. 2 Вальверде К. Философская антропология. – М., 2000. 3 Вульф К. Антропология. История, культура, философия. – СПб., 2008. 4 Губин В., Некрасова Е. Философская антропология. – М., 2000. 5 Гуревич П.С. Философская антропология. – М., 2001. 6 Курашов В.И. Начала прагматической антропологии. – М., 2007. 7 Марков Б.В. Философская антропология. – СПб., 1997; 2-е изд. – СПб., 2008. 8 Моторина Л.Е. Философская антропология. – М., 2003. 9 Философская антропология / под ред. С.А. Лебедева. – М., 2005. 10 Философская антропология: человек многомерный / ред. С.А. Лебедев. – М., 2010. 11 Шульц П. Философская антропология: Введение для изучающих психологию. – Новосибирск, 1996. Первоисточники 1 Бердяев Н.А. Проблема человека (К построению христианской антропологии) // Ступени. – 1991. – №1. 2 Бубер М. Проблема человека // М. Бубер. Я и Ты. – М., 1993. 3 Булгаков С.Н. Религия человекобожия у Л. Фейербаха // С.Н. Булгаков. Сочинения: в 2 т. Т.II. Избранные статьи. – М., 1993. 4 Кьеркегор С. Понятие страха // С. Кьеркегор. Страх и трепет. – М., 1993. 5 Ламетри Ж.О. Человек-машина // Ж.О. Ламетри. Сочинения. – М.,1989. 6 Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ф. Ницше. Сочинения: в 2 т. Т.2. – М., 1990. 190 7 Плеснер Х. Ступени органического и человек: Введение в философскую антропологию. – М., 2004. 8 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М.,1994. 9 Шелер М. Человек и история // М. Шелер. Избранные произведения. – М., 1994. 10 Шелер М. Положение человека в космосе // М. Шелер. Избранные произведения. – М., 1994. Дополнительная литература 1 Гагарин А.С. Экзистенциалы человеческого бытия: одиночество, смерть, страх. От античности до Нового времени. – Екатеринбург, 2001. 2 Гуревич П.С. Философия человека. – М., 1999. – Ч.1. 3 Гуревич П.С. Философия человека. – М., 2001. – Ч.2. 4 Добжанский Ф.Г. Мифы о генетическом предопределении и о tabula rasa // Человек. – 2000. – № 1. 5 Долмейер Ф. Возвращение философской антропологии: субъективные размышления // Человек. – 2010. – № 4. 6 Иванюшкин А.Я., Лях К.Ф. Тема смерти в истории философии // Вестник Мурманского гос. техн-го ун-та. Т. 14. – 2011. – №2. 7 Касс Л. Нестареющие тела, счастливые души… // Человек. – 2003. – №6. 8 Касумов Т.К., Гасанова Л.К. Страхи в жизни и жизнь в страхе // Вопросы философии. – 2014. – №1. 9 Костылев Е.Н. «Сдерживающий эффект» культуры в развитии человеческой популяции // Машины. Люди. Ценности. – Курган, 2006. 10 Круткин В.С. Онтология человеческой телесности. – Ижевск, 1993. 11 Курек Н.С. Звероподобное поведение. Линии Аристотеля и Фрейда // Человек. – 2009. – № 1. 12 Марков Б.В. Человек в постантропологическую эпоху // Вопросы философии. – 2011. – №2. 13 Мосс М. Техники тела // Человек. – 1993. – №2. 191 14 Никольский С.А. Достоевский и явление «подпольного» человека // Вопросы философии. – 2011. – №12. 15 Смит Р. Человек между биологией и культурой // Человек. – 2000. – №1. 16 Стародубцева Л.В. Философский нарциссизм и припоминание // Вопросы философии. – 2001. – №11. 17 Степанова И.Н. Антропологические эпистемы. – Курган, 2011. 18 Степанова И.Н., Шалютин С.М. Духовность как качество личности и проблема ее воспитания. – Курган, 2004. 19 Тульчинский Г.Л. О природе свободы // Вопросы философии. – 2004. – №4. 20 Тульчинский Г.Л. Самозванство, массовая культура и новая антропология // Человек. – 2008. – №1. 21 Хен Ю.В. Теория и практика усовершенствования человеческой «породы» // Вопросы философии. – 2006. – №5. 22 Чеснокова Т.Ю. Постчеловек. От неандертальца до киборга. – М., 2008. 192 Вопросы для повторения К главе 1 1 Обозначают ли понятия «философия человека» и «философская антропология» одно и то же? 2 Каков предмет философской антропологии? 3 Почему необходима сегодня философская антропология? К главе 2 2.1 1 Каковы базовые парадигмы в понимании природы человека? 2 Каковы аргументы об изменяемости или неизменности человеческой природы? 3 Каково соотношение биологического и культурного в человеке с точки зрения науки? 4 В чем суть учения Х. Плеснера о человеческой природе? 5 В чем выражается пограничность человеческой природы в половой дифференциации? 6 В чем выражается пограничность человеческой природы в сексуальности? 7 В чем выражается пограничность человеческой природы в воспроизводстве потомства? 8 В чем выражается пограничность человеческой природы в психике? 9 В чем выражается пограничность человеческой природы в языке? 2.2 1 Как рассматривалась телесность человека в религии и истории философии? 2 В чем выражается взаимодействие человеческого тела с обществом и культурой? 3 Каковы возможности современной науки и биомедицинской практики в изменении человеческого тела? 4 В чем смысл метафоры «фаустовская сделка» об изменении человеческой природы? 193 2.3 1 Каков смысл понятия «деструктивность» в различных науках? 2 В чем различие подходов биологизма, психологизма и социологизма к пониманию деструктивности? 3 Каково содержание концепции деструктивности, разработанной Э. Фроммом? Какие выделяются им две формы деструктивности? 2.4 1 Каково понимание жизни в истории философии? 2 Каковы аксиологические типы понимания жизни? 3 Каковы ценности жизни в истории культуры? 4 Что собой представляют стратегии жизни? 5 Как решается в философии и науке проблема вечности жизни? 2.5 1 Как рассматривалась проблема смерти в истории философии? 2 Каковы сущность и смысл смерти? 3 Каковы коллективные восприятия смерти в истории культуры? 4 Каковы актуальные проблемы смерти в современном обществе? К главе 3 3.1 1 Каким было понимание судьбы в истории философии? 2 Что собой представляет фатализм и волюнтаризм в понимании судьбы? 3 Какое значение в онтологии судьбы имеют время и надежда? 3.2 1 Каковы философско-антропологические концепции свободы? 2 Какова природа свободы? 3 Как решается в философской антропологии проблема свободы пространства выбора? 4 Какова связь свободы и покинутости? 3.3 1 Каким является образ Homo Solus в истории философии? 194 2 Каковы результаты теоретического исследования феномена одиночества в различных науках? 3 Что собой представляет одиночество как экзистенциал человеческого существования? 4 Каковы формы одиночества? 3.4 1 Каково понимание страха в классической философии? 2 В чем смысл страха как экзистенциала? 3 Каково существование страха в жизни и культуре? К главе 4 4.1 1 Как понималась личность в философско-антропологических учениях? 2 Как решается в философской антропологии проблема духовности личности? 3 В чем заключается смысл жизни личности? 4 В чем выражается идентичность личности? 5 Что такое самозванство личности и в чем оно выражается? 4.2 1 Как рассматривалась проблема Я – Другой в истории философии? 2 В чем заключаются особенности дружбы и вражды как базовых форм отношений Я и Другой? 3 Какие выделяют модели Чужого в философской антропологии? 4 Каковы формы инобытия Я в «подпольном» человеке, зеркале и в Другом? 195 Учебное издание ИНГА НИКОЛАЕВНА СТЕПАНОВА ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ЭПОХИ, ИДЕИ Учебное пособие Редактор Н.М. Быкова Компьютерный набор: Ю.Н. Данилова Подписано в печать 18.11.2014 Формат 60х84 1/16 Печать цифровая Усл. печ. л. 12,25 Заказ 286 Тираж 100 Редакционно-издательский центр КГУ. 640000, г. Курган, ул. Советская, 63/4. Курганский государственный университет. 196 Бумага тип. 80 г/м2 Уч.- изд. л.12,25