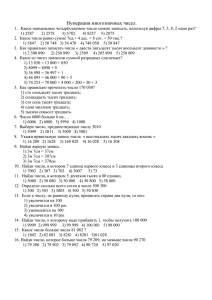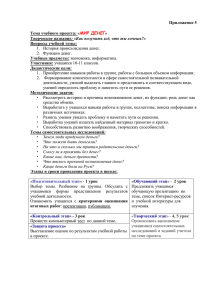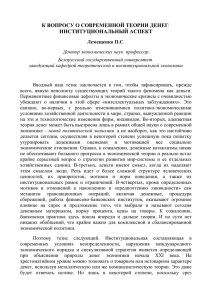Кузьмина Е.О. ЕВАНГЕЛЬСКИЙ СЮЖЕТ В ПОЭТИКЕ
реклама
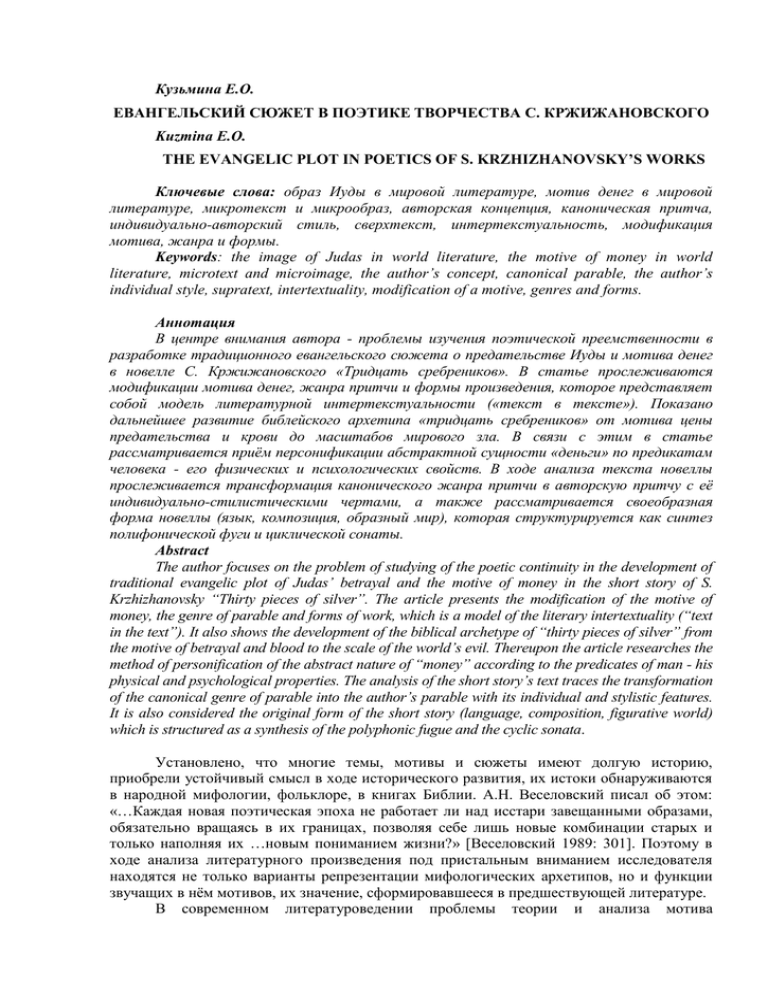
Кузьмина Е.О. ЕВАНГЕЛЬСКИЙ СЮЖЕТ В ПОЭТИКЕ ТВОРЧЕСТВА С. КРЖИЖАНОВСКОГО Kuzmina E.O. THE EVANGELIC PLOT IN POETICS OF S. KRZHIZHANOVSKY’S WORKS Ключевые слова: образ Иуды в мировой литературе, мотив денег в мировой литературе, микротекст и микрообраз, авторская концепция, каноническая притча, индивидуально-авторский стиль, сверхтекст, интертекстуальность, модификация мотива, жанра и формы. Keywords: the image of Judas in world literature, the motive of money in world literature, microtext and microimage, the author’s concept, canonical parable, the author’s individual style, supratext, intertextuality, modification of a motive, genres and forms. Аннотация В центре внимания автора - проблемы изучения поэтической преемственности в разработке традиционного евангельского сюжета о предательстве Иуды и мотива денег в новелле С. Кржижановского «Тридцать сребреников». В статье прослеживаются модификации мотива денег, жанра притчи и формы произведения, которое представляет собой модель литературной интертекстуальности («текст в тексте»). Показано дальнейшее развитие библейского архетипа «тридцать сребреников» от мотива цены предательства и крови до масштабов мирового зла. В связи с этим в статье рассматривается приѐм персонификации абстрактной сущности «деньги» по предикатам человека - его физических и психологических свойств. В ходе анализа текста новеллы прослеживается трансформация канонического жанра притчи в авторскую притчу с еѐ индивидуально-стилистическими чертами, а также рассматривается своеобразная форма новеллы (язык, композиция, образный мир), которая структурируется как синтез полифонической фуги и циклической сонаты. Abstract The author focuses on the problem of studying of the poetic continuity in the development of traditional evangelic plot of Judas’ betrayal and the motive of money in the short story of S. Krzhizhanovsky “Thirty pieces of silver”. The article presents the modification of the motive of money, the genre of parable and forms of work, which is a model of the literary intertextuality (“text in the text”). It also shows the development of the biblical archetype of “thirty pieces of silver” from the motive of betrayal and blood to the scale of the world’s evil. Thereupon the article researches the method of personification of the abstract nature of “money” according to the predicates of man - his physical and psychological properties. The analysis of the short story’s text traces the transformation of the canonical genre of parable into the author’s parable with its individual and stylistic features. It is also considered the original form of the short story (language, composition, figurative world) which is structured as a synthesis of the polyphonic fugue and the cyclic sonata. Установлено, что многие темы, мотивы и сюжеты имеют долгую историю, приобрели устойчивый смысл в ходе исторического развития, их истоки обнаруживаются в народной мифологии, фольклоре, в книгах Библии. А.Н. Веселовский писал об этом: «…Каждая новая поэтическая эпоха не работает ли над исстари завещанными образами, обязательно вращаясь в их границах, позволяя себе лишь новые комбинации старых и только наполняя их …новым пониманием жизни?» [Веселовский 1989: 301]. Поэтому в ходе анализа литературного произведения под пристальным вниманием исследователя находятся не только варианты репрезентации мифологических архетипов, но и функции звучащих в нѐм мотивов, их значение, сформировавшееся в предшествующей литературе. В современном литературоведении проблемы теории и анализа мотива рассмотрены достаточно широко1. Мотив является не только элементарной единицей сюжета произведения2, но и композиции, определяя как основной замысел произведения, так и его второстепенные и эпизодические события, указывая на их содержательный смысл3. Мотив, как компонент произведения, обладает повышенной значимостью и может представлять собой одно слово или словосочетание, которое повторяется и варьируется в тексте, или выступает в виде заглавия либо эпиграфа, или лишь угадывается, уходя в подтекст4. Тема и мотив новеллы С. Кржижановского «Тридцать сребреников» (1927 г.) обозначены в заглавии произведения и отсылают читателя к библейскому сюжету о предательстве Иуды. Библейские клише в составе фразеологических единиц языка «Иудин поцелуй» и «тридцать сребреников» стали самостоятельным явлением, однако закодированная в них информация выходит за рамки привычного восприятия. При этом совершенно очевидно, что своѐ неомифологическое видение автор актуализирует не только на мотиве денег как цены предательства, преступления, крови и смерти, но и на предавшем своего Учителя образе Иуды, имя которого уходит в подтекст. Мотив денег и мотив предательства Иуды, а в связи с этим и трактовка его образа достаточно широко разработаны в мировой литературе. Евангелисты характеризуют Иуду, вошедшего в историю предательства Иисуса, как стяжателя, человека, одержимого страстью к материальному обогащению. Зависть и корысть побудили его совершить преступление. Представление о нравственной сути злодейства канонического образа Иуды, ставшего символом предательства, закреплялось в сознании человечества на протяжении многих столетий, например, у Данте в «Божественной комедии», у А.С. Пушкина в стихотворении «Подражание итальянскому». Однако уже в XIX - XX веках, в условиях общего процесса дехристианизации культуры, в мировой литературе и искусстве явственно обозначилась новая тенденция - постигнуть мотивы предательства, проникнуть в психологию евангельских персонажей, что, в свою очередь, привело к нетрадиционному толкованию канонических библейских сюжетов и образов. Переосмыслению подвергся и образ Иуды. Между тем загадку Иуды порождает само Евангелие, в котором отсутствует психологическая основа этого ключевого эпизода. Как известно, канонические Евангелия не объясняют события и поступки евангельских персонажей, а только излагают их и повествуют о них. «И, стало быть, тут открывается идеальное поле для всевозможных гипотез учѐных-библеистов и для творческой фантазии художников, увидевших в личности Иуды не только индивидуальную психологическую проблему, но и обобщающую метафору, символ некоторых извечных тѐмных сторон человеческого характера», - комментирует Зенон Косидовский [Косидовский 1981: 191З]. Ответ на вопрос, почему Иуда предал Учителя, питавшего к нему доверие, пытались дать многие писатели XIX-XX вв. К образу отступника-апостола обращались в своих произведениях К. Брентано, М. Волошин, Д. Мережковский, В. Розанов, Л. Андреев, А. Франс, 5 Ю. Нагибин и др. В книге Э.Ж. Ренана «Жизнь Иисуса» (1863) подчѐркивается скупость Иуды, а причиной его предательства Учителя является корыстолюбие. Писатели XX столетия разрабатывают множество версий о мотивах предательства Иуды: Иуда как заурядная и безразличная ко всему личность, ищущая во всѐм выгоду (М. Булгаков); Иуда как сложная и противоречивая трагическая личность, взявшая на себя клеймо позора во имя прославления Христа (Л. Андреев, Борхес); Иуда - это метафора, по тонкому и удивительно точному замечанию Мережковского, персонифицированное зло, к 1 См., например: Силантьев И.В. Поэтика мотива. - М.: Языки славянской культуры, 2004. Веселовский А.Н. Поэтика сюжетов // Историческая поэтика. - М., 1989. - С. 303, 305. 3 Томашевский Б.В. Краткий курс поэтики. - М.: КДУ, 2006. - С. 108-109. 4 Хализев В.Е. Теория литературы. - М.: Высшая школа, 2000. - С. 266. 5 См., например: Книга Иуды: Антология. - СПб., 2001. 2 которому приближено всѐ человечество и каждый человек в отдельности, поэтому и камни бросать в него надо осторожнее: попадѐшь в себя [Мережковский 2007: 506]. Очевидно, ключ к разгадке проблемы зла, сосредоточенного в Иуде (и в каждом из представителей человечества), видится и в деньгах, к которым был причастен Иуда (заведовал кассой апостолов), и в тридцати сребрениках, которые получил как плату за «передачу» Иисуса первосвященникам. А деньги и есть тот «сатана», «диавол», «завладевший душой» некогда преданного ученика. Так в контекст о предательстве Иуды проецируется отрицательный оценочный заряд крылатой фразы «тридцать сребреников», в которой аккумулируется мотив продажных денег, получивший дальнейшую разработку в новелле С. Кржижановского. В данной связи подчеркнѐм, что деньги (золото) являются одной из «вечных» литературных тем. Так, Аристотель в своей «Риторике» определял счастье человека как благосостояние, соединѐнное с добродетелью6. Идея богатства как блага, к которому стремятся люди, развивалась в западноевропейской литературе7. Для отечественной литературы характерно другое решение, связанное с той частью Библейских текстов, где актуализируется мысль, что «легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому попасть в Царствие небесное». Эти идеи развиваются в житиях святых, путь к святости которых начинается с отказа от богатства и раздачи своего имущества бедным. Исследуя феномен денег в русской литературе XIX века, Г.И. Романова приходит к выводу, что в произведениях русских писателей XIX века от Н.В. Гоголя до А.П. Чехова утверждаются высокие идеалы, в отличие от низменных интересов, связанных со страстью к деньгам, которые дегуманизируют отношения между людьми. В художественном мире реалистической литературы констатируется стремление к обеспеченности и комфорту, но при этом писатели сосредоточиваются на тех духовных потерях, которые сопровождают рост состояния и подъѐм по социальной лестнице, показывают особенности человеческих взаимоотношений, складывающихся на меркантильной основе8. В творчестве зарубежных писателей (О. де Бальзак, Г. Флобер, Ф.С. Фицджеральд, Э. Золя, Т. Драйзер) мотив денег появляется не только в связи с утратой свободы, но и с отражением трагических противоречий социальной жизни, критикой общественных порядков. Исследованию значения этого мотива посвящены многие работы литературоведов9. Подчеркнѐм, что значение мотива денег, разработанного в мировой литературе, связано с пороками и слабостями человека. Обратимся к новелле С. Кржижановского, отсылающего заглавием своего произведения к вышеназванным мотивам, получившим разработку в мировой литературе. На основе библейского сюжета о предательстве Иуды и мотива «продажных» денег писатель создаѐт собственную мифологию, которая является выражением индивидуального миропонимания и неомифологического видения, и автор предлагает читателю условия игры - возможность собственного моделирования мотива денег и экспериментирования с формой и жанром нового произведения, создаваемого воображением и фантазией автора. Употребление выражения «тридцать сребреников» в переносном значении означает «плата за предательство». Серебреник, или сикль, - мелкая монета. По закону Моисея эта сумма назначалась в вознаграждение за случайно убитого раба. Очевидно, первосвященники назначили такую низкую цену за Иисуса в знак презрения к нему [Грановская 2003: 271]. В качестве эпиграфа к своему рассказу С. Кржижановский приводит стихи из Евангелия от Матфея: «И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошѐл и удавился» (Мф. 27:5). «Первосвященники, взявши сребреники, сказали: не позволительно 6 См.: Аристотель. Поэтика. Риторика. - СПб.: Азбука, - С. 107. См.: Ястребова А.Л. Богатство и бедность. - М., 1999. 8 См.: Романова Г.И. Мотив денег в русской литературе XIX века. - М.: Флинта: Наука, 2006. 9 См.: Gerhardi G. Geld und Gesellschaft in Theater des Ancien Regime. Heidelberg, 1983; Vernon J.E. Money and Fiction. Literary Realism in the 19th and Farly 20th Century. - Ithaca, N.Y., 1984. 7 положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови» (Мф. 27:6). «Сделавши же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников; Посему и называется земля та «землѐю крови» до сего дня» (Мф. 27:7-8). Промежуточное положение эпиграфа указывает на связь не только с заглавием новеллы («Тридцать сребреников»), но и со всей структурой текста новеллы в целом. Через эпиграф автор открывает внешние границы своего текста для интертекстуальных связей и литературно-языковых веяний разных направлений и эпох: «Этими четырьмя стихами берусь накормить дюжину томов и развернуть их в десяток авантюрных романов. В самом деле, пересмотрим образы: горсть монет…; удавленник в петле; корыстолюбец-горшечник…; эффектное заглавие - «Цена крови»; кладбище…; наконец, мастерски сделанный последний стих, который, взяв квадрат земли, отчуждѐнный под покойников, за четыре еѐ конца, растягивает кладбище до… Ну, это уж будет зависеть от того, реалист, символист или романтик возьмѐтся за разработку темы»10. Эпиграф позволяет автору не только выявить свои литературные пристрастия и предпочтения, но и дать возможность читателю составить представление об иерархии ценностей автора: «Я давно уж брожу вокруг третьего стиха цитаты и однажды вошѐл в него, но не через те двери: я постарался представить себе отмер земли, иссохлой и расщеленной зноем ‹…›. Тут тема задавала мне вопрос: почему первосвященники, приобретая землю под кладбище, заботились исключительно о чужих, а не о своих, не о иерусалимлянах ‹…›. Стих четвѐртый разъяснял: цена крови. ‹…› никоим образом нельзя зарывать в опоганенную кровью землю своих, ну а с чужими можно не церемониться. Но дальше тема начала морщить: ведь странников было много, а земли мало, трупов прибывало, кладбища - нет. ‹…› Тогда я, обойдя стих кругом, вошѐл в него через «купили» и выбрал в герои тридцать сребреников: это неромантично, звонко, доступно счѐту и относительно нетленно» (99). Таким образом, тридцать сребреников как цена крови и предательства становятся и темой, и мотивом, и главным героем, проходящим через весь строй произведения. Согласимся с Ю.М. Лотманом в том, что идея, мысль, авторская концепция (у М.М. Бахтина «последняя смысловая концепция») не содержится в каких-либо словосочетаниях, даже удачно подобранных цитатах, а выражается во всей художественной структуре произведения [Лотман 1972: 37-38]. Следовательно, художественное содержание (смысловая организация, авторская концепция) произведения становится более зримым с помощью особой организации материала, то есть, через его форму, включающую в себя различные уровни: язык произведения, композицию, детали предметной изобразительности. Текст новеллы, состоящий из семи небольших по объѐму главок (в страницу и в полстраницы), распадаясь на микротексты и микрообразы в определѐнной последовательности, срежиссирован и композиционно выстроен подобно таким музыкальным произведениям, как соната и фуга, характерных для творчества многих композиторов (Бах, Гендель, Моцарт, Бетховен, Глинка, Чайковский и др.) и предназначенных для фортепиано, органа, хора и оркестра. Подобно полифонической фуге (лат. - «бег») в музыке [Искусство 2000: 418], основанной на поочерѐдном вступлении 2-5 и более голосов, в быстром темпе повторяющих начальную тему и затем разрабатывающих еѐ во всевозможных мелодических, ритмических и гармонических комбинациях, в новелле Кржижановского «Тридцать сребреников» поочерѐдно вступают в действие микротемы, каждая из которых связана с «голосами» микрообразов - горшечника, трактирщика, мытаря и тридцати монет, завихренных и закрученных в единое колесо обезличенного зла. 10 Кржижановский С. Тридцать сребреников // Неукушенный локоть. Собрание сочинений. Т. 3. - СПб.: Симпозиум», 2003. - С.98. Дальнейшие цитаты в тексте статьи приводятся по этому изданию с указанием страницы в скобках. Подобно цикличной форме сонаты, которая предполагает взаимодействие художественных образов или противопоставление главной и побочной тем, развитие главной темы - тридцать сребреников (как цена предательства и крови) - источник всеобщего мирового зла - включает три этапа: экспозицию (1-я главка), разработку (2-6 главки) и репризу (7-я главка). Выбор темы и тридцати сребреников в качестве главного героя - определяются в экспозиции (первая главка): «…это неромантично, звонко, доступно счѐту и относительно нетленно. Ведь в самом деле, кто и что осталось от евангельской истории о смертях: одного распяли, другой повесился, третьих, говорю о странниках, одного за другим врыли в землю крови. В обращении остались лишь тридцать звонких монет: за ними, куда бы ни покатились сребреники, пойдѐт мой рассказ» (99). В разработке темы происходит дальнейшее еѐ развитие, при этом библейский фразеологизм «тридцать сребреников» актуализирует свою «память» в словесноконцептуальной организации микрообразов, один из которых подавляет другой или, наоборот, уходит в тень, оставляя сопернику полную свободу действия. Во второй главке автор рассказывает о горшечнике, который получил от Каиафы сребреники, но не донѐс их до своей лачуги, оставив все до единого за красное вино «с привкусом крови» в харчевне: «сребреникам не лежалось под тугим узлом в тряпице, и все тридцать, весело звеня о прилавок, перекатились от горшечника к трактирщику» (100). Третья главка новеллы углубляет тему нечистых денег, имеющих цену крови, и передаѐт историю трактирщика, с которым тридцать сребреников сыграли «плохую шутку»: «завсегдатаи харчевни узнали, что выручка за кровь пророка - об этом только и было речи в те дни в Иерусалиме - попала в кассу заведения, в котором они угощались, тотчас же, повыплѐскивав вино из чаш, они стали расплачиваться и требовать сдачи» (101). Никто больше не переступил порога харчевни, вино стало киснуть. Трактирщик, отобрав те тридцать, «не истѐртых и новых монет», полученных от горшечника, отправился к нему в лачугу. Швырнув на пол все тридцать и побив на эту сумму горшки, трактирщик вернулся домой, ожидая, что дела его пойдут по-старому. Однако никто так и не переступил порога харчевни. Суеверный трактирщик, подумав, что, очевидно, «один их проклятых тридцати» запрятался в монетной груде, решил раздать подозрительные монеты нищим. Но нищие отказались принять подаяние, не захотела и блудница продать ему ночь за цену крови, пришлось поздно ночью бросить деньги на дорогу. Но и это не помогло - трактирщика преследовало несчастье: «расшвыряв почти все свои деньги», он «разбил свою голову о стенку, как если бы она была грошовым горшком». Деньги, брошенные трактирщиком на дорогу, находили странники: «опоганенное серебро расползлось по кошелям и сумам, по городу и по миру. Посев Иуды обнаруживал некую всхожесть» (103). Четвѐртая главка новеллы возвращает нас к истории горшечника, к которому явился «пристойного вида старик» и выменял за двадцать пять сребреников те «нечистые» тридцать - так состоялась, как заключает автор, первая в мире валютная сделка. От старика «сребреная нечисть» пересыпалась в суму мытаря, пришедшего за сбором податей. В пятой главке новеллы разрабатывается мотив мытаря, который был честными и беспорочным человеком, однако ему не удалось довезти тридцать сребреников до казнохранилища, так как он растерял их вместе с другими собранными за налоги и недоимки деньгами: «сребреникам было невтерпѐж, сребреный зуд тянул их из мешка в мешок, из пальцев в пальцы, от людей к людям, из стран в страны… Иудино серебро перемешалось с другими монетами; сребреники растолкали сонную медь и неповоротливые литые мины и, увлекая их за собой, выпотрошили начисто мешки» (104). Не дождавшись суда, мытарь судил и осудил себя сам: привязав к шее камень, бросился в колодец. Шестая главка новеллы представляет собой смену мотивов-эпизодов, связанных с образами горшечника, трактирщика, старика и мытаря, и составляет живописную картину «расползания» скользких и юрких, не знающих угомона монет «по игорным столам, по притонам разврата, - в прах человеческий» (105). Оставшиеся деньги самоубийцытрактирщика с запрятавшимися в них сребрениками Иуды «конфисковали и препроводили в Рим, в государственное казнохранилище», и начинается вселенское шествие «полуплесневелого серебра и золота римских подвалов», разбуженных десятком «одержимых странническим зудом монет»: «Разворошенные груды монет стали искать выхода за пределы мешков и государственных границ; мириады крохотных металлических дисков стали на свои рубчатые и гладкие обода и покатились по всей земле, ища рынков и территорий» (105). Дорогу тридцати сребреникам прокладывали империалистические войны, они повели за собой армию Тита и превратили в прах стены Иерусалима, и «преданный огню и мечу город пророков и ростовщиков познал наконец цену крови» (105). В репризе (фр. reprise от reprendre «возобновлять, повторять»), седьмой главке, уже известные образы Иуды, продавшего Христа за тридцать сребреников, учтивого старичка, купившего валюту, горшечника и мытаря уходят на второй план. Дальнейшее развитие поэтического замысла в финальной части новеллы имеет в своей основе три образа, углубляющих авторскую мысль, которая становится всѐ более упорной. Один из поэтических образов финальной части - это «громадный сребреник», который похож на «колесо о тридцати спицах: вначале оно кружит медленно, потом скорее и скорее, мелькание спиц сливается в сплошной металлический диск» (106). Второй образ, переплетающийся с первым, - «карусель» из раскатившихся по всему миру «тридцати звонких катышей», которая вертится всѐ скорей и скорей. Поэтому мелькают в повторяющемся и настойчивом ритме картинки из истории человечества. Один из сребреников «впрыгнул в церковную кружку и тотчас же стал бить о еѐ стенки тревожно» - в ответ начались крестовые походы, организованные католической церковью11. Другой сребреник «пролез в карман учѐному экономисту, и тотчас же из кармана в голову проникла идея, впоследствии разработанная в так называемую теорию денежного обращения» (106). Мелькает «бритое лицо бритта Джона Ло с выпяченным ртом, похожим на отверстие копилки: на смену «credo» - кредитки», так «тридцать звонких катышей» раскатились по всему миру, «ѐрзают из пальцев в пальцы, звенят о сетки касс, перешвыриваются с континентов на континенты» (106). Многообразие ритмических перебоев звенящих по всему миру денежных единиц, когда «сейчас любой из тридцати можно принять и за франк, и за марку, и за лею, и за шиллинг», концентрируется, наконец, в образе обезличенного мирового зла. Замыкающая часть новеллы оказывается своеобразно связанной с еѐ началом. Однако интонация конца иная, она пропитана мягкой авторской иронией по отношению к определѐнной замкнутости устроения жизни человека и его природы, неотделимых от денег и их архетипа. Грубый прозаизм человеческого общества - всесилие денег - не удовлетворяет автора. Причудливо соединяя в новелле реальное с фантазией, игрой воображения, прошлое и настоящее, автор в заключительных строках новеллы предостерегает читателя и задаѐтся вопросом: «Обезличенные, безотличные, истѐртые о миллионы ладоней, тридцать сребреников стали неуловимы, и я не могу вам обещать, терпеливый читатель, что в последнюю вашу получку вам не всучили одного из них. Конечно, нехорошо быть мнительным, но я вот не могу отделаться от мысли: стоит ли обменивать эту вот итоисетину на построчную плату; а вдруг за мою историю о сребрениках заплатят…. сребрениками?» (107). 11 Имеются в виду корыстные захватнические цели католической церкви, которая в погоне за деньгами прикрывалась религиозными лозунгами борьбы против «неверных» мусульман и освобождения «гроба господня» и «святой земли» Палестины. Заострим внимание на искусном владении автором реминисценциями, намѐками, ассоциативными отсылками, способствующими актуализации концептуального смысла, который реализуется в результате модификации библейского мотива. Новелла С. Кржижановского на религиозно-мифологический сюжет, смоделированная игрой свободной фантазии художника, по характеру своего повествования напоминает притчу с еѐ обобщѐнностью, пренебрежением к бытовым деталям и выделением центральной идеи и пафоса. В XX веке складываются следующие принципы и пути художественного использования притчи как одного из эпических жанров поучительного и назидательного характера, в котором конкретный и универсальный планы изображения самостоятельны и равноправны: 1) притча как модель для создания новых, авторских притч либо для придания притчевого характера другим жанрам; 2) притча становится одним из вводных (вставных) жанров в повести и романе [Поэтика 2008: 188]. Для канонического жанра притчи характерны следующие черты. Во-первых, это прежде всего еѐ фабульность, и дидактичность; во-вторых, полная свобода в выборе персонажей (люди, деньги); в-третьих, отсутствие пейзажей и физических и психологических портретов - действующие лица предстают перед нами как субъекты этического выбора, а не как объекты художественного наблюдения; в-четвѐртых, ѐмкость и содержательность еѐ притчевого строя, обобщѐнность и интеллектуальность становятся способом авторского обобщения12. Все эти текстуальные особенности канонического жанра притчи можно обнаружить и в контексте новеллы С. Кржижановского. Однако несмотря на сходство новеллы с канонической притчей, в ней есть отступления от канона и некоторые черты, не свойственные жанру притчи. Отметим стилевые особенности новеллы-притчи Кржижановского, которые выражают своеобразие подхода автора к дальнейшей разработке жанра притчи в XX веке и придают произведению индивидуально-авторский стиль: 1) объѐм новеллы отходит от лапидарности канонической притчи и растягивается до объѐма рассказа, разделѐнного на семь главок; 2) финал новеллы окрашен мягкой авторской иронией; 3) в тексте новеллыпритчи Кржижановского встречаются антропонимы (Иисус, Иуда, Каиафа, армия Тита, Джон Ло) и топонимы (Иерусалим, Рим), хотя различные онимы и темпоральнолокальные уточнения в канонической притче, как правило, отсутствуют; 4) главный персонаж - тридцать сребреников - представляет собой разработанный автором физический и психологический характер героя. Тридцать сребреников обладают некой внутренней силой, двигательной функцией, выступают как одушевлѐнный предмет. Они как бы оживают и наделяются свойствами живого человека, хотя и не являются одушевлѐнным существом. Мы имеем дело с олицетворением денег по предикатам человека, и метафора «тридцать сребреников» помогает осознать их важность, непредсказуемость и всесильность, поскольку они имеют внешние (круглый край, чѐткий оттиск цифр) и внутренние психологические черты портрета (сребреный зуд, они скользки и юрки, беспокойные, вечно убегающие от себя, ѐрзают из пальцев в пальцы, стали неуловимы). Тридцать сребреников могут двигаться (покатились по всей земле, кружили в бешеной сребреной пляске, опоганенное серебро расползлось по кошелям и сумам, стремительно закружили по земле, перешвыриваются с континентов на континенты), имеют голос (металлический острый голос, звонкие монеты, не знают угомона, звенят о сетки касс), могут чувствовать (сребреный зуд тянул их от людей к людям), совершать различные действия (вернулись в сокровищницу, монеты смешались чистые с нечистыми, новая горсть сребреников упала в прах дорог, пересыпались из кожаного мешка в холщовый, растолкали сонную медь, выпотрошили мешки, вернулись в Иерусалим и свалили ему стены, один впрыгнул в церковную кружку и стал бить о еѐ стенки тревожно, другой полез в карман учѐному-экономисту). 12 См.: Аверинцев С.С. Притча // КЛЭ. - М., 1971. - Т. 6. - С.21; Береговская Э.М. Поэтика современной притчи // Филологические науки. - № 1. - 2007. - С. 48. Словесные ряды, связанные со значением качеств человека, влекут за собой создание персонифицированного образа, который отождествляется в нашем сознании с такими понятиями, как «сила» и «власть». В этой связи следует отметить, что по проведѐнному исследованию Н.Э. Агарковой, различные употребления слова «деньги» дают нам цепь представлений о сущности концепта «деньги», укоренившегося в языковой картине мира в различных паремиях: 1) деньгам подвластно всѐ, деньги правят миром: Деньги - сила; 2) деньги надевают на себя маску высокого господина, которого ставят на одну черту с богом: служить деньгам, служить Мамоне; 3) деньги - приманка, нечто желанное: заманивать деньгами; 4) деньги - удовольствие: запах денег, вкус денег [Агаркова 2007: 310]. Как видим, персонифицированный и гиперболизированный образ тридцати сребреников в новелле-притче С. Кржижановского совпадает с концептуальными представлениями о сущности денег в языковой картине мира и вырастает в многозначный символ мирового зла, связанный с мыслями писателя не только о тридцати сребрениках как цены предательства и крови, но и о продажной и преступной сущности денежного обращения и денег вообще, так как библейский архетип тридцати сребреников оказался живучим, нетленным и вездесущим. Однако многослойная структура художественного текста новеллы со своими специфическими иерархическими соотношениями - это один из аспектов реализации авторского художественного вымысла. По определению М.М. Бахтина, «каждый текст (как высказывание) является чем-то индивидуальным, единственным и неповторимым, и в этом весь смысл его (его замысел, ради чего он создан). Это то в нѐм, что имеет отношение к истине, правде, добру, красоте, истории» [Бахтин 1996, 5: 308-309]. Следовательно, важным аспектом текста является замысел автора, в котором выражается его отношение к ценностям, определяются ценностно-смысловые установки, проектируются ассоциативные связи с другими словесными текстами, предстающими в качестве интегративного смыслового пространства, аккумулирующего значения, смыслы, культурную память. Такой интегративной единицей, аккумулирующей «культурную память» в ценностно-смысловую парадигму творческого замысла автора, является заглавие новеллы «Тридцать сребреников», которое приобретает статус «свѐрнутой единицы»13 и выходит за рамки контекста и текста новеллы, определяя семантическое пространство сверхтекста и становясь самим сверхтекстом14, который порождает ценностно-значимые смыслы порочности денежных отношений от библейских участников событий до персонифицированного мирового зла. Поэтому новелла Кржижановского - это «текст в тексте», пронизанный притчевым началом. Притчевость библейской истории о тридцати сребрениках, ощущаемая и в построении текста в целом, и в образной системе предметной изобразительности, и в выборе лексики, и в авторской интонации, переходя на уровень философского осмысления, не только повышает образносмысловую и культурную емкость текста, но и актуализирует свою «память» и значения в ассоциативно-смысловом пространстве повторяющихся архетипов, тем, мотивов, связанных с ключевыми понятиями «предательство Иуды», «тридцать сребреников» и «деньги». Смысл 13 Под текстом понимается не только выраженная и закреплѐнная посредством языковых знаков (независимо от письменной или устной формы их реализации) чувственно воспринимаемая сторона речевого, в том числе литературного произведения, но и минимальная единица речевой коммуникации, обладающая относительным единством (целостностью) и относительной автономией (отдельностью). См.: Тамарченко Н.Д. Теоретическая поэтика. - М.: Рос. гос. гуманит ун-т, 2006. - С. 35. 14 Сверхтекст, представляющий собой ряд автономных словесных текстов в качестве целостного интегративного словесно-концептуального образования, в своѐм семантическом пространстве содержит компонент в виде «свѐрнутой» единицы, которая способна вызывать ассоциативные связи, транспонировать порождаемые смыслы из одного участка сверхтекста в другой и провоцировать смысловые инференции, значимые для концепции ряда субтекстов в составе сверхтекста. См.: Лошаков А.Г. О словесноконцептуальной оргнаизции сверхтекста (на материале «Свистка» - сатирического приложения к журналу «Современник») // Филологические науки. № 4. - 2007. - С. 20. притчи С. Кржижановского не только в том, что цена крови и предательства переходит из «рук в руки», «из пальцев в пальцы», но и в том, что в сущностной природе денег много зла, вероломства, корысти, коварства, тянущих за собой цепь трагедий и бедствий человечества (распятие Христа, самоубийство Иуды, трактирщика, мытаря, захватнические и религиозные войны и т.д.). Однако вывод автора пессимистичен: человечество не способно обуздать коренящуюся в феномене денег «память» зла. Обладая свойством интертекстуальности, то есть способностью отражать «следы определѐнного наследия и памяти» 15, текст новеллы Кржижановского можно рассматривать и как образец интертекста. Как отмечает французская исследовательница Н. Пьего-Гро, «если любое произведение носит интертекстовый характер, то возникает проблема степени и модификации интертекстуальности. На некоторых произведениях лежит отчѐтливая печать того или иного предшествующего произведения, причѐм уже само их заглавие недвусмысленно указывает на эту связь. ‹…› Интертекстуальность не открывает нам какое-то новое явление, но позволяет по-новому осмыслить и освоить формы эксплицитного и имплицитного пересечения двух текстов» [Пьеге-Гро 2008: 49]. Таким образом, в новом осмыслении эксплицитного и имплицитного пересечения трѐх текстов (заглавие новеллы, эпиграф к ней и непосредственно сам текст), создающих модель «текст в тексте», можно видеть один из феноменов интертекстуальности, который может быть истолкован и как форма самонасыщения литературы, и как бесконечная игра дифференцирования и новаторства, допускаемая самим фактом опоры на преднаходимый текст. В обоих случаях можно констатировать, что обновление мотива, жанра и формы текста новеллы происходит за счѐт обращения к одному и тому же материалу. Итак, в новелле С. Кржижановского «Тридцать сребреников» мы обнаруживаем новаторское произведение, отсылающее нас к библейскому источнику о предательстве Иуды, но переосмысленному не в традиционном ключе. Название сверхтекста в виде свѐрнутой лексической единицы «тридцать сребреников» имплицирует многообразие аллюзийных ссылок на библейский сюжет о предательстве Иуды и интерпретации мотива денег в мировой литературе. Источником модификации мотива, жанра и формы в динамике текста новеллы является архетип-праобраз «тридцати сребреников», который проявляется и повторяется везде и всегда. Мотив предательства Иуды видоизменяется в мотив цены предательства и крови, который, в свою очередь, преобразуясь в мотив денег и денежного обращения, вырастает в мотив вселенского масштаба зла, несчастий и драм человечества, источником которых являются тридцать иудиных сребреников. Жанровые черты канонической притчи, нашедшие отражение в новелле, дополняются авторскоиндивидуальными стилистическими особенностями, которые расширяют и углубляют новаторские преобразования жанра притчи в XX веке. Пластическое преобразование мотивов, словесных образов и притчевой жанровой природы находит выражение в новой повествовательной технике и как следствие - в модификации формы текста, который структурируется по законам театрального искусства: и как синтетическое звучание двух музыкальных произведений - сонаты и фуги, и как драматическое действо с элементами драмы, трагедии и фарса. Анализ евангельского сюжета и связанного с ним мотива предательства Иуды и денег в системе прозы С. Кржижановского представляет собой интерес не только с точки зрения теории повествования (модификации мотива, формы и жанра произведения), но и с 15 Интертекстуальность охватывает не только те отношения, которые могут приобретать конкретную форму цитаты, пародии или аллюзии, или выступать в виде точечных и малозаметных пересечений, но и такие связи между текстами, которые хотя и ощущаются, но с трудом поддаются формализации. Интертекст, таким образом, может включать в себя не только имплицитные и эксплицитные интерференции между произведениями, но всякого рода диффузные явления перезаписи, то есть предполагает презумпцию сходства; он может быть неотчѐтливым, слабо поддаваться локализации. См.: Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. - М.: Издательство ЛКИ, 2008. - С. 48, 51. точки зрения исторической поэтики, поскольку даѐт материал для дальнейшего изучения проблемы поэтической преемственности в русской и зарубежной литературах. Библиографический список 1. Агаркова Н.Э. Деньги // Антология концептов / Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. - М.: Гнозис, 2007. 2. Бахтин М.М. Проблема текста // Бахтин М.М. Собр. соч.: В. 7 т.- Т. 5. - М., 1996. 3. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. - М., 1989. 4. Грановская Л.М. Словарь имѐн и крылатых выражений из Библии. - М.: Астрель, 2003. 5. Искусство. Энциклопедический словарь / Сост. П. Кошель. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. 6. Косидовский З. Библейские сказания. Сказания евангелистов. - М.: Политическая литература, 1981. 7. Кржижановский С. Тридцать сребреников // Неукушенный локоть. Собрание сочинений. Т. 3. - СПб.: Симпозиум, 2003. 8. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. - Л., 1972. 9. Мережковский Д. Иисус Неизвестный. - М.: Эксмо, 2007. 10. Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. - М.: Издательство Кулагиной, 2008. 11. Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. - М.: Издательство ЛКИ, 2008. 12. Романова Г.И. Мотив денег в русской литературе XIX века. - М.: Флинта: Наука, 2006. 13. Силантьев И.В. Поэтика мотива. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 296 с. 14. Хализев В.Е. Теория литературы. - М.: Высшая школа, 2000.