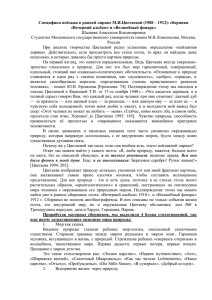Джаббарова Е.Я. Местоименная игра и имя собственное в прозе
реклама
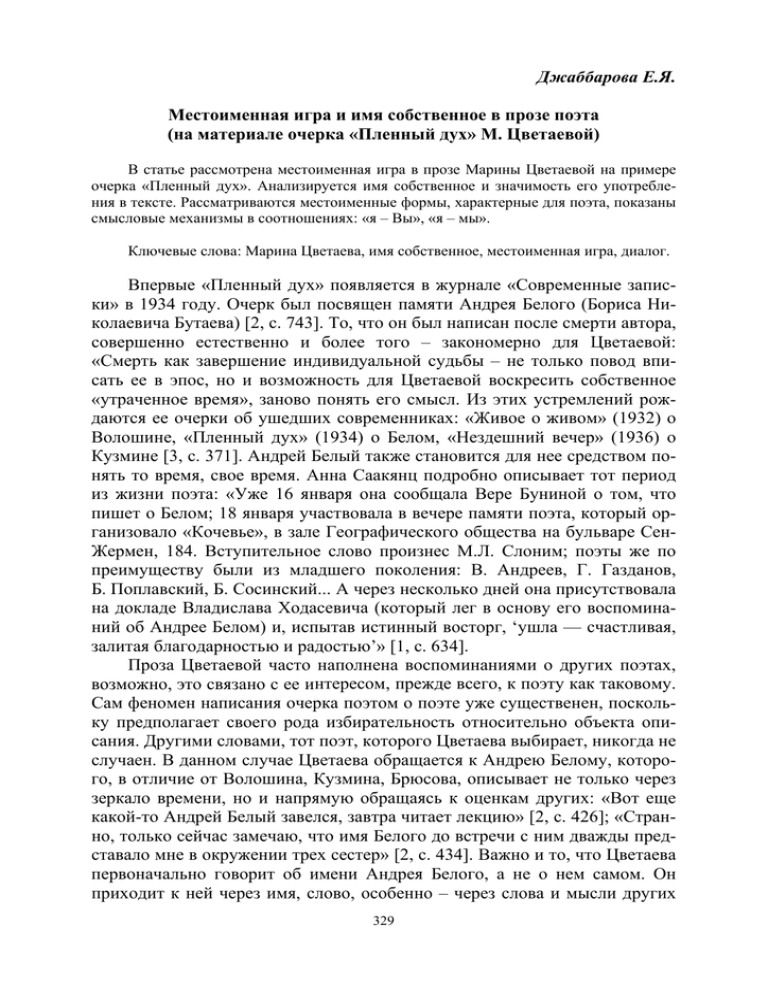
Джаббарова Е.Я. Местоименная игра и имя собственное в прозе поэта (на материале очерка «Пленный дух» М. Цветаевой) В статье рассмотрена местоименная игра в прозе Марины Цветаевой на примере очерка «Пленный дух». Анализируется имя собственное и значимость его употребления в тексте. Рассматриваются местоименные формы, характерные для поэта, показаны смысловые механизмы в соотношениях: «я – Вы», «я – мы». Ключевые слова: Марина Цветаева, имя собственное, местоименная игра, диалог. Впервые «Пленный дух» появляется в журнале «Современные записки» в 1934 году. Очерк был посвящен памяти Андрея Белого (Бориса Николаевича Бутаева) [2, с. 743]. То, что он был написан после смерти автора, совершенно естественно и более того – закономерно для Цветаевой: «Смерть как завершение индивидуальной судьбы – не только повод вписать ее в эпос, но и возможность для Цветаевой воскресить собственное «утраченное время», заново понять его смысл. Из этих устремлений рождаются ее очерки об ушедших современниках: «Живое о живом» (1932) о Волошине, «Пленный дух» (1934) о Белом, «Нездешний вечер» (1936) о Кузмине [3, с. 371]. Андрей Белый также становится для нее средством понять то время, свое время. Анна Саакянц подробно описывает тот период из жизни поэта: «Уже 16 января она сообщала Вере Буниной о том, что пишет о Белом; 18 января участвовала в вечере памяти поэта, который организовало «Кочевье», в зале Географического общества на бульваре СенЖермен, 184. Вступительное слово произнес М.Л. Слоним; поэты же по преимуществу были из младшего поколения: В. Андреев, Г. Газданов, Б. Поплавский, Б. Сосинский... А через несколько дней она присутствовала на докладе Владислава Ходасевича (который лег в основу его воспоминаний об Андрее Белом) и, испытав истинный восторг, ‘ушла — счастливая, залитая благодарностью и радостью’» [1, с. 634]. Проза Цветаевой часто наполнена воспоминаниями о других поэтах, возможно, это связано с ее интересом, прежде всего, к поэту как таковому. Сам феномен написания очерка поэтом о поэте уже существенен, поскольку предполагает своего рода избирательность относительно объекта описания. Другими словами, тот поэт, которого Цветаева выбирает, никогда не случаен. В данном случае Цветаева обращается к Андрею Белому, которого, в отличие от Волошина, Кузмина, Брюсова, описывает не только через зеркало времени, но и напрямую обращаясь к оценкам других: «Вот еще какой-то Андрей Белый завелся, завтра читает лекцию» [2, с. 426]; «Странно, только сейчас замечаю, что имя Белого до встречи с ним дважды представало мне в окружении трех сестер» [2, с. 434]. Важно и то, что Цветаева первоначально говорит об имени Андрея Белого, а не о нем самом. Он приходит к ней через имя, слово, особенно – через слова и мысли других 329 героев очерка. Белый предстает изначально не воплощенным сразу, цельным, а скорее – образом, не до конца узнанным и пойманным: «А все-таки увидели Андрея Белого. Он мне сказал: ‘всего хорошего’» [2, с. 428]. Цветаева пишет о собственном «предощущении» поэта, напрямую связанном с восприятием других персонажей и их судеб, поэтому текст так густо населен героями. Однако стоит упомянуть о стремлении Цветаевой пережить, понять другого сквозь себя, и – как следствие – персонажи, связанные с жизнью Андрея Белого раскрываются не через него, а через Цветаеву. Так, подробное описание других персонажей в каком-то смысле становиться ключом к пониманию самого Андрея Белого: «Уже шестнадцати лет я поняла, что внушать стихи больше, чем писать стихи, больше ‘дар Божий’, большая богоизбранность, что не будь в мире ‘Ась’ – не было бы в мире поэм» [2, с. 441]. Подробное описание Аси, внимание к ней неслучайно, поскольку, в конечном счете, Цветаева приходит к теме поэзии, к пониманию поэта и поэзии, а значит – говорит и о Белом. Здесь важным аспектом становится обозначение Белым самого себя и сопоставление себя с Цветаевой: «Больше не будем искать. Пропала (здесь и далее курсив автора. – Е.Д.). И, может быть, лучше, что пропала. Ведь я, по существу, не поэт, я годы могу не писать, а кто может не писать – писать не смеет» [2, с. 482]; « Я никогда не читаю стихов. И никогда уже не пишу. Раз в три года – разве это поэт? Стихи должны быть единственной возможностью выражения и постоянной насущной потребностью, человек должен быть на стихи обречен, как волк на вой. Тогда – поэт. А вы, вы – птица! Вы поете! Вы во мне каждой строкой поете, я пою вас дальше, вы во мне поете дальше, я вас остановить не могу» [2, с. 457]. Белый предстает как поэт сквозь сопоставление с Цветаевой, что удивительно, сама Цветаева не противится объединяющему «мы», которое позволит себе Белый. А, значит, ощущает в нем равного себе: «Нет, не сумасшедшего, а человека, желающего остаться в границах, величиной букв занять все то место, оставшееся бы безмерности и беспредметности, во-вторых же, внешней вескостью выявить вескость внутреннюю» [2, с. 456]. Тем самым взгляд на другого поэта становится взглядом на самого себя. В сюжетном отношении текст нельзя назвать насыщенным событиями, главным фактом становится не-встреча поэтов, а именно смерть Белого и те легенды, которые Цветаева услышит о нем. Таким образом, физические встречи двух поэтов в Берлине, Шарлоттенбурге не станут ключевыми, важным будет столкновение с «пленным духом». Говоря непосредственно об особенностях употребления имен собственных, а также о специфике местоименной игры в тексте, нельзя не упомянуть о композиционном устройстве. Очерк делится на две части: «Предшествующая легенда» и «Встреча», каждая из которых устроена посвоему. Так, первая часть содержит в себе большое количество имен собственных, необходимых для того, чтобы подойти непосредственно к фигуре Андрея Белого. Начинается текст с молитвы Али, которая становится важным звеном между поэтами. Из уст Али: «А теперь я иду спать, а то 330 уже чувствую, что скоро начну говорить такие глупости, как Андрей Белый» [2, с. 471]. Любое приближение с другим для Цветаевой неизбежно происходит через семью, через Алю. При этом значимо то, что сам Андрей Белый еще не появился, нас лишь подводят к нему посредством других героев: «…ибо произнесено оно было далеко не трехлетним ангелом, а именно: моей теткой, женой моего дяди, историка, профессора Дмитрия Владимировича Цветаева, и с далеко не молитвенной интонацией» [2, с. 426]. Возникает Эллис, возникает Бишетка, Ася, Сережа Соловьев, Александр Блок и каждый служит нитью, ведущей к Белому. А. Саакянц пишет: «Ее мемуары плотно "населены"; кого только в них нет: и старорежимная родственница, и советский профессор, добряк П. С. Коган, покровитель поэтов, и загадочная, пленительно-жестокая Ася Тургенева, "дитя символистической эпохи", невенчанная жена Белого, любовь к которой разбила его жизнь…» [1, с. 636]. Уже в начале очерка появляется двойственность восприятия и называния героя: «Вчера Борис Николаевич… Я от вас к Борису Николаевичу…Как бы это понравилось Борису Николаевичу…» [2, с. 427]. Уже на следующей странице помимо имени «Андрей Белый», появляется имя «Борис Николаевич». Всю тяжесть этой двойственности Цветаева раскроет во второй части очерка: «И еще: что ему было Марина Ивановна и даже Марина, когда он даже собственным ни Борисом, ни Андреем себя не ощутил, ни с одним из них себя не отождествил, ни в одном из них себя не узнал, так и прокачался всю жизнь между нареченным Борисом и сотворенным Андреем, отзываясь только на я» [2, с. 483]; «Двойственность его не только сказалась на Борисе Николаевиче Бугаеве и Андрее Белом, она была вызвана ими. – С кем говорите? Со мной, Борисом Николаевичем, или со мной, Андреем Белым? ... Разорвался – навек» [2, с. 483]. Двойственность поэта показана как вечное метание от искусственно созданного им, вслед за символизмом образа Андрея Белого, образа, привязанного к эпохе, ко времени, и именем Бориса Бугаева, именем реальным, прочно завязанным на семье, на родственных узах. И тот и другой образ, тем самым, прочно связывают поэта и не могут объять его до конца. Так, в образе Андрея Белого всегда будет недостающее звено в виде Бориса Бугаева, а в образе Бугаева вечно недостающий образ Белого, но объединение их, в конечном счете, совершенно невозможно. Персонажи очерка также не видят поэта цельным, каждый видит лишь грань, поэтому обращение к Белому так изменчиво. Вторая часть очерка «Встреча». Здесь Цветаева и Белый оказываются лицом к лицу, местоимения становятся основным средством связи героев. По отношению к Цветаевой сразу появляется «вы», которое сохраняется на протяжении всего текста и более того – объясняется самим поэтом: «Имя ведь останавливает на человеке, на другом, именно – этом, Вы – включает всех, включает всё. И еще: имя разграничивает, имя это явно – не-я. Вы (как и ты) это тот же я…Вы – включительное и собирательное, имя331 отчество – отграничительное и исключительное. … Так я и осталась для него Вы, та Вы, которая в Берлине, Вы – неизбежно-второго лица, Вы – присутствия, наличности, очности…» [2, с. 483]. Примечательно, что связь их выстраивается по типу «я – Вы», где «Вы» всегда Цветаева. Сама же Цветаева постоянно говорит «он». Андрей Белый, который вначале кажется лишь именем собственным, во второй части обретает плоть, но не возвеличивается поэтом. Постепенно в тексте появляется объединяющее местоимение «мы»: «Мы – профессорские дети. Вы понимайте, что это значит: профессорские дети?»; «Мы с вами, как оказалось, дети (вызывающе:) – все равно чьи!»; «Мы с вами – сироты, и – и вы ведь тоже пишите стихи? – сироты и поэты» [2, с. 455]. Местоимение «мы» появляется именно из уст Белого, именно он стремится к объединению, к слиянию: «Видите? Наш (выделено автором. – Е.Д.) трамвай!» [2, с. 463]. Однако Цветаева позволяет поэту подобного рода объединение. И внезапно сама срывается на объединение с другим: «На него смотрели, верней: его смотрели, как спектакль, сразу, после занавеса бросая его одного, как огромный Императорский театр, где остаются одни мыши. …Мы – смотрели» [2, с. 463]. Так Цветаева видит его исключительность, жалеет, знает, что он – пленный дух, но также знает и о собственной исключительности. Белый и Цветаева оказываются «пленным духом», что в данном случае служит определением слова «поэт». Она не лишается себя самой, до конца говорит и о себе: «Между этим возгласом моего восьмилетнего сына и тогдашней молитвой моей трехлетней дочери – вся моя молодость, быть может, – вся моя жизнь» [2, с. 489]. Поэт измеряет свою жизнь тем, кого встречает, каждым близким, Белым в том числе, сам текст также завершается ею – его стихотворением ей. Так, главное явление – это не смерть Белого, а жизнь Цветаевой сквозь Белого, ее продолжение, ее время и память сквозь него. Белый в каком-то смысле становится отражением определенного этапа в жизни поэта. Таким образом, в очерке «Пленный дух» можно выделить несколько особенностей употребления имен собственных и местоимений. Первая важная черта –значимость композиционного членения текста и влияние его на употребление тех или иных средств выражения. Так, первая часть «Предшествующая легенда» есть не что иное, как предощущение героя, именно поэтому текст так изобилует наличием других героев и их имен. Вторая часть «Встреча» напротив, является приближением друг к другу, потому она невозможна без личных местоимений. Общение поэтов есть диалог, но диалог сквозь толщу времени. Сначала именно Андрей Белый для Цветаевой – «Вы», но впоследствии происходит наоборот, Цветаева остается «Вы». Так, кажется невозможной местоименная модель «я – ты», герои словно не успели догнать друг друга во времени. Интересно и внезапное появление «мы», здесь важно, что Цветаева объединяет себя не столько с Андреем Белым, сколько с пленным духом. «Мы» здесь носит не конкретный характер объединения с другим, а является средством сказать в целом о Поэте. 332 Список литературы 1. Саакянц A.A. Жизнь Цветаевой. Бессмертная птица-феникс. – «Бессмертные имена». – М.: Центрполиграф, 2002. – 827 с. 2. Цветаева М.И. Одна – здесь – жизнь: автобиографическая проза / сост., коммент. Л.А. Мухина. – М.: Астрель, 2012. – 759 с. 3. Шевеленко И. Литературный путь Цветаевой: Идеология – поэтика – идентичность автора в контексте эпохи. – М.: Новое литературное обозрение, 2002. – 464 с. Квирикадзе Н.Г. Русская языковая личность в американской среде в романе Владимира Набокова «Пнин» Четвертый англоязычный роман Владимира Набокова «Пнин» вбирает в себя целый ряд структурно-семантических смыслов. Весь корпус данного текста, который рассматривается с точки зрения современной художественной интерпретации, пронизан темой русско-американской культурно-языковой интеграции по всей вертикали от начала до конца. В романе как образце эмигрантской прозы выдвигается тема отчуждения героя, тема покинутой и утерянной родины, которую герой так и не находит. Ключевые слова: Пнин, русская языковая личность, смысловые коды-детали, утеря русской соборности, отчуждение. Исследование образа профессора Пнина, героя романа В. Набокова как языковой личности, как носителя русской культуры производится в разрезе поставленной в произведении проблемы: как живет и существует в чужой, инонациональной (в данном случае – американской) среде человек, русский по духу, характеру и образу жизни – русский, который так и не стал американцем. В случае фиксации Пнина (как языковой личности) в парадигме реального общения, в деятельности, можно выделить «отстояние» героя произведения как речевой личности одной лингвокультуры от личности другой лингвокультуры [5, с. 453]; при этом вполне достаточно рассмотреть лишь некоторые аспекты данной темы. Например, это может быть коммуникативное пространство языковой личности (как носителя определенной национально-культурной картины мира), оказавшейся в сфере инонациональной культуры; это могут быть взаимоотношения данной личности с миром вещей, наслоение в его речи единиц разных языков, его манера поведения, манера жестикулировать и т.п. Однако, опираясь на известную словесную игру Набокова с читателем, особенно на обыгривание им собственных имен, считаем более правомерным начать анализ с фамилии главного героя – Пнин, вынесенной в заглавие произведения («Пнин») и являющейся фактически отправным пунктом взаимодействия персонажа с окружающей средой, в том числе и его речевой деятельности, т.е. главным смысловым кодом героя романа как носителя русского речевого менталитета. 333