XXVII Пушкинские чтения. 21 октября 2013 г.: Сборник научных
реклама
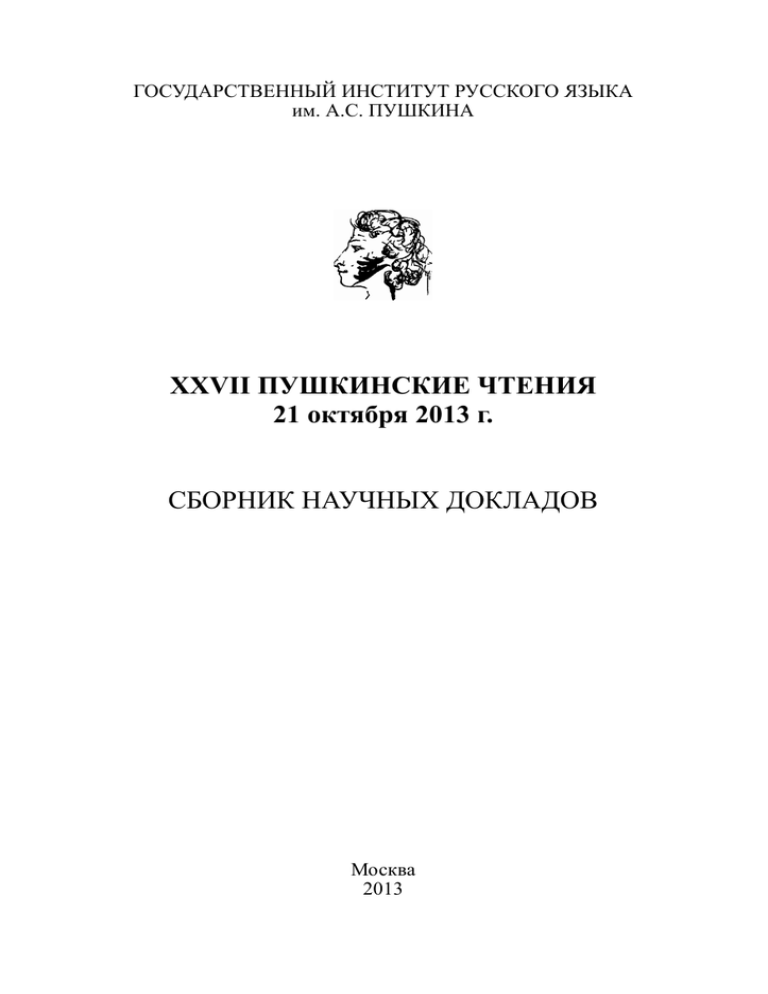
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. А.С. ПУШКИНА XXVII ПУШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 21 октября 2013 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ Москва 2013 1 ББК 81.2Рус П91 Рекомендовано к изданию Ученым советом Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Составитель: В.В. Молчановский П91 XXVII Пушкинские чтения. 21 октября 2013 г.: Сборник научных докладов / Сост. В.В. Молчановский. – М., 2013. – 648 с.: илл. ISBN 978-5-98269-115-6 Настоящий сборник представляет собой публикацию докладов и сообщений участников научной конференции «XXVII Пушкинские чтения» Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, состоявшейся 21 октября 2013 года в стенах Института. В докладах и сообщениях, авторами которых явились преподаватели, аспиранты и научные работники из разных городов России и из других стран (Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Германия, Индия, Казахстан, Китай, Латвия, Молдова, Республика Корея, США, Таджикистан, Тунис, Украина, Швеция), освещается широкий круг проблем, касающихся творчества А.С. Пушкина, роли поэта в развитии русского языка, русской и мировой литературы, современных проблем описания русского языка, его преподавания в школе и вузе. Сборник адресован школьным учителям русского языка, вузовским преподавателям-русистам, теоретикам и практикам преподавания русского языка как иностранного. ББК 81.2Рус ISBN 978-5-98269-115-6 © Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 2013. 2 ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 3 4 Базылев Владимир Николаевич (Россия, Москва; д.ф.н., зав. кафедрой общего и русского языкознания Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] Пушкин. «Евгений Онегин». История, проблемы и задачи тотального комментария (размышления над статьей А.П. Чудакова «К проблеме тотального комментария ”Евгения Онегина”») В 2005 году А.П. Чудаков (1938–2005) опубликует статью в «Пушкинском сборнике» под заголовком «К проблеме тотального комментария “Евгения Онегина”» [Чудаков 2005]. Его концепция тотального комментария стала продолжением в постсоветской филологии традиций синтетического комментария Н.Л. Бродского, семиотического комментария Ю.М. Лотмана, переводческого В.В. Набокова и собственно энциклопедического – «Онегинская энциклопедия». Интерес к комментированию «Евгения Онегина» в конце прошлого – начале нынешнего столетия определяется, как нам кажется, не в последнюю очередь статусом комментария в современной российской культуре и в постосоветской филологии. Причин тому две: первая – изменение структуры читательского и исследовательского сознания; вторая – пришедшийся в России на последнее десятилетие расцвет мемуаристики и других автобиографических жанров, в том числе многочисленные публикации мемуаров по XVIII – первой половине XX вв. С одной стороны, мемуары сами по себе являются ценным источником для исторического комментария, с другой – успех множества проектов и книжных серий такого рода свидетельствует о том, что историзирующее сознание становится самостоятельным культурным феноменом. Это означает, что эрудиция и умение видеть в тексте 5 «темные» места по-прежнему остаются в числе важнейших базовых навыков комментатора, но в то же время на первый план сегодня выдвигается роль комментария, прежде всего, как историзирующего описания того или иного текста или явления. Историзация означает не только глубокие познания и тонкое чувство исторической эпохи, но и создающиеся в тексте комментария связи и параллели между прошлым и настоящим, так как в основе нации лежит не только память культуры, но также забывание и переписывание истории. Комментарий призван восстанавливать не только утраченные смыслы прошлого, но в первую очередь значимые для сегодняшнего дня результаты осмысления этого прошлого, зафиксированные в многочисленных промежуточных культурных пластах. Это необходимо не только для того, чтобы реконструировать культурную память общества, но и для более объемного понимания комментируемых фрагментов. Комментарий как жанр представляет собой фрагмент исторической коммуникации [Базылев 2007; Базылев 2012; Базылев 2012а]. Комментарий к «Евгению Онегину» – дело не новое: известно, что Пушкин сам был первым комментатором своего романа. Ю.М. Лотман, однако, считал, что каждое поколение должно родить нового комментатора, потому что появляются новые исследовательские труды. Известный пушкинист Л.С. Сидяков первым в своей статье «Из истории комментирования “Евгения Онегина”» представил основные комментаторские направления в отечественной филологии, начиная с работ А. Вольского и Л. Поливанова. Одним из первых известных опытов была работа А. Вольского «Объяснения и примечания к роману А.С. Пушкина “Евгений Онегин”» (М., 1877. Главы I–VI). Затем, за два столетия, был пройден путь от комментария Павла Висковатова для учеников прибалтийских школ второй половины XIX века к комментарию Николая Бродского для того поколения, которое, по словам М. Цветаевой, Пушкина знало по операм Чайковского, и для него муж Татьяны – князь Гремин. Чуть позже, во второй половине ХХ века, – от комментария Владимира Набокова для американских студентов-филологов до Александра Тархова и самого знаменитого – лотмановского, который писал для поколения 80-х годов, но фактически еще 60-х. Начало XXI века ознаменовалось выходом в свет комментария Вадима Старка и двухтомной «Онегинской энциклопедии» под редакцией Наталии Михайловой [Сидяков 1992; Шор 2000]. Этого уже было достаточно для того, чтобы сподвигнуть А.П. Чудакова в начале века XXI к идее нового комментария. Однако остановимся на методологических основаниях прежних комментаторов. 6 Н.Л. Бродский со своей синтетической, как он ее называл, методологией различал следующие сферы пушкинского романа, которые нуждаются в комментариях: философия, политика, этика, психология, формы поведения, круг идей, исторический фон. Выделив главные направления, он определил цели комментариев: 1) помочь читателю в создании целостного образа центральных героев романа, представленных поэтически в их эволюции, противоречиях и в связи с общественной средой; 2) осветить социально-исторический фон, для чего вводились экскурсы об общественных группировках 20-х гг.; 3) раскрыть художественную сторону романа (напр., пейзаж), то есть прокомментировать все, «что помогает читателю синтетически охватить подлежащие анализу темы различного содержания, подводит к его научному постижению вершинного памятника русского классического романа» [Бродский 1932, с. 5]. Однако задача подобного синтетического охвата всех вышеперечисленных пластов романа вряд ли была выполнима даже при неограниченных объемах комментария. Книга Ю.М. Лотмана, написанная в духе московско-тартуской школы семиотики, содержала хронологию работы Пушкина над романом и внутреннюю хронологию самого романа, а также затрагивала проблему прототипов. Затем следовал очерк дворянского быта, построчный и словарный комментарий к главам – с I по VIII, к отрывкам из путешествия Онегина и отдельно к X главе. Методологическое значение реально-бытового комментария в книге Ю.М. Лотмана состояла в том, что он позволил вскрыть сложное переплетение ассоциаций и намеков, пронизывающих роман, полемических цитат и реминисценций, иронических отсылок, всего того, что включало и включает содержание и форму «Евгения Онегина» в большой контекст мировой культуры. Методология же В.В. Набокова заключалась в том, чтобы рассматривать и комментировать творчество Пушкина сквозь призму переводчика как посредника между лингвокультурами. Наконец, «Онегинская энциклопедия» – это первый опыт энциклопедии, посвященной роману Пушкина «Евгений Онегин». От созданных ранее комментариев к пушкинскому роману она отличается принципом организации и широтой охвата материала, установкой на монографичность в отдельных статьях, что позволило приблизиться к новому постижению «Евгения Онегина», выявить белые пятна в его изучении. В основу словника «Онегинской энциклопедии» был положен лексический состав текста. Это позволило рассказать об истории создания и издания романа, откликах первых читателей и критиков, рассмотреть проблематику, образную систему и поэтику «Евгения Онегина», представить 7 историю, литературу, культуру и быт эпохи, отразившейся на страницах пушкинского романа. «Онегинская энциклопедия» методологически объединяет в общем алфавите три словаря: словарь имен собственных, упомянутых в «Евгении Онегине»; словарь реалий, в которых представлены названные Пушкиным события; словарь мотивов, в котором раскрыты философские, нравственные и эстетические категории, существенные для понимания пушкинского текста. Таким образом, методологически в рамках одного справочника были сведены такие разные жанры, как энциклопедия, историко-литературный и историко-культурный комментарий, глоссарий и словарь языка А.С. Пушкина, то есть собственно литературоведческие, культурологические и лингвистические аспекты описания текста. Отечественная филология, таким образом, прошла в комментировании «Евгения Онегина» путь от «случайности» к «отдельности». Сходный путь прошел А.П. Чудаков как комментатор двух томов «Избранных трудов» В.В. Виноградова [Базылев 2013]. Но от «отдельности» далее путь ведет к «тотальности». Установка А.П. Чудакова на «тотальность» – это и было задание филологу на полное описание художественного мира по уровням, на которых на всех изоморфно и несколько утомительномонотонно обнаруживается то же самое. Комментарий к «Евгению Онегину» дает филологу, по мнению А.П. Чудакова, безбрежный простор предметного мира в литературе и в жизни, с непрестанными переходами из одной в другую, от онегинских санок, которые современный читатель по-настоящему не представляет себе совсем, к целой «упряжно-экипажной» энциклопедии сведений. Однако не комментирование вещей-реалий само по себе является «синей птицей» для комментатора. Как скажет в этой связи С.Г. Бочаров: «...цели воротнику [речь о «бобровом воротнике»] назначены более дальние и важные. Дальние цели тотального комментария для А.П. Чудакова были те, чтобы взять грандиозно онегинский текст плацдармом-фундаментом целой литературной теории: медленным чтением романа в стихах А.П. Чудаков предлагал заменить традиционный курс введения в литературоведение на первых курсах филфаков. Ведь сам преизобильный предметный онегинский мир есть теоретический материал, дающий картину того, как строится поэтический мир из реального. Театр, деревня, красавицы, аи и бордо и пр. – это общий предметный мир у автора-«я» и героя романа, и автор у нас на глазах пересаживает все это в роман и строит из этой предметности новый волшебный подобный мир. Предметность «Онегина» – одновременно жиз8 ненная среда и строительный материал. А главное – все творится у нас на глазах. Наглядная теория в изначальном греческом понимании – как зрелище, созерцание, умозрение» [Бочаров 2005, с. 50]. А.П. Чудаков так пояснял свою идею «тотального» комментария к «Евгению Онегину»: от объяснения реалий к рассмотрению словесного плана романа, от него – к изучение в рамках стиха и строфы структурного взаимодействия словесных единиц. По его словам, «необходим скрупулезный учет, прослеживание того, как рождаются и накапливаются те художественно-философские и речевые смыслы, которые обеспечили уникальный статус “Евгения Онегина” в истории русского языка, литературы и русской культуры в целом» [Чудаков 2005, с. 210–211]. Комментирование двух строф из «Евгения Онегина» в своей статье А.П. Чудаков рассматривал как постановку проблемы его тотального комментария: «1:11.9. Онегин, добрый мой приятель... Близкий знакомый, к которому расположены и находятся в дружеских, коротких отношениях. Однако это не друг автора-повествователя. Друзья в лирике Пушкина – нечто другое: они «верные», «надежные», «милые», «мудрые», «давние»; они образуют «тесный круг», «семью»; дружбу нельзя нарушить, невозможно изменить ей. В этом смысле приятель и друг в узусе нового времени различались и различаются. Ср. приводимые в словарях примеры: «приятели до черного лишь дня» (А.Ф. Мерзляков); «со всеми приятель» (из письма Чехова А.С. Суворину 18 октября 1888); «Приятелей у Гаврика было много, а настоящих друзей всего один – Петя» (В.П. Катаев). Особая проблема – употребление этих слов в речах действующих лиц и языке автора-повествователя применительно к отношениям Онегина и Ленского...» [Чудаков 2005, с. 219]. Реализовать свой проект А.П. Чудаков не успел, но перспективы, обозначенные им, безусловно, актуальны для современного отечественного пушкиноведения и отечественной филологии в целом. Эти перспективы мы считаем возможным охарактеризовать следующим образом. Исходным для нас также является понятие тотального комментария, означающее, с одной стороны, расширение круга проблем и явлений, входящих в предмет комментария. С другой же стороны, тотальный комментарий символизирует поиски методологического переноса опыта разных дисциплин в единую интердисциплинарность. Понятие тотальности при этом является не абсолютным, а относительным – как признак тенденции. Нахождение для этого научных средств, при 9 сохранении дисциплинарного единства, является для литературоведения не только методологической проблемой, но и методологической перспективой. Признание комментирования тотальным процессом означает также необходимость научного описания этого процесса, если мы хотим этой тотальности найти место в литературоведении. Необходимо сблизить анализы отдельных комментариев или типов комментария и анализ комментаторской деятельности как таковой. Это сопоставимо с различением в анализе чтения, с одной стороны, разных прочтений (моделей чтения) и тотального чтения как одновременности разных возможностей. Тотальный комментарий, его теория и практика связан, на наш взгляд, с обсуждением, следующих методологических проблем. Комментарий и культура. Комментарий можно рассматривать в качестве процесса регулирования разных пониманий текста в литературной культуре, в рамках которой происходит подготовка к восприятию текста, его предварительное чтение. Литературной культурой определяется структура воспринимающего сознания и предопределяется восприятие текста. Прагматика текста является для культуры одним из аспектов ее внутренней организации. В аспекте комментария особенно важно расхождение между формальным и реальным адресатом: текст часто лишен национальности, возраста и даже создателя, поэтому он нуждается в языке-посреднике, которым и является литературная культура. Тем самым особенно важным становится не столько чтение текста, сколько его предварительное чтение и перечитывание. Литературная культура и комментарий (как наиболее значительный представитель литературной культуры) являются, таким образом, своеобразным кодом восприятия текста, причем текст может стать в зависимости от специфики этого кода или декодированием оригинала, или его новым кодированием. Комментарий и читатель. В условиях автономного функционирования текста, то есть в условиях отсутствия предварительного прочтения и перечитывания его в рамках литературной культуры, он вызывает лишь «механическую» реакцию, позволяя читателю включать его в любые контакты и удовлетворяя любым конвенциям. В этом есть некоторая общая закономерность восприятия, так как обычно люди, по мнению Р.О. Якобсона, проявляют ограниченную компетенцию как отправители вербального сообщения и широкую компетенцию как получатели. Только метатексты литературной культуры создают возможный мир восприятия, некоторое игровое пространство для читателя. Тем самым уменьшается произвольность восприятия и создается воз10 можность выбора одной из версий, осмысленных в рамках литературной культуры. В таком случае можно уже говорить об интеллектуальной реакции. Предопределение литературной культурой возможностей восприятия позволяет рассматривать текст уже не как просто диалог, а как целенаправленный диалог. Комментарий как критика. Комментарий эксплицирует внетекстовые процессы в рамках литературной культуры, так как текст обладает такой онтологической чертой, как способность отличаться от самого себя. Методологические перспективы связаны, на наш взгляд, с исчислением и определением методов для верифицируемого анализа специфических качеств комментария, а также методов продуктивного подхода к комментарию как особому типу текста. С методологической точки зрения – это проблема самосознания интердисциплинарного подхода, осмысления объекта изучения. Так, необходимо избежать усредненного подхода к культуре и индивидуализации понятия культурного опыта. Например, можно говорить о картинах мира языка человека или социальной / культурной группы. Их сопоставление вынуждает говорить об одновременности и взаимосвязанности индивидуальных различий, культурного подобия в концептуализации окружающего мира. В осмыслении конкретного текста необходимо равновесие между ними, проведение границы между непосредственным контекстом текста и общей ситуацией порождения текста. В онтологической характеристике комментируемого текста следует выделять особенность соотношения эксплицитного и имплицитного. Комментатору в принципе недоступен синкретизм автора. При комментировании по типу комментарий есть более рациональный текст, чем подлинник интуиция комментатора ставится выше, чем знание автора, а имплицитные свойства текста не подвергаются экспликации. Менее всего пока учитывается особенность внутреннего характера комментаторского дискурса. Компенсируется это изучением возможности сохранения дискурса оригинала, причем комментарий рассматривается как миграция и трансформация дискурсивных элементов между разными дискурсами. Отдельно следует, очевидно, выделить комментарий как попытку систематического практического анализа подлинника. Этот анализ реализуется при помощи ряда параметров. Например, параметра степени эксплицитности, включающего культурные коннотации, реалии, ключевые слова и стереотипы. Следующим параметром является дистанция, куда входят внутрикультурные элементы (напр., социальный статус), затем элементы национальной 11 культуры, затем транскультурные элементы (типа Запад-Восток) и культурные универсалии. Еще одним параметром является качественные части культуры типа религии, литературы, искусства и т.д. Особого внимания требует исторический параметр как выделение элементов, характеризующих конкретную эпоху или прошлое вообще. В качестве параметра выступает тип текста как тип отношения к конкретным фактам. С точки зрения практики комментария важен такой параметр, как степень интегрированности культурных элементов в текст, их значимость в отличие от значения. Это позволяет исчерпывающе проанализировать историко-культурные аспекты текстов, выявляя культурно-историческую источниковость любого текста. Далее, следует различать, с одной стороны, языковой контекст, литературный интертекст и социокультурную ситуацию, с другой же стороны, две оси – ось экзотизации–натурализации и ось историзации-модернизации, причем экзотизация и историзация связаны с процессами сохранения, а натурализация и модернизация с процессами перетворения исходного текста при комментировании. Комментируемый текст можно понимать как одновременность единого и полисистемного. Этот динамизм достигается введением наряду с понятием семиотики еще и понятия семиозиса, то есть ситуации и процесса семиотизации. С точки зрения тотального комментария следует особо выделять такой важный аспект, как однотипность внутритекстовых и межтекстовых связей. Разные подходы к проблеме соотношения языка и культуры, языка и мышления так или иначе возвращают нас к феномену неопределенности комментария. Более того, исходя из динамического понимания языковой, шире – текстовой, культурной коммуникации мы можем почти любое понимание рассматривать как радикальный комментарий. Методологически это означает поиски равновесия между уникальностью авторского текста и каждого его прочтения отдельным читателем, с одной стороны, и усредненным, то есть неопределенным, восприятием языка, культурных коннотаций и текстов, с другой. Каждую книгу можно прочитать по-своему, и эта свобода, вплоть до произвола восприятия, есть факт любой культуры. Но культура существует как образование адресата, как читательская память и восприятие каждого текста в зависимости от культурного опыта воспринимающего. Причем до такой степени, что в некотором смысле любой текст, попадающий в руки читателя, уже прочитан, то есть сразу конвенционализуется. На другом же по12 люсе присутствует текст, заключающий в себе образ аудитории, то есть возможность некоторого оптимального восприятия. В такой ситуации невозможен однозначный подход к проблеме комментария, так как появляется предрасположенность к комментированию как культурно-языковой и поэтической характеристике текста, к комментируемости перцептивного или концептуального единства текста, к комментированию как предопределенности восприятия текста в определенной культуре. Все эти аспекты могут рассматриваться как разные, лишь частично совмещаемые доминанты комментаторской деятельности. Осмысление дополнительных связей между разными аспектами комментария предполагает динамизм, обусловленный различием границы между означающим и означаемым, частью и целым в каждом отдельном комментарии. Девизом для этой деятельности могли бы стать слова М. Фуко: «Должен существовать язык, который собирает в своих словах тотальность мира. И, наоборот, мир, как тотальность представимого, должен обладать способностью стать в своей совокупности Энциклопедией» [Фуко 1977, с. 140]. Перечислим возможные параметры комментирования как методологии. Начнем с параметра языка, который включает грамматические категории, реалии, речевой этикет, ассоциации, картину мира и дискурс. Речевой этикет может рассматриваться и под реалиями, но он составляет особую проблему. Ассоциации являются проблемой не только в плане понимания экспрессивного ореола слова, но в качестве знаков-символов (признаки бедности-богатства), а также символов (любви, траура). Картина мира составляет особую проблему комментария в связи с соотношением эксплицитного и имплицитного (отсюда и соотношение вербального-иконического). Дискурс связан как с проблемами функциональных стилей, речевых пластов в языке, так и с осознанием специфичности комментаторских проблем, когда различаются отдельно особенности литературного языка, языка художественной литературы или поэтического языка. В зависимости от стратегии комментария в рамках параметра языка можно говорить о национализации (или натурализации), перенационализации, денационализации или смешении национальных признаков. Предыдущий параметр дополняется параметром времени. Если грамматическое время является одним из средств достижения внутреннего единства текста, то в данном параметре важно различать историческое и культурное время, причем в историческом времени могут различаться авторское и событийное время. В связи с авторским временем (т.е. временем написания текста) встает вопрос сохранения-несохранения временной дистанции. 13 Культурное время связано с наличием-отсутствием стилистических средств для передачи определенных стилей. В рамках стратегий тотального комментария время может архаизироваться (абстрактное прошлое), историзироваться (конкретное прошлое), модернизироваться и нейтрализоваться. Параметр пространства соединяет проблемы социального и психологического пространств. Социальное пространство отражается в социолингвистических проблемах комментария. Особой проблемой является психологическое пространство. Одной из причин устаревания комментариев является отсутствие внутреннего единства текста. Но внутреннее единство достигается не только языковой связностью, но и представимостью, визуальностью текста. Это не только проблема удобства читательского восприятия (единства перцепции), но и рабочая проблема комментатора. Параметр текста как поэтики и литературной техники. Сюда входят жанровые признаки, хронотопные уровни и система выразительных средств. Комментарий жанровых признаков связан как с жанровыми конвенциями, так и способом интерпретации жанра. Хронотопные уровни являются сферой, где комментатору необходимо помочь читателю осознать имплицитные свойства текста. Это касается речевого различения сюжетного хронотопа как мира и языка повествования и повествователя, психологического (или персонального) хронотопа как экспрессивного ореола персонажа и метафизического хронотопа как выражения авторской концепции, индивидуальной мифологии или языка, выражаемой авторской лексикой. Повествователь и тип повествования становятся особой комментаторской проблемой в ситуации усложненности языковой или поэтической структуры текста. В плане комментаторских стратегий параметр текста включает проблемы сохранения-несохранения структуры (иерархичности элементов и уровней), а также сохранения–несохранения языковой связности. Параметр произведения включает проблемы, связанные с осмыслением текста. Конечно, уже сам текст комментария является интерпретацией подлинника. Он может исходить из закодированного в подлиннике образа аудитории, но может быть ориентированным и на новую читательскую реакцию (или на определенный круг читателей). Формированию личного отношения к тексту можно способствовать при помощи дополнительных метатекстов. Дополнительность метатекстов означает, что тотальный комментарий включается в культуру и в читательскую память иными комментариями. Дополнительные метатексты могут быть пресуппозиционными и интерпретирующими. Пресуппозиционные 14 метатексты бывают иногда просто необходимы для понимания как концепции, так и поэтики и языка текста. Читательская реакция как элемент параметра произведения означает частое и желаемое наличие в культуре разных версий классического многозначного текста. Это важно для понимания читателями онтологии комментария, его серийности. Это связано с эксплицитным обоснованием или имплицитной реализацией конкретного метода комментария, то есть читательской версии. Параметр социально-политической детерминированности приводит нас к цензурным проблемам или тенденциозности комментария, когда комментатор зависим от идеологического редактирования. В итоге мы можем проблему тотального комментария рассматривать как проблему типологизации параметров комментирования, находящихся в отношениях дополнительности. К сожалению, теперь можно лишь предполагать, чем в представлении А.П. Чудакова был тотальный комментарий, и в чем наше представление о нем совпадало или не совпадало – глобально или в деталях – с его замыслом. Понятно одно: ситуации действительные и вымышленные, лица реальные и персонажи, предметы эмпирические и художественные диффузно сосуществуют в пространстве «Евгения Онегина», свободно переходя из одной действительности в другую; обыденная логика сталкивается с неклассической логикой художественной системы, и это создает постоянно вспыхивающую между разными точками текста вольтову дугу высокого напряжения. Сегодня говорить о героях пушкинского романа с позиций тотального комментария, о каких-либо его мотивах, ситуациях, частных и мелких деталях, его балах, котлетах, стихотворных цитатах, чалых лошадях, галлицизмах, ножках, тюфяках, кастрюлях, племен минувших договорах, брусничной воде, французских романах, могилах, стадах, дриадах, жуках, воротниках – невозможно без учета сложнейшей структуры того художественного образования, коим является пушкинский роман, без учета коэффициента преломления магического кристалла, сквозь который, по словам А.П. Чудакова, смотрел на мир его автор [Чудаков 2005, с. 210–212, 235]. Литература Базылев В.Н. Три источника и три составных части комментария // Текст и комментарий – 5: Материалы рабочего совещания / Под ред. В.Н. Базылева. – М., 2007. – С. 6–24. Базылев В.Н. Три источника и три составных части комментария (доклад) // Семинар «Проблемы поэтического языка». Учреждение Российской 15 академии наук Институт русского языка им. В.В. Виноградова, 23 октября 2012 г. // Электронный ресурс: http://www.ruslang.ru/?id=seminar_fateeva_ chro-nicle. Базылев В.Н. (б) Пограничье (о жанре литературно-критической статьи) // Жанры речи: сборник научных трудов памяти К.Ф. Седова. – М., 2012а. – С. 187–207. Базылев В.Н. Комментарий А.П. Чудакова к «Избранным трудам» В.В. Виноградова (доклад) // XLIV Виноградовские чтения «Учителя и ученики, соратники и последователи». МГУ, 16 января 2013 г. // Электронный ресурс: http://www.philol.msu.ru/~ruslang/siencework/conferences/?page= vinogr2013. Бочаров С.Г. Синяя птица Александра Чудакова // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 75. – С. 44–51. Бродский Н.Л. Комментарий к Евгению Онегину. – М., 1932. Сидяков Л.С. Из истории комментирования «Евгения Онегина» // Ученые записки Тартуского государственного университета. К 70-летию профессора Ю.М. Лотмана: Сборник статей. – Тарту, 1992. – С. 175–182. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – М., 1977. Чудаков А.П. К проблеме тотального комментария «Евгения Онегина» // Пушкинский сборник. – М., 2005. – С. 210–237. Шор Т. К проблеме литературоведческого комментария (комментарии к «Евгению Онегину») // Пушкинские чтения в Тарту (2). – Тарту, 2000. – С. 282–298. 16 Скачкова Ольга Николаевна (Латвия, Рига; д.ф.н., доц. Балтийской Международной академии) [email protected] Текст и комментарий как аналог художественного космоса Перевод «Евгения Онегина» и комментарий к нему Набоков писал на протяжении 1950–1964 гг. Еще не закончив эту работу, он принялся за роман «Бледное пламя» (Pale Fire), опубликовав его в 1962 г. Первое впечатление от романа было ошеломляющим: и те, кому он резко не понравился [Peden 1962; Cloyne 1962; Highet 1962; Handley 1963; Toynbee 1962], и те, кто сочли его одним из величайших художественных творений нашего столетия [Маккарти 2000, с. 360], согласились в том, что новая книга Набокова – вещь небывалая. Затем, когда спустя 2 года вышел набоковский перевод Евгения Онегина, внимательные читатели догадались, что экстравагантная форма Бледного пламени и его загадочное содержание – неожиданный результат работы над пушкинским романом. Как и набоковский «Пушкин», «Бледное пламя» состоит из поэмы и комментария к ней. Эти две части связаны между собою отнюдь не традиционным образом, а логикой безумия. Поэма написана американским поэтом Джоном Шейдом, чей талант давно признан (мнения англоязычных критиков о художественных достоинствах поэмы Шейда или вполне благосклонное [Маккарти 2000; Кермоуд 2000; Фидлер 2000], или восторженное [Денис 2000; Бёрджес 2000]), а свойства души делают его человеком на все времена: Шейд добр, снисходителен и пребывает, по-видимому, в гармонии с миром. Его комментатор, профессор Кинбот, русский эмигрант, гомосексуалист и сумасшедший, напротив, совершенно разобщен с жизнью в ее привычных формах. Шейд оказывается единственным, кто готов выслушивать больные 17 фантазии Кинбота, поэтому от него-то и ждет спасения – материализации своего бреда – несчастный чудак. Реальность беспощадна к Кинботу, хотя ее облик вполне идилличен: бездомный профессор временно осел в некой местности под названием Нью Вай, величественные, но окультуренные пейзажи которой вмещают университет и горстку преподавательских особняков. Все здесь дышит пристойностью и глубоким уважением к тому занятию, которому предаются обитатели этой Американской Аркадии – «служению науке». В толпе коллег, нелестно описываемых Кинботом, мелькают знакомые по роману «Пнин» академические типажи, а сам милейший Пнин возникает в облике гротескного перфекциониста, замучившего сотрудников своей кафедры придирками – такова особенность авторского зрения в этой книге, автор которой – Кинбот – не может мимикрировать настолько, чтобы заслужить уважение профессорских жен. Впрочем, он к этому и не стремится, потому что в какой-то момент своего не известного читателю прошлого он «догадался», что он – король-изгнанник, последний из рода монархов Зембли, преследуемый убийцами. Такое открытие, как известно со времен Поприщина, может на какое-то время примирить с ускользающей действительностью. (Отметим, что эта вымышленная страна не раз появляется в произведениях Набокова и, по мнению исследователей его творчества, занимало место личного королевства в его воображении [Meyer 1988; Barton 1985]). Поэтому Шейд должен рассказать в своей поэме, как надеялся его навязчивый сосед и комментатор, истинную историю – не профессора Кинбота, и уж конечно не Боткина, русского беглеца без прошлого и будущего, а историю чудесного спасения зембланского короля, Карла Возлюбленного. Однако оказалось, что Шейд писал о другом: о птице, разбившейся о стекло зимнего сада (Я тень, я свиристель, убитый влет / Подложной синью, взятой в переплет / Окна...) [Набоков 1999, с. 311], о женщинептице («ласточке»), ставшей его женой; о тех фрагментах большого мира, из которых он складывал свой мир, сохраняя разум и учась быть счастливым. Кинбот не хочет мириться с тем, что стихи растут из такого сора: Я начал читать... Я с рычанием проносился через поэму. как пробегает разъяренный наследник завещание старого плута Куда подевались зубчатые стены моего закатного замка? Где Прекрасная Зембла? Где хребты ее гор? Где долгая дрожь в тумане? А мои миловидные мальчики в цвету, а радуга витражей, а палладины Черной Розы и вся моя дивная повесть? Ничего этого не было! ...О, как выразить мою муку! Взамен чудесной, буйной романтики – что получил я? Автобио18 графическое, отчетливо аппалаческое, довольно старомодное повествование в новопоповском просодическом стиле,...лишенное всей моей магии, той особенной складки волшебного безумия, которое, как верилось мне, пронижет поэму, позволив ей пережить время [Набоков 1999, с. 530]. Вместо истории зембланских королей Шейд написал о самоубийстве своей несчастной дочери-толстушки. Кинбот – Боткин тем больше ненавидит эту девочку, что ее маргинальность напоминает его собственное прошлое, от которого он теперь избавился, отдавшись во власть безумия. Что ж, если Шейд предпочел писать о заросшем тиной озерке, в которое бросилась замученная отвращением к себе жалкая девчонка, то Кинбот сам расскажет о царственном мальчике, бродящем по мраморным розам дворцовых полов. Он напишет комментарий к поэме Шейда и «разгадает», по праву духовного родства, то, о чем не сказал Шейд – не сумел или не посмел (боясь своего домашнего цензора – жены). И вот свиристель 1-й строки поэмы сначала благонравно комментируется как художественный образ, затем как, собственно, представитель пернатых..., но затем слово «переводится» на зембланский язык, и тут уже Кинбот волен говорить о Карле Возлюбленном, чей герб украшен похожей птичкой. Так, всего в три хода, он совершает превращение скучной реалистической поэмы в таинственно-пленительный шифр. Впрочем, Кинбот редко дает себе труд хоть как-то мотивировать зембланские отступления. Он настолько одержим темой, что способен увидеть намек во всем: например, невинное деепричастие грея читается им как намек на убийцу, преследующего короля, Джеймса де Грея. Кинбот ...убедил себя, что поэма Шейда – его поэма и что ее нельзя понять (типичная мания комментаторов) без его примечаний [Маккарти 2000, с. 350]. Насколько эта мания владела Набоковым – комментатором Пушкина? И не Пушкин ли подсказал ему ту форму, которая так озадачивает при чтении набоковского кентавра (так назвал Бледное пламя Дуайт Макдональд [2000, с. 363] и комментария к роману в стихах? Ведь полный текст «Евгения Онегина» состоит из 8 глав, авторских примечаний и «Путешествия Онегина», и соотношение поэтической части с прозаическими, как отмечалось рядом исследователей [Громбах 1974], носит весьма специфический характер: Пушкин не столько комментирует свой текст, сколько дезориентирует читателя и иронизирует над ним. Так примечание к ХLII строфе 1 главы ЕО (Хоть, может быть, иная дама / Толкует Сея и Бентама, / Но вообще их разговор / Несносный, хоть невинный вздор; / К тому ж они так непорочны, / Так величавы, 19 так умны, / Так благочестия полны, / Так осмотрительны, так точны, / Так неприступны для мужчин, / Что вид их уж рождает сплин) [Пушкин 1964, с. 27] вызывает определенные сомнения в искренности автора, а то и вовсе сбивает с толку: Вся сия ироническая строфа не что иное, как тонкая похвала прекрасным нашим соотечественницам [Там же, с. 192]. К ХLII строфе IV главы (Мальчишек радостный народ / Коньками звучно режет лед) [Там же, с. 93–94] прилагается следующее примечание: Это значит, – замечает один из наших критиков, – что мальчишки катаются на коньках. Справедливо [Там же, с. 195]. Издевательский тон автора, испытавшего на себе тупоумие и предубежденность критики и профессиональных ценителей, становится все более заметным по мере того, как роман Пушкина развивается в нетрадиционном направлении, и поэтому в примечании к ХХ строфе 5 главы (Мое! – сказал Евгений грозно, / И шайка вся сокрылась вдруг; / Осталася во тьме морозной / Младая дева с ним сам-друг; / Онегин тихо увлекает / Татьяну в угол и слагает / ее на шаткую скамью / И клонит голову свою / К ней на плечо...) [Там же, с. 108]. Пушкин насмешливо замечает: Один из наших критиков, кажется, находит в этих стихах непонятную для нас неблагопристойность [Там же, с. 195], чем, разумеется, не уменьшает, а увеличивает соблазн свои строк. Следуя его примеру, Набоков написал совсем не академический комментарий к чужому тексту, а комментарий, вступающий с текстом в диалог. Пропорции получились примерно такие же, как в БП: 1 четверть книги занята переводом ЕО, а 3 четверти – рефлексией по поводу пушкинского романа. Она принимает порою, такие формы, что приводит в замешательство даже опытных читателей. Комментарий написан тоном терпеливого патрицианского спокойствия, полагает один [Рикс 2000, с. 383]. Да нет же, он лишь служит средством для демонстрации причуд личного вкуса комментатора и ...то и дело превращается в какое-то родео на деревяных лошадках, возражает другой [Конквест 2000, с. 385]. Главное свойство этого комментария – отсутствие здравого смысла, – раздраженно суммирует бывший друг и коллега Набокова Э. Уилсон [Уилсон 2000, с. 389]. Очевидно, Набоков совсем не стремился дать образец здравого смысла и академичности, вступая в сотрудничество с Пушкиным. (Даже Уилсон, написавший наиболее резкую рецензию на набоковский труд, не отрицал, что тот имеет право на это: Мне всегда казалось, что Набоков – один из тех русских писателей, чье мастерство во многом сродни пушкинскому [Там же]. 20 Например, Набоков сообщает читателям своего комментария множество лишних сведений, увлекаясь своего рода «ностальгической ботаникой»: он не жалеет места, объясняя, какая именно ягода из растущих в Америке называется в России брусникой: Brusnika is Vacciium vitis-idaea Linn., the red bilberry – the «red whorts» of northen England, thе lingon of Sweden, thе Preisselbeere of Germany, and the airelle ponctuee of French botanistst – which grows in northen pine forests and in the mountains... In America it is termed «mountain cranberry»... and «lowbush cranberry»... which leads to hopeless confusion with American forms of true cranberry... [Nabokov 1990, p. 324–326]; что за разновидность акации могла расти в саду Лариных... да и в садах других усадеб, особенно в окрестностях Петербурга (а точнее, в бывшем имении комментатора). Набоков посвящает 5 страниц [Ibid., p. 198–203] описанию всех ручьев, речек и потоков, текущих по землям Лариных, Ленских, Онегиных. Читатель пушкинского романа не припомнит этих подробностей, что и не удивительно: Пушкин, что неоднократно отмечает и Набоков, вовсе не знаток природы, как Тургенев или Толстой, его картины – изящно адаптированные клише [Ibid., p. 204]. Все эти излишества дают Уилсону право высказать ироническое недоумение по поводу того, что в комментарии нет научного описания медведя из сна Татьяны [Уилсон 2000, с. 389]. Между тем чтение этих страниц комментария доставляет большое удовольствие тому, кто обратился к нему не только за полезными сведениями, но и в надежде стать на некоторое время собеседником Набокова. Пушкин – не самый плохой повод для подобной беседы. «Литературные долги» Пушкина – еще одна любимая тема Набокова. Он рассказывает о книгах, упомянутых в романе, о тех, которые Пушкин читал, мог читать, не читал и даже не мог бы прочитать, потому что они были написаны после его смерти. Все эти книги подробно характеризуются, хотя считать их источниками в строгом смысле нельзя. Набоков уверяет, впрочем, не очень настойчиво, что это необходимо для того, чтобы выстроить логику литературной эволюции. Гораздо более правдоподобным представляется, что Набоков не может устоять перед соблазном вместить в этот наиболее литературоведческий труд всю свою эрудицию, а заодно и удовлетворить свое инстинктивное стремление поиздеваться над авторитетами [Там же, с. 390]: назвать комедию Фонвизина примитивной, а «Красное и черное» Стендаля – сильно переоцененным романом [Nabokov 1990, p. 90], корнелевского «Сида» – напыщенным [Ibid., p. 83] и «Юлию» Руссо – невыносимо скучной [Ibid., p. 339]. Заметим, что высказывания 21 такого рода совсем не в стиле Пушкина и пушкинской эпохи, когда полагали, что умеренность суждений свидетельствует о хорошем воспитании. В примечаниях Пушкина к ЕО читаем: Грандисон и Ловлас, герои двух славных романов..., Густав де Линар – герой прелестной повести баронессы Крюднер..., Мельмот – гениальное произведение Матюрина... Jean Sbogar – известный роман Карла Нодье [Пушкин 1964, с. 194]. В набоковском комментарии эта мелкая литературная братия не заслуживает даже хорошего пинка, приберегаемого для Сервантеса, Т. Манна, Бальзака, Достоевского. Набоков совсем непринужденно располагается в тексте ЕО, выбирая из него темы лично интересные. Так, хотя он весьма низкого мнения о поэтическом даровании К.Ф. Рылеева, Набоков посвящает почти три страницы рассказу о том, где Рылеев провел несколько недель в мае 1820 года, а именно, гостил в родовом имении Батово в окрестностях Петербурга. Чем интересна эта деревенька пушкинским читателям? Возможно, ничем, но набоковским читателям, конечно, интересно узнать, что некогда Батово принадлежало деду автора комментария и располагалось к востоку от другого имения, Рожествено, о котором будет рассказано в его автобиографической книге «Speak, Memory!» [Nabokov 1990, p. 432–434]. Совершенно безотносительно к тексту Пушкина Набоков замечает в конце 5 главы: It is amusing to examine what live Byron was doing while Pushkin’s creatures danced, dreamed, died: – и приводит выдержки из дневника Байрона от 12–14 января 1821 г. Этот пассаж дает комментатору возможность задумчиво заметить: This will probably remain the classical case of life’s playing up to art [Ibid., p. 546]. Определенно, это поведение соавтора. Набоков считает поиск прототипов бесполезным занятием, пригодным только для скучных профессоров вроде Бродского и Чижевского (авторов комментариев, предшествовавших набоковскому). Поэтому он отвергает предложенные пушкинистами кандидатуры... но только для того, чтобы предложить свои! Он не утруждает себя доказательствами, когда говорит, что М.Н. Раевская не могла быть той девочкой, игравшей с волнами, которой посвящены знаменитые строфы 1 главы ЕО (Я помню море пред грозою: / Как я завидовал волнам, / Бегущим бурной чередою / С любовью лечь к ее ногам!..) [Пушкин 1964, с. 24]). Возможно, причина здесь в том, что Набоков находит ее мемуары... remarkably banal and naive [Nabokov 1990, p. 121]. Его антипатия к Раевской-Волконской увлекает его так далеко, что он отказывается признавать и то, что ей посвящена «Полтава», хотя это обстоя22 тельство никогда не вызывало сомнений у пушкинистов. Он неохотно отмечает, что в черновиках посвящения якобы находятся строфы, указывающие на Волконскую, но он не может лично свериться с черновиком, находящимся в России, а потому больше склонен доверять своему вкусу [Nabokov 1990, p. 124]. Его любимица – Е.К. Воронцова, неизменно сопровождаемая эпитетами pretty, elegant, и поэтому только ее ножки имеют право оставить след в набоковском комментарии [Ibid., p. 129–130]. Блестящая Нина Воронская, Клеопатра Невы, из 8 главы ЕО не может быть списана с А.Ф. Закревской – эта дама тоже заслужила неодобрение Набокова. Он бы предпочел считать прототипом Е.М. Завадовскую, хотя оснований для этого у него не больше, чем у поклонников Закревской [Ibid., p. 175]. Примеры такого рода можно множить, но надо ли им удивляться, наблюдая за тем, как строго Набоков следит за хронологией романа, уличая беспечного Пушкина в неточности? Например: 12 января 1821 года, день имени Татьяны, пришелся на среду, а не на субботу! [Ibid., p. 485]. Художественный смысл этой поправки ускользает от озадаченного читателя. Набоков дополняет список книг, читаемых Онегиным зимой 1824 года, потому что Пушкин проявил здесь небрежность, характеризуя типичный выбор светского модника: We shall also note that Pushkin omitted to give his hero to read, in the winter of 1824–25, the two foreign books that were most avidly read that season, the controversial «Memoires de Joseph Fouche, duc d’Otrante»... and «Les Conversations de Lord Byron»... [Ibid., p. 217]. Наконец, он мог бы с большим тщанием указать место Лариных в среде московской знати! За него это делает Набоков и, проследив маршрут возка, в котором через весь город проезжает Татьяна с матерью, приходит к удивительным выводам: Прасковья Ларина в девичестве могла быть княжной Щербацкой [Ibid., p. 298]. Именно так, не Оболенской или Мещерской, а Щербацкой (напомним, что никаких фамилий родственников Лариных в романе Пушкина нет), потому что тогда, вероятно, Долли и Китти Щербацкие из Анны Карениной (любимого романа Набокова) приходятся ей внучатыми племянницами или чем-то подобным. Так открываются головокружительные перспективы «расширения» пушкинского романа. Набокову не хочется соглашаться со всевозможными белинскими и их последователями – русскими либеральными интеллигентами – в том, что касается решения Татьяны остаться верной своему долгу. Вопреки Пушкину, он высказывает предположение, что отношения Онегина и Татьяны еще не окончены. Его 23 раздражают безвкусные восторги по поводу поступка Татьяны, и он вступает в спор как бы от имени того, кому известны потаенные замыслы Пушкина: Ninety-nine per cent of the amorphous mass of comments produced with monstrous fluency by the ...(ideological critique)that has been worrying Pushkin’s novel for more than a hundred years is devoted to passionately patriotic eulogies of Tatiana’s virtue. This, cry the enthusiastic journalists of the BelinskiDostoevski-Sidorov type, is our pure, frank, responsible, altruistic, heroic Russian woman. Actually, the French, English, and German women of Tatiana’s favorite novels were quite as fervid and virtuous as she; even more so... I deem it necessary to point out that her answer to Onegin does not at all ring with such dignified finality as commentators have supposed it to do [Nabokov 1990, p. 241]. Набоков нередко вспоминает о своих предшественниках, Бродском и Чижевском, и всегда для того, чтобы упрекнуть их в невежестве, неточности, глупости. Между тем, его комментарий тоже не свободен от фактических ошибок и редакторской небрежности. Так, А. Гершенкрон заметил сразу три ошибки в одном примечании, посвященном Очакову, и неверно указанную страницу цитаты из Ювенала [Гершенкрон 2000, с. 408]. Множество дельных замечаний, касающихся фактической стороны комментария, содержится и в статье Э. Уилсона [2000, с. 387–392]. Имена русских пушкинистов появляются на страницах набоковской книги только в тех случаях, когда он вынужден ссылаться на их наблюдения над недоступными ему рукописями. Ревнивая и раздраженная интонация комментария к ЕО удивительным образом похожа на тон, в котором отзывается Кинбот об ученых, желающих узурпировать его уникальное право быть истолкователем поэмы Шейда. Жена, домашняя антикарлистка, препятствует их встречам, подобно тому, как коммунистический режим не дает Набокову доступа к живому пушкинскому наследию. Как и Кинбот, Набоков не претендует на то, чтобы его считали «своим» обитатели университетских аудиторий; он отделяет себя от этой среды, навязанной ему обстоятельствами, своим «царственным» художественным даром, а Кинбот – богатством своей «царственной» природы. Они оба – король-беглец и художникизгнанник – выбирают себе в собеседники гения и чувствуют себя в его обществе непринужденно, на равных. Все эти наблюдения по поводу сходства двух комментаторов отнюдь не произвольны, так как Набоков сам дал в руки своих критиков материал для подобных сравнений. Опубликовав Бледное пламя раньше, чем была закончена работа над переводом и комментарием Евгения Онегина, он с усмешкой подтолкнул чита24 телей к таким выводам: Да он же совсем с ума сошел от самомнения! Он поправляет Пушкина! Что ж, он и не скрывает, что написал свою книгу в соавторстве с Пушкиным – разве плохо получилось? Литература Бёрджес Э. Пушкин и Кинбот // Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. – М., 2000. Гершенкрон А. Рукотворный памятник // Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. – М., 2000. Громбах С.И. Примечания Пушкина к «Евгению Онегину» // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. – М., 1974. – Т. XXXIII. – Вып. 3. Деннис Н. Такую бабочку трудно классифицировать // Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. – М., 2000. Кермоуд Ф. Земблане // Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. – М., 2000. Конквест Р. Набоковский «Евгений Онегин» // Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. – М., 2000. Лотман Ю.М. К структуре диалогического текста в поэмах Пушкина // Пушкинский сборник. – Псков, 1973. Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. – Ленинград, 1980. Макдональд Д. Оцененное мастерство, или Месть доктора Кинбота // Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. – М., 2000. Маккарти М. Гром среди ясного неба // Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. – М., 2000. Набоков В. Пнин. Рассказы. Бледное пламя. – СПб., 1999. Пушкин А.С. Евгений Онегин: Драматические произведения // А.С. Пушкин. Полн. собр. соч.: В 10 т. – 3-е изд. – М., 1964. – Т. 5. Рикс К. Набоковский Пушкин // Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. – М.,2000. Уилсон Э. Странная история с Пушкиным и Набоковым // Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. – М., 2000. Фидлер Л.А. Живучесть Вавилона // Классик без ретуши: Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. – М., 2000. Чумаков Ю.Н. Состав художественного текста «Евгения Онегина» // Пушкин и его современники. – Псков, 1970. Barton Johnson D. Worlds in Regression. Some Novels of Vladimir Nabokov. – New York, 1985. Burgess A. Nabokov Masquerad // Yorkshire Post. – November, 15. – 1962. Burgess A. Pushkin & Kinbote // Encounter. – Vol. 24. – № 5 (May). – 965. 25 Cloyne G. Jesting Footnotes Tell a Story // NYTBR. – May, 27. – 1962. Handley J. To Die in English // Northwest Review. – Vol. 6. – № 3. – 1963. Highet G. To the Sound of Hollow Laughter // Horizon. – Vol. 43. – № 6. – 1962. Meyer P. Find What the Sailor Has Hidden: Vladimir Nabokov’s Pale Fire. – Middletown, 1989. Nabokov V. Aleksandr Pushkin. Eugene Onegin. A Novel in Verse. Translated by Vladimir Nabokov. Paperback Edition in Two Volumes. Volume II. Commentary and Index. – Princeton, 1990. Peden W. Inverted Commentary on Four Cantos // Saturday Review. – Vol. 45. – May, 26. – 1962. Toynbee Ph. Nabokov’s Conundrum // Observer. – November, 11. – 1962. 26 Фоминых Борис Иванович (Россия, Москва; к.ф.н., проф. кафедры общего и русского языкознания Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] Листки чугунника1 Если даже смотреть на убеждения декабристов как на безумие и политический бред, все же справедливость требует сказать, что тот, кто жертвует жизнью за свои убеждения, не может не заслужить уважения соотечественников. Кто кладет свою голову на плаху за свои убеждения, тот истинно любит Отечество. Княгиня М.Н. Волконская В жизни А.С. Пушкина лицейская дружба оставила неизгладимые следы, и среди его друзей был Иван Иванович Пущин, о котором поэт написал: «Мой первый друг, мой друг бесценный», как пишут и думают о первой, незабываемой любви. В одном из писем поэт-декабрист К.Ф. Рылеев заметил: «Кто любит Пущина, тот уж непременно сам редкий человек». Такие люди, как Иван Иванович Пущин, воистину редкие: они ничего не хотят для себя и не умеют бравировать этим. Небывалое хладнокровие и острый ум Пущина сбивали с толку членов Следственного комитета по делам декабристов, обезоруживали тюремщиков в Петропавловской крепости, в Шлиссельбурге, в Сибири; вливали силы в измученных декабристов. 1 Свои письма И. Пущин именует листками; в знак прочности союза лицеистов первого выпуска директор лицея Е.А. Энгельгардт раздал им чугунные кольца, и поэтому И. Пущин перволицеистов называет чугунниками. 27 Тридцать один год провел он в тюрьме, на каторге, в ссылке, а когда воротился, все заметили, что духом он ничуть не постарел, ничем не поступился, ни перед какой бедой не опустил голову, ни на йоту не потерял прежней доброты и остроты ума. Вот почему А.С. Пушкин «судьбу благословил», встретившись с ним в Михайловском, вот почему звал его в свой последний час. О его мужестве свидетельствует то, что во время следствия он не выдал никого из своих товарищей; Верховный уголовный суд отнес его к первому разряду государственных преступников и приговорил к смертной казни отсечением головы: впоследствии Указом всемилостивейше был освобожден от смертной казни, замененной ссылкой в вечные каторжные работы. И на каторге, и в ссылке он вел обширную переписку с родными, прежними петербуржцами и московскими знакомыми, со своими товарищами по ссылке: «Он переписывался со всеми частями Сибири, и когда надо что-нибудь узнать или сделать, то обращаются обыкновенно к нему. Он столько оказывал услуг лицам разного рода, что в Сибири, я думаю, нет человека, который бы не знал Ивана Ивановича хоть по имени», – рассказывал Е.И. Якушин, сын декабриста И.Д. Якушина. И. Пущин хотел, чтобы его товарищи по событиям 14 декабря, разбросанные по глухим углам Сибири, продолжали считать себя единым коллективом, чтобы никто из них не был потерян и забыт. Люди, познавшие тяжесть изгнания, обретали в переписке радость взаимного общения, духовную силу и бодрость. Он писал также родственникам, некоторым друзьям по лицею и директору Е.А. Энгельгардту, которого полюбил еще лицеистом за его ум, знания и с которым у него впоследствии установились дружеские отношения. Переписка для И. Пущина была и формой общественной деятельности и большой потребностью души: «Горе тому и той, кто живет без заботы сердечной, – это просто прозябание!» – заметил он в письме к Н.Д. Фонвизиной. За неусыпное попечение о товарищах Пущина любовно прозвали Маремьяной-старицей согласно пословице «Маремьяна-старица обо всех печалится». И сам он не раз в письмах называл себя этим прозвищем. А когда хлопочет о нуждающихся в помощи, то напишет: «марьянствую несознательно»; в конце письма иногда поставит: «Верный вам Маремьяна-старица». И. Пущин причастен к литературе своими «Записками о Пушкине» – выдающимся мемуарным памятником, созданным после возвращения из Сибири (по настойчивой просьбе Е.И. Якушина) в 1858 г., незадолго до смерти. Эти воспоминания согреты ис28 кренним чувством дружбы к гениальному другу и содержат драгоценный материал для изучения жизни Пушкина в лицее. Но письма И. Пущина также интересный историко-литературный памятник, хотя он однажды заметил в письме к Е.А. Энгельгардту: «Я не писатель и очень строг в этом отношении, особенно к самому себе. Надобно говорить дельно или ничего не говорить – и самый предмет должен быть некоторой особенной занимательности» [Пущин 1927, с. 159]. В то же время, несомненно, его письма являются образцом эпистолярной литературы, которая в то время начинает рассматриваться как историколитературный факт. Есть много свидетельств, говорящих о том, что письма мастеров этого жанра ходили по рукам и читались в литературном кругу не меньше, чем остальные литературные произведения. И, конечно, письма способствовали выработке норм литературного языка, так как разрушали сложившиеся языковые каноны, включали живую разговорную речь, ломали давно устоявшиеся литературные жанры. Не будет преувеличением сказать, что письма, переписка, относящиеся к этому времени, способствовали выработке норм прозы, имели значение в закреплении достижений гибкого литературного языка, «который после Пушкина стал общепринятым языком не только художественной, но и практической речи» [Степанов 1966, с. 93]. Письма И. Пущина – это диалогические монологи со всеми особенностями свободной повествовательной манеры, содержащей особенности речи адресанта. Большинство писем построено по жесткой эпистолярной рамке, содержащей традиционные формулы приветствия и обращения, но они различны, так как непременно учитывают личность адресанта. Письма к друзьям открываются непринужденным обращением: «Любезный друг Евгений, вчера получил добрый твой листок от 7-го августа. Не стану благодарить тебя за снисходительную дружбу ко мне: она нас утешала обоих и будет утешать в разлуке неизбежной»; «Ты удивляешься, друг Оболенский, что до сих пор я не говорю тебе словечка: надеюсь, с полной достоверностью, что ты меня не упрекаешь в чем-нибудь мне не свойственном»; «Спасибо тебе, друг Иван, за отчет обо всех, с кем ты дорогой повидался...»; «Доброе письмо ваше, почтенный мой Иван Дмитриевич, дошло до меня за несколько дней до Нового года, который мы здесь очень грустно встречаем» [Пущин 1927, с. 131–144]. Иное начало в письмах к родным: «Здравствуйте, милые мои, я опять благодарю Бога, нашел возможность писать к вам...»; 29 «Шесть тысяч верст между нами, но я при всех малых ожиданиях на помощь правительства не теряю терпения и иногда даже питаю какие-то надежды»; «Пишу роковое число (13 декабря) и, невольно забывая все окружающее меня, переношусь к вам, милым сердцу моему» [Пущин 1927, с. 124–145]. Или обращение к бывшему директору лицея Энгельгардту: «Вот два года, любезнейший и почтенный друг Егор Антонович, что я в последний раз видел вам, и увы!»; «На дня получил доброе письмо ваше, почтенный, дорогой мой друг Егор Антонович! Оно истинно меня утешило и как будто перенесло к вам, где бывал так счастлив»; «В последних днях прошлого месяца вечно юный ваш Jennot получил доброе июльское письмо старого своего Директора. Почтенный друг Егор Антонович, кажется, вы нарочно медлили отправлением вашей грамотки, чтобы она дошла до меня около того времени, когда чувства имели мои больше обыкновенного с вами и с товарищами первых моих лет. Сердечно благодарю вас за верную ко мне дружбу и не берусь выражать моей признательности; вы меня знаете и не потребуете уверений, которые не передаются бумаге» [Там же, с. 141–161]. Информативная часть писем наполнена повествовательноразговорной интонацией: «Будьте вполне убеждены, что я умею чувствовать вашу дружбу»; «Очень жаль, любезный друг Кюхельбекер, что мое письмо тебя рассердило»; включением бытовой лексики: «Вильгельма на несколько дней заарестую»; «...рано утром пишу тебе эти бредни»; «худо лонись начал мое новоселье»; «Заболтался я с тобою, мой друг»; «И то пора честь знать»; «Все так перепуталось, что аз, грешный, ровно ничего не понимаю»; «...пора нам начинать опять прощаться, хотя горько, но надо благодарить Бога, что и так удалось покалякать, не знаю только, разберете ли вы это маранье» [Там же, с. 154]. Некоторые письма являются монологами-хрониками, представляющими собой образцы функционально-смысловых типов текста: описания, повествования и рассуждения. Так, о своей ялуторовской жизни и жизни маленького сибирского городка в пространном послании к Е.А. Энгельгардту И. Пущин подробно описывает расположение городка, повествует о событиях, которые происходят у ссыльных, рассуждает об экономическом преимуществе Сибири перед Европейской частью Сибири в связи с тем, что в Сибири нет крепостных – «это благо всей Сибири, и такое благо, которое имеет необыкновенно полезное влияние на край и без сомнения подвинет ее вперед от России» [Там же]. 30 Конечно, ценно то, что И. Пущин засвидетельствовал множество фактов из жизни ссыльных декабристов. Ему решительно нельзя отказать в образности, красочности повествования. В посланиях из Туринска И.Д. Якушину рассказывается о трагических событиях семейства Ивашевых. Сначала неожиданная кончина Камиллы, совсем молодой женщины: «Вы представить не можете, как этот жестокий и внезапный удар поразил нас всех. До сих пор не верится, что ее нет с нами; без нее опустел наш малый круг. Эта ранняя потеря набросила ужасную мрачность на все окружающее. 2-го Генваря мы отнесли на кладбище тело той, которая умела жить и умереть с необыкновенным спокойствием, утешая родных и друзей до последней своей минуты. Вы с участием разделите с нами скорбное чувство. Ивашев с покорностью переносит тяжелую потерю» [Пущин 1927, с. 129]. Но через год – кончина самого В.П. Ивашева, который не смог справиться с горем – потерей любимой жены. Описание его ухода – яркая драматическая картина: «Ивашев был спокоен, распорядился насчет службы в кладбищенской церкви к 30-му числу... Отдавши все приказания по дому, пошел перекрестить сонных детей, благословил их в кроватках и отправился наверх спать. Прощаясь с Марьей Петровной, сказал, что у него болит левый бок, но успокоил ее, говоря, что ничего не значит. Между тем, пришедши к себе, послал за доктором и лег в постель. Через полчаса пришел Карл. Тронул его пульс – рука холодная и пульс очень высок. Карл пошел в комнату взять ланцет. Возвращается и видит Ивашева на полу. В минуту его отсутствия Ивашев привстал, спустил с кровати ноги и упал без чувств... Бросают кровь, кровь нейдет. Трут, качают – все бесполезно: Ивашев уже не существует» [Там же, с. 139] – в этом лаконичном описании – сдержанный драматизм и напряженность; переданы тяжелая драма семьи, теряющей отца, беспомощность сирот и старой женщины. В листках-письмах И. Пущина содержится портретная галерея многих декабристов: Е. Оболенского, И. Якушина, М.И. Муравьева-Апостола, А. Ентальцева, И. Тизенгаузена и др. Вот, например, начало повествования о В. Кюхельбекере: «Три дня прогостил у меня оригинал Вильгельм. Проезал на житье в Курган с своей Дросидой Ивановной, двумя крикливыми детьми и с ящиком литературных произведений. Обнял я его с прежним лицейским чувством. Это свидание напомнило мне живо старину: он тот же оригинал, только с проседью в голове. Зачитал меня стихами донельзя; по праву гостеприимства я должен был слушать и 31 вместо критики молчать, щадя постоянно развивающееся авторское самолюбие... Он как-то странно смотрит на самые простые вещи, все просит совета и делает совершенно противное. Напрасно покойник Рылеев принял его в общество» [Пущин 1927, с. 155]. И. Пущин проявляет большое умение выразительно обрисовать человека с его характерными чертами, нравственным обликом, иногда и манерами. Так, глубокая, психологически тонкая характеристика дана Александре Григорьевне Муравьевой, которая, наряду с Е.И. Трубецкой и М.Н. Волконской, в историю России вошла как одна из самых замечательных русских женщин. Все, писавшие об этой женщине, отмечали, что она была воплощением лучших женских качеств: моральной чистоты, душевности, доброты, отзывчивости и самоотвержения. Декабристы, отбывавшие каторгу в Читинском остроге, называли ее «ангеломхранителем». И в письме к сестре А.Г. Муравьевой И. Пущин был искренен: «Тут она явилась мне существом, разрешающим великолепно новую трудную задачу. В делах любви, дружбы она не знала невозможного: все было ей легко, и видеть ее была истинная отрада... Душа крепкая, любящая поддерживала ее слабые силы. В ней было какое-то поэтически возвышенное настроение, хотя в сношениях она была необыкновенно простодушна и естественна... Непринужденная веселость с доброй улыбкой на лице не покидала ее в самые тяжелые минуты первых годов нашего исключительного существования. Она всегда умела успокоить и утешить – придавала бодрость другим... Во цвете лет она нас покинула. Много страдала, но все переносила безропотно». Письмо заканчивается яркой, впечатляющей картиной посещения им могилы А.Г. Муравьевой: «В 1849 г. я был в Петровском; подъезжая к заводу, увидел лампадку, которая в часовне над ее могилой; я помолился на ее могиле... Вот уже слишком 20 лет, что светится память нашей первомученицы! Там ей хорошо!» [Там же, с. 173]. Очень выразительны и краткие характеристики товарищей по борьбе и ссылке: один штрих – и образ оживает: «...помнишь, как в лицее Кюхельбекер Вильгельм танцевал мазурку, и как мы любовались его восторженными движениями» [Там же, с. 165] – ярко представляется рассеянный, несколько нескладный, длинный «Виленька», над которым часто подшучивали его лицейские товарищи. Добродушная шутка вообще довольна часта в отзывах И. Пущина о товарищах. М.И. Муравьев-Апостол провел десять лет в крепостях, после чего был отправлен на поселение в Ялуто32 ровск без отбытия каторги, и Пущин прибегает к сравнению: «Он не был в наших сибирских тюрьмах и потому похож на сочинение, изданное без примечаний, – оно не полно...» [Пущин 1927, с. 192]. С годами в листках проскальзывали нотки печали: то один, то другой из его соратников оканчивал в Сибири свое земное существование: «Кончились страдания бедного нашего Краснокутского» [Там же, с. 171]; «Меня удивил твой вопрос о Барятинском и Швейковском. Один кончил свою жизнь в Тобольске, а другой – в Кургане» [Там же, с. 152]; «Вы спрашиваете меня о кончине нашего бессеребренника Степана Михайловича Семенова. Кончина святая! Несколько времени до того он жаловался, что чувствует какую-то слабость и не может по-прежнему путешествовать...» [Там же, с. 165]. И. Пущин подводит грустный итог: «Вообще мы не на шутку заселяем сибирские кладбища. Редкий год, чтобы не было свежих могил» [Там же, с. 166]. А о себе он неоднократно образно говорит как о часовом, который продолжает оставаться на своем посту: «Видно, не пришла еще пора сходить с часов, хотя караул наш не совсем исправен... Редеют наши ряды, грустно переживать друзей, но часовой не должен сходить со своего поста, пока нет смены» [Там же, с. 144]. Часто письма отличаются большим изяществом стиля. Получив от Е.А. Энгельгардта письмо с литографическим изображением лицея, растроганный И. Пущин отвечал: «Взглянуть на эти знакомые места, вспомнить все, что так живо во мне, – было истинное наслаждение. Часто я всматриваюсь в милый рисунок и мысленно беседую с вами и с теми, которые делили со мной впечатления молодости. Спасибо вам, от души спасибо за счастливую мысль навестить меня этою неожиданностью. Я перелетел к тому счастливому времени, когда начал питать к вам благодатное чувство – оно навсегда останется моим утешением» [Там же, с. 130]. И. Пущин обладал широкими гуманитарными знаниями. Он не только стремился «в просвещении стать с веком наравне (А. Пушкин), но и весьма преуспел в этом. Он, например, хорошо знал русскую и всеобщую историю, откуда черпал образцы и сравнения. Так, свои работы в ялуторовском огороде он называл «цинциннатством», уподобляя себя государственному деятелю Древнего Рима Цинциннату, который, отойдя от государственных дел, жил в деревне и занимался сельским хозяйством. А узнав, что его брат ведет земельную тяжбу, шутливо заметил: «Я в полном смысле Иоанн Безземельный», сопоставив себя с английским 33 королем из династии Плантагенетов, утратившим большую часть континентальных владений. В ссылке И. Пущин всеми способами старался добывать книги, журналы («Современник», «Петербургская газета»), романы, переводил сочинения французского писателя-гуманиста М. Монтеня: «Читаю все, что попадется лучшее, – писал Е.А. Энгельгардту, – друг другу пересылаем книги замечательные, даже имеем те, которые запрещены. Находим дорогу: на ловца зверь бежит» [Пущин 1927, с. 153]. Он был знаком с современным ему литературным движением, читал «Историческое обозрение Сибири» П.А. Соловцова, стихи П.П. Ершова, при посредстве которого в «Современнике» были впервые напечатаны посвященные И. Пущину стихи А. Пушкина – «Мой первый друг», «В альбом Пущину», «Взглянув когда-нибудь...». В Тобольске, Туринске, Ялуторовске А. Пушкин был частой темой воспоминаний и рассказов И. Пущина. Взволнованно, с большой душевной скорбью воспринял на каторге И. Пущин известие о гибели А. Пушкина. По прошествии нескольких лет после этого трагического события из Туринска он писал лицейскому другу И.В. Малиновскому: «Последняя могила Пушкина! Кажется, если бы при мне должна была случиться несчастная его история и если б я был на месте К. Данзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь: я бы нашел средство сохранить поэта – товарища, достояние России» [Там же, с. 133]. Но при мысли о безвременной кончине Пушкина И. Пущин находил утешение в мыслях о том, что «поэт не умирает и что Пушкин... всегда жив... в бессмертных его творениях» [Там же]. На каторге и поселении И. Пущин остался верен декабристским убеждениям. В его письмах нет и тени раскаяния в раз и навсегда избранном пути. А когда он высказывается по поводу политической жизни страны, тогда в письмах ощущается острая сатирическая струя. Ясно проявляется непримиримо-отрицательное отношение к царю: то он называет Николая I ироническифамильярно «Никсом», то «нашим приятелем». Часты у И. Пущина насмешливые выпады, саркастические замечания в адрес власти. Когда шеф жандармов приказал, чтобы декабристы писали свои письма разборчиво и хорошими чернилами, он иронизировал: «Это замечание довольно позднее, но тем не менее оригинально. Вследствие этого я хотел бы написать письмо между двух линеек, как бывало, мы писали дедушке поздравительные письма...» [Там же, с. 163]. Его насмешку вызвала медлительность губернской администрации, когда обстоятельства требовали энергичных и быстрых действий: «На днях 34 сюда приехал акушер Пономарев для прекращения язвы, которая давно кончилась. В этих случаях, как и во многих других, правительство действует по пословице: лучше поздно, чем никогда» [Пущин 1927, с. 150]. Постоянен интерес старого декабриста к новым общественным веяниям, к приходящим в движение новым революционным силам. С неослабным вниманием он следил за революционными событиями 1848 года и горячо отзывался о них в письме к Д. Завалишину: «В Европе необыкновенные события... Ты можешь себе представить, с какою жадностью мы следим за их ходом, опережающим все соображения. Необыкновенно любопытное настает время». Его очень интересовала деятельность кружка петрашевцев, и он старался понять цели, задачи и содержание утопического «комюнизма». И. Пущин глубоко любил Россию и русский народ. Горячее патриотическое чувство живет в его письмах, связанных с драматическими событиями Крымской войны. Он скорбит о трудностях, которые испытывали русские солдаты. С сердечной болью он узнает о тяжелых днях осажденного врагами Севастополя: «Севастополь с ума и сердца не сходит... Сейчас видишь наши сады в крови, покрытые бесчисленными жертвами. Небывалая оборона» [Там же, с. 167]. Даже из сибирской глуши он видит «громадные усилия народа», восхищается мужеством русских солдат и матросов: «Спасибо безответным русакам, что они держатся на славу» [Там же]. Отдавая должное героизму простых воинов, И. Пущин вместе с тем возмущается плохой организацией и бездарностью командования: «Плохо наши правители и командиры действуют. Солдаты и вообще Россия – прелесть!» [Там же, с. 168]. Николаю I декабрист ставит в вину тяжелое положение, в котором оказалась Россия в Крымской войне: «Все-таки ясно одно, что Россию поставили в довольно глупое положение. Кто сидит во главе, тот должен уметь заглядывать вперед, а если слеп, то виноват» [Там же]. В письмах И. Пущина ясно ощущается личность автора. Он вырисовывается как человек, наделенный большой духовной красотой, стойкостью в убеждениях, а его эпистолярный стиль свидетельствует о литературно одаренной языковой личности, что отчетливо проявилось в написании «Записок о Пушкине». Литература Белунова Н.И. Комфорт речевого общения (дружеское письмо) // Русский язык в школе. – 1996. – № 5. 35 Декабристы в воспоминаниях современников. – М., 1988. Друзья Пушкина: Переписка; Воспоминания; Дневники. – М., 1984. – Т. I. Пущин И.И. Записки о Пушкине. Письма. – М.–Л., 1927. Сергеев М.М. Иркутском связанные судьбы. – Иркутск, 1986. Степанов Н. Дружеское письмо начала XIX в. Поэты и прозаики. – М., 1966. Эйдельман Н.Я. Большой Жанно. – М., 1982. 36 Якушева Галина Викторовна (Россия, Москва; д.ф.н., проф. кафедры мировой литературы Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] Пушкин и Гёте об Америке В 1999 году, откликаясь сопоставительным анализом на юбилейную и для российского, и для германского гения (200 и 250 лет со дня рождения соответственно) дату, С.С. Аверинцев в статье «Гёте и Пушкин» писал: «Для характеристики <...> широкого историко-литературного перелома (периода «между ancient regime и капиталистическим развитием Европы XIX в.» [Аверинцев 1999, с. 8]) отметим хотя бы в качестве курьеза, что именно у Гёте и Пушкина, классичнейших из классиков, мы неожиданно встречаем прямо-таки профетический для их времени интерес к феномену американизма и, шире, к капиталистической демократии как проблеме именно антропологической и аксиологической» [Там же, с. 9]. Слова Пушкина из его известной (и единственной на данную тему) статьи «Джон Теннер» существенно корректируют это утверждение: «С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих. Не политические происшествия тому виною: Америка спокойно совершает свое поприще, доныне безопасная и цветущая, сильная миром, упроченным ей географическим ее положением, гордая своими учреждениями. Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными <...>» [Пушкин 1949, с. 798]. Действительно, внимание к Америке не как к новому географическому пространству, но как к территории искомого благоденствия, строящегося по законам Разума, не отягченного грузом порочных традиций и предрассудков Старого Света, пробужденное 37 еще в XVII в. «американской мечтой» гонимых английских пуритан, к началу XIX в. вследствие разочарования в возможности адекватной реализации в Европе просветительских идеалов «свободы, равенства и братства» достигло своего первого исторического апогея. Европейская иммиграция в США в XVIII в. «хлынула потоком», ибо в представлении многих новая страна являла собой фактическое воплощение «Утопии» Томаса Мора ([Литературная история... 1977, с. 29] и др.), интерес к Америке в то время носил отнюдь не «курьезный», то есть неожиданно-случайный и почти забавный, но вполне серьезный, обоснованный и систематический характер, имея при этом широкую антропологическую и аксиологическую (то есть этико-гуманитарную, а не прагматическую) направленность. Убедительным доказательством тому служит Гёте, безусловно, принадлежащий к числу тех «людей наиболее мыслящих», о которых в связи с интересом к Штатам говорил Пушкин. Америка была одной из сквозных тем гётевских размышлений и трудов – и чаще всего в полемически-поучительном соотнесении с иерархически-сословной Европой. Во 2-м издании (1787) ранней гётевской комедии «Совиновники» (1769) упоминается о стремлении молодых немцев немедленно отправиться за океан, чтобы помочь 13 английским колониям в Войне за независимость от Великобритании (1775–1783). В устах отрицательных персонажей это звучит так: «<...> Не довелось ли вам / Слыхать про новую, как говорится, моду: / Спешат в Америку, чтоб защищать свободу, / Зеленые концы и всякий прочий сброд <...> Ну, как же не слыхать? В пивных, как захмелеют, / Кричат, что головы своей не пожалеют. / Свобода или смерть! Гляди, какой порыв! <...>» ([Гёте 1975–1980, т. 5, с. 9–10]; пер. Н. Грицковой). Вспоминая об этом времени в мемуарах «Поэзия и правда из моей жизни» (1811–1832), Гёте писал: «Пожелания счастья американцам были у всех на устах; имена Франклина и Вашингтона яркими звездами засияли на политическом и военном небосводе» ([Гёте 1975–1980, т. 3, с. 597]; пер. Н. Ман). В 1790-е годы Гëте, свидетель горячих французских событий, видел в освободительной войне Северной Америки тот всегда ему милый серединный «третий путь», который избегал крайностей и беспощадного революционного взрыва, и окостенения консерватизма. Уже в первом программном воспитательном романе «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795–1796) выведен образ Лотарио – благородного реформатора-дворянина, который вместе с группой французов славно сражался под знаменами США, чтобы затем на своей родине словом и примером добиваться освобожде38 ния крестьян, равенства прав и обязанностей всего населения, невзирая на сословия, и таким образом ненасильственно преодолеть пороки феодализма. С тех же 90-х гг. Гëте охотно принимает в Веймаре и Йене эмигрантов и путешественников из США, особенно частых с 1816 г. Среди них – филолог-классик Эдвард Эверетт (Everett), издатель «Северо-Американского обозрения» («North American Review») и в будущем президент Гарвардского университета, специалист по романской филологии Георг Тикнор (Ticknor). Близко знакомится Гëте с Южной Америкой благодаря Александру Гумбольдту, который, переписываясь с поэтом с 1795 г., подробно передавал ему впечатления от своих эпохальных научных экспедиций на южно-американский континент в 1799–1804 гг. (кстати, первая и самая большая часть труда А. Гумбольдта «Идеи к географии растений вместе с естественными картинами тропических стран», 1807, была посвящена Гëте). В 1827 г. Гёте пишет часто цитируемое за рубежом, но мало известное в России (разве что по переводу Всеволода Рождественского от 1932 года) краткое поэтическое послание «Соединенным Штатам» («Den Vereinigten Staaten», опубл. в 1830), чей текст привожу в своей стихотворной интерпретации1: 1 Подстрочник «американского» послания, предложенный С.С. Аверинцевым, звучит так: «Америка, тебе приходится лучше, чем нашему ветхому континенту: у тебя нет ни развалившихся замков, ни базальта. Твоего нутра не терзает посреди живой современности ненужное воспоминание и бесполезная распря. Так воспользуйся везением, и когда твои дети сочинительствуют, Боже их сохрани от [романтических!] историй про рыцарей, про разбойников, про привидения» [Аверинцев 1999, с. 9]. Пер. В. А. Рождественского. К Соединенным Штатам Америка! В тебе привольней Всем дышится, чем в Старом свете. Ни замков нет, ни колоколен – Базальта столетий. Чужда ты волнений, И не видит твой взор Тщеты сожалений И ненужных нам ссор. Используй настоящий срок! Детей же, в опытах писаний, – Пусть охранит их добрый рок От рыцарско-кладбищенско-разбойничьих сказаний. 39 О, Америка, как счастлив Жребий твой в сравненьи с нашим! Нет ни древнего базальта, Ни руин старинных башен, И ничто в кипенье жизни Не смутит внезапно душу О былых боях и тризнах Сожалением ненужным... Так твори, не зная рамок, Твой поэт – свободный гений. Но храни вас Бог от замков, И мечей, и привидений! Во втором воспитательном романе, продолжающем первый, «Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся» (1829) активно разрабатывается мотив переселения бедняков и членов товарищества ремесленных и сельскохозяйственных рабочих Германии в Америку, который вполне соотносим с фаустовской идеей прогресса как вечного движения, ведущего к благим преобразованиям стремления-блуждания (Bestrebung-WanderungWandlung) человека, способного отринуть изжившее себя прошлое, преодолеть самоспасительное тяготение к неизменному и осваивать новые пространства – и в буквальном, и в фигуральном смысле. Симптоматично стихотворное окончание 9-й главы 3-й книги романа, посвященной планам массового переселения в Америку: В землю ты не врос корнями! В путь-дорогу! В добрый час! Если ум и сила с нами, Будет всюду кров для нас. Лишь бы только солнце грело, А о прочем нет тревог, Мы кочуем без предела, – Для того и мир широк! ([Гёте 1975–1980, т. 8, с. 341]; здесь и ниже пер. С. Ошерова). И еще более симптоматично, прямо отсылая нас к Фаустусозидателю, обращение вождя и идеолога переселения Ленардо к собравшемуся простому люду: «...как ни ценно то, чем владеет человек, но то, что он делает и создает, должно ценить еще выше... Так поспешим на берег моря, чтобы воочию убедиться в безграничности просторов, открытых для нашей деятельности... 40 Здесь и сейчас должны мы, позабыв недовольство и досаду, дать волю живущей в нас подвижности и не подавлять нетерпеливую охоту к перемене мест ...Где я принесу пользу, там и родина... все, что молодо, немедленно движется в путь...» [Гёте 1975–1980, т. 8, с. 335–337]. В 12-й главе 3-й книги «Годов странствий» восхваление труда как единственно достойного способа человеческого существования и достижения цели человеческих «стремлений» и «блужданий» (что осознает и прозревший отпрыск старинного рода Одоард, раздающий для массового пения листок с такими словами: «Всяк, умеющий трудиться, / Плыть ли, нет ли – выбирай! / Там, где труд наш пригодится, / Там и будет милый край...» [Там же, с. 359]), сообщает просветительскому демократизму Гëте, с его неизменным культом работящего и потому креативного «третьего» сословия, особый характер: ориентацию на патриархальную средневековую ремесленную общину по причине ее этической доброкачественности, гуманного коллективизма («...жить в обществе – высшая потребность всякого, кто на что-то годен» [Там же, с. 340]), но при этом отклонение антицивилизационных и потому ретроградных, противных универсальному принципу движения призывов «назад к природе» безоговорочного апологета «естественности» Руссо (Одоард, одна из модификаций столь значимого для Гёте героя фаустовского типа, заявляет: «...для людей решительных не так уж трудно постепенно отнять у нее (природы. – Г.Я.) эти пустыни и участок за участком забрать их в свое владение...» [Там же, с. 355]). Здесь Гëте вплотную подводит нас к проблеме, чуть позже приобретшей отчетливую остроту во 2-й части «Фауста» (1831) и ставшей едва ли не самой больной и трудноразрешимой задачей новейших времен – сохранения личностно-индивидуального, неповторимо-значительного и творческого в человеке в ситуации победного наступления обездушивающей и нивелирующей технической цивилизации, этого не только неизбежного и необходимого, но и опасного продукта функционирования человеческого разума. В тех же «Годах странствий» Добрая и Прекрасная ткачиха Сусанна – одна из проводников гëтевских идей – восклицает: «Машина побеждает ручной станок! Опасность надвигается медленно, как туча, но уж, если дело повернулось в эту сторону, она придет и настигнет нас» [Там же, с. 373], и: «Есть только два пути, и оба тяжки: самим обратиться к новому и ускорить общее разрушение либо сняться с места и искать счастья за морем...» [Там же, с. 374]. Предпочтение, как известно, отдается второму, 41 «плавному» (в смысле и процесса и способа – звучит почти каламбуром) пути. Однако и в воспитательном романе, и в знаменитой трагедии немецкий гений не дает убедительного (в том числе для самого себя) ответа на вызов прогресса. В «Фаусте» благоденствие многих ценою гибели двух невинных жизней, кротких мифологических старцев Филемона и Бавкиды, «агнцев» почти ритуального по глубинному смыслу заклания, оказывается иллюзорным: для оптимистических толкователей гётевского замысла – отодвинутым в далекое будущее, для пессимистических – в принципе невозможным [Якушева 2005, с. 13–54]. В «Годах странствий» та Америка, в которую собираются гетевские переселенцы, представляет собой также лишь умозрительный проект великого автора, мечтающего на новой земле, «с чистого листа» построить общество просвещенное, – но не испорченное цивилизацией, сохраняющее полнокровность близкого к искусству ремесленного труда – но в то же время открытое научно-техническому поиску, оберегающее суверенитет каждой личности – но при этом требующее от нее преодолевать свой эгоизм во имя общего блага. Изложенные одним из гётевских персонажей, «весельчаком Фридрихом», способы решения этой проблемы путем создания социума, рядом черт напоминающего не столько патриархальную цеховую общину, сколько тоталитарное государство («В каждом округе должно быть по три начальника полиции, которые посменно чередуются через каждые восемь часов <...> Мы не потерпим у себя ни кабаков, где торгуют водкой, ни библиотек, где выдают книги <...> Христианство предлагает нам в помощь самое отрадное <...> Потому мы и не терпим в нашей среде евреев <...>» [Гёте 1975–1980, т. 8, с. 353–354, 352]), заставляют многих исследователей усмотреть в подобной картине американского благоденствия следы критического (или иронико-критического) отношения Гëте к заокеанскому Эльдорадо (см. подр.: [Bahr 2004, S. 225–231]) – в противовес более раннему, однозначно позитивному настрою, которым отмечено упоминавшееся послание «Соединенным Штатам». Русская же критическая мысль устами «почвенника» Аполлона Григорьева оценила эту своеобразную гётевскую утопию как апофеоз филистерства, которое «игнорирует действительность, т.е. говоря попросту, не хочет знать ее, а с другой стороны, дилетантски наслаждается действительностью, знает толк, вкус, смак в ней», и провела резкую разграничительную линию между гетевским Фаустом, «умственным гигантом», который, выходя из 42 «мыслительной» «жизни внутреннего мира <...> в жизнь деятельную», сталкивается с «трагической стороной этого выхода», и оттого «Фауст – Германия, и Гёте в нем – германец», и Мейстером, который, выходя таким же путем из внутренней жизни «сладко мечтательной», есть не германец, а «немец, т.е. <...> с головы до ног филистер <...>» (Григорьев А.А. Статья лорда Джеффри о Вильгельме Мейстере // Москвитянин. – 1854. – Т. 2. – № 8. – Кн. 2. Отд. V. – С. 175–176; цит. по: [Жирмунский 1981, с. 319–320]). Не случайно, продолжает Григорьев, Фауста «смерть застает в минуту деланья», ибо – «Куда бы он (Гёте. – Г.Я.) повел своего героя? В жизнь, в практическую деятельность? Да где ж они? В жизни немецкой Фауст – Мейстер <...> Жизнь в туманном мистическом бреду, посреди каких-то полупомешанных господ, которые <...> много рассуждая о высших целях деятельности, никакой деятельности не показывают и не дают <...>» (Григорьев А.А. Указ. соч., с. 176; цит. по: [Жирмунский 1981, с. 319–320]). Противоречивость Гёте – создателя, по Григорьеву, одновременно и «великого и бессмертного», и «разного балласту и разных пустяков», отмеченная в таком же стилистическом ключе В.Г. Белинским («Гёте был столько же немец, сколько и германец, тогда как Шиллер, например, был только германец – прямой потомок Арминиев» [Белинский 1953–1959, с. 62]), была как хрестоматийная данность широко известна в советские времена благодаря характеристике Ф. Энгельса: «<...> Гёте то колоссально велик, то мелок; то это непокорный, насмешливый, презирающий мир гений, то осторожный <...> филистер», – по причине невозможности приложить свой темперамент, энергию и стремления к окружающей практической жизни, которая была жалка» [Маркс, Энгельс 1955–1973, с. 233]. И эта противоречивость, неизменно связываемая с объективными причинами–особенностями национального менталитета и национальной истории, – проецируется и на пушкинское обращение к Новому Свету, столь много обещавшему неутомимым искателям утопии. Продолжим прерванную цитату из статьи «Джон Теннер»: «<...> Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую, подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей 43 алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой, – такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами» [Пушкин 1949, с. 798]. Выставлена же была эта картина в «Записках» Джона Теннера (ок. 1780–1847) – потомка английских переселенцев, похищенного в 9-летнем возрасте индейцами и прожившего среди них почти 30 лет, – впервые изданных, в передаче со слов неграмотного автора журналистом Э. Джеймсом, в 1830 г. в Нью-Йорке, прочитанных Пушкиным в переводном парижском издании 1835 г. и осмысленных русским гением в цитируемой статье, опубликованной в 1836 г. в «Современнике» за подписью The Reviewer, в духе широко известного в свое время острокритического труда французского историка и политического деятеля Алексиса Токвиля «О демократии в Америке» (1835, рус. пер. 1897), сохранившегося в библиотеке поэта. Первый вектор этого осмысления – сочувственное осознание и резкое неприятие жестокости обращения с аборигенами просвещенных колонизаторов из Старого Света: «Отношения Штатов к индийским (индейским. – Г.Я.) племенам, древним владельцам земли, ныне заселенной европейскими выходцами, подверглись также строгому разбору новых наблюдателей. Явная несправедливость, ябеда (в смысле несправедливых законов. – Г.Я.) и бесчеловечие Американского Конгресса осуждены с негодованием <...>» [Там же]. При этом Пушкин отнюдь не ратует за неприкосновенность первозданного мира природы, еще более решительно, чем Гёте, полемизируя с Ж.-Ж. Руссо: «<...> так или иначе, через меч и огонь, или от рома и ябеды, или средствами более нравственными, но дикость должна исчезнуть при приближении цивилизации. Таков неизбежный закон. Остатки древних обитателей Америки скоро совершенно истребятся; и пространные степи, необозримые реки, на которых сетьми и стрелами добывали они себе пищу, обратятся в обработанные поля, усеянные деревнями, и в торговые гавани, где задымятся пироскафы и разовьется флаг американский <...>» [Там же]. Однако принципиальный для Пушкина вопрос – это как раз вопрос о средствах приобщения к цивилизации и о нравственной, а не только «технологической» – с точки зрения налаживания «комфорта» – удобства существования, – пользе ее, должной знаменовать более высокую, по сравнению с ранней, более уважительную и гуманную стадию человеческого взаимодействия. 44 С этих позиций Пушкин не находит в «Записках» Теннера ничего, могущего вызвать благодарность дикарей своим завоевателям (в напрашивающемся контрасте с «Песней о Гайавате» Генри Лонгфелло, двумя десятилетиями позднее, в 1855 г., устами индейского старейшины приветствующего деятельных пришельцев как зачинателей новой, кипучей и радостной жизни местных племен). Он говорит о том, как с великими трудами и опасностями индейцы добывают и заготавливают бобровые меха, буйволовые кожи и прочее, «дабы продать и выменять их купцам американским. Но редко получают они выгоду в торговых своих оборотах: купцы обыкновенно пользуются их простотою и склонностию к крепким напиткам. Выменяв часть товаров на ром и водку, бедные индийцы отдают и остальные за бесценок; за продолжительным пьянством следует голод и нищета, и несчастные дикари принуждены вскоре опять обратиться к скудной и бедственной своей промышленности <...>» [Пушкин 1949, с. 802]. Далее Пушкин приводит рассказ Теннера об одной из типичных пьяных оргий туземцев после подобной «удачной» сделки с европейцами, доводящей сынов природы не только до «совершенного бесчувствия», но и воровства у своих товарищей, завершая повествование словами: «Оставляем читателя судить, какое улучшение в нравах дикарей приносит соприкосновение цивилизации!» [Там же]. Окончательный приговор качественности продукта такого взаимодействия детей цивилизации и природы Пушкин произносит в иронической концовке рецензии: «Ныне Джон Теннер живет между образованными своими соотечественниками. Он в тяжбе со своею мачехою о нескольких неграх, оставленных ему по наследству. Он очень выгодно продал свои любопытные “Записки” и на-днях будет, вероятно, членом Общества Воздержности (<...> коего цель – истребление пьянства <...> Издатель. – Примеч. Пушкина. – Г.Я.). Словом, есть надежда, что Теннер со временем сделается настоящим jankee (янки), с чем и поздравляем его от искреннего сердца» [Там же, с. 808–809]. Тем не менее Пушкин продолжает развивать в статье о Теннере не только мотив опасного воздействия цивилизации на человеческие нравы, столь явно отсылающий нас к первому из знаменитых трактатов Ж.-Ж. Руссо («Рассуждение о науках и искусствах», 1750), но и антируссоистскую концепцию «деидеализации» первобытности, приметы чего мы найдем уже в романтической пушкинской поэме «Цыганы» (1824): с одной стороны, образ Алеко («Ты для себя лишь хочешь воли <...> Ты зол и смел – оставь же нас <...>»), с другой стороны – «Но счастья нет и между вами, / 45 Природы бедные сыны!.. / И под издранными шатрами живут мучительные сны. / И ваши сени кочевые / В пустынях не спаслись от бед, / И всюду страсти роковые, / И от судеб защиты нет». В рассматриваемой статье Пушкина говорится: «Нравы северо-американских дикарей знакомы нам по описанию знаменитых романистов. Но Шатобриан и Купер оба представили нам индийцев с их поэтической стороны и закрасили истину красками своего воображения. “Дикари, выставленные в романах”, пишет Вашингтон Ирвинг, “так же похожи на настоящих дикарей, как идиллические пастухи на пастухов обыкновенных”. Это самое подозревали и читатели; и недоверчивость к словам заманчивых повествователей уменьшала удовольствие, доставляемое их блестящими произведениями» [Пушкин 1949, с. 798]. Следуя законам объективного (реалистического) взгляда на проблему и добросовестно извлекая из «Записок» Теннера, особенно дорогих ему «отсутствием всякого искусства и смиренной простотой» – порукой достоверности, самые разнообразные сюжеты, в том числе свидетельствующие и о трудолюбии, неприхотливости и отваге, и о милосердии и гуманности индейцев, русский поэт все же приходит к выводу, что «“Записки” Теннера представляют живую и грустную картину. В них есть какое-то однообразие, какаято сонная бессвязность и отсутствие мысли <...> Это длинная повесть о застреленных зверях, о метелях, о голодных, дальних шествиях, об охотниках, замерзших на пути, о скотских оргиях, о ссорах, о вражде, о жизни бедной и трудной, о нуждах, непонятных для чад образованности» [Там же, с. 800]. «Легкомысленность, невоздержность, лукавство и жестокость – главные пороки диких американцев. Убийство между ними не почитается преступлением» [Там же, с. 802]. Оставляя в стороне оценку научной адекватности этих суждений (ведь в Америке жили самые разнообразные племена с различными этнокультурными особенностями и психологическими нюансами), обращаем внимание на то, что Пушкин сконцентрировался на глобальных и, в историческом плане, стратегически важных проблемах, поднятых в «Записках»: «Летописи племен безграмотных, они разливают истинный свет на то, что некоторые философы называют естественным состоянием человека; показания простодушные и бесстрастные, они наконец будут свидетельствовать перед светом о средствах, которые Американские Штаты употребляли в XIX столетии к распространению своего владычества и христианской цивилизации» [Там же, с. 798]. Заметим, что Гёте нигде не поднимает вопроса ни о бедах коренного населения Америки, ни о рабстве негров, – но это, разу46 меется, отнюдь не свидетельствует о его высокомерном безразличии к «низшим» расам или враждебности к ним (как, например, можно истолковать «антиеврейский» выпад в «Годах странствий Вильгельма Мейстера»). Мы усматриваем здесь – в полемике с уважаемыми мэтрами, сравнительно недавно ушедшим от нас С.С. Аверинцевым, провозглашавшим романтический характер финальных аккордов творчества Гёте, в том числе «Годов странствий» и «Фауста» [Аверинцев 1999, с. 12], и ныне здравствующим в Петербурге Р.Ю. Данилевским, находящим главную разницу между Гёте и Пушкиным в том, что у первого, в отличие от второго, «человек прежде всего “встроен” в Природу», а не в «Историю» [Данилевский 1999, с. 20], – как раз проявление вполне исторически обусловленного и принципиально антиромантического, просветительского мировосприятия, характеризующегося известным рационализмом, дедуктивностью и абстрактностью мышления, оперирующего прежде всего понятиями, родами и обобщениями, идущего от теории к практике, от плана к его осуществлению, от схемы к реальности – и потому по определению чреватого заблуждениями огрубляющей прямолинейности. Таковы были, на наш взгляд, и заблуждения схематично-прямолиней ной классовой дифференциации («всякий фабрикант – подлец, каждый пролетарий – движитель прогресса») при попытке реализации благородных неопросветительских мечтаний в советской стране. С этой же точки зрения следует рассматривать и странную «мейстеровскую» утопию Гёте: полиция должна была взять на себя функции кантовского «категорического императива» – регулятора и «воспитателя» совести (Гёте, как, кстати, и Кант, больше верил в чувство долга у человека, чем в его природный альтруизм), а евреи (к которым – и в личном общении, и в оценке еврейской культуры начиная с Ветхого Завета и до близких ему дней апологет пантеизма Б. Спинозы Гёте относился с неизменным уважением (см. подр.: [Hartung 2004]) изгонялись из будущего «общества равных» из-за их пресловутой пассионарности, «антикоммунного» стремления получить большее сверх необходимого (обобщенно-родовая характеристика просветительского типа). Так великий Гёте вольно или невольно проявил себя недальновидным филистером, отражая здесь, в качестве мощнейшего воплотителя духа нации, ограниченно-мещанский, «бюргерский», регламентируемый протестантской этикой умеренности исторический опыт своей сравнительно небольшой и практически никогда не несшей никаких «имперских», объединяющих, конгломерирующих функций страны. 47 Иное дело – Пушкин. За ним стояла необъятная многонациональная Россия, в которой откликом поэта должен был стать «всяк сущий в ней язык». За ним стоял огромный, многослойный и многоукладный исторический опыт, помогший русскому гению предвосхитить опасности безграничного либерализма, насильственного внедрения «цивилизации» и демократии, о подводные рифы которой в 30-е годы споткнулась Германия, которая не случайно с горечью отождествлена в трудах многих философов, культурологов и писателей (Ф. Ницше, О. Шпенглер, Х. Ортега-иГассет, Т. Адорно, Н. Бердяев, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Р. Брэдбери) со стандартизующим, нивелирующим и унижающим людей «массовым обществом» и диктат который с болью ощущает не одна сегодняшняя страна, в том числе и Россия. Обо всем этом предупреждал самый мощный воплотитель всепреемлющего русского национального духа, мечтавший об истинном равенстве в мире того грядущего времени, «когда народы, распри позабыв, в великую семью объединятся». Литература Аверинцев С.С. Гёте и Пушкин // Гётевские чтения / Под ред. С.В. Тураева. – М., 1999. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. – М., 1953–1959. – Т. 6. Гёте И.В. Собрание соч.: В 10 т. / Под ред. А. Аникста и Н. Вильмонта. – М., 1975–1980. Данилевский Р.Ю. Миссия гения (Пушкин и Гёте) // Русская литература. – 1999. – № 3. Жирмунский В.М. Гёте в русской литературе. – Л., 1981. Литературная история Соединенных Штатов Америки / Под ред. Р. Спиллера и др. / Пер. с англ. – М., 1977. – Т. 1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: В 39 т. – 2-е изд. – М., 1955–1973. – Т. 4. Пушкин А.С. Сочинения / Ред. и коммент. М.А. Цявловского и С.М. Петрова. – М., 1949. Якушева Г.В. Фауст в искушениях XX века: Гётевский образ в русской и зарубежной литературе. – М., 2005. Bahr E. Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden // GoetheHandbuch / Hrsg. v. B. Witte u. a. – Stuttgart; Weimar, 2004. – B. 3. Hartung G. Judentum // Goethe-Handbuch / Hrsg. v. B. Witte u. a. – Stuttgart; Weimar, 2004. – B. 4/1. 48 Секция 1. А.С. ПУШКИН И СОВРЕМЕННЫЙ МИР 49 50 Бекасова Елена Николаевна (Россия, Оренбург; д.ф.н., проф. кафедры языкознания и методики преподавания русского языка Оренбургского государственного университета) [email protected] «Прелесть древней летописи» Исполнен долг, завещанный от бога Мне, грешному. Недаром многих лет Свидетелем господь меня поставил И книжному искусству вразумил... А.С. Пушкин [1993, с. 428] Исполняется 900 лет со времени создания выдающегося древнерусского памятника – «Повести временных лет», летописного свода, описывающего мировую и русскую историю до 1113 г. С момента своего создания се повести временьных лет открывает любую русскую летопись, а ее автор и составитель летописец Нестор за свое книжное подвижничество почитается как святой. «Величайшее произведение русской исторической мысли XII в. и русской литературы одновременно» [Лихачев 1996, с. 352] «в своем неуклонном движении от прошлого к настоящему несло в себе широкое осмысление политической действительности своего времени» [Там же, с. 71], захватывая, втягивая и наполняя последующие местные, областные, а затем и общерусские летописи. «Повесть временных лет» сама становится «исходищем мудрости» и сопровождает общественную, политическую и культурную жизнь вплоть до Петра I, который не только, как и все предшествующие правители государства русского, воспитывался на летописях, но и первым начал собирание летописей и потребовал их издания. Н.М. Карамзин высоко оценивал «первые опыты наших предков в искусстве грамоты» [Карамзин 1993, с. 6]: «Не надобно 51 быть русским: надобно только мыслить, чтобы с любопытством читать предания народа, который смелостию и мужеством снискал господство над девятою частью мира, открыл страны, дотоле неизвестные, внеся их в общую систему географии, истории, и просветил Божественною Верою, без насилия, без злодейств, употребленных другими ревнителями христианства в Европе и Америке, но единственно примером лучшего» [Карамзин 1993, с. 7]. Однако такой величественный и насквозь пронизанный достоинством и любовью к русской земле и значимый на протяжении многих веков памятник, естественно, становится объектом дискредитации и фальсификации. Бесспорно, проблема достоверности является важнейшей в оценке исторического произведения, и русское летописание в этом плане не представляет исключение. Причиной отклонения от фактической реальности могли быть и легендарная составляющая летописи, и сказания седой старины, и свидетельства очевидцев великих событий, передающих свое, нередко субъективное представление, и давление современного момента, и преобразования в политической и общественной жизни, и каноническая истинность средневекового источника, небесспорного с современной точки зрения, и великая граница, отсекающая языческое прошлое от христианского просвещения и книжности... Но к летописной реальности неприменима известная сентенция Сервантеса об историках, которых надобно вешать на площади как фальшивомонетчиков, хотя и наивно думать, что летописные тексты и их своды не подвергались определенной правке политического, общественного, религиозного толка – владение историей всегда было владением мира. Но кропотливый труд летописцев и их редактирование текста не имело ничего общего с размахом подчисток, замалчиваний и искажений, каких достигли впоследствии «фальшивоисторики», отзываясь на запросы власть предержащих и звонкую монету. К летописцу можно с полным правом отнести восприятие великих людей А.С. Пушкиным, защищавшим их величие и достоинство от толпы, которая «в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего» [Пушкин 1941, с. 524]. А.С. Пушкин не только читал «старые наши летописи» [Пушкин 1994, с. 215], но и выступал в роли летописца в «Родословной моего героя», «Истории села Горюхина» и великих в своей простоте записках Петра Гринева. В «Истории Пугачева» А.С. Пушкин использует материалы П.И. Рычкова об осаде Оренбурга и публикует его летопись в приложении к своему историческому труду, при этом разыскивая различные ее рукописные списки 52 и отслеживая разночтения [Бекасова 2012]. Все это позволяло А.С. Пушкину в полной мере оценить «Историю государства Российского» – великий труд Н.М. Карамзина, «первого нашего историка и последнего летописца» [Пушкин 1994, с. 191]. А.С. Пушкин подчеркивал «целых 12 лет жизни безмолвных и неутомимых трудов» – занятия «историка историей, а не чем-то другим» типа «блестящей гипотезы о происхождении славян»: «История государства Российского» есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека» [Там же, с. 93]. От древних летописцев в наследие Н.М. Карамзину достались «добросовестный рассказ» и «краски» – «нравственные его размышления, своею иноческою простотою, дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи» [Там же, с. 191]. Раздумья над летописным повествованием приводят А.С. Пушкина к утверждению, что «ценой истории» являются «действия и характеры» [Там же, с. 148]. Отвергая укоренившееся в обществе «невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частые поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему» [Там же, с. 327], А.С. Пушкин уверен, что «уважение к именам, освященным славою, не есть подлость, но первый признак ума просвещенного» [Там же, с. 191]: «Образованный француз иль англичанин дорожит строкою старого летописца, в которой упомянуто имя его предка, честного рыцаря, падшего в такой-то битве или в таком-то году возвратившегося из Палестины... Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим. И у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездою двоюродного дядюшки, чем историей своего дома, т.е. историей своего отечества» [Там же, с. 215]. Для А.С. Пушкина мысль об историческом достоинстве была не только гражданской, но и щемяще личной: «В одной из газет (почти официальной) сказано, что прадед мой Абрам Петрович Ганнибал <...> был куплен шкипером за бутылку рому. Прадед мой если был куплен, то, вероятно, дешево, но достался он шкиперу, коего имя всякий русский произносит с уважением и не всуе. Простительно выходцу не любить ни русских, ни России, ни истории ее, ни славы ее. Но не похвально ему за русскую ласку марать грязью священные страницы наших рукописей, поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, издеваться над гробами праотцов» [Там же, с. 214]. «Священные страницы наших рукописей» написаны великими летописцами. В «Заметках по русской истории» А.С. Пушкин 53 отмечает, что «греческое исповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер» [Пушкин 1994, с. 417]. Проводя параллели между римско-католической верой, где духовенство во главе с папой «составляло особое общество, независимое от гражданских законов, и вечно полагало суеверные преграды просвещению», А.С. Пушкин утверждает благотворное влияние русского духовенства, огражденного святыней религии и всегда бывшего посредником между народом и государем: «мы обязаны монахам нашей историею, следственно и просвещением» [Там же, с. 417–418]. Таким образом, по А.С. Пушкину, отличия двух ветвей христианства заключались не в конфессиональных моментах («величайший духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство [Там же, с. 196]), а в разном отношении к просвещению народа: православие в отличие от католичества изначально зиждилось не на чужом – латыни, а на понятном верующим языке, на котором писалась и творилась история. Так постепенно создается незабываемый образ Летописца. Ф.М. Достоевский в своем знаменитом очерке «Пушкин» к несомненным достоинствам «чрезвычайного явления и пророческого» причисляет создание «типа русского инока-летописца», о котором «можно было бы написать целую книгу, чтоб указать всю важность и все значение для нас этого величавого русского образа, отысканного Пушкиным в русской земле, им выведенного, им извлеченного, им изваянного и поставленного пред нами теперь уже навеки в бесспорной, смиренной величавой духовной красоте своей, как свидетельство того мощного духа народной жизни, который может выделять образы такой неоспоримой правды» [Достоевский 1958, с. 453]. Гениальное провиденье Поэта предоставляет нам возможность всмотреться в образ русского летописца, который свой «труд усердный, безымянный» считает исполненьем «долга, завещанным от бога Мне, грешному» – «Недаром многих лет Свидетелем господь меня поставил И книжному искусству вразумил» [Пушкин 1993, с. 428]. Полное отсутствие личных амбиций, минимальный индивидуализм и восприятие летописания как боговдохновенного дела определяют ответственность летописца прежде всего перед своими потомками – «монахом трудолюбивым», который, «пыль веков от хартий отряхнув, Правдивые сказанья перепишет, Да ведают потомки православных Земли родной минувшую судьбу, Своих царей великих поминают, За их труды, за славу, за добро – А за грехи, за темные деянья Спасителя смиренно умоляют». Он и своим саном («Тогда уж и меня Сподо54 бил бог уразуметь ничтожность Мирских сует» [Пушкин 1993, с. 431]), и знаньем, и восприятием мира поднят над мелочностью сиюминутных страстей: «Минувшее проходит предо мною – давно ль оно неслось, событий полно. Волнуяся как море-окиян? Теперь оно безмолвно и спокойно» [Там же], отсюда его привлекательность даже для Гришки Отрепьева, дерзнувшего выстроить свою историю: «Как я люблю его спокойный вид, Когда, душой в минувшем погруженный, Он летопись свою ведет... Ни на челе высоком, ни во взорах нельзя прочесть его сокрытых дум; Все тот же вид смиренный, величавый...» [Там же, с. 429]. Для А.С. Пушкина не стоит вопрос о достоверности «старинных наших летописей» [Пушкин 1994, с. 237], поскольку он полностью согласен с мнением Н.М. Карамзина, который считал, что «история не терпит вымыслов, изображая что есть или было, а не что быть могло. Но история, говорят, наполнена ложью: скажем лучше, что в ней, как в деле человеческом, бывает примесь лжи, однако ж характер истины всегда более или менее сохраняется; сего довольно для нас, чтобы составить себе общее понятие о людях и деяниях» [Карамзин 1993, с. 9]. А.С. Пушкин, ссылаясь Н.М. Карамзина, подчеркивает, что именно в дееписании мужей и заключена мудрость летописи [Пушкин 1994, с. 191]. Сомневаться в проницательности А.С. Пушкина невозможно: объективность летописца, поддерживаемая стыдом и совестью, направляемая Богом, была самой высокой пробы, что зримо было подтверждено образом отца Пимена, который в русском сознании слился и с личностью великого Нестора, и многих других именованных и безымянных книжников, просветивших грамотой не только свой ум, но и землю Русскую. Следует добавить, что нравственная ответственность летописца перед Временем, Русской землей и Богом была чрезвычайно высокой и важнее истории как голого факта – «описывай не мудрствуя лукаво Все то, чему свидетель в жизни будешь: Войну и мир, управу государей, Угодников святые чудеса, Пророчества и знаменья небесны» [Пушкин 1993, с. 432–433]. Летописец писал «священную книгу народов», а «народ с жадностью внимал сказаниям летописцев» [Карамзин 1993, с. 6] – и летопись сама творила историю. Обретаемая мудрость в бесконечном – «да ведают потомки» великие и «темные» (в том числе и скрытые завесой времени) деянья – для летописца подчинялась главному – жизнь движется не ничтожностью мирской суеты, а великими событиями и мужами. И это «исходище мудрости» – не лукавое, правое, правильное, правдивое – было устремлено на созидание будущего. 55 Литература Бекасова Е.Н. Язык П.И. Рычкова в координатах эпох // Цивилизационное развитие Оренбургского края. Сб. ст. научной конференции, посвященной 300-летию со дня рождения устроителя Оренбургского края, первого члена-корреспондента РАН П.И. Рычкова, Оренбург, 26 октября 2012 г. / Науч. ред. С.В. Любичанковский. – Оренбург, 2012. – С. 26–41. Достоевский Ф.М. Пушкин. Очерк. Собрание сочинений: В 10 т. – М., 1958. – Т. 10: Братья Карамазовы. Произведения 1879–1880. – С. 442–462. Карамзин Н.М. История государства Российского / Коммент. А.М. Кузнецова. – Калуга, 1993. – Т. I–IV. Пушкин А.С. Собрание сочинений. – М., 1941. – Т. 14: Переписка 1828– 1831 гг. Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 5 т. Поэмы. Сказки. Драматические произведения. – СПб., 1993. – Т. II. Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 5 т. – СПб., 1994. – Т. V. 56 Валуев Андрей Михайлович (Россия, Москва; д.ф.-м.н., проф. кафедры организации и управления в горной промышленности Московского государственного горного университета) [email protected] О взаимосвязи значения творчества Пушкина в русской поэзии, литературе и культуре в целом Настоящий доклад представляет собой попытку объяснения уникального феномена: культурное значение Пушкина тем шире и неоспоримей, чем в более широком аспекте оно рассматривается; однако оно основано почти исключительно на его литературном творчестве, преимущественно поэтическом. Принципиально иерархия статусов Пушкина и их развития во времени может быть представлена следующим образом: 1. Пушкин, как никакой другой деятель литературы и искусства, служит олицетворением русской художественной культуры в целом. Это значение он приобрел не сразу, не при жизни, оно возрастало на протяжении всего XIX в. и сохранилось до сих пор. 2. Положение Пушкина в русской литературе также уникально, особенно для русского читателя. Пушкин создал целую литературу, способную ответить на потребности читателя самого разного возраста, жизненного опыта и образования. Тем не менее, бесспорным писателем № 1 в глазах общества он не является, в особенности за пределами российского культурного пространства. Но все его «конкуренты» – прозаики. 3. Статус Пушкина как поэта был наиболее высок как при жизни поэта, в 1820-е гг., так и в последние десятилетия XIX в. Однако при жизни Пушкин никогда не считался единоличным лидером современной русской поэзии. С годами сильно разошлись пристрастия просто культурной и даже не очень образованной публики, поныне ставящей Пушкина на одно из первых мест, и значительно более узкого круга собственно ценителей 57 поэзии, для которых Пушкин – лишь один из довольно длинного ряда выдающихся поэтов. Это положение естественно, поскольку после смерти Пушкина русская поэзия продолжала успешно развиваться во всех отношениях, кроме, пожалуй, одного: общезначимости вновь создаваемых произведений. Однако не мнение ценителей поэзии определяет до сих пор господствующую историко-литературную оценку творчества Пушкина. Признание великого общекультурного значения творчества Пушкина приводит к преувеличению достоинств его поэзии и ее историко-литературного значения, что заметно даже в трудах выдающихся ученых – Ю.М. Лотмана [Лотман 1982] и В.В. Виноградова [1982, с. 250–294]. Характеризуя общие свойства поэзии Пушкина, снискавшие ей всеобщее признание, приходится остановиться на некоторых мифах. 1. «Пушкин – создатель русского литературного языка». Это мнение основано на слабом знании истории русской литературы. Ниже обосновывается противоположная точка зрения, состоящая в том, что: а) для творчества Пушкина (как ни для какого другого поэта, исключая разве Тредиаковского) вопрос о языке его произведений был болезненным: долгие годы он пытался преодолеть искусственность словаря, словоупотребления и фразеологии, доставшуюся ему в наследство от литературной школы Карамзина и его последователей, но так до конца и не смог одержать верх в этой борьбе; б) в ходе этой борьбы, тем не менее, Пушкин достигал известного языкового синтеза (в различных вариантах), в общем соответствующего решаемым им творческим задачам; с) результаты работы Пушкина над поэтическим языком были использованы другими авторами лишь в ограниченном количестве произведений, авторы которых опирались на опыт Пушкина. Здесь в первую очередь нужно назвать «Драматическую трилогию» А.К. Толстого и «Конек-горбунок» П.П. Ершова. 2. Трактовка событий литературной жизни и борьбы в начале XIX в. как борьбы «архаистов и новаторов», развивавшаяся группой исследователей в 1920–1930-е гг., согласно которой Пушкин, естественно, принадлежит к лагерю новаторов. Точка зрения основана, с одной стороны, на тенденциозном восприятии литературного процесса обществом «Арзамас», к которому принадлежал юный Пушкин, а с другой – на неправомерном переносе характера явлений литературной жизни начала XX в. на время Пушкина. Правда, независимо от масштаба и реального содержания той литературной борьбы, она практически закончилась к 58 моменту утверждения Пушкина в литературе. Тем не менее, предлагаемая этой концепцией трактовка Пушкина как новатора, противостоящего архаистам, сильно искажает реалии литературного развития. Сформулированные позиции в целом мало влияют на оценку значения поэзии Пушкина, но сильно влияют на понимание характера этого значения. Для читателя, по большому счету, неважно, развивал ли любимый поэт язык предшественников или нет, большое ли влияние оказал на последующее развитие поэзии и, в конце концов, какая вообще мера новаторства и традиционности свойственна его творчеству. А вот для целей настоящего исследования убедительные ответы на поставленные вопросы очень важны. Перейдем к вопросу о языке поэзии Пушкина. Здесь я расхожусь с выдающимся знатоком истории русского литературного языка академиком В.В. Виноградовым, но не в отношении его частных выводов, которые я не ставлю под сомнение, а в отношении следующего общего вывода: «Итак, в языке Пушкина впервые пришли в равновесие основные стихии русской речи... Вследствие этого открылась возможность бесконечного индивидуально-художественного варьирования литературных стилей» [Виноградов 1982, с. 294] (впрочем, академик уточняет свой вывод следующей важной оговоркой: «В 20–40-е годы литература, как бы пораженная великими стилистическими открытиями Пушкина, стремится вобрать в себя те стили и диалекты живой речи, которые не были использованы или не были исчерпаны Пушкиным»). Мое несогласие относится к выделенным курсивом словам, утверждающим (кстати, в противоречии с последующим выводом) уникальность значения Пушкина и принижающим тем самым роль его поэтических собратьев, как полузабытых Михаила Муравьева, Василия Капниста, Ивана Долгорукова (оде которого «Авось» Пушкин позавидовал в сожженной главе «Евгения Онегина»), так и более известных, например, Дениса Давыдова и Николая Языкова, как раз и осуществивших «индивидуальнохудожественное варьирование литературных стилей». Словоупотребление Пушкина, как и его связь с определенными литературными традициями в целом изучено очень хорошо, но в основном в пределах «школы гармонической точности». Вопреки свойственной его литературному окружению тенденции к известной унификации языка независимо от целей высказывания, Пушкин пошел другим путем. Известно, что Батюшков высоко ценил творчество Крылова, Вяземский же считал его лежащим вне литературы и не давал читать басен Крылова своим детям; 59 тем не менее, оба они не хотели и не могли писать языком Крылова. Пушкин весьма удачно практически развил «теорию трех штилей» Ломоносова. Только у Пушкина «штилей» гораздо больше и они соответствуют решаемым творческим задачам. В «Пророке» Пушкин идет вслед «Оде, выбранной из Иова» Ломоносова. А в шутливом «Брадатый староста Авдей» воспроизводит слог Крылова. Наиболее оригинальным у Пушкина оказывается столкновение нескольких языковых стихий в одном произведении. В признанном шедевре, «Элегии» 1830 г., инерция элегического слога («безумные годы», «закат печальный») при столкновении с совершенно не элегическим «похмельем» дает объемную картину, свидетельствуя о реальном, а не поэтически условном переживании. И наиболее впечатляющее – язык «Сказок» Пушкина – синтез очищенного народно-поэтического языка, языка разговорного и литературного. Благодаря ему, даже явно заимствованные, нерусские по происхождению сюжеты превращаются в русские сказки. В отношении последнего аргументы В.В. Виноградова [Там же, с. 287–292] весьма убедительны. Тем не менее, для своей лирики, поэм, «Евгения Онегина» Пушкин в основном пользуется языком «школы гармонической точности», для которой характерна известная шаблонность, особенно в выборе эпитетов, обязательность употребления перифразы вместо обыденного названия предметов, необходимость эпитетов для выдерживания стиля речи [Григорьева 1969]. Такая искусственность языка нередко приводит к неудачам, что особенно заметно в его благочестивых стихотворениях 1836 г., где картинность («Любоначалия, змеи сокрытой сей», изображение греха в виде свирепого льва), совершенно неуместная в молитве, особенно великопостной, сводит на нет ее духовное значение. Но и в «Евгении Онегине» нет-нет и проглянут лишние или неуместные слова – дань неплодотворной традиции: «вод веселое стекло», «и вздох он пеплу посвятил» (о посещении Ленским могилы Дмитрия Ларина), «так в землю падшее зерно весны огнем оживлено», «и жницы в волны погружать приходят звонкие кувшины» (на самом деле они предпочитают погружать кувшины в спокойную воду и без шума). И это на фоне поистине великолепных, но далеких от традиции выражений, например: Морозной пылью серебрится Его бобровый воротник. Или: ...взор его был быстр и нежен, Стыдлив и дерзок, а порой Блистал послушною слезой. 60 Возможно, искусственность выражений и приверженность поэта шаблонному словоупотреблению в глазах очень многих читателей служат приметой поэтической речи, противопоставленной речи обыденной, тогда как тонких оттенков словоупотребления (которыми отличается, например, поэзия Баратынского) они, по мысли Ивана Киреевского, воспринять неспособны. При всем богатстве лексикона, Пушкин явно злоупотреблял эпитетами «безумный», «мятежный» и «печальный» – визитными карточками его поэтического языка. Здесь можно увидеть аналогию народнопоэтической речи, выделяющейся всем известными словесными формулами типа «добрый молодец», «красна девица». Перефразируя слова Пастернака, Пушкин сознательно (за исключением последних лет творчества) не «впадает в неслыханную простоту», потому что «сложное понятней» читателям. В том, насколько незначительно было влияние Пушкина на развитие языка русской поэзии, нетрудно убедиться на примерах. Сопоставим два текста на тему ненастья в сельской местности, «Приближение грозы» Василия Капниста (1818): Поспешайте в копны сено И снопы златые класть, Дождь пока коснит мгновенно Ливнем на долины пасть, Ветр покуда не засеял Градом ваших нив, лугов И по терну не развеял Дорогих земли даров. Поздно будет вам, уж поздно Помогать от лютых бед, Дождь когда из тучи грозной Реки на поля прольет. Детушек тогда придется Уносить в село бегом; Счастлив, кто и там спасется! Слышите ль? Уж грянул гром! и «Встреча зимы» Ивана Никитина (1854): Поутру вчера дождь В стекла окон стучал, Над землею туман Облаками вставал. Веял холод в лицо От угрюмых небес, 61 И, Бог знает о чем, Плакал сумрачный лес. Определенное различие языка, конечно, есть: у Капниста мы видим традиционные для поэзии славянизированные «златой» и «ветр», у Никитина их нет. Но велика ли эта разница и можно ли отнести ее на счет влияния Пушкина? Он пишет, например (1830): И листья на другом, размокнув и желтея, Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея. У Никитина, само собой, никакого Борея быть не может. Другая пара еще разительней. В притче Сумарокова «Безногий солдат» (1759) мы читаем: Оставил монастырь безногий сей солдат. Ног нет; пополз, и стал он по миру таскаться. ...Солдат, ползя с пустым лукошком, Ворчал перед окошком: «Дай милостыньку кто мне, для ради Христа, Подайте ради Бога; Я целый день не ел, и наступает ночь». Я злился и кричал: «Ползи, негодный, прочь, Куда лежит тебе дорога: Давно тебе пора, безногий, умирать, Ползи, и не мешай мне в шахматы играть». А спустя сто лет (1858) Некрасов пишет: Я видел, сюда мужики подошли, Деревенские русские люди, Помолились на церковь и стали вдали, Свесив русые головы к груди; Показался швейцар. «Допусти», – говорят С выраженьем надежды и муки. Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд! Загорелые лица и руки, Армячишка худой на плечах, По котомке на спинах согнутых, Крест на шее и кровь на ногах, В самодельные лапти обутых (Знать, брели-то долгонько они Из каких-нибудь дальних губерний). Кто-то крикнул швейцару: «Гони! Наш не любит оборванной черни!» 62 Конечно, стиль Некрасова сильно отличается от стиля Сумарокова. Но как же мало изменился за сто лет язык обличительной поэзии! А вот два отрывка из Пушкина. «Деревня» (1819): Но мысль ужасная здесь душу омрачает: Среди цветущих нив и гор Друг человечества печально замечает Везде невежества убийственный позор. Не видя слез, не внемля стона, На пагубу людей избранное судьбой, Здесь барство дикое, без чувства, без закона, Присвоило себе насильственной лозой И труд, и собственность, и время земледельца. Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам, Здесь рабство тощее влачится по браздам Неумолимого владельца. И «Мирская власть» (1836): К чему, скажите мне, хранительная стража? – Или распятие казенная поклажа, И вы боитеся воров или мышей? – Иль мните важности придать царю царей? Иль покровительством спасаете могучим Владыку, тернием венчанного колючим, Христа, предавшего послушно плоть свою Бичам мучителей, гвоздям и копию? Не кажется ли читателю, что Пушкин выглядит в этом сравнении архаистом, а стародавний Сумароков – новатором?! Мы приходим к выводу, что Пушкин видел в языке поэзии лишь средство создания поэтических произведений, а вовсе не неотъемлемую часть поэтического мышления. Это обстоятельство показывает, что софизм «цель поэзии – поэзия» (из письма к Вяземскому) нисколько не выражает его подлинного отношения к поэзии. Неудивительно поэтому, что последующие поэты в основном прошли стороной мимо его языкового наследия. Пример с языком сам по себе показывает искусственность концепции «архаисты и новаторы». Противоположное мнение [Губер 1923, с. 8–11] – творчество Пушкина архаично для своего времени и по духу принадлежит XVIII в. Мне представляется, что оба мнения – крайности. Пушкин – не новатор и не архаист, он инноватор и интегратор. В области тем и литературных форм Пушкин, как правило, либо в чистом виде пользовался уже сложившимися (необязательно в русской литературе) формами, либо 63 их комбинировал. «Руслан и Людмила» представляет собой синтез оссианизма и фривольных литературных сказок XVIII в. Даже «Евгений Онегин» оказывается по своему построению не столь оригинальным: Сам Пушкин осознает, что его произведение постоянно будут сравнивать с «Дон Жуаном» Байрона. Параллельно и независимо от Пушкина Владимир Филимонов пишет свою «поэму жизни» «Дурацкий колпак», имеющую структурное сходство с пушкинским романом. Ю.М. Лотман находит в «Доме сумасшедших» Воейкова один из источников «Евгения Онегина». Положение интегратора, синтезатора в литературе выигрышно для Пушкина, ибо читатель в творчестве поэта приобретает плоды не только его собственной творческой и духовной работы, но и в преобразованном виде достижения мировой литературы. Пушкин осваивал богатства мировой культуры совершенно иначе, чем другие корифеи – Державин и Жуковский. Творчество Державина тесно связано и с античной литературой, и с европейской поэзией от Петрарки до Гете, но почти во всем его творчестве мы видим прежде всего личность автора. Жуковский, наоборот, переводя и пересоздавая иноязычные оригиналы, почти всегда дает понять, что это заимствования; почти отсутствует интеграция заимствованных мотивов с русской действительностью. У Пушкина же освоение чужого имеет как бы безличный характер, автор охотно осваивает чужие обличья, но значительно пересоздает оригинал, приближая его к пониманию своего читателя. Заимствование, однако, не было полным. Пушкин в «Борисе Годунове» проигнорировал поэтический стиль трагедий Шекспира, зато впервые масштабно в русской литературе выразил «мысль народную» применительно к историческому процессу, аналога чему у Шекспира он найти не мог. Но вообще тяга к усвоению чужого была у Пушкина поразительной. «Гений чистой красоты», изобретенный Жуковским, мы знаем именно по Пушкину. Говоря о значении интеграционного характера творчества Пушкина, сошлемся на пример ученого в том же роде. Для широкой публики Эйнштейн является олицетворением всей науки XX в. Его каноническое изображение узнаваемо всеми и нередко используется для рекламы, образовательную программу для младенцев назвали «Беби-Эйнштейн», в Праге, где ученый преподавал непродолжительное время, есть кафе «Эйнштейн». Из четырех основных создателей специальной теории относительности (ими были также Лоренц, Пуанкаре и Минковский) публика знает одного Эйнштейна. Но Эйнштейн в основном брался за те задачи, где почва уже была подготовлена (в области фотоэффекта, за что 64 он получил Нобелевскую премию, – Столетовым, в области броуновского движения параллельно с ним те же результаты получил Смолуховский и т.д.). В официальном отзыве Пуанкаре писал об Эйнштейне: «Особое восхищение вызывает та легкость, с которой он воспринимает новые идеи и делает из них все возможные выводы» [Шафаревич 2005, с. 389]. И именно такой естествоиспытатель стал кумиром далеко за пределами круга специалистов в теоретической физике и смежных дисциплинах. Так и Пушкин далеко затмил своим общественным признанием в России тех авторов, у которых он заимствовал идеи и литературные формы. За исключением разве что Шекспира, да и того мы знаем по театральной сцене, а не благодаря его изданиям. Но несмотря на столь выигрышный для завоевания читательских симпатий характер творчества, в последние годы жизни Пушкина его популярность пошла на спад. Уже в 1834 г. Белинский провозгласил Гоголя новым главой русской литературы, а 1835 г. был отмечен ошеломительным успехом поэзии Владимира Бенедиктова у самых различных читателей, вплоть до Василия Жуковского. По своим личным свойствам, из-за неуверенности в своих силах, и в силу отсутствия осознания своей миссии в литературе Бенедиктов, при всей значительности своего дарования, не мог надолго умалить значения Пушкина. По самому стилю своего мышления, занятого профессиональными интересами в финансовой сфере и малопонятными для большинства современников естественнонаучными вопросами [Валуев 2013], Бенедиктов в исторической перспективе был обречен на непонимание. Тем удивительней продлившийся несколько лет энтузиазм по поводу его стихов, основанный на восхищении проявившимся во многих его стихах обновлением поэтического языка и стиля. Впрочем, Белинский пытался объяснить, хотя едва ли убедительно, что «поэзия г. Бенедиктова не поэзия природы, или истории, или народа, – а поэзия средних кружков бюрократического народонаселения Петербурга» [Белинский 1842]. Пусть так! В любом случае успех Бенедиктова, пусть и кратковременный, показал, во-первых, что собственно художественные свойства безотносительно к предметному содержанию, как и своеобразие творческой личности и предмета художественного произведения, имеют высокую, хотя и разную в глазах разных групп читателей цену, а во-вторых, что эпоха поэзии «для всех» закончилась. Но в силу этого новый Пушкин, поэт для всех, больше никогда не появится. Новое укрепление значения Пушкина как первого русского поэта в конце XIX в. не было восстановлением status quo. 65 Основная линия его творчества попала в разряд «популярной классики» – общекультурного койне [Валуев 2011]. Некоторая доля произведений, не столь популярных и более своеобразных, пользуется любовью ограниченного круга читателей. Вряд ли Пушкин мог успеть до конца осознать новое положение вещей. Однако он был достаточно чуток, чтобы в известной всем автохарактеристике в «Памятнике» отказаться от собственного суждения: «цель поэзии – поэзия». В пушкинском «Памятнике» поражают две особенности: во-первых, полное игнорирование конкретной словесной природы его творчества (речь идет только о его пафосе), а во-вторых, предельно безличный характер прославляемых достоинств. Характеристика явно написана «на вырост», не на одного Пушкина, а и на всю последующую русскую словесность, в которой, кстати, тема «милости к падшим» выражена гораздо сильнее, чем у Пушкина. Для сравнения, в оригинале Горация (переложение Ломоносова) главными достоинствами являются чисто литературные ...мне беззнатный род препятством не был, Чтоб внесть в Италию стихи эольски И перьвому звенеть Алцейской лирой. А в «Памятнике» Державина, композицию которого Пушкин практически повторил, соблюден баланс содержания и выражения, так как одно невозможно без другого (при этом Державин говорит именно об индивидуальных достоинствах своей поэзии): Всяк будет помнить то в народах неисчетных, Как из безвестности я тем известен стал, Что первый я дерзнул в забавном русском слоге О добродетелях Фелицы возгласить, В сердечной простоте беседовать о боге И истину царям с улыбкой говорить. Пушкин же говорит только о духовном значении своего творчества, даже, можно сказать, творчества русского писателя вообще. Тем самым он выводит свое творчество за границы поэзии и даже литературы. Более того, «Памятник» задает общую программу для всей русской литературы. В этом Пушкин оказался исключительно прозорлив. В то же самое время это совершенно естественно для него; как ни у какого другого поэта, тема художественного творчества и художественной жизни важна для Пушкина. Он отзывается на явления русского драматического театра и балета, живописи и скульптуры – европейской и российской, – и, конечно, музыки 66 («Моцарт и Сальери»). В отличие от Баратынского, выразившего свое понимание фортепьянной игры Листа и живописи Брюллова лишь в письмах, а в замечательном «Скульпторе» адресующегося к легендарному Пигмалиону, у Пушкина и в стихах все конкретно – Рафаэль, Альбани, Брюллов, Логановский, Пименов и т.д. Прижизненное присутствие Пушкина в культуре за пределами литературы определяется не столько романсами и песнями на его слова, сколько произведениями изобразительного искусства – портретами и книжными иллюстрациями. Особенно важен живописный портрет работы Ореста Кипренского (1827), – идеальный образ погруженного в творческие думы поэта,– и серия бюстов работы Витали, основанных на его прижизненных набросках 1836 г. Взгляд на творчество Пушкина как на общекультурное явление разделили и многочисленные деятели искусства, особенно композиторы, давшие превращенное бытие большинству крупных и множеству мелких произведений поэта. Основное значение в этом сыграли явно не поэтические достоинства, а сюжет и общее содержание. Глинка не менее вдохновенно писал романсы на стихи Кукольника, чем на пушкинские. Но для своей оперы он выбрал именно пушкинскую поэму. Характерно, что по количеству оперной литературы из русских писателей следом за Пушкиным идет Гоголь с большим отрывом от всех остальных. У Чайковского из 8 опер три по произведениям Пушкина и одна на сюжет Гоголя, у Мусоргского из трех – по одной на сюжеты Пушкина и Гоголя, у Римского-Корсакова из 15 опер – соответственно 3 и 2, у Даргомыжского из 5 опер, опер-балетов и кантат – 4 на пушкинские тексты! и т.д., вплоть до детской комической оперы Бориса Кравченко «Ай да Балда» (1974). Однако включение Пушкина в широкий культурный контекст имеет гораздо более глубокие основания, чем просто субъективное переживание поэтом родства своего творчества с другими искусствами. Главное качество, объединяющее вокруг его имени конгломерат произведений разного рода,– это органическая программность его творчества. Произведения самых разных искусств, от фрески (вспомним «Афинскую школу» Рафаэля) до симфонической музыки («Манфред» Чайковского) могут нуждаться, как при своем создании, так и в особенности при их восприятии широким кругом культурных людей, в априорной, заданной до их создания литературной программе; в этом и состоит важнейшая черта общности различных искусств. Пушкин в своих эпических и драматических произведениях оказался в состоянии представить такую программу, одновременно простую для 67 восприятия, касающуюся существенных сторон действительности, и органичную для самого произведения. Поэтому, в отличие от лирики Пушкина, не имеющей какой-то особенной судьбы в музыкальном перевоплощении, его поэмы, повести и трагедии приобрели столь завидное многоплановое существование. Наоборот, для использования литературной программы в опере малосущественно ее словесное воплощение: Римский-Корсаков строку за строкой кладет на музыку в «Моцарте и Сальери», тогда как в либретто «Пиковой дамы» не используется текст оригинала. Словами Баратынского, мысль Пушкина: Со всех сторон своих видна, Как искушенная жена В свободной прозе романиста. Произведения многих художников слова, столь же выдающихся, не программны, более стихийны, более многоплановы. Но зато они воспринимаются с большим трудом и не могут претендовать на всеобщность своего культурного значения. Литература Белинский В.Г. Стихотворения Владимира Бенедиктова. СПб., 1842 // В.Г. Белинский. Собр. соч.: В 9 т. – М., 1979. – Т. 5: Статьи, рецензии и заметки, апрель 1842 – ноябрь 1843. Валуев А.М. Популярная классика – верхний слой массовой культуры // Философия искусства и науки: Сборник материалов конференции. – М., 2011. – С. 137–146. Валуев А.М. Язык науки и естественнонаучное мышление в русской поэзии XVIII–XIX вв. // Язык искусства и науки: Сборник материалов конференции. – М., 2013. – С. 41–55. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв.: Учебник. – 3-е изд. – М., 1982. Григорьева А.Д. Поэтическая фразеология Пушкина // Поэтическая фразеология Пушкина. – М., 1969. – С. 5–292. Губер П. Донжуанский список Пушкина. – Пг., 1923. Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин. – Л., 1982. Шафаревич И.Р. Трехтысячелетняя загадка. – М., 2005. 68 Приложение В 1775 г. Михаил Муравьев полностью перевел оду Горация: О царский правнук Меценат! О мой покров и украшенье! Се зри, коль радостно летят На олимпийское сраженье. Они, размахом их колес Взвивая прах поверх небес, Стремглав по поприщу пустились, Чело венчанно вознесли, И со владыками земли Они – с богами – соравнились. Иной лишь только льстится тем, Когда мятежные квириты Его в избрании своем В чины воздвигнут знамениты... В 1833 г. ту же оду попытался перевести и Пушкин, очевидно, не зная или не помня о переводе Муравьева. Вот что у него получилось: Царей потомок Меценат, Мой покровитель стародавний, Иные колесницу мчат В ристалище под пылью славной И, заповеданной ограды Касаясь жгучим колесом, Победной ждут себе награды И мнят быть равны с божеством. Другие на свою главу Сбирают титла знамениты, Непостоянные квириты Им предают... молву. Просто поразительно, что Пушкин спустя более чем полвека повторяет не только переводческие приемы Муравьева, но даже его рифмы! Этот пример, на мой взгляд, самым убедительным образом показывает, что Пушкин, хоть в начале своего творчества, хоть в его конце, – никакой не новатор, а именно интегратор русской поэтической традиции! Подобное можно сказать и о прозе Пушкина. Он выступил – и весьма удачно – с «Повестями Белкина» – не опережая других крупных прозаиков своего времени – здесь в первую очередь 69 нужно назвать Гоголя и В.Ф. Одоевского, – а одновременно с ними, когда уже была подготовлена почва для создания высокохудожественной прозы. Что касается «Капитанской дочки» (1833– 1836) – произведения типа исторического романа, – то здесь Пушкин имел прямых предшественников в лице Загоскина («Юрий Милославский», 1828–1829 гг.) и Лажечникова («Последний новик», 1826–1831 гг.). 70 Дзыга Ярослава Олеговна (Россия, Москва; к.ф.н., докторант Московского государственного областного университета) [email protected] «Евгений Онегин» А.С. Пушкина в художественном сознании И.С. Шмелева Непреходящее значение пушкинской литературной традиции связано не только с исключительным значением для национальной культуры феномена пушкинского творчества как совершенного воплощения гармонии, но и, по слову С.Н. Пяткина, «фактически сакральным тождеством между поэтическим гением Пушкина и духовной культурой русского народа» [Пяткин 2007, с. 167]. Это свойство художественного гения автора «Евгения Онегина» неоднократно обращало на себя внимание и современников и потомков. Уникальный случай в истории национальной культуры – своеобразная «канонизация снизу, чрез “глас народа”», которой удостоился творческий и человеческий гений поэта. «Пушкин таинственно стал alter ego России, – ее другим “я”. Россия стала неотделима от Пушкина, а он от нее. Лицо и сердце России стали “пушкинскими”, ибо тайна “явления” Пушкина и заключена в том, что великий Пушкин есть личное воплощение величия души России» [Карташев 1990, с. 304], – заключал А.В. Карташев. Это «величайший представитель русского духа» (С.Л. Франк), в образах которого запечатлен «национальный символ веры» (И.А. Ильин). Уникальность культурно-исторического содержания пушкинской литературной традиции проистекает из особенностей «гармонического» мироощущения поэта. Центром этико-эстетической картины мира Пушкина является представление о художественном совершенстве как отражении общей гармонии мироустройства. По наблюдениям В.С. Непомнящего, «речь идет не о давно известных пушкинских качествах – гармоничности, 71 уравновешенности, “объективизме”, это все черты вторичные, производные от фундаментального, основополагающего качества мироощущения Пушкина, а именно: для него бытие есть безусловное единство и абсолютная целостность, в которой нет ничего “отдельного”, “лишнего” и самозаконного – такого, что нужно было бы для “улучшения” бытия отрезать и выбросить» [Непомнящий 1987, с. 137]. Гармоническая соразмерность как мировоззренческая и эстетическая доминанта пушкинского гения служит источником жизнеутверждающего пафоса его художественного мира, лежит в основе представлений поэта о природе искусства, назначении художника, поэтическом вдохновении, преображающей силе «божественного глагола», взаимоотношении художника и народа, сказывается в восприятии природы, любви и дружбы, воспроизведении национальных форм жизни. Идеал гармонической слаженности бытия является главной составляющей многоаспектной пушкинской традиции в литературе, включающей открытые поэтом темы, образы, мотивы; новые формы (жанровые, стилистические); принципы литературного письма и т.д. Пушкинская традиция как концептуально значимый художественный опыт по-своему преломляется в творчестве Шмелева, обнаруживаясь в родстве оптимистически жизнетворящего пафоса и общих принципах познания мира. О большом значении для прозаика личности и художественного опыта поэта красноречиво свидетельствует, к примеру, переписка с И.А. Ильиным, одна из ключевых тем которой пушкинская. Несмотря на это, исследование проблемы «Шмелев – Пушкин» в настоящее время только начинается. Условия эмиграции обусловили повышенный интерес изгнанников к истокам русской культуры. В статье «Слово о Родине» (1938) Б.К. Зайцев писал: «Древняя наша духовная культура с чужбины кажется и величественней, и значительней, и старше. Но не только древняя. И на девятнадцатый, золотой век российской литературы <...> другой угол зрения. <...> Из “прохладного” Запада, на фоне его крепко, иной раз жестко очерченного духовного пейзажа – пейзаж русской литературы выступает особенно душевней и трогательней. Человечнейший и христианнейший из всех <...>» [Зайцев 1999, с. 326]. Художественным воплощением национального самосознания стало для писателей-эмигрантов творчество Пушкина. По признанию А.В. Карташева, наследие Пушкина для литературной эмиграции, стало чем-то вроде «светского евангелия». Шмелев полностью разделял такое отношение к поэту, о чем свидетельст72 вуют, к примеру, именинные поздравления Ильину, которые писатель сопроводил следующим советом: «Проведите день Ангела благостно с Наталией Николаевной, читая Пушкина. Как на Пасху в обедню – от Иоанна Евангелие, – так в день Ангела – своя обедня, домашняя, – только Пушкин. Он меня порой утешает и закрывает – все. И Россию вспомнишь, и душу очистишь» [Ильин 2000, с. 438]. Всем своим творчеством Шмелев служил великому делу «блюдения лика Святой Православной Руси» (П.Б. Струве). Эта коренная черта творческого облика писателя была особенно отмечена Ильиным. Определив Шмелева «бытописателем русского национального акта», философ указывал на преемственную связь его художества с канонами русского искусства вообще и пушкинской традицией в частности. Не случайно в книге Ильина «О тьме и просветлении» имя Пушкина в связи с именем Шмелева упоминается трижды. Прямых обращений к Пушкину в творчестве Шмелева немного. Собственно великому предшественнику посвящены автобиографический рассказ «Как мы открывали Пушкина» (1926) и «Заветная встреча», речь, прочитанная на торжественном собрании в Варшаве 11 февраля 1937 года, приуроченная к столетней годовщине смерти поэта. И тем не менее с полным основанием можно говорить о мощнейшем пушкинском притяжении, оформившемся в плодотворную и созидательную для писателя-эмигранта классическую традицию. И хотя, по слову С.М. Бонди, «встреча с Пушкиным» – важнейшее событие для каждого русского писателя, случай со Шмелевым особенный. Речь идет о концептуальной соприродности доминант художественных миров и целостного духовно-творческого облика. Публицистические и художественные произведения Шмелева насыщены цитатами из произведений Пушкина, свидетельствующими о глубочайшем знании писателем творческого наследия поэта. Чаще других на страницах шмелевских произведений возникают образы Татьяны Лариной, Онегина, Ленского, Пророка, отмеченного Провидением. Автора «Лета Господня» вдохновляют гениальные строки произведений «Анчар» (1828), «Воспоминание» (1828), «Полтава» (1828–1829), «Пир во время чумы» (1830), «Бесы» (1830), «Пиковая дама» (1833), «Осень» (1833), «Медный всадник» (1833) и др. Писатель либо прямо называл импонирующие ему или герою произведения, либо приводил выдержки из них. Так, в «Записках не писателя» он вообразил своего персонажа внутри пушкинской стихии: «Помню деда <...> и его редкодушевный склад. <...> Он был добрый русский человек душевно73 чистый. Правда, с изломами. Как бы его понял Пушкин! Не навязываю же себе, что в маме было от... Тани Лариной!» [Шмелев 2008, т. 11, с. 257]. Обращение к пушкинским сюжетам, образам, мотивам, описаниям связано с сознательной установкой на взаимодействие с классикой. Эта тенденция особенно ясно обозначилась в интересе Шмелева к художественному миру «Евгения Онегина». В ряду персонажей пушкинского романа в стихах Шмелева больше всего привлекал образ Татьяны Лариной. Этот образ многократно возникал на страницах произведений писателя. Здесь уместно вспомнить рассказы «Марево» (1926), «Перстень» (1932– 1935), «Записки не писателя» (1949), романы «История любовная» (1927), «Пути небесные» (1935–1948), статьи «Мученица Татьяна» (1930), «Слово о “Татьяне”» (1924), «Верный идеал» (1936), «Заветная встреча» (1957) и др. Героиня Пушкина была особенно близка и дорога Шмелеву. С ней писатель связывал представление о женском идеале, в ней видел воплощение самой России. В статье «Мученица Татьяна», эпиграфом к которой послужили строки знаменитого ответа Лариной на запоздалое чувство Онегина, Шмелев писал: «Обе во мне объединяются: мученица, память которой ныне, и другая Татьяна, Таня, пушкинская Таня, образ утраченной России...» [Шмелев 2008, т. 8, с. 507]. В рассказе «Марево» узнаваемый мотив онегинских запоздалых прозрений становится отправной точкой сюжета. Как и в случае с пушкинскими персонажами, Степан Аполлинариевич Кадырин в свое время не оценил глубоких чувств белозерской красавицы Паши Разгуляевой. Но если у Пушкина объяснение Онегина с Татьяной закончилось знаменитым «братским» наставлением («Учитесь властвовать собою»), то у Шмелева несостоявшиеся откровения вылились в «пошлые», по определению героя, разговоры о Художественном театре и «о личном... в идиотском Брандте»: «Мигают звезды: “ну же, говори! не встретишь лучшей! Никогда не встретишь...” Весь мир тут, рядом. <...> Что удержало?.. Что-то, мелочишка?.. <...> Ну, будет “верная подруга и добродетельная мать...” Вспомнилась свобода, океаны, планы... “экзотика”! <...> И – не сказал» [Там же, с. 258]. Спустя годы случай в Монте-Карло воскресил в сознании героя вторую встречу Онегина и Татьяны: «Вижу – Паша, из Белозерска Паша! Но – какая! Царица, королева. Онемел. <...> Ну, как... Онегин и Татьяна. Хуже!..» [Там же, с. 262]. К образу Татьяны Лариной отсылает многое в характере и судьбе Дарьи Королевой, героини последнего романа Шмелева 74 «Пути небесные». Как и в случае с пушкинской героиней, судьба сводит чистую, неискушенную девушку с многоопытным мужчиной, который всецело овладевает ее умом и сердцем. И у Пушкина, и у Шмелева налицо разность «русских душою» героинь и духовно далеко отстоящих от них героев: пресыщенного светом, разочарованного Онегина и увлеченного «свободной игрой материальных сил» инженера Вейденгаммера. Оба героя в каком-то смысле себе самим чужие [Достоевский 1984, с. 140], обоим предоставлен шанс обрести себя. Встреча Онегина с Татьяной, как и встреча Вейденгаммера с Даринькой, могла стать судьбоносной для героя. История несостоявшегося преображения любовью реализована Шмелевым в судьбе Вейденгаммера. В случае с Татьяной христианский долг супружеской верности приходит в противоречие с желанием сердца. Отвергнувшая запоздалые чувства Онегина, добродетельная пушкинская героиня тем не менее «надломлена и страдает». На этом фоне гораздо более естественным и оправданным выглядит выбор шмелевской Дариньки, художественно иллюстрирующий знаменитый тезис Достоевского: «Счастье не в одних только наслаждениях любви, а и в высшей гармонии духа» [Там же, с. 142]. Замужество Татьяны делает невозможной такую гармонию ни для нее самой, ни для Онегина. Интересно, что бессмертный образ пушкинской героини рифмуется не только с судьбами персонажей Шмелева. Упоминания о Татьяне Лариной нередки в переписке художника с О.А. БредиусСубботиной. При этом характер и судьба героини Пушкина поновому высвечивают не так облик возлюбленной Шмелева, как перипетии их с писателем отношений. «Ты – необычайная, с меркой к тебе не подойду. Ты – единственная. Ты мне – Таня» [Шмелев 2003, с. 341], – обращался писатель к идеальному сравнению. Бредиус-Субботина и сама находила в своей судьбе совпадения с известной литературной предшественницей. Они начались с первого письма обожаемому писателю. Благоговейное отношение к гению Шмелева постепенно переросло в большое чувство, во многом мучительное для женщины, учитывая ее замужнее положение. В облике литературной Татьяны Лариной и реальной Ольги Бредиус-Субботиной, действительно, много общего. Их сближает значительность личности, поэтичность одаренной натуры, глубина чувств и природная женственность. Достаточно сказать, что Ольга Александровна не только была на протяжении долгих двенадцати лет полноправной корреспонденткой Шмелева, но также состояла в переписке с философом И.А. Ильиным, а развитию 75 недюжинного художественного таланта женщины помешали драматические события, последовавшие за октябрем 1917 года. Предложенный Шмелевым образ, очевидно, настолько совпал с самоощущением Ольги Александровны, что впоследствии она не однажды апеллировала к образу пушкинской героини для иллюстрации собственных чувств и переживаний: «Я живу Вами так ярко, что Ваша фраза: “воображение Ваше может разгореться и многому повредить” – звучит мне почти что: “учитесь властвовать собою!”» [Шмелев 2005, с. 37]. Или: «Но ты пойми, я не могу удовольствоваться воображением! И мы не можем всего сказать друг другу, и так всего много! Я не могу тебя не встретить. Подумай! Я же сознательно тебе говорю: “вся жизнь моя была залогом...”» [Там же, с. 155]. Даже когда корреспондентка Шмелева не обращается к прямому цитированию, намек на известную литературную ситуацию очевиден: «Мне стыдно! Ответь мне на все важные вопросы, и... сетуешь ли на меня за то, что чувство мое тебе открыла? Я тебе подробно писала об той моей муке!» [Там же, с. 137]. Глубокая порядочность и огромное чувство долга перед собой и семьей, так и не позволившие БредиусСубботиной уйти от мужа (о банальной измене не могло идти речи), могут прочитываться как знаменитая «отповедь» Татьяны Онегину. «Евгений Онегин» в «Путях небесных» – прежде всего литературный путеводитель в запутанных отношениях Дариньки и Вагаева. Стараниями молодого гусара одна за другой всплывают цитаты из пушкинского романа, служа иллюстрацией к чувствам героев, освещая их характеры и программируя дальнейшее развитие событий. В истории «голубых» писем молодого повесы повторяется даже такой элемент сюжета, как односторонняя переписка Онегина с Татьяной. При этом сам образ Вагаева может быть понят как вариант «позднего» Онегина, открывшего для себя новую Татьяну. «Женщины ему легко давались, – рассказывал Виктор Алексеевич, – были у него победы и во дворцах... не верится, какие крепости ему сдавались. Говорил – “брал мимоходом, взглядом, все женщины всегда открыты!” Но в Дариньке столкнулся... с чем-то. <...> У Пушкина про это гениально. Дима знал Пушкина...» [Шмелев 2008, т. 12, с. 241]. Знал Пушкина и Вейденгаммер – именно благодаря ему произошло знакомство Дариньки с текстом «Евгения Онегина», который Виктор Алексеевич начал ей читать во время ее болезни, правда, «не дочитал, хоть ей и нравилось» [Там же, с. 180]. Зато влюбленный гусар не может обойтись без постоянных апелляций к классике. Первые прочитанные Вагаевым строки из 76 пушкинского романа («Любви все возрасты покорны...») напрямую вроде бы не связаны с его чувствами к Дариньке. Цитата иллюстрирует настроения генерал-губернатора, увлеченного «прелестной С...ой», исполняющей роль Царь-Девицы, но вся обстановка «первого театра» проливает свет на подлинных адресатов пушкинских строк. Вагаев так проникновенно нашептывал Дариньке заветные слова и при этом так близко наклонялся к ней, что его висок щекотал ее щеку, которая от этого даже «зарделась». Очевидно, «тайный» смысл пленительных строк еще тогда открылся героине, потому что в разгар отношений с Вагаевым чтение романа стало для нее «томительной усладой». Особенно волновало «Письмо Татьяны к Онегину», в котором Дарья Ивановна находила отзвук собственных чувств и переживаний: «Новый год начался для Дариньки душевной смутой <...>. Накануне, ночью, она сладко себя томила, перечитывая из “Онегина” особенно пленившие страницы, которые она заложила бумажками, чтобы не потерять, и это чтение вызывало теперь видения. Татьяна была она сама, тайно влюбленная, отданная судьбой другому, а он был Дима, “гусарчик”, – так называла его в мечтах, – великий грешник и обольститель, но добрый, милый, чудесный Дима, – “благодать Божия на нем, Преподобный укрыл его”. И она вновь читала и плакала: То в высшем суждено совете... То воля неба: я твоя. [Шмелев 2008, т. 12, с. 198]. Вагаев, в свою очередь, выбирает для объяснения с Даринькой другие поэтические строки, которые выделяет в романе «траурной» рамочкой: Но чтоб продлилась жизнь моя Я утром должен быть уверен, Что с вами днем увижусь я...» [Там же, с. 247]. Герой тоже невольно соотносит себя с героем классического романа, заставляя вспомнить произведение Пушкина даже тогда, когда изъясняется с Даринькой прозой: «Вы знаете, что я хочу сказать... Я провинился перед собой... опоздал вас встретить, встретил вас слишком поздно, в жизни... – и наказан!..» [Там же, с. 185]. Рассмотренные случаи не описывают всего многообразия проявления пушкинской традиции в творчестве Шмелева. Выявление новых ракурсов классической традиции в творчестве писателя-эмигранта послужит открытию еще непознанных граней его 77 таланта и доказательством глубинного единства литературного процесса XX века. Литература Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. – Л., 1984. – Т. 26. Зайцев Б.К. Собр. соч.: В 5 т. – М., 1999. – Т. 7. Ильин И.А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов (1927–1934) / Сост., вступ. ст. и коммент. Ю.Т. Лисицы. – М., 2000. Карташев А. Лик Пушкина // Пушкин в русской философской критике. – М., 1990. Непомнящий В.С. Пророк. Художественный мир Пушкина и современность // Новый мир. – 1987. – № 1. Пяткин С.Н. Пушкинская традиция в поэме С.А. Есенина «Анна Снегина» // Русская литература. – 2007. – № 2. Шмелев И.С. Переписка с О.А. Бредиус-Субботиной // Роман в письмах: В 2 т. – М., 2003. – Т. 1. Шмелев И.С. Переписка с О.А. Бредиус-Субботиной // Неизвестные редакции произведений. – М., 2005. – Т. 3 (доп.). – Ч. 1. Шмелев И.С. Собр. соч.: В 12 т. – М., 2008. – Т. 8. 78 Исина Нурикамал Утеповна (Казахстан, Астана; к.ф.н., доц. кафедры русской филологии Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева) [email protected] «Пушкинский текст» в современной литературе Казахстана Практика вычленения именного текста в структуре художественного произведения определяет одно из главных направлений литературоведческих исследований последних десятилетий. Так, различают топос-тексты: «московский текст», «петербургский текст», «сибирский текст», «городской текст»; именные тексты – «пушкинский текст», «чеховский текст», «толстовский текст» и др. Выделению «именных текстов» способствовал широкий круг юбилейных исследований, обозначивших карту присутствия текстов конкретного писателя, поэта в русской литературе. Такова этимология «пушкинского текста». Как литературоведческий термин «пушкинский текст» впервые был введен в научный оборот Б.М. Гаспаровым на рубеже XIX–XX вв. По мнению ученого, «...восприятие «текстов Пушкина» неотделимо от того, как они отложились в творческой памяти последующих русских писателей и поэтов и отпечатались в созданных ими текстах и от того, как эти последние в нашей собственной культурной памяти и определили нашу интерпретирующую позицию» [Гаспаров 1996, с. 320]. Сопоставляя биографические факты путешествия О. Мандельштама на Кавказ по следам Пушкина с художественными текстами автора, исследователь приходит к важному заключению: «Из таких ретроспективных проекций и их взаимодействий с различными элементами текста и друг с другом и складывается та смысловая среда, в которой для нас существует феномен «пушкинского текста» [Там же]. 79 Попытки реализации теоретических выводов и положений Б.М. Гаспарова предпринимаются современными исследователями, к примеру, Н. Кузьминой, Ю. Шатиным. Под «пушкинским текстом», как явствует из ряда исследовательских работ, подразумевается, прежде всего, включение в структуру художественного текста тем, образов, мотивов, непосредственно отсылающих к произведениям классика русской литературы XIX в. С точки зрения теоретической поэтики, включение «пушкинского текста», равно как и любого другого именного текста, в состав художественного текста автора можно рассматривать как проявление межтекстовых связей (интертекста), как авторскую интерпретацию поэтического наследия классика, как своеобразный художественный прием. Цель нашей статьи – показать, как «пушкинский текст» своеобразно преломляется в современной художественной литературе Казахстана. Объектом анализа избраны произведения русскоязычных поэтов и писателей: Б. Канапьянова, Е. Жумагулова, М. Асановой, – в творчестве которых явственно проступает черты «пушкинского текста» в виде реминисценций, аллюзий, перифраз. Бахытжан Канапьянов представляет поколение казахских поэтов, чье творчество выросло на волне 80–90-х годов XX столетия. Поэт, переводчик, публицист, режиссер, автор-сценарист, редактор издательства «Жалын» – таков диапазон его творческой деятельности. Он является автором поэтических сборников «Кочевая звезда» (1991), «Каникулы кочевья» (2003), «Смуглая луна» (2006), «Куранты небес» (2010). В 2011 году в издательстве «Жибек жолы» опубликованы два тома книги «Избранное», куда вошли стихотворения, поэтические переложения произведений казахского устного народного творчества, переводы произведений других поэтов. Б. Канапьянов – один из самых читаемых и публикуемых поэтов в Казахстане и за его пределами. Интерес к его творчеству объясняется самобытностью, оригинальностью поэтических приемов, авторского стиля, своеобразием поэтики ритма, стиха. Своеобразие поэзии Б.Канапьянова заключается в том, что в ней гармонично сочетаются традиции казахской устной народной поэзии и полюбившиеся поэту образы, мотивы русской и мировой классики. Цикл «Крымская прогулка», написанный автором в 1985 году, соотносится с «пушкинским текстом». На это указывает эпиграф, предваряющий стихотворение. Лишь Черное море шумит... 80 «Пушкинский текст» присутствует в стихотворении казахского автора вначале лишь намеками: Мне подарил штурвал от шхуны На берег списанный моряк... [Канапьянов 2011, с. 88]. Б. Канапьянов «разрабатывает» собственно авторскую тактику движения к «пушкинскому тексту»: от намеков к прямому обращению. У казахского поэта образ корабля, плывущего по волнам, немногим напоминает пушкинский образ («Он бежит себе в волнах на поднятых парусах», или «нас было много на челне»). Образ старого моряка, собеседника поэта, соотносится с образом старого рыбака – героя из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке». Образ волны, бьющейся о берег, как олицетворение непокорной, мятежной судьбы также отсылает к «пушкинскому тексту» (ср.: «К морю»). Путешествие по морю, прогулка вдоль берегов Черного моря – все это напрямую связано с фактами пребывания Пушкина в южной ссылке (ср.: «Прогулки с Пушкиным» А. Битова). «Пушкинский текст» явно проступает в поэтических строках: Восточный звук Бахчисарая, Он сладок, как на вкус халва [Там же, с. 95]. Легенда о Бахчисарайском фонтане, о любви хана Гирея к красавице отсылает к пушкинским строкам: Фонтан любви, фонтан живой, Принес я в дар тебе две розы... У Канапьянова: А вот Гирей глядит с картины... Фонтан все плачет, Там и ныне Лежат две розы в ее честь [Там же, с. 95]. Поэт как бы «реанимирует» пушкинские образы и мотивы, стремится языком современного читателя передать подлинный смысл пушкинского стихотворения. Имя другого поэта, Ербола Жумагулова, известно читателям благодаря публикациям стихотворений в сети Интернета и литературных клубах Москвы, Алматы и Астаны, где вышел поэтический сборник «Ерболдинская осень» (2006). Довольно точно выразил мнение большинства один из критиков творчества поэта: 81 «Кочевое странствие юного казахского номада Ербола Жумагулова привело его в запредельный град русской поэзии, в те пространства неутоленного, взыскующего духа, где вершится глубинная история и судьба России, а, быть может, и всего мира. Старые слова зажили у Ербола новой жизнью – в тот момент, когда иссякла имперская мощь и оскудела народная речь. Когда оказалось, что нас может связать лишь одно, но главное: верность культурной памяти, ее нерву и боли – русской словесности...» [Жумагулов 2006, с. 4–5]. «Пушкинский текст» в лирике Ербола Жумагулова присутствует открыто. Автор цитирует отдельные пушкинские строки, прикрепляя их к собственному тексту, вкладывая в них совершенно новый смысл. Вполне очевидна перекличка названия сборника стихов казахского поэта с пушкинским циклом «Ерболдинская осень» / «Болдинская осень». Поэтический сборник открывает небольшое четверостишие, последняя строка которой созвучна пушкинской «Я помню чудное мгновенье...», с тем отличием, что лирический герой казахского автора не склонен к саморефлексии. Тоску и печаль прогоняя долой, Ни Богом, ни чертом не понят, Гуляет по дому казах молодой, И чудных мгновений не помнит... Еще один пример включения «пушкинского текста» в цикле «Два стихотворения» Е. Жумагулова: То как зверь временами завою То заплачу порой как дитя [Там же, с. 35]. Поэтические строки из стихотворения «Зимнее утро» А.С. Пушкина «То, как зверь, она завоет, То заплачет, как дитя...» совпадают с небольшой разницей: у Пушкина речь идет о природном явлении – буре, у современного автора – о внутреннем состоянии лирического героя, испытывающего состояние душевного смятения. «Пушкинский текст» в лирике Е. Жумагулова – это своеобразный художественный прием игры с текстом, характерный для современной литературы с ее постмодернистской традицией. Примером оригинальной интерпретации «пушкинского текста» может стать рассказ «Колодец с медом» современного прозаика М. Асановой, автора цикла «маленьких рассказов». В отличие от предыдущих авторов, «пушкинский текст» в маленьком рассказе М. Асановой выглядит, на первый взгляд, ненавязчиво, 82 просто. В то же время отдельная фраза: «Травой заросла знаменитая тропинка» направляет читательское внимание на стихотворение «Памятник» с аналогичной строкой: «К нему не зарастет народная тропа...» Более детальное прочтение рассказа позволяет обнаружить присутствие «пушкинского текста» в произведении современного прозаика. «Откуда взялся в природе этот колодец с медом, навсегда останется тайной». Таинство рождения чудесного колодца можно соотнести с загадочностью гения Пушкина. Следующий фрагмент рассказа М. Асановой: «Приходили люди и черпали себе мед из этого колодца, кто сколько хочет. И медведи им питались. И разные насекомые, да и вообще – все кому не лень!» [Асанова 2003, с. 39] перекликается с «Памятником» А.С. Пушкина: Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, И назовет меня всяк сущий в ней язык: И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий Тунгус, и друг степей калмык. Целебные свойства меда из колодца созвучны пушкинскому: «чувства добрые я лирой пробуждал...». Наконец, еще один фрагмент из рассказа М. Асановой, подтверждающий пушкинский первоисточник – мотив непокорности. В рассказе М. Асановой «Те, кто черпал... уговорились завтра же огородить его, выделить охрану, постановить, кто будет его официальным владельцем...» [Там же]. Пушкинский «Памятник», который завершается словами: «Хвалу и клевету приемли равнодушно, И не оспоривай глупца». В отличие от пушкинского героя, колодец сопротивляется желанию окружающих быть предметом собственности: он утрачивает свое целебное свойство: «...мед из колодца исчез. Осталось только одно углубление в земле. Пустое и высохшее» [Там же]. Образ колодца, синтезируя духовное и физическое начала, становится метафорой творческой личности в художественной картине мира. Рассказ «Колодец с медом» М. Асановой демонстрирует блестящий образец творческого переосмысления автором пушкинского творения. Литература Асанова М. Колодец с медом // Простор. – 2003. – № 5. – С. 31–39. Гаспаров Б.М. «Язык, память, образ». – М., 1996. Жумагулов Е. Ерболдинская осень. – Aстана, 2006. Канапьянов Б. Избранное: В 2 т. – Алма-Ата, 2011. – Т. 2. 83 Логвинова Ирина Владимировна (Россия, Москва; к.ф.н., ст. преп. кафедры русской литературы Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] Йенский романтизм и эстетика А.С. Пушкина (соотношение романтизма и реализма в русской литературе ХІХ века) Несмотря на обширную литературу, касающуюся самых разных аспектов жизни и творчества поэта, проблема «Пушкин и йенский романтизм» остается в науке малоисследованной. Задача статьи – рассмотреть проблему соотношения романтизма и реализма в русской литературе ХІХ века на материале эстетики Пушкина сквозь призму идеи о творческом бытии поэтического произведения. Вопрос о сосуществовании романтизма и реализма в литературе европейской и русской исследовался неоднократно (А.М. Гуревич, А.В. Михайлов, Н.Я. Берковский, А.А. Аникст, И.Ф. Волков, В.М. Жирмунский, Д.С. Наливайко и др.). Большинство исследователей отмечает зыбкость границ романтического и реалистического методов, их терминологическую условность. Однако никто еще не исследовал вопрос о соотношении романтизма и реализма в эстетике Пушкина в связи с проблемой творческого бытия поэтического произведения. Для этого необходимо выяснить, как определяли романтики (и Пушкин) понятие «реализм»; как связаны с этим определением понятия «народность» и «историзм»; какую роль они играют, по мысли Пушкина и йенских романтиков, в процессе творческого бытия поэтического произведения. Главный принцип романтической эстетики, по Шеллингу, заключается в действительности всех образов искусства «в силу того, что они возможны» [Шеллинг 1999, с. 94]. Это – высшая степень реализма. По Шеллингу, идеальное действительнее того, что называют действительным. В силу того, что оно (идеальное) 84 продолжает, раз поселившись, «жить» в театре сознания человека и творить в нем свою реальность (красивую, справедливую, гуманную). Красота, по Шеллингу, это «субстанция и сущность вещей, проявлению которых препятствуют только эмпирические условия» [Шеллинг 1999, с. 272]. Это значит, что красота должна раскрываться вне этих условий, в чистом виде, а такой она может быть представлена в образах поэтического произведения. Тогда она формирует в душе человека идеал, к которому человек в своих поступках начинает стремиться. Комментируя точку зрения Шеллинга, С. Алексеев пишет о том, что реальное у философа содержит в себе идеальное, как свой высший смысл, но обладает еще и «иррациональной конкретностью и жизненной полнотой» [Там же, с. 36]. В самой романтической эстетике заложены основы реализма. У Шеллинга идеальное – это высший смысл реального, а это значит, что романтизм – высший смысл реализма. Так, Д.С. Наливайко утверждает, что принципиальное различие между реализмом и романтизмом заключается не в том, что «первый был устремлен к реальному миру, а второй якобы избегал его, подменяя миром вымысла, фикцией», а в различии художественных систем: «романтизм тоже был устремлен к жизни, к реальному миру, но шел он к ним иными путями, опираясь на иные мировоззренческие и эстетические принципы, обращаясь к иному комплексу выразительных и изобразительных средств» [Наливайко 1981, с. 227]. Говоря об условности термина «реализм», С.И. Кормилов отмечает, что во время дискуссии о реализме в 1957 г. В.В. Виноградов предложил считать реалистической только послепушкинскую литературу [Литературная энциклопедия терминов и понятий 2003, с. 861]. В.Е. Хализев также видит проблему в истолковании термина «реализм». Сущность реализма «прежде всего в широком освоении живых связей человека с его близким окружением» [Хализев 2002, с. 401]. В отличие от романтизма, реализм «склонен не к возвышению и идеализации героя, отчужденного от реальности, отпавшего от мира и ему надменно противостоящего, а к критике (и весьма суровой) уединенности его сознания» [Там же, с. 401]. «...писатели-реалисты, – продолжает В.Е. Хализев, – не уводят нас в экзотические дали и на безвоздушные мистериальные высоты, в мир отвлеченностей и абстракций, к чему нередко были склонны романтики... Универсальные начала человеческой реальности они обнаруживают в недрах «обыкновенной» жизни с ее бытом и «практической» повседневностью, которая несет людям и суровые испытания, и неоценимые блага» [Там же, с. 402]. 85 Действительность художественного образа в ее романтическом осмыслении напрямую связана, по Шеллингу, с понятием истины (правдивости): «Художник, желающий добиться истины в подлинном смысле, должен искать ее гораздо глубже, чем ее наметила сама природа и чем она обнаруживается всего лишь на поверхности образов» [Шеллинг 1999, с. 268]. Эти слова, сказанные о рисунке, применимы и к литературному творчеству. Мы не доверяем внешнему, а заглядываем в глубину (явления, предмета, чувства, ситуации и т.п.), а здесь уже начинается сфера психологического анализа. В этом психологическом анализе специфика понимания романтиками истинности и реальности. Ф. Шлегель говорил: «Источником возрождения безграничного реализма служит идеализм. Расцвет реализма возможен лишь в области поэзии, но никак не в философии. Поэзия должна покоиться на гармонии реального и идеального. И не есть ли этот кроткий отблеск божественности в людях подлинная душа, пламенная искра всей поэзии? Простое изображение человека, его страстей и поступков, конечно, недостаточно. В поэзию должно быть привнесено иероглифическое изображение окружающей природы, просветленной фантазией и любовью» [Литературные 1980, с. 63–64]. Акцент в соотношении в поэзии реального и идеального делается на том, что отдельно взятые, они представляют собой неполную картину жизни. То, о чем говорит Ф. Шлегель, повторяет мысль Шеллинга о синтезе этих двух элементов в романтической поэзии. Об этом несколько другими словами говорит Пушкин. Причем свое понимание слитости реализма и романтизма он обозначил в понятии «истинный романтизм». А.Н. Соколов отмечает, что «истинный романтизм» в понимании Пушкина – это «верность» изображения лиц и времени, это – развитие характеров и событий в соответствии с историей, другими словами, – осмысленное и правдивое художественное воссоздание соответствующей исторической эпохи. Нетрудно заметить, что в понятие «истинный романтизм» Пушкин включает в сущности то содержание, какое вкладываем мы в понятие «реализм» – термин, которого в то время еще не существовало» [Соколов 1970, с. 475]. Многие исследователи отмечают, что «истинным романтизмом» Пушкин называл то, что позднее назвали реализмом. Проблема «истинного романтизма» возникает в связи со спорами о народности. А.М. Гуревич пишет, что «пушкинский романтизм не был вполне последовательным. Во-первых, он сосуществовал и уживался с предромантизмом. Во-вторых, его подрывала изнутри рано определившаяся тенденция к реализму» [Гуревич 1967, с. 229]. 86 Поэтому вызывает определенные трудности вопрос о том, относилась ли народность в русской литературе начала ХІХ века к терминам романтизма или к терминам Просвещения. Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, позволяет решить, является ли термин «истинный романтизм» заменой еще не существовавшего тогда понятия «реализм» или Пушкин имел в виду что-то другое. Проработав литературу по данному вопросу, мы склоняемся к тому, что поэт имел в виду романтизм в его развитии к более реальному отображению действительности, в том числе исторической, и в его стремлении усилить воздействие произведения на сознание зрителя. Самым действенным в этом смысле видом искусства и Пушкин и йенские романтики признавали театр, где происходит синтез реального и идеального. А.Е. Махов отмечает, что романтизм с его идеей народности «дал плеяду национальных поэтов, выразивших «дух народа» и приобретших культовое значение на своей родине (Эленшлегер в Дании, Пушкин в России, Мицкевич в Польше, Петефи в Венгрии, Н. Бараташвили в Грузии)» [Литературная энциклопедия терминов и понятий 2003, с. 894]. Для нас эти слова важны как подтверждение и объяснение того, что термин «истинный романтизм» связан с развитием романтических идей и относится к романтизму, а не к реализму. Так, Е. Сапрыкина считает, что Пушкин, создавая историческую трагедию «Борис Годунов», «мыслил себя создателем «трагедии истинно романтической». Пушкинский термин «истинный романтизм» подразумевал, однако, уже реалистическое содержание (и именно, что подразумевал, но это еще не реализм. – И.Л.). Пытаясь решить вопрос о социальном назначении современной ему русской литературы, Пушкин обратился к творчеству Шекспира и нашел в этом кумире европейских романтиков прежде всего поэта народного, антиаристократического по самой своей сути» [Европейский романтизм 1973, с. 202–203]. Но сами романтики и Ф. Шлегель говорят: «Истинная история должна лежать в основе каждого романтического произведения» [Литературные манифесты... 1980, с. 65]. То есть на исторической основе можно создавать произведение с вымышленным содержанием. Поэтому и романтизм, построенный на основе историзма – «истинный романтизм». А.А. Аникст много пишет о том, что Пушкин «развивал мысли, восходившие к Гердеру и Гете; они ему были известны, вероятно, из книги Жермены Сталь “О Германии”» [Аникст 1972, с. 38]. И это было именно развитие этих мыслей с учетом специфики русской литературы. Исследователь справедливо отметил, что для Пушкина истинный романтизм заключен именно в 87 «шекспировском драматургическом методе» [Аникст 1972, с. 45]. По словам Б. В. Томашевского, определение «истинного романтизма» Пушкин взял у г-жи де Сталь, для которой романтизм и народность – одно и то же [Томашевский 1990]. А она дружила с А. Шлегелем, изучала немецкую литературу и эстетику. Г. Гуковский, отмечая, что Пушкин «не родился реалистом», а «начал свой самостоятельный поэтический путь как собиратель и объединитель противоречивых и разнообразных течений русского романтизма» [Гуковский 1957, с. 5], говорит, что «историзм, не как «колорит эпохи», а как обоснование представления о специфической активности человека, лег в основу того процесса в творчестве Пушкина, который привел его к реализму и к народности...» [Там же, с. 6]. «Его юность, – по словам исследователя, – приходится на годы почти повсеместного преобладания в Европе романтических систем. И раннее творчество Пушкина движется в русле романтизма в его русском преломлении» [Там же, с. 5]. С книгой Ж. де Сталь «О Германии» (1813) Пушкин познакомился достаточно поздно, в 1817–1819 гг. [Томашевский 1990, с. 86]. Но он мог знать об идеях йенских романтиков от Жуковского, знакомого с Л. Тиком. Сама идея «народности» (Volkstümlichkeit) принадлежала Гердеру, а в России ее перенял без указания на источник Николай І, сделав одним из государственных принципов [Мурьянов 1999, с. 10–14] в противовес европеизации России. Пушкин видел, что «роковой особенностью развития русского театра было изначальное отсутствие народности... Именно в народности видел Пушкин источник развития новой подлинно художественной драмы, потому вся предшествующая русская драматургия, за исключением нескольких произведений, не отвечала его высоким критериям художественности» [Аникст 1972, с. 39]. Часто цитируется фрагмент из статьи Пушкина «О народности в литературе»: «Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу» [Пушкин 1964, с. 73]. Мысль об этом можно найти и у Ж. де Сталь: «Климат, конечно, является одной из основных причин тех различий, которые существуют между образами, близкими Северу, и образами, которые нравятся на Юге» [Литературные манифесты... 1980, с. 377]. А ее слова о том, что «романтическая литература – единственная, которая еще может совершенствоваться, она уходит корнями в нашу почву, и поэтому она одна может дальше расти и обновляться: она выра88 жает нашу веру, она напоминает нам о нашей истории; истоки ее в древности, но не в античности» [Литературные манифесты... 1980, с. 387] можно понимать так, что романтическая поэзия – поэзия, связанная с национальными корнями, с национальной историей, может развиваться вместе с развитием народного духа. Поэтому народность и историзм – ее отличительные особенности. Способность идеального привносить в поэзию чувство бесконечного Ж. де Сталь объясняет, как «подлинное свойство души» [Там же, с. 389]. Народность и историзм – способы придания произведению большего сходства с действительностью. Естественно, что это отражается на творческом бытии произведения. Первоосновные принципы которые дала йенская школа романтизма, пусть и через «третьи руки» (Англия, Франция), получили свое осмысление и развитие в творчестве Пушкина. Он взглянул на них уже сквозь призму позднего немецкого романтизма, романтизма Англии и Франции. Можно сказать, он вычленил их, очистил от наслоений и подготовил к новой жизни. Цель литературы – воздействовать, править нравы, удивлять; она существует для досуга не без пользы, для развития. Пушкин говорит: «Изо всех родов сочинений самые неправдоподобные... сочинения драматические, а из сочинений драматических – трагедии, ибо зритель должен забыть, по большей части, время, место, язык; должен усилием воображения согласиться в известном наречии – к стихам, к вымыслам...» [Пушкин 1964, с. 37–38], и тут же добавляет: «Не короче ли следовать школе романтической, которая есть отсутствие всяких правил, но не всякого искусства? Интерес – единство. Смешение родов комического и трагического, напряжение, изысканность необходимых иногда простонародных выражений» [Там же, с. 38]. У Пушкина с йенскими романтиками перекликается мысль об истинной цели поэзии, которая состоит в том, чтобы «пробудить в людях интерес к тем мыслям и чувствам, которые им самим присущи, но не осознаны» [Литературные манифесты... 1980, с. 382], и драма – лучшее для этого средство: «смех, жалость и ужас суть три струны нашего воображения, потрясаемые драматическим волшебством» [Пушкин 1964, с. 202–203]. Народность связана с проблемой воздействия литературного произведения, о чем беспокоились, создавая свои произведения, и йенские романтики, и Пушкин. Вакенродер считал, например, что «искусство есть язык совсем иного рода, нежели природа; но и ему присуща чудесная власть над человеческим сердцем, достигаемая подобными же темными и тайными путями. Оно говорит 89 при помощи изображений людей и, таким образом, пользуется иероглифическим письмом, знаки которого по внешности нам знакомы и понятны. Однако оно так трогательно и восхитительно сплавляет с этими видимыми образами духовное и платоническое, что и в этом случае все наше существо и все, что ни есть в нас, приходит в волнение и бывает потрясено до основания» [Литературные манифесты... 1980, с. 76]. А. Шлегель утверждал, что «искусство должно брать свои предметы лишь из сферы природы, ибо другого источника и быть не может. Фантазия на своих могучих крыльях может подняться над природой, но никогда не может вырваться за ее пределы: составные элементы ее творений, как бы ни были они преобразованы ее значительной деятельностью, должны быть всегда взяты из... реальной действительности», а художник должен находить свою возвышенную наставницу – творящую природу – «только в себе самом, в средоточии своего собственного существа, путем духовного созерцания и никак иначе» [Там же, с. 125]. Конечно, нельзя говорить о прямом влиянии эстетики йенского романтизма на Пушкина, ибо у нас нет прямых подтверждений. Но мы можем утверждать, что это влияние происходило косвенно. Во-первых, своим учителем Пушкин считал Жуковского, который был лично знаком с Гете, переводил Шиллера. Ж. де Сталь, которая вольно истолковала немецкий романтизм, но уловила самую суть понятия «народность», тоже в какой-то степени повлияла на Пушкина. Историзм и народность были предложены романтиками, а развитие эти принципы получили у реалистов. А.С. Дмитриев отмечает, что воздействие немецкой романтической эстетики «на некоторых французских романтиков», и в первую очередь на Жермену де Сталь, было «существенным и органическим» [Там же, с. 41]. «Она совершила по Германии два путешествия: первое в 1803–1804 годах, второе в сопровождении А. Шлегеля в 1807–1808 годах. По материалам этих путешествий, одной из основных задач которых г-жа де Сталь ставила знакомство с немецкой литературой, а не только со страной в целом, была написана ее книга «О Германии», получившая широкий отклик как во Франции, так и за ее пределами...» [Там же, с. 41]. Пушкин был продолжателем романтической традиции, ее осмыслителем и преобразователем. По поводу вопроса о соотношении романтизма и реализма в русской литературе очень хорошо выразился Д.С. Наливайко: «Бесспорно, во многом романтизму конца XVIII – первой трети XIX века была свойственна спонтанная направленность развития к реализму» [Наливайко 1981, с. 276]. Романтизм как реализм – заключаем мы – и было тем 90 пунктом, к которому подошли в своих рассуждениях йенские романтики, а Пушкин, уже независимо от них, развил в понятии «истинный романтизм». Одна и та же проблема (народность и историзм в связи с творческим бытием поэтического произведения) разрабатывалась йенскими романтиками и Пушкиным независимо друг от друга. Она была подсказана эпохой и решалась применительно к современному этапу развития литературы немецкой и русской. Литература Аникст А.А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. – М., 1972. Гуковский Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. – М., 1957. Гуревич А.М. На подступах к романтизму (о русской лирике 1820-х годов) // Проблемы романтизма: Сборник статей / Сост. У.Р. Фохт. – М., 1967. Европейский романтизм / Отв. ред. И. Неупокоева, И. Шетер. – М., 1973. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и составитель А.Н. Николюкин. – М., 2003. Литературные манифесты западноевропейских романтиков / Под ред. А.С. Дмитриева. – М., 1980. Мурьянов М.Ф. Пушкин и Германия. – М., 1999. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили. – К., 1981. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. – М., 1964. – Т. 7: Критика и публицистика. Соколов А.Н. История русской литературы XIX в. (1-я половина). – М., 1970. Томашевский Б.В. Пушкин: Работы разных лет. – М., 1990. Хализев В.Е. Теория литературы. – М., 2002. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. – М., 1999. Эстетика немецких романтиков / Сост. А.В. Михайлов. – М., 1987. 91 Манько Александр Васильевич (Россия, Москва; д.и.н., проф. кафедры общественных наук и страноведения России Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] Дискуссии 20–30-х гг. XIX века об «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина и Пушкин Важнейшим событием в культурной жизни русского общества Николаевского периода явились дискуссии, развернувшиеся на рубеже 20–30-х гг. Они убедительно свидетельствовали о пробуждении исторического сознания, об интересе к общественной истории. Эти дискуссии ознаменовали переход от освещения русской истории вообще к анализу конкретных актуальных вопросов социальной истории страны. Это было время формирования исторического мышления, начала процесса сближения истории с философией. В рассматриваемый период необычайно интенсивное пробуждение исторического сознания в нашем обществе было тесно связано с общим движением западноевропейской и русской историко-философской мысли. На это неоднократно указывали современники А.С. Пушкина. Так, например, И. Киреевский подчеркивал: «История в наше время есть центр всех познаний, наука наук, единственное условие всякого развития». Резко возросший интерес к истории в данную эпоху был связан, прежде всего, с подъемом национального самосознания, вызванным победой в Отечественной войне 1812 года. Н.М. Карамзин назвал ее народной, отметил активную борьбу крестьян с захватчиками и был горд за соотечественников, выигравших «эту удивительную кампанию». Знаменитый историограф был убежден, что победа одержана прежде всего благодаря героизму народа. Интерес к отечественной истории усилился в последекабрист92 ский период, когда предстояло осмыслить трагические уроки 1825 года и более пристально исследовать прошлое для определения будущих путей нации. Резкое усиление «исторического направления» стало характерной чертой журналов 20-х годов. Александр Сергеевич Пушкин внимательно следил за развитием различных направлений исторической мысли. Самым крупным явлением в культурной жизни России 20-х гг. стало издание «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. Его капитальный труд, выходивший на протяжении одиннадцати лет (1818–1829), имел необычайный успех в русском обществе первой трети XIX века, он вызвал интерес у всех, стал предметом активного обсуждения в литературных обществах и светских салонах, в частной переписке, в академической среде и на страницах периодической печати. Издание «Истории» Н.М. Карамзина отличалось большим тиражом, быстротой продажи и переводом на иностранные языки. Распространение и успех «Истории государства Российского» современники назвали «феноменом небывалым». Общественные условия предопределили остроту полемических споров. Главный труд Н.М. Карамзина был вовлечен в поток общественной мысли, он побудил к размышлениям о судьбах России, о значении истории, о задачах российской государственности. Таким образом, этот научный труд поднял на новый уровень массовое историческое сознание. Какие бы споры ни закипали вокруг «Истории», в обществе понимали главное: этот труд – великая заслуга Карамзина, который проложил пути к познанию исторических истоков, жизни прошлого, без чего невозможно осознание важности нравственности, национального достоинства, которое не позволяет раболепствовать перед Западом и терять духовность. В развернувшейся полемике вокруг «Истории» Н.М. Карамзина активно участвовали историки (М.Т. Каченовский, М.П. Погодин, Н.А. Полевой, Н.С. Арцыбашев, П.М. Строев, С.В. Руссов, Д.Е. Зубарев, И. Лелевель, С. Саларев, З. Ходаковский), писатели, поэты, критики, журналисты. Споры вокруг «Истории государства Российского»отражали различные взгляды русской общественности того времени – представителей исторических, литературных и политических направлений. В данном случае речь шла о полемике, которая была значительно шире традиционной критики. Эта полемика велась прежде всего на страницах периодики. Н.М. Карамзин использовал для пропаганды исторических знаний публичные чтения своей «Истории», ее наиболее важных глав. К примеру, отдельные главы из десятого тома, посвященные 93 царствованию Бориса Годунова,Николай Михайлович читал 14 января 1823 года на заседании Российской Академии наук. Очевидцы того заседания отмечали, что Карамзин произвел ошеломляющее впечатление на многочисленную аудиторию. Повышенный общественный интерес вызвало содержание девятого тома карамзинской «Истории государства Российского», в котором описывалось правление Ивана Грозного. Современный историк А.Ф. Смирнов в своем монографическом исследовании «Николай Михайлович Карамзин. Штрихи к портрету. Как создавалась “История государства Российского”. Память сердца» (М., 2005 г.) отмечает, что реакция на выход в свет этого тома историографа была неоднозначной, но преобладали лучшие отзывы. В частности, В. Кюхельбекер девятый том назвал лучшим творением Н.М. Карамзина. А у А.С. Пушкина находим следующие слова: «Что за чудо эти последние два тома Карамзина! Какая жизнь! Это злободневно, как свежая газета». У поэта вызывала восхищение политическая актуальность событий прошлого в исследовании выдающегося историка XIX столетия, и более того, аналогия исторических явлений. Последние тома Пушкин назвал «просто прелестными». Изданные в 1824 году десятый и одиннадцатый тома «Истории» Н.М. Карамзина, посвященные царствованию Федора Иоанновича и Бориса Годунова, представляли для Пушкина особый интерес. Именно содержанием этих томов историограф вдохновил поэта на художественное исследование событий Смутного времени. На вопрос П.А. Вяземского, какие есть сложности в плане трагедии, Пушкин отвечал: «Ты хочешь плана!? возьми конец X-го тома и весь XI-ый том, вот тебе и план». В.Г. Белинский в свое время имел все основания сказать о Карамзине: «Вот имя, за которое было дано столько кровавых битв, произошло столько отчаянных схваток». Отношение к труду патриарха отечественной историографии, меняясь во времени, явилось своего рода барометром, чутко улавливающим сдвиги и оттенки идеологической ориентации различных направлений. Действительно, каждое новое поколение пишет свою историю, и, как правило, выносит приговор предшествующей историографии. Наиболее дальновидные историки при этом е отвергают всего ранее сделанного. Ибо для них актуально звучат слова средневекового мыслителя: «Мы подобны карликам, стоящим на плечах гигантов, и лишь потому способны видеть дальше их». Движущей силой исторического процесса Н.М. Карамзин считал власть,государство. Для историографа главный деятель в истории – мудрость правительства! Н.М. Карамзин был сторон94 ником конституционной монархии, как он выражался, «мудрого самодержавия», основанного на твердых гражданских законах. При этом Николай Михайлович придавал большое значение сохранению традиций высшего государственного управления. В его понимании российское самодержавие – это не самовластие (как утвердилось доминирующее суждение), а полновластие монарха как во внутренней политике (полное право венценосца по отношению к своим подданным во имя «общего блага»), так и во внешней (защита суверенитета государства, неприкосновенности его границ). В лице декабристов историограф встретил серьезных оппонентов своим историческим взглядам: те отвергли его монархическую концепцию. В 1818 году к точке зрения декабристов присоединился А.С. Пушкин. Радикальная молодежь, либералы, «молодые якобинцы» не скрывали своего резкого неприятия ее, порицая Карамзина за посвятительную фразу императору Александру «История народа принадлежит царю». Некоторые из либералов, не вникая в содержание труда, и сосредоточившись только на этой фразе, готовы были перечеркнуть все творчество неисправимого монархиста1. Н.М. Карамзин осуждал революционное насилие. Во французской революции он видел возвращение цивилизации к временам варварства, разрушение государственного порядка. Отсюда неприятие историографом республиканского самодержавия и оправдание монархической формы правления. Николай Михайлович осудил действия декабристов 14 декабря 1825 года. В.О. Ключевский, как известно, назвал восстание на Сенатской площади исторической случайностью. Карамзин считал государственное устройство несовершенным, а крепостничество злом и, тем не менее, не одобрял радикальных изменений, полагая, что общество еще не было к ним готово. Историограф возлагал надежды на просвещенного монарха, который в своем правлении должен опираться на патриотические силы общества, уважать веру наро1 Больше всего критиковалось Посвящение и Послесловие. В своей критике историографа-монархиста декабристы исходили только из авторского текста к первому тому, не зная замысла Н.М. Карамзина в целом, а также содержания других томов. И это обстоятельство проницательно уловил А.С. Пушкин, который в 1826 году писал: «Молодые якобинцы негодовали...». Как справедливо отметил проф. А.Ф. Смирнов «отмеченное Пушкиным обстоятельство не всегда и позже принималось во внимание». Подчеркнем, что декабристы, критиковавшие автора «Истории государства Российского» за приверженность монархизму, стали им восхищаться после выхода в свет ее девятого тома. 95 да, его традиции, обычаи, образ жизни, освободить церковь от административного контроля1. А.С. Пушкин, медленно выздоравливая после продолжительной болезни, оказался в атмосфере различных столичных мнений об «Истории» Н.М. Карамзина. А. Пушкин первым сделал всестороннюю оценку Карамзинской «Истории», отмечая не только положительные, но и отрицательные стороны. Поэту приходилось защищать особенно активно «Историю государства Российского» после подавления декабрьского восстания 1825 года, когда реакция использовала монархическую концепцию историографа игнорируя при этом всем ценным в его произведении. Именно в такой обстановке Александр Сергеевич заявляет: «История государства Российского» есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека». Это была принципиальная позиция Пушкина. Поэт защищал мысль о большом значении многотомного произведения Н.М. Карамзина для отечественной культуры. Защищать, с одной стороны, от тех, кто вообще отрицал значение этого монументального труда, и, с другой стороны, от тех, кто только восхвалял его. Но при этом он не принимал охранительной концепции Карамзина, идеи спасительности самодержавия, представления о народе как воплощенной монархической преданности. Важно иметь в виду, что на рубеже 20–30-х гг. XIX века у поэта было уже иное отношение к историографу, в новых исторических условиях, в обстановке дискуссий по актуальным вопросам (Россия и Запад, место России в мировом историческом процессе, судьбы русской государственности и другие) оно получило новый поворот. В связи с выходом в свет XII тома «Истории государства Российского» в 1829 году Н.А. Полевой опубликовал на нее развернутую рецензию. В ней он писал следующее: «Хронологический взгляд на литературное поприще Карамзина показывает нам, что он был литератор, философ, историк прошедшего века, прежнего, не нашего поколения. Это весьма важно для нас во всех отношениях, ибо сим оценяются верно достоинства Карамзина, заслуги его и слава». Н.А. Полевой как историк-журналист отдает должное заслугам Н.М. Карамзина, сравнивая его с М.В. Ломоносовым по силе влияния на русскую культуру. Рецензент признает также, что «приведением в порядок материалов», то есть 1 «Молодые якобинцы» – декабристы собирались и обсуждали «Историю государства Российского» Н.М. Карамзина в салоне княгини Евдокии Ивановны Голицыной, в доме Тургеневых. Бывал там и Пушкин. 96 архивной и историографической работой Н.М. Карамзин оказал «незабвенные заслуги» российской науке. Что касается критических высказываний Н.А. Полевого, то он, в частности, упрекнул автора «Истории государства Российского» за то, что историограф не показал «духа непокорного», т.е. народных движений, а «жизнь России остается для читателей неизвестною, хотя его утомляют подробностями». По этому аспекту критики А.С. Пушкин защищает Н.М. Карамзина, подчеркивая, что экономическая, политическая и бытовая жизнь народа показаны настолько, насколько ее изображение подтверждает ход политических событий. Н.А. Полевой не ограничился развернутой рецензией на «Историю» Н.М. Карамзина, а стал издавать свою «Историю русского народа» в шести томах. Появление первого тома «Истории русского народа» Н.А. Полевого в том же, 1829 году, вызвало новую полемическую волну. В центре развернувшихся дискуссий оказался целый комплекс вопросов и,прежде всего, проблема своеобразия исторических судеб России, ее места в мировом историческом процессе. Активное участие в полемике принял и А.С. Пушкин, выступив на страницах «Литературной газеты» 1830 года со статьями об «Истории» Полевого. Именно в этих статьях Пушкин не только подверг критике социально-философские взгляды новых историков, но и дал наиболее полную оценку труда Н.М. Карамзина. Пушкинские статьи явились итогом длившихся столь долгое время споров об «Истории государства Российского». Пушкин, защищая труд историографа от несправедливой критики, писал: «У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина – зато никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам... «История государства Российского» есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека». По мнению поэта, достоинство Карамзина как историка заключалось в ученом сличении преданий, в остроумном изыскании истины, в ясном и верном изображении событий». А.С. Пушкин был первым, кто подошел к оценке «Истории» Н.М. Карамзина с принципиально иных позиций, прямо подчеркнув ее художественную природу. Поэт по-иному осмысляет художественный дар Карамзина, связывая его прежде всего с умением открыть современникам глаза на правду истории. В статье «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» поэт писал, что «русская словесность с гордостью может выставить перед Европою Историю Карамзина». Подчеркивая, что «История 97 государства Российского» принадлежит к высшим достижениям «золотого века» русской культуры, Александр Сергеевич назвал Н.М. Карамзина «одним из великих наших сограждан». А.С. Пушкин, внимательно следивший за литературной жизнью в России, заинтересованно откликнулся на издание шеститомной «Истории русского народа» Н.А. Полевого. После тщательного анализа ее содержания и особенно в связи с тем, что ее автор подхватил идеи французского историка Фр. Чизо А.С. Пушкин в 1830 году выступил с критикой концепции русской истории Н.А. Полевого. Свои впечатления поэт изложил в трех статьях: на первый том – в «Литературной газете» (1830, №№ 4 и 12), а на второй том – написанная статья не была опубликована. По мнению Пушкина, название работы Н.А. Полевого получилось неудачным – «пустая пародия на заголовок “Истории государства Российского”» и не менее неудачное вступление к своему сочинению. Оно оказалось противоречивым и многословным. Поэт заметил, что ее автор «столь же темен в изложении своих этнографических понятий, как и в философических рассуждениях своего предисловия. Он или повторяет сбивчиво то, что было ясно изложено Карамзиным, или касается предметов, вовсе чуждых истории русского народа». Необходимо особо отметить, что в полемике с Н.А. Полевым А.С. Пушкин большое внимание уделил вопросу о сущности, отличиях русского феодализма. Что же касается самого Полевого, то у него в отношении феодализма не было никакой четкости в изложении материалов – лишь туманные рассуждения, много исторических путаницы и противоречий. Он утверждал, что в России господствует «семейственный феодализм» домостроевского образца. Пушкин с такой трактовкой не был согласен, утверждая, что русский и западный феодализмы различны уже по своему происхождению. Дело в том, что в странах Западной Европы феодализм появился в результате завоевания и крушения Рима под ударами варваров, а в России никакого завоевания не было, народ же постоянно отбивался от восточных орд. Кроме того, в России было налицо сословное разделение, где возникла аристократия в виде боярства. Следует подчеркнуть, что Пушкин при рассмотрении рецензий, откликов на «Историю русского народа» Н.А. Полевого защищал ее автора, а именно от брани, ругательств недоброжелателей. Поэт, проанализировав все высказывания, сделал вывод о том, что «нет ни одного дельного обвинения». Заметим, что полемика между поэтом-историком и журналистом-историком, разумеется, носила философско-исторический оттенок. Сам А.С. Пуш98 кин был дал далек от мысли обвинять Н.А. Полевого: у него была другая цель – втянуть автора «Истории русского народа» в полемику и тем самым дать импульс дальнейшим историческим исследованиям Николая Алексеевича. Но Полевой не принял пушкинского приглашения, так как очень уважал и любил Пушкина, и продолжал работать над «Историей русского народа», учитывая полезные советы». Во второй половине 20-х – начале 30-х гг. XIX столетия заметное место среди окружения А.С. Пушкина занимал М.П. Погодин – издатель «Московского вестника»публицист, писатель и историк. Разнообразные материалы свидетельствуют, что общение поэта с Михаилом Петровичем носило весьма активный характер, они помогают больше узнать о позиции Пушкина по многим аспектам развития философско-исторической кой мысли в России на рубеже 20–30-х гг. XIX, в частности, по вопросу о формировании историзма поэта. Так, драма Погодина «Марфа Посадница» вызвала у поэта интерес, так как давала возможность изложить свое понимание исторического процесса. Пушкин написал статью о драме Погодина. Для Пушкина «Марфа Посадница» – прежде всего вечевая трагедия, в то время как автор этой драмы явно дискредитировал идею вольности и прославлял самодержавие Иоанна III. Были разные оценки Пушкина и Погодина в характеристике Бориса Годунова. В статье «Об участии Годунова в убиении царевича Димитрия», опубликованной в «Московском вестнике» (1829) М.П. Погодин отразил свой подход к образу Бориса Годунова и к драме Пушкина. Речь идет о подмене исторической точки зрения морально-психологической. Статья – результат споров Пушкина с Погодиным. Она вызвала сильную реакцию поэта, о чем Погодин сообщил Шевыреву в письме от 29 сентября 1829 года: «Но вот тебе важнейшее завещание: напиши непременно трагедию «Борис Годунов». Он не виноват в смерти Димитрия: в этом я убежден совершенно... Надо же снять с него опалу наложенную, кроме веков, Карамзиным и Пушкиным. Представь человека, которого обвинить стеклись все обстоятельства, и он это видит и дрожит уж будущих проклятий» – Именно свою трактовку Погодин противопоставил пушкинской. В августе 1830 года Погодин писал: «Напишу Бориса и положу гири против Карамзина и Пушкина». Намерение это было осуществлено. В следующем, 1831 г., им была закончена драма «История в лицах о царе Борисе Федоровиче Годунове». Заметим, что в драме М.П. Погодина извращается идея Пушкина о роли народа в истории. У Михаила Петровича народ – только мятежник. 99 Разногласия между Пушкиным и Погодиным имели принципиальный характер. Погодин, признавая художественные достоинства трагедии «Борис Годунов», не соглашался в главном – не признавал политической концепции пушкинского произведения, принципов осмысления исторических событий. Здесь суть спора в том, что Погодин, доказывая непричастность Годунова к убийству в Угличе царевича Димитрия, пытался реабилитировать верховную власть, укрепить авторитет самодержавия. У Пушкина иной подход к освещению исторических событий: он не идеализирует самодержавную власть. На протяжении всего XIX века актуальным был вопрос о судьбе России и путях ее дальнейшего развития. Этот вопрос нашел свое отражение в теме «Россия и Запад», которая стала обсуждаться в конце XVIII столетия, и стал особенно острым в 30-х гг. XIX века. Именно в это время идеи историзма оказались наиболее плодотворными в творческой деятельности, и вышеназванная проблема вызвала у Пушкина повышенный интерес. Он, понимая специфические особенности исторического развития России, задавал очень важный вопрос: а достаточно ли самобытности для процветания Отечества или целесообразно ли привлечение технико-экономического опыта и духовных ценностей Западной Европы? И эти раздумья великого поэта тогда разделяли многие общественно-политические слои России в 30-е гг. XIX века, и это выразилось в идеологии славянофильства и западничества. А.С. Пушкин, активно участвуя в полемике по проблеме «Россия – Запад», в своих публикациях твердо придерживался двух принципиальных тезисов: 1) «Россия никогда не имела ничего общего с Европой» и 2) «История России требует другой мысли, другой формулы». По своему духу поэт более тяготел к западничеству как направлению общественной мысли, которое соединяло исторические достижения Запада с будущими социально-экономическими преобразованиями в России. Разумеется, большое влияние на поэта оказывало французское образование, очарование западной культурой, зародившие зерна свободомыслия, вольнолюбивого нрава. Ведь именно в минуты тоскливых размышлений о технической и культурной отсталости России у поэта возникали прозападные настроения. 100 Маурер Людмила Петровна (Швеция, Стокгольм; к.ф.н., преп. Лингвистического центра родных языков и языков национальных меньшинств) [email protected] Философская лирика А.С. Пушкина и «метод личностного прочтения» Трудности в преподавании русской классики в Швеции В статье речь пойдет о преподавании русской классической литературы учащимся-билингвам, представителям различных этнических культур, владеющим русским в различной степени и шведским языком как доминантным. Преподавание ведется на русском языке; в курс входят основные тексты классической литературы, которые, в зависимости от владения аудиторией русским языком, читаются целиком или в сокращении. Понимание художественного текста является естественной и одновременно трудно достижимой задачей преподавания литературной классики в Швеции. В чем же мы видим основные препятствия на этом пути? Дело не только в том, что наши учащиеся не владеют русским языком в совершенстве. Трудность в понимании русской литературы обусловлена прежде всего несовпадением картины мира и системы ценностей среднего молодого европейца и русской классики. «Правда», «душа», «Бог», «смысл жизни», «душевное мещанство» являются главными темами русской литературы, но эти понятия находятся за пределами духовного кругозора учащихся. Идеал русской классики противоположен идеалу потребительского общества, в котором формируются учащиеся, – идеалу личного благополучия. В современном обществе роль языка все более ограничивается функциями коммуникации и потребления информации. Главной задачей в школьном преподавании языка в Швеции является обучение коммуникативным моделям, а понимание текста сводится к извлечению точной информации. Художественные 101 тексты, предлагаемые детям и подросткам в школах, в соответствии с доминирующей дидактической установкой приближены к уровню понимания среднего ученика, описывают часто встречающиеся, банальные ситуации из жизни, лишены художественности и с трудом отличимы от газетных статей. Естественно, в такой образовательной ситуации чтение русской классики, да и просто серьезной литературы становится непосильной задачей. Еще одну причину непонимания художественного текста мы видим в недостаточности традиционного литературоведческого подхода. Умение проанализировать сюжет, характеры и эстетические особенности произведения часто не приближает, а уводит читателя от целостного понимания текста. По нашему мнению, гуманитарная педагогика должна давать не сумму знаний о тексте и писателе, а навык видеть, слышать и понимать, что у одного явления может быть множество значений и что о разных вещах может быть много суждений. Для того чтобы преодолеть все эти трудности в преподавании литературы, мы развиваем и используем метод, который мы условно называем «методом личностного прочтения». Методологические принципы чтения художественного текста и реальный опыт их применения Мы считаем, что в изучении художественной литературы необходимо сохранять следующий принцип: от многозначности слова к многозначности художественного текста, многозначности мира и человеческой души. Учителю не следует давать теорию и толкования прежде, чем учащиеся самостоятельно придут к формированию теории и собственных толкований. Важен процесс их собственного понимания. У учителя может быть вполне определенная концепция, но она должна возникнуть на уроке как результат коллективного творчества группы. Мы разделяем понимание предмета гуманитарных наук («наук о духе»), сформулированное М.М. Бахтиным: «...предмет их не один, а два “духа” (изучаемый и изучающий)». Настоящим предметом является «взаимоотношение и взаимодействие “духов”» [Бахтин 1986, с. 368]. Таким образом, процесс познания двунаправлен: внутрь себя и вовне. Происходит обретение нового духовного опыта в процессе постижения духовного опыта другого. Задача преподавателя – помочь учащимся осознать близость духовного опыта писателя и его героев своему собственному опыту и пробудить их личную заинтересованность в проделывании духовной работы самопознания и познания глубинного содержания художественного произведения. 102 Важно с самого начала объяснить учащимся, что чтение художественной литературы требует особого умения и способностей, которые надо в себе развивать. «Чтение – искусство, которому надо учиться...» [Винокур 1981, с. 38]. В течение всего курса мы возвращаемся к основным методологических принципам чтения художественного текста, которые можно было бы сформулировать следующим образом: – отношение к тексту как вместилищу духовного опыта гения, человека с особой чувствительностью, которому открыто больше тайн, чем среднему читателю; но им раскрывается то, что есть в каждом из нас, часто в скрытом, дремлющем состоянии; – понимание того, что герои произведений часто являются ровесниками наших учащихся, и, несмотря на свою принадлежность иной социально-исторической ситуации, они стоят перед теми же экзистенциальными вопросами добра и зла, свободы и необходимости, любви и страдания. А значит, близки и интересны нам; – осознание того, что художественное произведение не есть мертвый законченный текст, а есть живой организм, находящийся в становлении и развитии и раскрывающийся в свободном диалоге с читателем. Это «выразительное и говорящее бытие, которое никогда не совпадает с самим собою и потому неисчерпаемо в своем смысле и значении» [Бахтин 1986, с. 430]; – любое прочтение имеет право на существование, так как «критерий здесь не точность познания, а глубина проникновения» [Там же, с. 429]. Это область открытий и откровений . На этом пути нет правильных ответов и не может быть ошибок. Изучение художественного текста мы могли бы представить тремя этапами, условно называя их: «проживание собственного опыта» – «проживание чужого опыта» – «художественное моделирование». Применение этого метода мы продемонстрируем на опыте прочтения стихотворений А.С. Пушкина «Дар напрасный, дар случайный...», «В часы забав иль праздной скуки...», «Пророк». Первый этап работы с текстом. Цель первого этапа – помочь учащимся прожить опыт, переданный в художественном тексте, как свой личный; сблизить духовный опыт читателя и автора. Учащимся предлагается текст стихотворения «Дар напрасный...» со следующим заданием: «Перед тобой стихотворение. Представь, что оно написано твоим близким другом. Каждое чувство, каждая мысль стихотворения находит отклик в твоем сердце. 103 Ты также понимаешь жизнь или иначе? Ты хочешь утешить и подбодрить друга? Или стихотворение вызвало у тебя раздражение и даже разозлило тебя? Прислушайся к своим чувствам. Напиши письмо-ответ другу, в котором постарайся, как можно более подробно, прокомментировать мысли и чувства, описанные в стихотворении, и выразить твою личную реакцию на них”. Ниже мы приводим текст одного из «писем другу». Здравствуй, друг мой! Обычно я смеюсь над людьми, которые пишут грустные тексты о своей жизни, но твои мысли не смешат меня, так как я тоже думаю о смысле жизни. «Жизнь, зачем ты мне дана?» – этот вопрос я задавала себе много раз. Я часто думала об этом и не могла найти ответа Зачем нам жить, когда в конце мы все умрем? И на этот вопрос, я думаю, что не найду ответа. Зачем нужны мечты и цели, когда смерть у нас все отберет? «Душу мне наполнил страстью, ум сомненьем взволновал...» Зачем любить, зачем нам сомневаться? Ведь все это в конце концов не имеет значения. Но не грусти, друг мой! Это не так, всякая жизнь имеет смысл. Хоть жизнь не очень-то длинна и, казалось бы, что в конце все не имеет смысла, я все же смогла разгадать, в чем смысл. Не будь эгоистичен! Ведь твоя жизнь важна не тебе лишь, а всем твоим друзьям, родным и близким. Подумай, что кому-то важен ты. Ведь жизнь – это дар, и ты неправ, он не напрасный. Ведь лучше жить и испытать любовь и боль, злость и радость, чем не жить вообще. Так что помни, друг мой, жизнь прекрасна, и ты должен быть счастлив, что тебе дан этот дар. И в следующий раз, когда ты загрустишь, не думай, что твоя жизнь не важна. На свете много людей, кому ты очень нужен... И я одна из них. Таким образом установка на личностное прочтение позволяет читателю не только осмыслить опыт автора текста, но и прислушаться к своим собственным чувствам, подготавливая себя к более заинтересованному и глубокому пониманию произведения. Незнание имени автора художественного текста и общего контекста стихотворения не только не затрудняет, но облегчает сближение опыта читателя и писателя; осуществляется процесс их живого личностного диалога. Второй этап работы с текстом. Цель данного этапа – заинтересованное, эмоциональное изучение чужого опыта – опыта автора. Учащимся дается необходимое для этого знание истори104 ческого и биографического контекста стихотворения. Они также знакомятся с уже существующим «письмом – ответом» Пушкину – стихотворением митрополита Филарета. Текст стихотворного послания Филарета может даваться в форме предугадывания: уловив внутреннюю логику поэтического диалога, построенного на противопоставлении, учащиеся сами «восстанавлвают» смысловую и словесную структуру стихотворения Филарета. Происходит близкое, пословно – построчное, прочтение двух произведений. Постижение философского смысла происходит параллельно с изучением лексики и составлением «словаря стихотворений». Доска делится на две части. Оба стихотворения записываются, как диалог, с пояснением важнейших слов. Пушкин Филарет дар напрасный, дар случайный не напрасно, не случайно жизнь, зачем ты мне дана? жизнь от Бога мне дана судьбою тайной не без воли Бога тайной на казнь осуждена и т.д. Два стихотворения могут быть прочитаны вслух двумя учениками, как диалог, где каждая строчка превращается в реплику. Задачей учителя является также постепенное переключение внимания с конкретно-исторического и биографического плана к универсальности и вечности затронутой темы – одной из главных тем русской литературы – темы поиска смысла жизни. Анализ и сопереживание перемещается из сферы «они-тогда» и «мысейчас» в сферу «мы-все-всегда». Третий этап работы с текстом. Цель третьего этапа – превращение чужого опыта в свой. На данном этапе учащиеся «создают» тексты изучаемых авторов, происходит «творческое моделирование» в соответствии с познанными художественно-смысловыми и духовными закономерностями изученных произведений. Учащиеся получают задание написать ответ Пушкина Филарету. Им неизвестно о существовании и тем более содержании ответа Пушкина – стихотворения «В часы забав иль праздной скуки...» В создании текста используется накопленный опыт знаний о себе и авторе. Созданные тексты сопоставляются с оригинальным текстом Пушкина. Опыт занятий по данному методу демонстрирует углубленное и заинтересованное осмысление художественного текста, прежде всего, его духовного содержания и, что для нас наиболее важно, расширение духовного кругозора учащихся. Молодые люди, незнакомые с духовной проблематикой и не интересующиеся ею, 105 открывают для себя новые области для размышления и внутреннего поиска. Таким образом, проходя через проживание собственного опыта (1-й этап – письмо другу), проживание чужого опыта (2-й этап – вхождение в ситуацию автора / героя через близкое чтение и осмысление стихотворений), учащиеся создают собственный текст в духе познаваемого автора (3-й этап), в котором осуществляется «взаимоотношение и взаимодействие “духов”» [Бахтин 1986, с. 368]. Один из текстов – результат подобной работы учащихся – мы приводим в завершающей части статьи. Благодаря приобретенному опыту, учащиеся подготавливаются к прочтению чрезвычайно сложного для них и центрального, по нашему мнению, для всей русской литературы произведения – стихотворения «Пророк». Для продолжения курса необходимо приблизится к пониманию творчества как служения и осмыслению преображающей роли искусства. Нельзя забывать, что мы имеем дело с молодыми людьми, не имеющими опыта чтения серьезной литературы и неготовыми к такому пониманию ее роли, которое свойственно русским классическим писателям. На следующем занятии в группах обсуждается нобелевская лекция И. Бродского, особый акцент делается на преображающей роли искусства и словах поэта: «Искусство превращает человека из общественного животного в личность» [Бродский 1991, с. 6]. Для обсуждения в группах предлагаются вопросы: «Отличается ли человек, читающий настоящую литературу, от нечитающего? Нужно ли читать художественную литературу?» Постепенно переходим к вопросам: «Может ли стать поэтом любой человек? Можно этому научиться? Для чего писатель пишет?” Разговор проходит в форме свободной беседы. Цель преподавателя – подвести аудиторию к чтению «Пророка», к пониманию того, что гений – это существо особого рода, которому открываются тайны, нам недоступные и открывающиеся для нас через посредничество гениев. Но учебная цель ученикам неизвестна. Учитель не дает своих толкований прежде, чем студенты сами придут к формированию собственных толкований. Важен процесс их собственного понимания художественного текста . Ниже приводится отрывок из беседы на уроке. Учитель: Может ли стать поэтом любой человек? Можно этому научиться? Ученики: (в начале больше половины класса) – Конечно, можно научиться. Поковыряться в себе, сесть да поработать над текстом. – Нужно придумать историю и хорошо сформулировать и т.п. 106 – Нет, не каждый. Надо иметь, что сказать, и уметь, как сказать. – Для этого нужен дар. Учитель: Какой дар? В чем он состоит? Ученики: – Нужно быть духовно богатым! (Павел) – Я этого не понимаю, «»духовно богатый». Душа. Что это такое? Никто и не знает, есть ли она, душа. Где она: в голове, в сердце? У человека есть голова, ей и пишет. Учитель: Павел, ты можешь ответить Надежде? Все мы слышали, и некоторые употребляют слова «душа», «духовно богатый». А можем ли мы объяснить, что это такое? Нам это очень важно. Как же мы будем читать русскую литературу, не разобравшись в этом. Уже сегодня нам понадобиться слово «духовный». Ученики: – (Павел) Нет. Сразу не могу объяснить. Дайте подумать. – Это чувства? Ведь писатель, конечно, не головой пишет. Мы сопереживаем его чувствам. Учитель: Давайте мы прочтем стихотворение «Пророк». Как бы Пушкин ответил на вопросы, которые мы сегодня обсуждаем? (Учитель медленно читает стихотворение. Сразу после прочтения спрашивает.) – Что вы поняли? Ученики: – Поэт, или вернее человек, о котором идет речь, превращается в пророка. – Он изменяется. Начинает слышать. Вместо языка жало. Учитель: Почему жало? Ученики: 1. Он может жалить. Говорить всем неприятные вещи. 2. Нет, это мудрость. Мудрое жало и т.д. Учитель: Давайте медленно и с самого начала. «Духовная жажда». Что это? Ученики: – (очень неуверенно) Наверное, это то, о чем мы читали в стихах Пушкина и Филарета. О смысле жизни, о Боге. Учитель: Что за пустыня? Песок? Географическое место? Ученики: – Нет, нет. – Внутренняя пустыня? Среди людей, как в пустыне? – Да, как в стихотворении «Дар напрасный...» Учитель: Как поэт меняется? Почему уголь, огонь вместо сердца? 107 Ученики: – Сердце живое, страдающее, горящее чувствами. Учитель: Что же произошло, когда он преобразился? Ученики: – Он услышал Бога. Учитель: Что значит «жги сердца людей»? Ученики: – Говорить неприятные вещи, не бояться обидеть, оскорбить. – Говорить правду о России, ведь в России тогда было плохо. Нужно было это объяснять. Учитель: Еще что-то? Ученики: – Ведь у него самого сердце горело. Он хотел, чтоб оно горело и у других. Чтобы они тоже слышали и видели. – Поэт преобразился и хочет, чтоб с другими произошло то же самое. Это его миссия. Таким образом в процессе совместного осмысления стихотворения, методом проб и ошибок, ученики сами приходят к желаемым выводам. Учитель только подводит итоги беседы и открывает дальнейшую перспективу знакомства с русской литературой. Учитель: Русская литература – не просто искусство слова. Не только Пушкин в этом стихотворении, но все великие русские писатели будет озабочены человеческой душой и ее преображением, а значит, и нашей с вами душой. Вера в человеческий дух, в высокое человеческое предназначение и несоответствие нашей повседневной, обычной жизни этому назаначению – вот о чем мы будем читать и думать. Великие русские покажут вам желанный для них путь: духовная жажда (описание жажды в «Дар напрасный») – преображение через страдания – новое рождение (изменение чувств, языка, сердца) – встреча с Истиной. В качестве домашнего задания в соответствии с методом личностного прочтения учащимся предлагается написать письма или дневники А. С Пушкина. Ниже приводится одна из работ. Дневники А.С. Пушкина по ст. «Дар напрасный...», «Пророк», «В часы забав иль праздной скуки...» (Мафтуна Торабова) День 1. Я брожу по жизни без цели. Живу, как все, как любой другой в этой вечной толпе. Зачем она мне дана, эта жизнь? Есть 108 ли у меня какое-то предназначение? Что я должен сделать перед тем, как я покину этот мир? Или мне так же, как большинству, суждено жить лишь для того, чтобы есть, пить, встречать ночь, а после этого встречать рассвет; и, когда время мое истечет, чтобы родные оплакали меня, а когда их тоже не станет, чтобы помнить меня, имя мое будет навсегда забыто? Если это так, то зачем страдать и жить? Ведь все равно никто не будет помнить об этом! Я написал сегодня: «Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты мне дана?..» А если все-таки есть какая-то цель, в чем она заключается? Неподвижный, стою я на перепутье... Но не печалься, душа моя. Мы найдем наш путь, ты и я! День 2. Сегодня я проснулся утром, посмотрел в окно и увидел то, что вижу каждый Божий день. Те же деревья, те же поля. И меня стали томить те же мысли, которые не дают душе моей покоя. Должен ли я жить свою жизнь однотонно? ...Каждый день одинаково серый. Я хожу среди людей, смотрю в их глаза, но не живые они, а cловно стеклянные. Глаза эти не теплые, чувств в них нет! Пустые люди, и жизнь, как пустыня. Нет со мной никого, кто мог бы разделить со мною мою печаль. Смотрю на людей и понимаю, что их устраивает эта бессмысленная, пустая жизнь. Они ни в чем не чувствуют недостатка. Их все устраивает. Но задают ли они себе вопрос о том, зачем они пришли на этот свет? Нет! Им все равно. Они лгут, совершают дурные поступки, желают друг другу зла и не думают о том, что мы все все равно покинем этот мир, ведь мир этот не вечный. И когда мы покинем его, будет не важно, как мы одевались, и как хорошо мы ели, и как много у нас было денег. Важным тогда будет лишь то, как честно мы прожили эту жизнь, были ли мы верными друг другу и нашли ли мы истину существования. Я читал сегодня Библию. Меня потрясло видение пророка Исаии: «И сказал я: Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, – и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». 109 И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать? И кто пойдет для нас? И я сказал: «Вот я, пошли меня». И сказал Он: «Пойди, и скажи этому народу: слухом услышите, и не уразумеете; и очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их». День 3. Я прочел стихотворение митрополита Филарета. А ведь это он написал для меня. Глубоко взволнованный, я вышел из дома. Я брел по лесу без цели, не зная, куда иду. Чувства ужасные, мучительные переполняли мое сердце. Я понял, что все это время я был слепым, что я сам, и никто кроме меня самого, был виноват в моих мучениях. Митрополит Филарет написал: «Не напрасно, не случайно Жизнь от Бога мне дана, Не без воли Бога тайной И на казнь осуждена. Сам я своенравной». Слова святителя обжигали мое сердце. Я стал кричать и плакать. Я так кричал, что голос ослаб, голова раскалывалась от боли. Было так тяжело, неописуемо. Я посмотрел на небо и попросил Господа о помощи. Небо вдруг открылось, и ко мне в лучезарном сиянии спустился священный Серафим. Он удалил все мои сомнения и наполнил душу любовью к Всевышнему и к жизни, данной Им мне. Научил меня Ангел видеть свет во всем и быть благодарным, помогать людям видеть истину и не творить зла. Он рассказал мне, что у меня есть дар слова, и призвал меня, чтобы я использовал его во благо людей, потерянных в размышлениях о жизни. «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись волею моей, И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей. Читайте, люди, мою историю и не отчаивайтесь. Выход всегда есть, и помощь тоже придет. Надо лишь попросить о ней и верить в Него». Таким образом, по нашему глубокому убеждению, изучение русской литературы должно быть неизбежно сопряжено с осознанной духовной работой, и полноценное понимание отдельного художественного произведения возможно только как плод этой 110 духовной работы. Роль преподавателя можно определить как некий род духовного водительства. Конечно, очень далекого от совершенства. Так как и мы, преподаватели, вовлечены благодаря нашим классикам литературы в тот же процесс «выделывания в человека». Литература Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986. Бродский И. Нобелевская лекция // Стихотворения. – Таллин, 1991. Винокур Г.О. Введение в изучение филологических наук // Проблемы структурной лингвистики. – М., 1981. 111 Науменко Галина Абрамовна (США, Гаханна; Ph.D., преп. Образовательного Центра Vidi-Vici) [email protected] Мицкевичский подтекст в творчестве А.С. Пушкина последних лет Пушкинская тема ответа Адаму Мицкевичу казалась закрытой в 1834 году после завершения стихотворного послания Мицкевичу «Он между нами жил...» из-за примиряющего звучания этого стихотворения. В 1834 году, переписав набело «Он между нами жил...», Пушкин, по мнению многих исследователей, поставил точку в отношениях с Мицкевичем, недвусмысленно обвинившим русского поэта в предательстве дела свободы в своем стихотворном послании «Русским друзьям» из цикла «Отрывок» («Ustęp»). Однако точка не была поставлена и внутренний диалог с польским поэтом не был завершен. Наоборот, летом 1834 года Пушкин оказался в ситуации, которую можно назвать пограничной, и «мицкевичский подтекст», став во многом ее причиной, приобрел новую остроту в пушкинском творчестве. Стимулом к созданию большинства произведений 1833–1836 годов, как в прозе, так и в стихах, стал этот подтекст, включающий в себя восприятие Пушкиным антирусского цикла «Отрывок» (петербургского раздела поэмы «Дзяды» III), а также отношение к другим, более ранним произведениям польского поэта, в первую очередь к «Конраду Валленроду» – поэме о мщении врагу, захватившему Литву. Польско-русский конфликт, признанность гения Мицкевича в России (в кругах близких Пушкину) при его положении изгнанника, чьи произведения запрещены в Российский империи (частью которой была, конечно, и Польша), чрезвычайно осложнили, вернее, сделали практически невозможным открытый диалог Пушкина с поэтом-собратом. Дополнительным осложнением явился тот факт, что уже созданный ответ Мицкевичу, «Медный всадник», был не разрешен Николаем I к 112 публикации. Все это привело к скрытому диалогу и феномену «мицкевичского подтекста» в пушкинских произведениях 1833– 1836 годов. Религиозный аспект творчества Пушкина в последние годы жизни – также не вполне изученная тема – не может быть осмыслен без того, что здесь условно названо «мицкевичским подтекстом». В «Отрывке» польским поэтом был преподнесен как бы христианский урок России: Мицкевич доказывал, что Россия осталась варварской страной, отсталой по сравнению со странами Запада, включая Польшу, и потому представляет опасность, угрожающую европейскому христианскому миру и цивилизации. Этот стихотворный цикл по существу был адресован не столько русской, сколько европейской аудитории, но Мицкевич посвятил его «русским друзьям», потому что «Отрывок» явился реакцией польского поэта не только на подавление польского восстания (1830–1831 годов) русскими войсками, но и ответом на «антипольские» стихи «друзей», Жуковского и Пушкина. Заочный диалог Пушкина с Мицкевичем, и шире – с Западом, повлиял на то, что христианская тема в творчестве Пушкина последних лет оказалась укорененной не в сугубо личном обращении Пушкина к православному христианству, а в конфликте Запада и Востока (России), сформулированного Мицкевичем в «Отрывке» с карательно-христианских позиций. Это апокалиптическое христианство с социальной направленностью было неприемлемо для Пушкина, и в черновике стихотворения «C Гомером долго ты беседовал один...» он назвал Мицкевича (а именно к нему, вероятнее всего, обращено это стихотворное послание) «вождем» не народа, а «толпы» (цит. по: [Бонди 1978, с. 167]). На христианскую позицию польского поэта оказало влияние пушкинское стихотворение «Пророк» с его идеей поэта-пророка, проводника Божьего гласа, который должен «глаголом жечь сердца людей» [Пушкин 1977–1979, т. II, с. 305]. Написание «Пророка» связано с 1826 годом, в первую очередь с казнью декабристов, и Мицкевич полагал, что Пушкин должен был продолжить дело поэта-пророка и пропагандировать свободу, за которую боролись декабристы и Польша, а не воспевать силу России и не осуждать польское восстание. Он обвинил Пушкина в моральном падении: лакействе и предательстве. Личное оскорбление, нанесенное в «Отрывке» Пушкину, как поэту якобы защищающему тиранию и предавшему друзей-декабристов, повлекло за собой и глубоко личное восприятие конфликта России с Западом, и защита отечества на духовном плане сплелась для Пушкина с делом гуманизма и духовной защиты личной чести. 113 Образ поэта-пророка, следующего заповедям Христа о свободе и потому пробуждающего («жгущего сердца») и зовущего к всемирной борьбе против тиранов, который Мицкевич взял себе за духовный ориентир после поражения польского восстания, подвигнул Пушкина на создание ответного «литургического» [Старк 1982, с. 202] цикла, в котором представления поэта соотносятся с христианскими идеалами восточного пророка и поэта (Ефрема Сирина), жившего в пустыне, а не с тираноборческими идеалами польского поэта-пророка. Духовность и смирение, а не борьба за политические права, как за свободу, определяют образ христианского поэта-пророка – вот что противопоставил русский поэт образу мицкевичского поэта-пророка, борца за национальную независимость с образом Польши – народа-мессии (Христа народов). В «Страннике» Пушкин создал сатирическую картину, изобразив, что было бы, если бы желание польского поэта-пророка «жечь сердца людей» исполнилось и он, Пушкин, воспринял бы суд и пророчества Мицкевича и его героя Олешкевича (как бунтующие против Петровской империи польские юноши) и начал бы пророчествовать гибель «города» (Петербурга, воплощение Российской империи). По мысли Пушкина, он стал бы таким же смехотворным «пророком» в отечестве своем, как «странник», внезапно осознавший себя виновником страшного преступления, живущий в преступном городе. Он выпал бы из реального хода жизни, переживая апокалиптическое видение, плача и вопя о гибели (это было бы его пророчество). Он изумил бы и напугал семью, решившую, что он сошел с ума, и стал бы объектом жалости, увещаний и насмешек друзей и соседей. А затем, по совету «юноши» (польского?), он превратился бы в мнимого пилигрима свободы, тщетно ищущего спасения и Обетованной земли. Путь пилигрима к христианской свободе не таков, по мнению автора. Христианская свобода не обусловлена ничем социальным, и Мицкевич верного пути к свету указать не может. Путь к свободе (как к свету Нового Завета) в «Страннике» не показан. Он станет главным в каменноостровских стихотворениях 1836 года, созданных в тесном соприкосновении со «Странником». Пушкин построил Каменноостровский цикл в определенном порядке, отталкиваясь с одной стороны от стихотворений цикла «Отрывок», а с другой опираясь на события Страстной недели Великого поста, то есть на Страсти Христа. В этом заключается ответный диалогический метод, так как Мицкевич построил свой цикл с помощью библейской тематики и символики чисел, ис114 пользуя последнюю книгу Нового Завета, Апокалипсис («Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог» Иоанна Богослова), как основной ключ к тому, чтобы сказать правду о России и ее будущем. Мицкевич как будто отвечал библейскими пророчествами на пушкинский упрек «клеветникам России», что они «не читали сии кровавые скрижали» [Пушкин 1977–1979, т. III, с. 209]. Олешкевич «читает книгу» [Мицкевич 1978, с. 140] и произносит пророчества. Каменноостровский цикл и «Странник» отвергают право польского поэта и его героя Олешкевича на то, чтобы «раскрыть сию книгу» и судить [Откр. 5:2]. (Мицкевич, очень возможно, олицетворил эту мысль из Откровения в «Олешкевиче»). Страсти Христа, доступные духовному переживанию, и милосердие становятся критерием правды пушкинского поэтического цикла. Соотнесение Каменноостровского цикла с «Отрывком» позволило обосновать общность темы христианского спасения в цикле и в «Страннике» и пояснить структурное построение последнего. Деление «Странника» на пять частей ассоциируется в первую очередь с Пятикнижием, Законом Моисея: ведь разговор в «Страннике» идет о связи человека с Богом через Закон, и этой связи противопоставляется путь к свободе от оков Закона, провозглашенный в Новом Завете. Пушкин показал ошибочный путь на «некий свет», указанный перстом неопытного «юноши, читающего книгу» [Пушкин 1977–1979, т. III, с. 311]. Этот путь вел к бессмысленной гибели, а не к христианскому спасению и просветлению. Поэтому последняя часть стихотворения, в которой изображен побег героя, была Пушкиным отчеркнута, а не помечена цифрой V. Черта выявляла авторскую позицию и говорила о гибели – но не «города», как было предсказано в «Отрывке» (заканчивавшимся словом «конец»), а героя, слепо поверившего пророчеству. Эта пятая часть как бы сопоставлялась с последней книгой Пятикнижия, Второзаконием, в которой пророк Моисей наставляет свой странствующий народ строго соблюдать Завет и предписанные законы. («Книга», которую «юноша» читает в «Страннике» поэтому, возможно, не Библия, а «Книги польского народа и польского пилигримства», написанные Мицкевичем в стиле библейских пророческих текстов). От пятичастного «Странника» Пушкин переходит к четырем стихотворениям Каменноостровского цикла, помеченным римскими цифрами, то есть к «чтению» четырех книг Евангелия. Так поэт отвечает на «чтение книги» у Мицкевича. «Странник», таким образом, является как бы первой частью пушкинской «книги» 115 о пути из рабства к свободе. Герой этого пути не одолел; он сбежал. В Каменноостровском цикле (потенциально семичастном, как и «Отрывок») поэт проходит этот путь. Заглавие стихотворения «Из [VI] Пиндемонти», последнего из четырех пронумерованных стихотворений Каменноостровского цикла, скорее всего, является подлинным авторским и не требует корректировки цифры VI. Его можно рассматривать как пушкинскую «тайнопись», подобную библейской криптограмме, то есть метод, который использовал пророк Иоанн Богослов в своем Откровении. Пушкинское стихотворение – своеобразный аналог Откровению Иоанна. Через цифру VI оно соотнесено с шестым днем по неделе и со Страстной субботой – днем «сошествия Христа во ад». «Странник» был «осужден на смерть и позван в суд загробный», но «к суду» был «не готов» [Пушкин 1977–1979, т. III, с. 311]. «Из [VI] Пиндемонти» свидетельствует, что поэт готов «к суду» – поэтому он и произносит свой монолог о творческой свободе. Откровенная речь поэта («Пиндемонти») – как бы перед Высшим Судьею – должна была означать победу духа (познавшего истинную свободу) над апокалиптическими предсказаниями польского поэта-пророка. Христос разрушил ад и освободил всех, и поэту, воспевающему красоту мира, которому Творец даровал вдохновение, спасение, конечно, тоже даруется. Это подтверждают строки из «Памятника», завершающего семичастный Каменноостровский цикл (как бы цикл Конца): «душа в заветной лире <...> тленья убежит». Стихотворение «Из [VI] Пиндемонти», таким образом, не «ведет в сторону от христианской этики» [Тоддес 1983, с. 37], а, наоборот, всецело на нее опирается, как и весь Каменноостровский цикл. Имя «Пиндемонти» давало Пушкину возможность солидаризироваться c европейским поэтом, утратившим революционный энтузиазм. Пушкин сделал провозвестником своих мыслей именно итальянского поэта, потому что Каменноостровским циклом, с его римско-итальянской тематикой и стихотворением «Подражание италиянскому», он отвечал Мицкевичу, в частности, и на обвинения в подражательности западным образцам (как бы похищении плодов европейской культуры). С пророком Моисеем Пушкин сравнил поэта и «пророка» в стихотворении «C Гомером долго ты беседовал один...», написанном в 1834 году. Этим стихотворным посланием Пушкин выразил надежду на то, что гениальный поэт-пророк, беседующий на вершинах с Гомером, как с Богом, не мог изменить духовному свету и проклясть русский народ, а из любви к «грому небес» [Пушкин 1977–1979, т. III, с. 225] прожил и запечатлел в сти116 хах гнев сурового ветхозаветного пророка, разбившего скрижали завета. Именно с Адамом Мицкевичем – гениальным поэтом, «наставником и пророком» (по словам, Е.А. Баратынского, обращенным к Мицкевичу [Баратынский 1914, с. 104]) отождествлялся у Пушкина и его окружения в 1830-х годах художественный мотив поэта-пророка. В 1834 году, предположив, что поэт-собрат подчас «чудит», «как резвое дитя» (черновик стихотворения «C Гомером долго ты беседовал один...»; цит. по: [Бонди 1978, с. 167]), Пушкин посмотрел на Мицкевича и на оскорбительные положения «Отрывка» с точки зрения высоких гомеровско-библейских ассоциаций и уравнял в правах две точки зрения («ты» и «мы»), акцентируя гений поэта («он»), который внимает всему. «Пророк» («ты») в стихотворении «C Гомером долго ты беседовал один...» – это высокий духом Поэт (Мицкевич), чей дар устремляет его к таинственным вершинам духовного бытия. Он беседует с Гомером (как пророк Моисей с Богом на горе Синай). Озаренный лучами света от полученного духовного откровения, он сходит с вершины (как Моисей спускался с горы к своему народу) и пророчествует мир народам («вынес нам свои скрижали»). Однако «в порыве гнева и печали» (декабристы, с которыми он был дружен – казнены или сосланы, надежды на независимость Польши рухнули, а «русские друзья», живут в стране деспотии и не борются за свободу), «пророк» разбивает «свои скрижали» (как пророк Моисей) и проклинает «бессмысленных детей» – народ русский, не идущий за своими пророками, а побивающий пророков. Пушкин отказывается верить в то, что вдохновенный свыше поэт мог проклясть «нас». Поэт любит «гром небес» и поэтому свой момент «гнева и печали» он прожил, как суровый ветхозаветный пророк, разбивший скрижали Завета, на которых написано было перстом Божиим. Поэта привлекают библейские образцы высокого, героического. Он склонен к мрачным оссиановским тонам и трагическое переживает всей душой («сетует душой»). Но ему внятна и чувственная прелесть земного мира – все его краски! Его творческий диапазон включает и площадную забаву, и лубочные вольности (а лубок сатиричен!). Он с легкостью сочиняет сказки в духе «Бовы иль Еруслана». «Таков прямой поэт»! [Пушкин 1977– 1979, т. III, с. 225]. «Мицкевичский подтекст» или мысль о самом Мицкевиче обнаруживается в самых разных произведениях Пушкина последних лет. Например, в очерке «Путешествие из Москвы в Петербург» Мицкевич упомянут как «великий меланхолик»: «Кстати: я 117 отыскал в моих бумагах любопытное сравнение между обеими столицами. Оно написано одним из моих приятелей, великим меланхоликом, имеющим иногда свои светлые минуты веселости» [Пушкин 1977–1979, т. VII, с. 190] Ведь это Мицкевич в «Отрывке» противопоставил «древним» столицам, созданным естественно, новую столицу Российской империи, созданную неестественно. Отвечая Мицкевичу в «Медном всаднике», Пушкин сравнивает в 4-х строках две столицы: старую «померкшую Москву» c «новой царицей». (Он переписал эти строки в дневнике и указал, что они были «вымараны» «высочайшей цензурой» вместе со словом «кумир» [Там же, т. VIII, с. 26]). «Путешествие из Москвы в Петербург» проявляет начавшееся в пушкинском восприятии сближение образа Мицкевича и Радищева, что отразилось в статье Пушкина 1836 года «Александр Радищев». Эта пушкинская статья в подтексте была, вероятнее всего, также адресована польскому поэту. Ю.М. Лотман считал отношение Пушкина к Радищеву в статье «Александр Радищев» намеренно необъективным: «Трагическая гибель одного из величайших людей в истории России низводится до трагикомического поступка странного “мизантропа”» [Лотман 2003, с. 780]. По словам Лотмана, на пушкинскую оценку Радищева повлияло мнение Карамзина, который в связи с самоубийством Радищева писал о римском республиканце Катоне, покончившим собой. Карамзин изображал Катона, как пишет Лотман, намеренно занижено, обращаясь к насущной ситуации самоубийства Радищева. Пушкин занизил оценку Радищева так же сознательно, как занизил Карамзин оценку Катона. Поэт использовал тот же прием – но в конкретной исторической обстановке 1836 года, потому что он говорил о самоубийственности революционной борьбы, которую воспевал Мицкевич. Пушкин писал в статье, что вместо того, чтобы поносить беззаконие и власть, было бы полезнее «указать на благо, которое власть в состоянии сотворить» [Пушкин 1977–1979, т. VII, с. 246]. «Вслед Радищеву восславить свободу» [Там же, т. III, с. 432] по Пушкину в 1836 году означало усвоить уроки пройденного «и милосердие воспеть» [Там же, т. III, с. 432]. Пройденным был республиканский идеал Древнего Рима, кинжал и меч в борьбе против тирана и героическая смерть или самоубийство. Декабристы еще отбывали сроки. Продолжение польским поэтом воспламенения сердец для борьбы с тираном, по мнению Пушкина, были неуместны и вели к новым тюрьмам, казням и самоубийствам, к повторению пройденного ошибочного пути – об этом очерк «Александр Радищев». Поэт 118 сопроводил его эпиграфом на французском языке: «Не следует, чтобы честный человек заслуживал повешения» – и адресовал эпиграф Карамзину: «Слова Карамзина в 1819 году» [Пушкин 1977–1979, т. VII, с. 239]. Высказывание Карамзина в эпиграфе является и пушкинским девизом в 1836 году. В этом году Пушкин ответил Мицкевичу на его призывы к общеевропейской борьбе против тиранов покаянной «молитвой» о смирении в Каменноостровском цикле. Конец пушкинского «Памятника», когда поэт обращается к музе с призывом «не оспоривать» мнения «глупца», а следовать веленью Божьему, не может не включать в себя и спор с Мицкевичем, начавшийся в 1833 году. Пушкин в своем споре с польским поэтом, стремясь сохранить «чистый огнь небес» (черновик стихотворения «Он между нами жил...»; цит. по: [Цявловский 1962, с. 205]), преодолевал свой «гнев» не только атмосферой высокого поэтического стиля, но также и известной долей юмора, отвечая на прямолинейную оценочность и обличительный суд поэта-собрата. «Глупец», по всей видимости, имеет прямое отношение к мицкевичскому поэту-пророку, который сулит кары и гибель за грехи, предрекая поэту «Божью кару» за то, что тот служит царю. В статье «Александр Радищев» есть определение «глупца»: «Время изменяет человека <...> Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют» [Пушкин 1977–1979, т. VII, с. 243–244]. Пушкин относит Мицкевича к подобным «глупцам», чей взгляд не хочет охватить данные опыта. Его усилия направлены не на то, чтобы жить и мыслить, а на то, чтобы, невзирая на конкретный опыт, свести явления к однозначному принципу и вынести свой приговор, как будто им определяется божественный смысл мира и все предрешено раз и навсегда. Пушкин приходит к выводу, что «оспоривать глупца» – напрасный труд. Тесными вратами (цитата из «Странника») «мицкевичского подтекста» – этого психологического или духовного феномена, лежащего в основании творческих поисков, стимулирующих и направляющих Пушкина в последние три года жизни – можно во многом объяснить его идейно-философские, христианские и художественные искания, которые, по словам Ю.М. Лотмана, «вылились в систему образов, повторяющихся и устойчивых в своей сути и одновременно подвижных и вариативных» [Лотман 2003, с. 206]. Интерпретация пушкинских произведений с помощью «мицкевичского подтекста», казалось бы, невероятно сужает «всемирную отзывчивость» Пушкина в его художественных исканиях 119 1833–1836 годов. Но, если обратиться к самому Мицкевичу, который в своих Парижских лекциях говорил, что Пушкин не смог исполнить своего предназначения, так как не смог преодолеть влияния западных образцов литературы и внести в свои произведения славянский религиозный дух [Мильчина 2006; Dixon 2002], то Пушкин полностью выполнил свое предназначение; как будто бы он предчувствовал этот упрек и подлинным духовным актом художника преодолел все те требования, художественные и духовные, которые ему через противостояние Мицкевичу выдвинуло время в контексте острой, с рецидивами шовинистической ненависти, идеологической войны России и Запада. Этот славянский религиозный дух Пушкин, однако, воспринимал иначе и выразил свое понимание религиозности в первую очередь в любви-жалости к культурно-нравственным ценностям России, «нелюбимому дитя» в семье европейских народов, и общечеловеческим духовным ценностям: «нет истины, где нет любви» (статья «Александр Радищев» [Пушкин 1977–1979, т. VII, с. 246]). В этом и заключается подлинный религиозный дух Пушкина, проявленный в его творчестве в последние годы жизни. Поэтому в конкретном разговоре о пушкинском творчестве последних лет жизни, включающем тему христианства и духовной зрячести, нельзя не говорить о феномене «мицкевичского подтекста», возникшего из «мицкевичско-пушкинской фивиады», итогом которой стала строфа «Памятника»: «Веленью божию, о муза, будь послушна...». Литература Баратынский Е.А. «Не подражай: своеобразен гений...» // Е.А. Баратынский. Полн. собр. соч. / Под ред. и с примеч. М.Л. Гофмана. – СПб., 1914– 1915. – Т. 1. (1914). – С. 104. Бонди С.М. О чтении рукописей Пушкина // С.М. Бонди. Черновики Пушкина: Статьи 1930–1970 гг. – 2-е изд. – М., 1978. – С. 143–190. Дерналович М. Адам Мицкевич. – Варшава, 1981. Лотман Ю.М. Источники сведений Пушкина о Радищеве (1819–1822) // Статьи и исследования: Очерк творчества. – СПб., 2003. Мильчина В. Четвертые Эткиндовские чтения. (Конференция филологов. Санкт-Петербург, 28–30 июня 2006 г.) // НЛО. – 2006. – № 82. Мицкевич А. Дзяды. Часть III. // А. Мицкевич. Избранные произведения: В 2 т. – М., 1955. – Т. 2. Мицкевич А. Русским друзьям (Do Przyjaciol Moskali) // Poezye Adama Mickiewicza. T. IV. – Pariż, 1832 («Do Przyjaciol Moskali» в построчном переводе Н.К. Гудзия приводится в: Цявловский М.А. Мицкевич и его русские друзья // М.А. Цявловский. Статьи о Пушкине. – М., 1962. – С. 174–175). 120 Мицкевич А. Олешкевич. Памятник Петра Великого // А.С. Пушкин. Медный всадник / Изд. подгот. Н.В. Измайлов. – Л., 1978. – С. 137–144. (Лит. памятники). Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. / Текст проверен и примеч. сост. Б.В. Томашевским. – 4-е изд. – Л., 1977–1979. Старк В.П. Стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны...» и цикл Пушкина 1836 г. // Пушкин: Исследования и материалы. – Л., 1982. – Т. 10. – С. 193–203. Тоддес Е. А. К вопросу о каменноостровском цикле // Проблемы пушкиноведения: Сборник научных трудов. – Рига, 1983. – С. 26–44. Цявловский М.А. «Он между нами жил...»: (К истории создания стихотворения) // М.А. Цявловский. Статьи о Пушкине. – М., 1962. – С. 195–206. Dixon Megan. Adam Mickiewicz’s Lectures on Slavic Literature // The Pushkin Review. – 2002. – Vol. 5. – P. 109–128. 121 Пашковская Светлана Сергеевна (Россия, Пенза; д.п.н., проф. кафедры русского языка как иностранного Института международного сотрудничества Пензенского государственного университета) [email protected] Творчество А.С. Пушкина на уроках русского языка как иностранного Под именем языка мы преподаем культуру! А.А. Леонтьев Стратегическая (или глобальная) цель обучения, являющаяся отражением социального заказа общества по отношению к обучающимся, «заключается в формировании в процессе обучения языку вторичной языковой личности, т.е. такого уровня владения языком, который присущ носителю языка...» [Щукин 2003, с. 109]. Перед преподавателем РКИ помимо стратегической цели выдвинуты еще четыре: практическая, общеобразовательная, воспитательная и развивающая. Усилия преподавателей направлены не только на усвоение учащимися специальных знаний, умений и навыков, но и на развитие творческих способностей, на формирование вторичной языковой личности, стремящейся к максимальной реализации своих возможностей. Для этого необходимо: 1) научить понимать и знать язык, привить культуру речи – владение нормами русского литературного языка, его функциональными стилями и правилами речевого общения, словарем и грамматическим строем, т.е. сформировать языковую компетенцию; 2) научить строить речь по правилам, обучить лингвистическому анализу языковых явлений, т.е. сформировать лингвистическую компетенцию; 122 3) научить учащихся решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения, т.е. сформировать коммуникативную компетенцию. Через призму языка учащиеся получают знания о мире, об истории, о культуре народа. Аутентичный текст, предлагаемый для анализа учащимся, не только позволяет решать комплекс учебных задач, но и делает учебный процесс для них более привлекательным. «Поэтический текст благодаря своему небольшому объему и связанному с ним ограниченному набору ключевых единиц текста исключительно удобен для урока... Целесообразнее выбирать поэтический текст, представляющий некоторую ситуацию, аналог которой имеется в жизненном и читательском опыте учащихся, либо описывающий чувства, по собственному опыту известные им» [Кулибина 2004, с. 207–208]. Перед преподавателем РКИ стоит задача не только объяснить грамматику, отработать фонетику, выучить лексику, объяснить многочисленные правила и еще более многочисленные исключения нашего любимого, но такого непонятного для иностранных студентов русского языка, но и самое главное – попытаться передать частицу нашей любви к языку, культуре России. Для носителя русского языка А.С. Пушкин – «наше все», «солнце русской поэзии». В раннем детстве на сказках Пушкина постигаем философию жизни вместе с чудесной золотой рыбкой, находчивым работником Балдой. В школьные годы, заучивая строки: Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы..., – учимся любить свою Отчизну. Юность приходит с любовной лирикой Александра Сергеевича... Наверное, поэтому формирование вторичной языковой личности в процессе обучения языку невозможно без творчества Пушкина. На уроках фонетики студентов, измученных артикуляцией русских звуков и правильным интонированием по системе ИК (Е.А. Брызгуновой), ждет пир души, «именины сердца» – стихотворение Пушкина «Ты и вы». И вот «скелет» правильных артикуляций и точных ИК обрастает «плотью» и духом таких простых, понятных и гениальных строк: И говорю ей: как ВЫ милы! И мыслю: как ТЕБЯ люблю! «Так мало слов, но это большая история любви», – удивляются иностранцы. Я открываю мир Пушкина вместе с моими 123 студентами каждый раз заново! Их радость и удивление передаются и мне. Пушкин понятен всем: он близок китайцам, корейцам, арабам... Более 190 памятников А.С. Пушкину в разных городах мира: в Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Египте и т.д. Мир Пушкина – мир человеческих чувств, но в то же время «энциклопедия русской жизни». Именно Пушкин открыл и мне многообразие и непохожесть разных культур. Отработав произношение, составив интонационную и фонетическую транскрипцию, вскрыв смысл глагольной метафоры «угасла не совсем» (любовь-огонь, пожар сердца), перешли к кульминационным строкам, апофеозу истинной любви – отречению: Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам Бог любимой быть другим. Насладившись произведенным впечатлением на иностранцев, приступаю к обсуждению. И вдруг, как удар грома, вопрос студента из одной азиатской страны: «В чем проблема?». Объясняю: он, она, невозможность любви, пожелание счастья ей с другим. Удивленно увеличенные глаза и вопрос: «Он ее любит? Она нет? Это неважно. Главное, что он любит. Нельзя желать ей счастья с другим. Он любит – они должны быть вместе». Привычный мой мир рухнул! Диалог культур состоялся! Вспомнилось известное высказывание: «Сколько языков ты знаешь – столько раз ты человек». Наш мир больше и сложнее, чем мы привыкли думать в рамках носителя одного языка. «Мы все без исключения живем в счастливой уверенности, что только наша культура – единственно правильная, возможная и нормальная. Именно это и называется научно – этноцентризм. Отсюда и наша слепота, и, соответственно, невидимость культурного барьера, и культурные конфликты, шоки, войны» [Тер-Минасова 2008, с. 54]. Изучая стихотворение «Если жизнь тебя обманет», к своему удивлению узнаю, что это стихи «корейского поэта»? Эти строки Пушкина столь популярны в Корее, что их можно прочитать и в парикмахерской, и в магазине... А если б вы слышали, как их читал мой студент из Египта, вы бы сразу поняли, что это стихи арабского поэта! Гений помогает лучше понять тайну русской души и увидеть то общее, что сближает все народы мира. На занятиях по филологическому анализу художественного текста разбираем стихотворение «К морю» А.С. Пушкина. После рассмотрения принципа учета взаимосвязи, взаимообусловленности формы и содержания произведения (где формально-языковые черты текста неразрывно связаны с его содержательной стороной: 124 лексикой, тематически связанной, с обозначением моря, волн, шума, цвета, а также фонетико-ритмические средства, передающие шум моря, его движение) студенты-иностранцы, воодушевленные строками Пушкина, приступают к творчеству: Смотрю – свободная стихия! Морской пейзаж передо мной. Пляж светлый, волны голубые – Прельщает нас красой. (Студентка из Китая). Это первые строки, созданные ими по-русски: Закат багряный, Ему одиноко в холодной волне. Овраг глубокий, Так грустно мне. Недалеко от меня появилась ТЫ, Так красива, изящна, Но волна холодна, Вдруг понял тогда, что это не ВЫ. (Студент из Китая). Узнаваемо? Понятно, что навеяно творчеством А.С. Пушкина. Носитель русского языка не представляет свой язык, свою культуру без А.С. Пушкина. Есть тест «на русскость»: человек (вне зависимости от национальной принадлежности) испытывает душевную боль, когда вспоминает о трагической дуэли А.С. Пушкина. Студенты-иностранцы, знакомясь с творчеством Пушкина, начинают сочувствовать нам: «А сколько бы он еще написал!» Может быть, это и есть первый шаг к формированию вторичной языковой личности? Литература Кулибина Н.В. Использование художественного текста на практических занятиях по русскому языку как иностранному // Методика преподавания русского языка как иностранного / Под ред. Э.Г. Азимова. – М., 2004. – С. 207–208. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур: Учебное пособие. – М., 2008. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: Учебное пособие для вузов. – М., 2003. 125 Суровцева Екатерина Владимировна (к.ф.н., ст. научный работник лаборатории общей и компьютерной лексикологии и лексикографии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова) [email protected] Пушкинский код в письмах Ф.М. Достоевского и М.А. Булгакова властителям Когда мы говорим о влиянии А.С. Пушкина на русскую литературу и культуру последующих эпох, мы прежде всего имеем в виду его художественное творчество. Однако не следует забывать, что Пушкин и как личность имеет колоссальное значение, в частности оказалась архитепичной ситуация взаимоотношений поэта и властителя . Эти взаимоотношения нашли отражение, в большей мере, в пушкинском эпистолярии. Пушкинская модель «поэт и царь» оказала влияние на взаимоотношение Ф.М. Достоевского с царями и М.А. Булгакова с вождями, что можно проследить по их письмам властителям. Интересные наблюдения над пушкинским кодом в жизни, письмах и – главное – в одах Достоевского («На европейские события в 1854 году», «На первое июля 1855 года», «На коронацию и заключение мира») содержится в статье В.И. Гайбдуллиной [2012]. «В эпистолярном дискурсе нашел отражение сложный процесс перерождения писателя» [Там же, с. 235]. «Особое значение в письмах Достоевского приобретает евангельская символика и образность...» [Там же]. Каторгу и «солдатчину» Достоевский воспринимает как крест [Там же]. «В ряде писем указанного периода (периода ссылки – Е.С.) прочитывается коллизия притчи о блудном сыне, где в роли блудного сына выступает сам автор – Достоевский (“ломоть отрезанный”, “несчастный”, “больной”), а в роли Отца – император Александр II (“милосердный”, “благородный”, “милостивый”, “наш добрый царь, золотое русское 126 сердце”). Мотив милости и прощения, которых он ждет от нового монарха, настойчиво повторяется в письмах Достоевского к разным адресатам из Семипалатинска, а затем из Твери» [Гайбдуллина 2012, с. 235]. И.Д. Ермаков в психоаналитическом исследовании пишет об ассоциировании Достоевским Александра II с отцом [Ермаков 1999] (о взаимоотношениях Достоевского с Царским домом подробно см. в [Волгин 1998]). Анализируя эпистолярное наследие Достоевского, следует особо выделить его письма на имя Александра II – в начале марта 1858 г. с просьбой уволить его с военной службы с повышением чина [Достоевский 1972–1990, с. 383–384] и в октябре 1859 г. с двумя просьбами: позволить ему поехать в Петербург лечиться от падучей и устроить его пасынка в гимназию за казенный счет [Там же, с. 386–387]. Можно сказать, что оба письма выдержаны в характерном для аналогичных текстов на имя государей верноподданическом тоне. В них настойчиво подчеркивается недостоинство адресанта по сравнению с адресатом1. При рассмотрении этих текстов надо иметь в виду, что «... важны не столько поэтические переклички (с Пушкиным. – Е.С.) в текстах (Достоевского. – Е.С.)2, сколько сам факт осмысления Достоевским своей биографии в контексте пушкинской» [Гайбдуллина 2012, с. 236]. Одной из первых книг, присланных Достоевскому в Семипалатинск по его просьбе Е.И. Якушкиным, сыном декабриста, был первый том «Сочинений» Пушкина в издании П.В. Анненкова, вышедший в 1855 г. В этом же томе были опубликованы «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина», «очевидно, сыгравшие вою роль претекста, ориентируясь на который Достоевский строит свои взаимоотношения с царем» [Там же, с. 236]. Как и Пушкин, Достоевский обращается к царю (Александру II) в надежде освободиться из ссылки, чтобы поправить свое здоровье: «В вашей воле вся судьба моя, здоровье, жизнь! Благоволите дозволить мне переехать в Санкт-Петербург для пользования советами столичных врачей» ([Достоевский 1972– 1 Эти письма правомерно рассматривать в контексте такой жанровой подразновидности жанра «письма царю», как письмо-просьба. Обоснование правомерности выделения особых эпистолярных жанров – «письма царю» и «письма вождю», описание их отличительных признаков и классификация принадлежащих этим жанрам текстов см. в: [Суровцева 2008; Суровцева 2010; Суровцева 2011]. 2 Автор цитируемой статьи, В.И. Гайбдуллина, рассматривает поэтические произведения Достоевского – в частности, оду «На европейские события в 1854 году», которая, по верному замечанию К.В.Мочульского, «вдохновлена инвективами Пушкина “Клеветникам России”» [Мочульский 1999, с. 298]. 127 1990, с. 386]; курсив наш. – Е.С.). Приведенная цитата почти дословно совпадает с цитатой из биографии Пушкина в изложении Анненкова: «3 сентября получено было во Пскове всемилостивейшее разрешение на просьбу Пушкина о дозволении ему пользоваться советами столичных докторов» ([Анненков 1885, с. 169]; курсив наш. – Е.С.). «Параллель между судьбами петрашевцев и декабристов, безусловно, возникала в сознании современников. Об этом Достоевский писал позднее в 1877 году в “Дневнике писателя” в статье “Старина о петрашевцах”» [Гайбдуллина 2012, с. 236]. Положение ссыльного писателя после 1849 г. не могло не вызвать у Достоевского ассоциаций с Пушкиным, пережившим 1825 г. и вступившим в диалог с царем. «Мотив милосердия, восходящий к ряду евангельских сюжетов, в том числе к сюжету о блудном сыне, пронизывает цикл стихотворных посланий, связанных посредством системы мотивов и образов (Христа, веры, покаяния, воскресения, лепты) с эпистолярным дискурсом. Анализ трех патриотических од через систему кодов – биографического, его инварианта – пушкинского и евангельского – позволяет судить о произведениях, отразивших один из сложнейших этапов в духовной жизни писателя, и в то же время вписать их в контекст последующего творчества писателя как первый опыт художественной апробации мотивов, связанных с почвеннической теорией (см. о ней: [Фридлендер 1971; Нечаева 1972; Туниманов 1980]. – Е.С.), окончательно сформировавшейся после возвращения Ф.М. Достоевского из ссылки» [Гайбдуллина 2012, с. 238]1. 1 В контексте писем-деклараций царю и с связи с идеологией почвенничества уместно проанализировать два письма Ф.М. Достоевского 1870-х гг., адресованные наследному цесаревичу Александру Александровичу (будущему Александру III). Оба они являются более или менее развернутыми сопроводительными текстами к высылаемым царственной особе сочинениям писателя: роману «Бесы» (письмо 10 февраля 1873 г.) [Достоевский 1972– 1990а, с. 260–261] и «Дневнику писателя» (письмо 16 ноября 1876 г.) [Там же, с. 132–133]. В первом из них он называет роман «почти историческим этюдом», который объясняет, как в русском обществе могут формироваться «такие чудовищные явления, как нечаевское преступление». Он подчеркивает неслучайность этого явления, считая, что оно – «прямое последствие вековой оторванности всего просвещения русского от родных и самобытных начал русской жизни». Писатель излагает далее основы своей философии («почвенничества»), указывая, что выбор Россией европейской ориентации является ошибочным: «раз с гордостию (выделено Достоевским. – Е.С.) назвав себя европейцами, мы тем самым отреклись быть русскими. В смущении и страхе перед тем, что мы так далеко отстали от Европы в умственном и научном развитии, мы забыли, что сами, в глубине и задачах русского 128 Пушкинский код присутствует и в развернутом обращении Булгакова к Правительству СССР от 28 марта 1930 г. [Булгаков 1990, с. 443–450], в котором кроме констатации тяжелейшего своего материального, физического и морального состояния и настоятельной просьбы о выезде дается литературный и политический портрет автора с предложением «за пределами его не искать ничего», доказывается невозможность существования Булгакова как писателя в СССР. Это яркий образец «письма-декларации» (мировоззренческой и творческой); точнее сказать, этот текст объединяет в себе и тип письма-просьбы (жалобы), и тип письмадекларации. Текст письма разбит на 11 неравных (от полустраницы до одного предложения) частей (пунктов), структурированных как логически, так и эмоционально. Сначала мотивируется обращение к Правительству СССР, причем сразу же подчеркивается, что это не покаянное письмо, не отказ от своих взглядов и произведений и не уверение в том, что «прославленный буржуазией драматург», как говорилось в одной из очень мягких рецензий на его пьесы, будет отныне работать во славу коммунизма. Далее дается беглый обзор нескольких критических публикаций, по которым можно судить очень отчетливо об атмосфере травли и гонений, в которой писатель живет уже длительное время. Он не жалуется и не вступает в полемику, но лишь с материалами в руках показывает, что вся пресса СССР и учреждения, контролирующие репертуар, в течение всей его литературной деятельности единодушно и яростно «доказывали, что произведения Михаила Булгакова в СССР не могут существовать». Вывод автора: «пресса СССР совершенно права». И далее формулируются в нескольких «пунктах» текста существенные черты литературного автопортрета, которые являются одновременно моментами инакомыслия Булгакова, его «проступками» перед советской властью. Во-первых, Булгаков – «горячий поклонник» свободы. Во-вторых, писатель проникнут «глубоким скептицизмом» в отношении революционных преобразований. В-третьих, Булгаков считает себя учеником и последователем М.Е. Салтыкова-Щедрина, он не может не обращаться к жанру сатиры, что равносильно посягательству на советский духа, заключаем в себе, как русские, способность, может быть, принести новый свет миру, при условии самобытности нашего развития» [Достоевский 1972–1990а, с. 260]. Достоевский пишет о родственности и преемственности идей Белинского, Тряповского и других мыслителей «западнического» толка и идей Нечаева – эту мысль считает основополагающей для романа «Бесы», выражая надежду на то, что будущий властелин земли русской обратит внимание на эту опасную язву «нашей цивилизации». 129 строй. В-четвертых, проникая в сокровенные области духа, в сущность сложных, не поддающихся простому объяснению явлений, Булгаков должен прибегать к фантастике, к гротеску, так как не все поддается понятийно-научному истолкованию. В-пятых, писатель кровно связан с русской интеллигенцией, считает ее «лучшим слоем» в стране, возлагает на нее, а не на пролетариат надежды на решение всех кардинальных политических, социальных, культурных проблем. Булгаков категорически отвергает в письме возможность компромисса с советской властью. Исходя из всего сказанного, писатель формулирует свою основную просьбу: «Я прошу Правительство СССР приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР...». Он рассматривает ситуацию отказа – в этом случае («пожизненного молчания в СССР») просит командировать его (настаивает именно на такой форме, ибо все его собственные попытки получить работу успеха не имели) на работу в театр в качестве режиссера, актера, статиста, рабочего сцены, наконец. При невозможности и этого он требует хоть «как-нибудь поступить» с ним, ибо писатель, имеющий имя в литературе, доведен до отчаяния и гибели1. Ответом на это письмо стал звонок Сталина 18 апреля 1930 г., внушивший писателю большие надежды, но реально имевший лишь одно позитивное последствие: Булгаков был принят на службу в Художественный театр. Его произведения по-прежнему не печатались. Исследователи отмечали близость этого письма Булгакова не столько к официальному документу, сколько жанру, близкому к литературному – эссе, памфлету, усматривали в разделении на главки, сформированные вокруг определенного тезиса «внутреннее эстетическое задание» [Вахитова 1995, с. 16]. «Литературность» придает тексту и «существование художника как бы в двух ипостасях – реальности и нереальности. С одной стороны, он пытается точно и документально изложить обстоятельства своего неприглядного существования, с другой – не может или не хочет выйти из сферы постоянных творческих размышлений, вопросов общих, не имеющих материального значения и смысла» [Вахито1 По свидетельству третьей жены Булгакова Елены Сергеевны, «Михаил Афанасьевич был близок к тому, чтобы покончить с собой»; письмо Правительству СССР было его «последним шагом выйти из жизненного кризиса» [Белозерская-Булгакова 1989, с. 118]. В.Я. Лакшин рассказывает, что «...Булгаков дошел до погибельного отчаяния. Он искал любую работу. Пробовал наниматься рабочим, дворником – его не брали. Он стал думать о том, чтобы застрелиться, носил с собой револьвер. Другим возможным исходом была эмиграция...» [Лакшин 1989, с. 420]. 130 ва 1995, с. 17]. Нельзя не отметить и существование булгаковского текста в поле определенных ассоциаций и традиций: работая над пьесой о Мольере, Булгаков изучал документы, свидетельствующие о травле драматурга, которого называли (в т.ч. и публично) обезьяной, рогоносцем, пошляком, эпигоном и т.д., и, конечно, писатель не мог не сближать себя с Мольером. Другое имя, возникающее в этой связи, – Пушкин (пьесу о котором «Последние дни» Булгаков тоже пишет [Бугров 2000]1). Лейтмотивом пушкинских писем императорам Александру I и Николаю II была также просьба о поездке за границу на лечение «аневризмы сердца». Сам тон письма властям, достаточно дерзкий для такого рода посланий, близок пушкинскому нежеланию «предпринять шаги перед властями в целях реабилитации» по совету друзей, о чем читаем в черновике письма поэта Александру I, написанного летом 1825 г. [Пушкин 1979, с. 617]. Все пушкинские письма Александру I (1825 г.) и Николаю I (1826 г.) заканчиваются просьбой отпустить адресанта на лечение «аневризмы сердца» за границу, в Москву или Петербург (из Михайловского), которая так и не была удовлетворена, как не будет удовлетворена, столетие спустя, просьба Булгакова о выезде за границу для лечения «тяжелой формы неврастении». С этой просьбой писатель обращался неоднократно как лично к Сталину, так и в Правительство СССР, но положительного решения так и не дождался. Пушкинские апелляции к гуманности властей и попытки вырваться для смены впечатлений из России как будто предваряют аналогичные движения ряда советских писателей в 1920-е–1930-е годы XX века. Есть в пушкинских посланиях и другие важные мотивы. Так, в черновике письма Александру I (лето 1825 г.) поэт излагает давнишнюю историю о сплетне, связанной с тем, будто бы его высекли в тайной канцелярии. Ему приходили в голову мысли о дуэли и самоубийстве. Пушкин пишет: «Таковы были мои размышления. Я поделился ими с одним 1 «...Вересаеву, несостоявшемуся соавтору Булгакова, пьеса о Пушкине представлялась вещью чисто исторической... Для Булгакова же “Александр Пушкин” в значительной мере был пьесой о буднях сыска, о коррумпированности в верхах, вплоть до царя, об одушевленном механизме травли, отлаженном до последнего винтика, до ничтожного осведомителя, внедряемого в частную жизнь жертвы. В травле, в уничтожении Мольера, Пушкина и самого Булгакова не было принципиальной разницы, какое бы ведомство этим ни занималось: “кабала святош”, III-е Отделение или НКВД. Мольером, Пушкиным, Булгаковым мог стать кто угодно. Вот почему Булгаков и написал “Александра Пушкина” без Пушкина: этот оригинальный драматургический прием давал возможность расширительного толкования пьесы» [Бугров 2000, с. 144–145]. 131 другом, и он вполне согласился со мной. Он посоветовал мне предпринять шаги перед властями в целях реабилитации – я чувствовал бесполезность этого» [Пушкин 1979, с. 617]. Ситуация почти архетипическая для сюжета «поэт и власть» – и она настойчиво и многократно повторяется в советской России и СССР (например, вынужденные оправдания многих деятелей искусства и литературы, прозвучавшие в письмах «наверх», в том числе и тех, что выбраны для анализа в данной работе, советы доброхотов опальным литераторам написать «коммунистическую пьесу», «оду вождю», статью с отречением от своих былых идеалов и товарищей), естественно сближая эпохи самодержавного императора и коммунистического диктатора. Далее Пушкин в том же письме императору характеризует свое поведение следующим образом: «Я решил тогда вкладывать в свои речи и писания столько неприличия, столько дерзости, что власть вынуждена была бы наконец отнестись ко мне как к преступнику, я надеялся на Сибирь или на крепость, как на средство к восстановлению чести» [Там же, с. 617]. При этом в обращении к адресату поэт весьма почтителен («я всегда проявлял уважение к особе вашего величества»). Это соединение дерзости и достоинства по отношению к власти (ведь согласно дуэльной этике, актуальной для пушкинской эпохи, невозможно сражаться с недостойным противником), конечно, в очень сглаженной форме можно усмотреть и в некоторых позднейших текстах: например, в эпатирующих нотках анализируемого нами булгаковского письма Правительству СССР, когда он утверждает вопреки официальной «теории единого потока» и гонениям на сатиру, что является «мистическим писателем» и сатириком по преимуществу, и просит не разрешения выехать, а «изгнания за пределы СССР»1. Как мы видим, пушкинский код оказался очень актуальным для нашей культуры как царского, так и советского периода. Литература Анненков П.В. Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина // Сочинения Пушкина. С приложением материалов для его биографии, портретов, снимков с его почерка и с его рисунков и проч. – СПб., 1885. – Т. 1. 1 Отметим, что подобное же сочетание дерзости и достоинства можно усмотреть и в сдержанно-ироничном послании Замятина Сталину (июнь 1931 г.), где он называет себя «чертом советской литературы» и приводит положительные отзывы на его запрещенную пьесу «представителей 18 ленинградских заводов» [Замятин 1955, с. 276–282]. 132 Белозерская-Булгакова Л.Е. Воспоминания. – М., 1989. Бугров Б.С. «Александр Пушкин» («Последние дни») Булгакова в контексте драматургической Пушкинианы // Пушкин и русская драматургия. – М., 2000. – С. 138–145. Вахитова Т.М. Письма М. Булгакова правительству как литературный факт // Творчество Михаила Булгакова. Исследования, материалы, библиография. – СПб., 1995. – Кн. 3. Волгин И.Л. Колеблясь над бездной. Достоевский и императорский дом. – М., 1998. Булгаков М.А. Собрание сочинений: В 5 т. – М., 1990. – Т. 5. Гайбдуллина В.И. Стихотворные опыты Ф.М. Достоевского: послания из ссылки // Проблемы поэтики и стиховедения: Материалы VI Международной научно-теоретической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося казахского писателя, драматурга, ученого Зеина Шашкова (24–25 мая 2012 года). – Алма-Ата, 2012. – С. 234–238. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. – Л., 1972 1990. – Т. 28. – Кн. 1. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. – Л., 1972– 1990а. – Т. 29. – Кн. 1. Ермаков И.Д. Психоанализ литературы. Пушкин. Гоголь. Достоевский. – М., 1999. Замятин Е.И. Лица. – Нью-Йорк, 1955. Мочульский К.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. – М., 1999. Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время». 1861–1863. – М., 1972. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. – Л., 1979. – Т. 10. Суровцева Е.В. Жанр «письма вождю» в тоталитарную эпоху (1920-е– 1950-е гг.): Монография. – М., 2008. Суровцева Е.В. Жанр «письма вождю» в советскую эпоху (1950-е – 1980-е гг.): Монография. – М., 2010. Суровцева Е.В. Жанр «письма царю» в XIX – начале XX века: Монография. – М., 2011. Туниманов В.А. Почвенничество и «полемика идей» // В.А. Туниманов. Творчество Достоевского. 1854–1862. – Л., 1980. Фридлендер Г.М. У истоков «почвенничества» // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. – 1971. – Т. 30. – Вып. 5. 133 Хачатрян Ноемзар Рубеновна (Армения, Гюмри; учитель Старшей школы № 1) [email protected] Пушкин и современность Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет. Ф. Тютчев Уже современники Пушкина, люди, лично его знавшие, говорили о нем как о грандиозном, стихийном и безусловном явлении. В Пушкине русский человек явился как идея, как программа и прообраз будущего. Белинский сравнивал поэта с Волгой, поящей на Руси миллионы людей. «При имени Пушкина, – сказал Гоголь, – тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов не выше его и не может назваться более национальным. Это право решительно принадлежит ему... Это русский человек в его развитии в каком он, может быть, явится через 200 лет. Самая жизнь его совершенно русская» [Пушкин и литература... 1975, с. 5]. В речи при открытии памятника Пушкина в Москве И.С. Тургенев говорил, что поэту одному пришлось исполнить то, что во многих странах делали многие – создание русской национальной литературы и русского литературного языка. Пушкин был одержим. Именно такая одержимость создает таких монолитных людей. Поэта относили к личностям «бунтарского накала», направленного во вне – в мир, а не в себя. В дни памятных пушкинских юбилейных дат вновь и вновь возвращались к Пушкину и преклонялись перед ним многие зарубежные писатели. Эмиль Золя назвал поэта отцом современной русской литературы, универсальным человеком, подлинным другом свободы и прогресса. Наследие Пушкина не стало историческим прошлым, оно осталось живым, нетленным и еще долго будет служить неисчерпаемым источником радости и душевного 134 обогащения для всех, кто к нему прикоснется. «О читателях Пушкина, которым был обязан поэт своей прижизненной славой, можно сказать, что они составляли “ничтожное меньшинство населения России”, но этими читателями Пушкин был признан сразу и безоговорочно. Как чародей, он в одно и то же время исторгал у нас и смех, и слезы: играя нашими чувствами... Он пел, и как изумлена была Русь звуками его песен» [Пушкин и литература... 1975, с. 6], – вспоминал Белинский о первых триумфах Пушкина. «Величайшая гордость наша и самое полное выражение духовных сил России... Гений, который не имел и не имеет равных ему» [Там же, с. 11], – говорил о нем Горький. Как каждый гений, Пушкин не может замкнуться в рамках одного вида искусства, как Леонардо да Винчи не мог, рисуя портрет Моны Лизы, не обращаться одновременно к скульптуре, поэзии, наконец, естествознанию, как не мог Рафаэль ограничиться рамками живописи и оставил потомкам прекрасный сборник сонетов, как не мог Петрарка не участвовать в политической борьбе своего времени. Наследие Пушкина не стало историческим прошлым. Оно осталось живым, нетленным и еще долго будет служить неисчерпаемым источником радости и душевного обогащения для всех, кто к нему прикоснется. Признание высокой оценки творчества Пушкина на всех широтах земного шара поистине неисчислимо. Вольнолюбивый поэт и мыслитель, достигший высшего мастерства, – таким предстает перед нами Пушкин в определениях, какие дали ему многие писатели всех континентов в XIX–XX веках. Пушкин был выразителем духа своей эпохи, но и простирал свое воздействие на читателей нового времени. «Русский Данте» взорвал свой XIX век и шагнул в вечность. Именно он олицетворил передовые силы России, а его творчество было интернациональным по духу, идеалам и чувствам. Эту великую сопричастность поэта судьбе каждого народа необычайно масштабно и исторически оправданно восприняли народы многих стран мира. Поэзия Пушкина имеет общечеловеческий характер. Самые величайшие из европейских мыслителей никогда не могли воплотить с такой силой гений чужого народа, его дух, всю затаенную глубину этого духа. Вот почему Пушкин дорог всем народам мира. Пушкин – лирический поэт, создатель художественной прозы, мастер элегических и драматических форм словесного искусства. Это поэт-музыкант, каждый труд которого можно считать отдельным музыкальным произведением. Многие стихи Пушкина переложены на музыку (романсы «Я вас любил», «Я помню чудное мгновенье», слова которого Пушкин посвятил А.П. Керн, а музыку ее же дочери посвятил великий русский 135 композитор Глинка и т.д.). Ниже перечислим оперы, написанные на очень известные произведения поэта. Опера «Пиковая дама»... Это шедевр мирового искусства, в котором соединились два русских гения: П.И. Чайковский и А.С. Пушкин. Либретто оперы было создано братом композитора – Модестом Чайковским, который ввел некоторые изменения в отношениях Лизы и Германна. В опере с самого начала Германном владеет страсть к Лизе, которая является не приживалкой, а знатной внучкой старой графини. И только богатство Лизы заставляет Германна просить ее руки. А когда появляется графиня, в этот самый момент он переключается с любви к Лизе на тайну трех карт... На дворянском балу Пушкинской эпохи – «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. И снова нас ждет александрийская эпоха – время торжества дворянских ценностей, чести, любви и страстей. О своей опере великий композитор писал: «Страсть и тоска, тоска и страсть – вот что мне хотелось выразить в этой музыке. Я писал ее с наслаждением, с радостью, с восторгом... и очень искренне. Надеюсь, что эта искренность оправдает меня перед потомками». В опере есть два важных бала: деревенский и городской. И на этом фоне изучаются герои оперы: Ленский, Онегин, Ольга и Татьяна – на балах и в жизни. «Каменный гость», «Пир во время чумы», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери»... В творчестве Пушкина, и в частности в этих трагедиях, музыка составляет неотъемлемую часть, предопределяя стиль трагедий. И не случайно, на их сюжеты написаны четыре оперы. Пушкинскую маленькую трагедию «Каменный гость» первым положил на музыку известный русский композитор А.С. Даргомыжский, который вошел в историю русской музыки как один из основоположников реалистического искусства. В последние годы жизни, уже больной, он работал над оперой «Каменный гость» на неизменный текст маленькой трагедии. В одном из писем композитор писал: «...Пробую дело небывалое: пишу музыку на сцены “Каменного гостя” так, как они есть, не изменяя ни одного слова». А в своей автобиографии Даргомыжский писал: «Несмотря на тяжелое состояние, я затянул лебединую песнь. Странное дело... усилий почти нет. Пишу не я, а какая-та неведомая мне сила. За два месяца я написал почти три четверти оперы». Этой неведомой силой, о которой писал смертельно больной композитор, была эмоциональная сила пушкинской трагедии и музыка пушкинского стиха. Дон Жуан Даргомыжского жаждет познать жизнь во всем ее богатстве. Отсюда его вечная неудовлетворенность и 136 непостоянство в любви. Опера «Каменный гость» явилась смелым экспериментом, открывшим новые пути развития русской музыки. К маленьким трагедиям обратился еще один русский композитор, музыкальный критик, инженер-генерал, преподающий военно-инженерное дело наследнику престола в академии, заслуженный профессор Кюи Цезарь Антонович. Он является автором 14 опер, две из которых написаны на пушкинские сюжеты: «Капитанская дочка» и «Пир во время чумы». В своих статьях о Пушкине Кюи восхищался творчеством поэта, его музыкальным слогом. В одноактной опере «Пир во время чумы» композитор совершенно точно передал все оттенки, чувства героев, выраженные словами. К своей трагедии Пушкин сам написал две песни, благодаря которым вся пьеса получила абсолютную завершенность и красоту. Горячо любил Пушкина еще один крупнейший русский композитор, дирижер и пианист Сергей Васильевич Рахманинов, который написал две оперы на сюжеты поэта. Первый труд – это его дипломная работа, одноактная опера «Алеко» по поэме «Цыганы», и второй труд – опера «Скупой рыцарь» по одноименной маленькой трагедии. Последняя написана в ариозно – декламационной манере. Рахманиновское творение занимает в русской оперной классике далеко не из последних мест. К творчеству поэта обращался еще один знаменитый русский дирижер, композитор, музыкально-общественный деятель и педагог Николай Андреевич Римский-Корсаков. Почти сорок лет он был профессором Петербургской консерватории. Композитора направляла на работу над оперой «Моцарт и Сальери», посвященной Даргомыжскому, та же «неведомая сила». Как и Даргомыжский, он тоже почти не изменил пушкинский текст. Римский-Корсаков преклонялся перед Пушкиным и обожал лучезарный облик Моцарта. Пушкин и Моцарт... Поэта и композитора, хотя они были люди разных эпох, роднили духовная близость, похожие драматические судьбы, философская глубина их творений. Они оба сумели проанализировать «душу человеческую», показать человека – творца и человека – носителя зла и разрушения. Наконец, и Пушкин, и Моцарт оказались представителями искусства, цель которого – изучение Человека и его прославление. Моцарт взорвал свой XVIII век и шагнул в XX, XXI. Он переплавил в горниле своего гения все достижения своей эпохи и, широко распахнув перед музыкальным искусством врата в грядущее, первым ринулся вперед на сближение с ним. Моцарт – это синтез прошлого, настоящего и будущего. То же самое можно 137 сказать и о Пушкине. Он более поэт XXI века, чем XIX. Они оба люди будущего, а их окружало пошлое и мерзкое настоящее. Светское окружение не желало, да и не могло понять этих гениев, и потому они были обречены на одиночество и непризнание. Драматично складывались отношения этих замечательных людей и с отцами. Это были непокорные бунтари, гордо пронесшие каждый свой крест до конца жизни. Моцарт умер в буквальном смысле слова в нищете, не удостоившись даже отдельной могилы. Он был похоронен в общей могиле для бедняков. Финансовое положение Пушкина тоже оставляло желать лучшего. После смерти поэта остался огромный долг в 180 000 рублей, который был погашен Николаем I. В опере «Моцарт и Сальери» Римский-Корсаков сосредоточил, в основном, внимание на проблемы внутреннего мира человека. Композитор поэтически точно воссоздал облик великого музыканта, затронул вопросы о сущности искусства, а также воспевал его могучую созидательную силу. Особое место как в трагедии, так и в опере занимает «Реквием». Эту заупокойную мессу после смерти своей жены заказал Моцарту граф Штуппах через своего секретаря. Советский музыковед И. Бэлза писал, что «Реквием» выражал невыразимую горечь прощания с жизнью. Моцарт предчувствовал, что этот «Реквием» он писал для самого себя, боялся, что не успеет его докончить. Он посвящал своего ученика Зюсмайера во все тонкости работы над произведением, который и докончил это гениальное творение после смерти своего наставника. Также трепетно относился к «Реквиему» и Римский-Корсаков, сочиняя свою оперу. Пушкин был в расцвете сил. Но вот конец 1836 года. Поэт написал стихотворение «Памятник». С одной стороны, ощущение полноты жизни рядом с любимой и любящей женой, планы на будущее и в творчестве, продолжительное существование. С другой стороны, сам поэт видел «своего рода прощание с жизнью и творчеством в предчувствии близкой кончины». Мудрый Пушкин не исключал никаких исходов судьбы, никаких ее продолжений, никаких ее окончаний. Он представил, «проиграл» самые разнообразные: оптимистические, трагические концы. Но не исключал и другую смерть: разом, внезапно. Человек должен быть готов встретить ее достойно. И Пушкин был готов. А возможно, он помнил предсказание ясновидящей немки: смерть примерно в 37 лет от руки высокого молодого блондина. Так или иначе, но поэтическое завещание было написано. В творчестве Пушкина много загадок, для разгадки которых потребуется еще очень и очень много времени. Порой даже раз138 гадка одного предложения или одной строфы требует огромных усилий. Достоевский писал об этом: «Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот теперь без него мы эту тайну разгадываем» [Скатов 1991, с. 226]. Одно можем сказать наверняка: Пушкин знал себе цену и потому писал: Нет, весь я не умру – душа в заветной лире Мой прах переживет и тленья убежит – И славен буду я, доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит. [Пушкин 1975, т. 2, с. 385]. Пушкина не оставляли в покое злые языки, часто писали о дуэлях поэта, о том, что он искал смерть, в то время как Пушкин спасал и ограждал жизнь. Злые языки распространяли много сплетен о его жене. Жена первого поэта России должна была быть первой красавицей России. И Наталья Николаевна Гончарова была такой. Она была величественна, грациозна, обаятельна, она пленяла всех. Будь иначе, она б никогда не стала Пушкиной. Казалось, Наталья Николаевна горда и счастлива тем, что она Пушкина. Но ее облик как будто говорил: «Я страдаю». Действительно, ей предстояла трудная судьба быть женой поэта Пушкина. Тютчев говорил, что если Пушкин стал первой любовью России, то и жена его стала первой любовью, легендой тогдашнего общества. Ибо быть первой красавицей Гончаровой – одно, а стать первой красавицей Пушкиной – иное [Скатов 1991, с. 228]. Натали признавалась мужу перед его смертью о ее влюбленности, но не об измене. Таковой не было. Через 7,5 лет после смерти Пушкина Наталья Николаевна вышла замуж за генерала Петра Петровича Ланского, который очень любил ее. Он взял опекунство над всеми детьми Натали, был с ними очень ласков и добр. Для супруги Пушкина первое замужество было любовью, а второе – мудростью жизни. После исповеди Натальи Николаевны священник сказал, что он беседовал с ангелом чистоты. А в архивах Дантеса сохранилась запись: «Она была чиста перед мужем. Это ангел!». Кто же такой был Дантес? И почему так удачно подвернулся он в нужный момент в нужном месте? Прохиндей, ловелас, с детства хорошо усвоивший цену все прошибающей копейки, вынесенный из семьи бедного отца, который восторженно уступил сына богатому содержателю. Став голландским подданным, он устремился за карьерой в Россию. Вот кто был Дантес, этот человек с тремя отечествами и двумя отчествами. В борьбе с интригами Пушкин шел верными, смелыми и точными шагами, 139 путая карты врагов и разрушая козни. Он действовал безошибочно, и потому с ним обходились беспощадно. Сразу после этой страшной трагедии, унесшей жизнь великого гения, не менее талантливый и многообещающий молодой Лермонтов напишет: Его убийца хладнокровно Навел удар... спасенья нет: Пустое сердце бьется ровно, В руке не дрогнул пистолет... Смеясь, он дерзко презирал Земли чужой язык и нравы; Не мог щадить он нашей славы; Не мог понять в сей миг кровавый, На что он руку поднимал! [Лермонтов 1953, т. 1, с. 255]. Действительно, в силу своей ограниченности Дантес не был в состоянии понять содеянного. Смерть Пушкина описали многие современники, но подробнее всех сделал это его друг, писатель и врач Владимир Даль. 28 января во второй половине дня Даль узнал о ранении поэта и поспешил к нему домой. «У Пушкина, – вспоминал он, – нашел я толпу в передней и зале; страх ожидания пробегал по бледным лицам... Я подошел к больному, он подал руку, улыбнулся и сказал: «Плохо, брат!» Я приблизился к одру смерти и не отходил от него до конца страшных суток. Пушкин заставил всех присутствующих сдружиться с смертью, так твердо был уверен, что последний час его ударил!». А вот что писал Даль о последних минутах поэта: «Я, по просьбе его, взял его под мышки и приподнял повыше. Он будто проснулся, раскрыл глаза, лицо его прояснилось и он тихо сказал: «Кончена жизнь! Тяжело дышать, давит», – были последние слова его. Всеместное спокойствие разлилось по всему телу, частое дыхание изменялось в более медленное, протяжное; еще один слабый едва заметный вздох... Он скончался так тихо, что предстоящие не заметили смерти его» [Лаврин 1991, с. 332–334]. И тут судьба распорядилась так, чтоб Пушкин умирал, страдая и преодолевая страдания. Через несколько лет И.С. Тургенев скажет: «Пушкин умирал удивительно. Мужественно и просто. Но не только. Умирал Пушкин!» [Скатов 1991, с. 233]. Это была великая трагедия и всенародное горе. Приемный сын Жуковского, горячий поклонник Пушкина много лет лелеял одну мечту: найти Дантеса и задать один един140 ственный вопрос, как поднялась его рука на поэта. И от седовласого, пожилого, но все еще красивого и обаятельного Дантеса услышал спокойный ответ: «Это закон дуэли. Если бы не я, он убил бы меня!». Какое равнодушие и отсутствие вины по содеянному! Такое не прощается! Да, Пушкин умер, но в этот миг просто оборвалось его земное существование и началось бессмертие: Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, И назовет меня всяк сущий в ней язык, И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой Тунгус, и друг степей калмык. [Пушкин 1975, т. 2, с. 385]. Но поэт чуточку ошибся, ибо его помнят не только на Руси. Его знают, чтят, любят во всем цивилизованном мире. Он востребован представителями разных сословий и возрастных групп. Поэт актуален и вечно нов. В каждой развитой национальной литературе есть имена, являющиеся свидетельством ее вершины, дающие на века этой литературе духовно-эстетический идеал. В Италии это Петрарка, в Германии – Гете, в Англии – Шекспир, а у нас в России – Пушкин. Особенностью таких писателей является их «вечная современность». Они воспринимаются как «начало всех начал». В их творчестве видится воплощенным национальный идеал писателя и человека со свойственным ему чувством меры, с безупречным ощущением границ дозволенного и недозволенного в жизни и в искусстве. Поэтому всеми они воспринимаются как образец, но образец, недостижимый для подражания. «Невозможно повторить Пушкина», – утверждал Гоголь. А русский критик Аполлон Григорьев подмечал: «Во всей современной литературе нет ничего истинно замечательного и правильного, что бы в зародыше своем не находилось у Пушкина». Послепушкинская литература безотчетно и неосознанно, вне прямого стремления к подражанию, остается тем не менее в границах того магического круга художественных тем и образов, который очерчен ее гением, высвечен ее немеркнущим солнцем. «Мы находим теперь, – писал вслед за Григорьевым Н.Н. Страхов, – что, несмотря на множество, по-видимому, новых путей, которыми шла с тех пор русская литература, эти пути были только продолжением дорог, уже начатых или совершенно пробитых Пушкиным». И в самом деле, «зерно» романа-эпопеи «Война и мир» Толстого содержится в «Капитанской дочке», равно как «зерно» «Преступления и наказания» Достоевского заключается в 141 «Пиковой даме». Вся галерея «лишних людей» от Печорина Лермонтова, от Бельтова Герцена до Рудина и Лаврецкого Тургенева, Обломова и Райского Гончарова восходит к пушкинскому Евгению Онегину. Татьяна и Ольга в этом романе – прообразы Веры и Марфеньки в «Обрыве» Гончарова. К «русской душою» Татьяне тяготеют лучшие женские образы в романах Тургенева – Наталья Ласунская, Лиза Калитина, Елена Стахова. Русские писателиклассики, явившиеся после Пушкина, раскрывают и развертывают те емкие художественные формулы, которые содержит в себе образный мир Пушкина. Пушкин стал путеводной звездой для многих представителей литературного фронта и русских, и бывших советских писателей: Александр Блок, Андрей Белый, Валерий Брюсов, Борис Пастернак, Сергей Есенин и т.д. Последний считал Пушкина «своим учителем» и самым любимым поэтом. В статье «Пушкин и Есенин» Ю.Л. Прокушев писал: «От Никитских ворот к памятнику Пушкина медленно приближалась траурная процессия, провожавшая в последний путь Есенина, который сквозь грозы и бури своего века сумел пронести достойно и мужественно святое пушкинское знамя Поэзии. И вот эта последняя встреча – последняя из земных встреча Есенина с Пушкиным – встреча – прощание двух великих сынов России на пороге бессмертия и вечности» [Пушкин и литература... 1975, с. 209]. Всегда широко отмечались юбилейные пушкинские даты в Грузии. Жизни и творчеству поэта, его грузинским связям посвящены литературоведческие книги, сотни статей, десятки произведений грузинских поэтов, композиторов и мастеров кисти. Был велик интерес к литературному наследию Пушкина и в Азербайджане, где в литературе, и в частности в поэзии, находили дальнейшее обогащение тенденции пушкинского романтизма и реализма. Известный украинский поэт Пабло Тычина писал о Пушкине как о родном, любимом поэте, которого на гордых руках своих поднимают народы всей советской страны. Казахский поэт Абай видел в Пушкине идеал и образец поэта – патриота и гражданина: Взглянет он зорче степного орла, От горя мирского лицом помрачнев; Против неправды, насилия, зла Он обращает высокий свой гнев... [Там же, с. 451]. Татарский поэт Тукай так характеризовал мощь пушкинского стиха: 142 Моя душа сходна с твоей, но силы несравнимы. О, как мне мощь твоя нужна, певец неповторимый! [Пушкин и литература... 1975, с. 483]. Еще в лицейские годы Пушкин познакомился и сблизился с представителями петербургской армянской колонии. А в годы южной ссылки он интересовался жизнью и бытом армянских ремесленников, купцов, трактирщиков. Пушкин основательно знал современную литературу об Армении. А «Путешествие в Арзрум», пожалуй, – это дар великого поэта и писателя многострадальному армянскому народу. Исходя из этого маленького экскурса, стоит ли говорить о том, что значит для нашего благодарного народа Александр Сергеевич Пушкин! Еще при жизни Пушкина профессор Мкртич Эмин (1815– 1890) перевел на армянский язык поэмы «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан», но, к сожалению, эти переводы по неизвестным нам причинам не были опубликованы, судьба их неизвестна. Особое место занимает Пушкин в творчестве армянского поэта и прозаика, критика и публициста Микаела Налбандяна (1829–1866). Пушкин вдохновлял его на создание произведений, проникнутых пафосом свободы. Не случайно Налбандяна сравнивали с пророком, несущим факел в одной руке и меч – в другой, и девизом которого был клич из пушкинского «Пророка»: «Глаголом жги сердца людей». В стихотворении «Поэт» Налбандян писал о Пушкине: В его деснице меч разящий, Из уст он мечет пламена, Через него глаголет Муза, И им душа восхищена [Там же, с. 406]. С трепетной любовью относился к Пушкину и великий армянский поэт Ованнес Туманян, чьи переводы из Пушкина широко популярны у нашего читателя, а «Зимний вечер» на устах у каждого армянина. Другой очень популярный поэт Егише Чаренц писал о Пушкине: Читал я... и лучи стиха Мне в душу радостью лились... Непревзойденный великан, Как солнце он поднялся ввысь! [Джрбашян 1975, с. 429]. 143 Чаренц называл Пушкина «поэтическим солнцем мировой литературы» и говорил о неразрывной связи пушкинской поэзии и времени: И Александра прочитав, Я снова понял, почему, Как памятник в людских сердцах Стоять предрешено ему [Там же, с. 431]. Гений Пушкина всеобъемлющ, универсален. Пушкин везде дома, он чувствует себя свободно на всех географических и культурных широтах. Пушкин удивительно схватывает во всех культурах их национальное своеобразие. Вместе с тем всюду Пушкин остается Пушкиным, художником, не теряющим себя, всюду он умеет быть самим собой, русским человеком, русской национальной самобытной личностью. Жизнь поэта – только первая часть его биографии, другую и более важную часть составляет посмертная история его поэзии. Для многих молодых людей Пушкин остается обязательной частью их личной биографии. Профессионалы – это люди, не только любящие Пушкина, но и воспитанные на Пушкине, те, кто ощутил первую радость при общении к высокой культуре, к высокому искусству, запоминая и читая поэта. О жизни Пушкина снят целый ряд документальных и художественных фильмов. Перечислим некоторые из них. Первый немой художественный короткометражный фильм Василия Гончарова «Жизнь и смерть Пушкина» был снят в 1910 году. В 1927 году была снята историко-биографическая драма «Поэт и царь» Владимира Гардина и Евгения Червякова. Последний и исполнял роль Пушкина. В 1967 году был снят советский черно-белый документально-игровой фильм режиссера Федора Тяпкина «Гибель Пушкина». В роли Пушкина Олег Басилашвили. Художественный фильм режиссера Бориса Галантера «И с вами снова я» был снят в 1981 году. В роли Пушкина Александр Пономарев. И, наконец, одним из самых удачных фильмов была художественная лента режиссера Натальи Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль», которая была снята в 2006 году с участием Сергея Безрукова в роли поэта. В свое время Пушкин воздвиг себе нерукотворный памятник. Воздвигались и воздвигаются также рукотворные. Но который из них просуществует дольше, пожалуй, сказать невозможно, ибо все они бессмертны. И время докажет это. Пушкинские праздники, дни и форумы проходят в разных странах. Особо широко от144 мечаются его юбилейные даты, на которые съезжаются потомки великого поэта и многочисленные зарубежные гости. Ежегодные пушкинские праздники поэзии, ставшие традиционными, проходят в селе Михайловском. Вот краткий экскурс по страничкам жизнедеятельности Пушкина. Наша работа – это всего лишь маленькая капелька в бескрайнем океане творчества великого поэта. И сейчас, возможно, он смотрит на нас оттуда, со своего далека и думает: «Ай-да Пушкин, ...а ты был прав! Ведь тебя помнят, тебя любят, чтят и читают. Ты молодец!» Наконец-то его непокорная душа обрела покой и умиротворение. И как гордый орел, парит она, наслаждаясь оставленным человечеству своим наследием, хотя, быть может, сетует на то, что еще многое не успел сделать. Но даже то, что ты успел сделать, обессмертило тебя, Поэт! И уходя, Ты от нас не ушел, и покидая, Ты нас не покинул, не оставил. С годами мы набираемся еще большего опыта, житейской мудрости и поневоле задаемся вопросом: «Но хоть сейчас мы смогли разгадать гений Поэта?» Возможно, да, а возможно, и вовсе нет. Ведь все-таки Пушкин не так – то прост. И под конец завершим наш диалог с вечно современным и бессмертным Пушкиным словами замечательного армянского поэта Егише Чаренца: Учись писать, как тот певец кудрявый, Что с нами чрез столетье говорит... Зовет он к жизни, жаром души грея, И этим он бессмертен и велик! [Пушкин и литература... 1975, с. 432]. Наследие Пушкина не стало прошлым, оно осталось живым, нетленным и еще долго будет служить неисчерпаемым источником радости и душевного обогащения для всех, кто к нему прикоснется. Литература Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. – 2-е изд. – М., 1969. Детская энциклопедия: В 12 т. – М., 1977. – Т. 11. Джрбашян Э.М. Пушкинские традиции в поэзии Чаренца // Пушкин и литература народов Советского Союза. – Ереван, 1975. – С. 424–439. Друскин М.С. 100 опер: История создания. Сюжет. Музыка. – Л., 1970. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. – М., 1962–1978. – Т. 5. Кремнев Б.Г. Вольфганг Амадей Моцарт. – М., 1958. – Серия: Жизнь замечательных людей. 145 Лаврин А.П. 1001 смерть. – М., 1991. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. / Под ред. И.Л. Андроникова. – М., 1953. – Т. 1. Ливанова Т.Н. История западно-европейской музыки до 1789 года: Учебник: В 2 т. – М., 1982. – Т. 2. Музыкальная энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. Ю.В. Келдыш. – М., 1976. – Т. 2, 3. Пушкин А.С. Собрание сочинений: В 10 т. – М., 1975. – Т. 4. Пушкин и литература народов Советского Союза. – Ереван, 1975. Скатов Н.Н. Пушкин: очерк жизни и творчества. – Л., 1991. Чичерин Г.В. Моцарт. Исследовательский этюд. – Л., 1970. 146 Секция 2. СОВРЕМЕННАЯ РУСИСТИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 147 148 Аннушкин Владимир Иванович (Россия, Москва; д.ф.н., зав. кафедрой русской словесности и межкультурной коммуникации Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] Качества речи в русской филологической традиции: XVII – первая половина XIX веков Описание качеств речи в русской филологической традиции начинается с тех теоретических руководств, в которых впервые было представлено описание правил языка и речи. Такими книгами явились первые руководства по грамматике и риторике, которые были обобщены в «Сказании о седми свободных мудростех», написанном, по нашему мнению, после Смутного времени в период начавшегося восстановления государства при новой династии Романовых. Из семи «наук-мудростей» выделялся «тривиум» филологических «мудростей»: грамматика, риторика, диалектика. Уже в определениях этих наук можно увидеть те требования к качествам речи, которые задействованы каждой из наук. Так, о грамматике сказано, что она «есть художество... благо глаголати и писати учащее» [Спафарий 1978, с. 29], т.е. грамматика обучает хорошо, правильно говорить и писать; риторика же «есть художество, яже учит слово украшати и увещевати» [Там же, с. 31], т.е. риторика обучает украшать речь и убеждать. Таким образом, грамматика относится к правильной речи, а риторика – к украшенной и убедительной. Подобное указание именно на качества речи, различающие три науки (грамматику, риторику и диалектику), находим во всех последующих сочинениях доломоносовского периода. Так, в первой русской «Риторике» 1620 года, упоминание о которой имеется в предыдущем параграфе, сказано о том, что «диалектика простые дела показует, сиречь голые», т.е. представляет речевое 149 доказательство простым и неукрашенным, «риторика же к тем делам придает и прибавливает силы словесные кабы что ризу честну или некую одежю» [Аннушкин 2006, с. 22]. «Одеждой» риторики является, конечно, ее словесное украшение, о чем с еще большей выразительностью сказано в определении риторики, где указано на качества, имевшиеся в античной традиции: «Риторика... научает... добрословия. Сию же науку сладкогласием или краснословием нарицают, понеже красовито и удобно глаголати и писати научает» ([Там же, с. 21]; выделено нами. – В.А.). Кроме указанных здесь качеств речевой сладости и красоты напомним о цитированных в предыдущем параграфе качествах украшенной речи, описанных со ссылкой на Цицерона: «Красус у Кикерона в книгах третиих поставляет в речении четыре части: чтоб латинстим своим и истинным языком (чистота речи. – В.А.) и чтобы ясно и не закрыто (ясность) и украшенною речию или глаголанием (красота), удобно (уместность) говорилося» [Там же, с. 66]. Таким образом, уже в самых ранних русских риторических сочинениях имеются указания на достоинства речи: добрословие и благоречие (хорошая речь в самом общем смысле), украшенность (красота), сладость, чистота, ясность, уместность (последняя переводится как «удобность» еще в нескольких параграфах первой русской «Риторики» XVII века). В доломоносовских риториках петровского времени, как и в первой русской «Риторике», нет специальных толкований качеств речи, однако имеются постоянные ссылки на те или иные качества речи, ориентация на которые позволяет различать как сами науки, так и разные виды речи. Например, в «Риторике» Михаила Усачева 1699 года совершенно определенно представлено различие риторики от грамматики с комментарием качеств речи, свидетельствующих о таком различии: «Риторика есть наука добре, красно и о всяких вещех прилично глаголати». Далее комментируется, что «добре глаголати есть грамматически глаголати», т.е. грамматика учит «токмо добре глаголати, а не красно». Как видим, это толкование отчасти схоже с имеющимся в первой русской «Риторике» XVII века (см. выше). Итак, грамматика относится к «доброй» речи, под которой следует понимать правильную речь, риторика же, хотя и не обходится без грамматики, являющейся основанием всем наукам, прибавляет сюда «красноглаголание» и необходимость «прилично глаголати» [Аннушкин 2006, с. 81]. Эти риторики подготовили появление первой научной «Риторики» М.В. Ломоносова под названием «Краткое руководство к 150 красноречию». Это сочинение было напечатано в 1748 году, однако и в нем мы не находим комментирования качеств речи, хотя качество «красоты» вынесено в название учебника, которому суждено было стать основанием русской науки о речи. «Красноречие есть искусство о всякой данной материи красно говорить и тем преклонять других к своему об оной мнению». В учебнике М.В. Ломоносова вся 2-я глава посвящена «украшению» – в ней представлены учения о тропах и фигурах речи с подробной классификацией всех имеющихся способов украшения речи. Несмотря на отсутствие специальных глав или разделов, посвященных качествам речи, упоминание о них выводится из хорошо известных всем ломоносовских текстов. Так, знаменитая похвала русскому языку, взятому в сопоставлении с другими европейскими языками, свидетельствует именно о наличии в нем множества положительных качеств, которые, конечно, представлены как раз теми самыми «достоинствами», как писали в античности, или положительными свойствами речи. «Великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италиянского» – все это качества, которые прямо соотносятся с проанализированными выше качествами красоты («великолепие»), живости, силы («крепость»), сладости («нежность») [Ломоносов 1952, с. 391]. Однако, несмотря на то что у М.В. Ломоносова отсутствует терминология, называющая качества речи, он тем не менее во 2-й части «О украшении» замечает, что украшение состоит в «чистоте штиля, в течении слова, в великолепии и силе оного» [Там же, с. 236]. Все перечисленные слова по содержанию, вкладываемому в них великим ученым, суть не что иное как качества речи. Правда, их толкование существенно разнится от имеющегося в предыдущей традиции и не всегда будет согласовываться с теми объяснениями, которые будут встречаться в XIX веке. Чистота штиля «зависит от основательного знания языка, от частого чтения хороших книг и от обхождения с людьми, которые говорят чисто» [Там же, с. 236]. Для первого требуется «изучение правил грамматических», для второго – выбор из книг «хороших речений, пословиц и поговорок», для третьего – «старание о чистом выговоре при людях, которые красоту языка знают и наблюдают» [Там же, с. 236–237]. Под течением слов М.В. Ломоносов понимает то, что в дальнейшем будет названо «гармонией, или благозвучием» (см. ниже у Н.Ф. Кошанского или у А.И. Галича), т.е. «порядочное положение и вмещение письмен, складов с их ударениями, речений, периодов» – в комментариях им сказано, чего должен избегать 151 ритор: «непристойного и слуху противного стечения согласных, удаляться от стечения письмен гласных (жалостно о отшествии...), частого повторения одного письмени (тот путь тогда топтать трудно)» [Ломоносов 1952, с. 240]. Великолепие достигается использованием тропов и фигур, причем тропы бывают речевые и предложения. Здесь М.В. Ломоносов вполне придерживается античной и предшествующей русской традиции. Под силой в украшении более всего понимается пристойность, ибо «без пристойных движений, взглядов и речей вся красота и великолепие будут бездушны» [Там же, с. 238]. Таким образом, в складывающейся науке о русском языке в XVIII веке мы наблюдаем непрерывность традиции в обращении к качествам речи, хотя проявляется она имплицитно, т.е. неявно, не в конкретных описаниях самих качеств, а в их упоминаниях и в попытках описания этих качеств в разделе риторики, касающемся украшения речи. Ситуация решительно изменилась в конце XVIII – начале XIX вв. с развитием риторики и появлением словесности как основного филологического учения, объединявшего все «словесные науки». В учебниках классиков русской риторики и словесности конца XVIII – первой половины XIX вв. И.С. Рижского, М.М. Сперанского, А.Ф. Мерзлякова, Я.В. Толмачева, Н.Ф. Кошанского, А.И. Галича, И.И. Давыдова содержатся подробные описания качеств слога или стиля, которые должны быть присущи образцовым сочинениям. Прежде всего, обратим внимание на то, что качества речи называются в русских учебниках, как правило, совершенствами слова, а в дальнейшем качествами слога или качествами стиля. Так, одним из первых реформаторов явился профессор Горного шляхетского корпуса (ныне Санкт-Петербургский Горный институт), а затем первый ректор Харьковского университета Иван Степанович Рижский. В своем «Опыте риторики» 1796 г. среди основных «совершенств слова» он называл следующие: чистота языка, пристойность слов и выражений, точность, ясность, плавность = словотечение, благоразумное употребление украшений. Происходят эти совершенства «от выражений», а сами совершенства и суть «украшения» речи. Очевидно, что одним из наиболее популярных авторов начала века был М.М. Сперанский, известный русский реформатор, «главный российский бюрократ». Будучи профессором СанктПетербургской Духовной академии, он создал в 1793 г. рукописный учебник «Правила высшего красноречия», который в списках расходился и переписывался по всей России (опубликован только 152 в 1844 г.). М.М. Сперанский среди «общих свойств слога» называл следующие: – ясность («Первое свойство слога есть ясность. Ничто не может извинить сочинителя, когда он пишет темно. Ничто не может дать ему права мучить нас трудным сопряжением понятий»); – разнообразие («Второе свойство слогу общее есть разнообразие. Нет ничего несноснее, как сей род монотонии в слоге, когда... все выражения в обороте своем всегда одинаковы»); – единство слога («Надо, чтобы части были разнообразны, а целое едино, надобно, чтобы в сочинении царствовал один какойнибудь тон...»); – равность слога с материей («Слог должен быть равен своему предмету, т.е. все побочные понятия должны быть соразмерны своим главным. Если главные мысли возвышенны, все зависящие от них должны быть сильны и благородны; если первые просты, последние должны быть легки и естественны» (цит. по: [Граудина 1996, с. 84–85]). Как кажется, под этим термином подразумевается уместность речи. Возможно, русские учебники риторики и словесности имели много общего не только с античными руководствами, которые изучались в школах и академиях, но также и с иностранными источниками своего времени, и с предшественниками на отечественной почве. Так, по-видимому, одним из первых описал качества слога или стиля профессор Московского университета А.Ф. Мерзляков. В его «Краткой риторике» 1809 г. эти качества суммируются следующим образом: «...всеобщие или существенные свойства хорошего слога во всех родах прозаических сочинений суть следующие: правильность, точность, пристойность, благородство, живость, красота и благозвучие» ([Там же, с. 134–135]; курсив наш. – В.А.). Первым из этих свойств названа «правильность, или исправность, которая принадлежит более к грамматике, чем к риторике» (этот тезис похож на приводимый выше из ранних русских риторик). Характерно также повторение известной метафоры: «...выражение... служит отпечатком мысли», т.е. ее «одеждою». «Правильность заключает в себе чистоту выражений» [Там же, с. 135–136] – и мы видим, что два этих понятия пока еще являются синонимами. Кстати, в ранних работах понятие правильность отсутствует – возможно, оно появилось именно в русских работах конца XIX – начала XX вв. Каждый последующий автор вносит новое толкование, но, в сущности, продолжает творить в русле сложившейся традиции. После Отечественной войны 1812 года одним из наиболее 153 влиятельных и популярных авторов был Яков Васильевич Толмачев, написавший вначале «Правила красноречия» (1815), а затем книгу «Военное красноречие» из трех томов (1825), где содержалось общее описание риторических правил, описание правил военного красноречия и образцы сочинений (речей, деловых военных документов) [Толмачев 1815; Толмачев 1825]. Термин слог употреблен в старинном значении: «Слог есть образ словесного выражения мыслей и чувствований, имеющий должные совершенства, требуемые целью речи. Речь, не имеющая нужных совершенств, не имеет слога» [Толмачев 1825, ч. I, с. 123]. Как видим, и здесь положительные качества речи называются «совершенствами». Совершенства подразделяются на общие, частные и особенные. Общими совершенствами являются правильность, ясность и красота. Правильность рассматривается в «употреблении и сочинении слов». Под употреблением слов понимается точный выбор слова, когда «наблюдается совершенное согласие между понятиями и словами как между знаками и значимыми предметами», а сочинение слов бывает правильным, когда согласуется с «обыкновенным употреблением языка» [Там же, с. 124]. О ясности мы скажем ниже, когда разберем этот термин последовательно у разных авторов. Сейчас же отметим, как общее соотнеслось с частным на примере «качеств военного витии» (оратора). Соответствующая глава начата замечательным рассуждением о том, что «военачальник более действует, нежели говорит; речь его... только дополнение действия», но поскольку быстрота и сила составляют существенные качества военного действия, так и слог всех речей военных должен отличаться сими совершенствами» [Толмачев 1825, ч. II, с. 43]. Каждое из этих качеств предполагает новые свойства, которые либо сами являются источниками происхождения данных качеств, либо служат их следствиями. Так, быстрота происходит от «пламенного стремления страстей», а второе «качество военного слога, происходящее от быстроты мыслей, есть краткость» [Там же, с. 44]. Третье качество – живость, ибо военачальник «пламенеет нетерпением убедить и склонить подчиненных на свое мнение» [Там же, с. 45]. Сила происходит «или от языка, или от мыслей». Я.В. Толмачев выдвигает интересную идею, вновь говоря о краткости: «Язык содействует силе слога своею краткостию. Чем он способнее представлять меньшим количеством слов большее число мыслей, тем более силы придает слогу» [Там же, с. 46]. В пример приводится «бессмертный Суворов», который отличался «силою слога, происходящею от краткости» [Там же, с. 47]. 154 Казалось бы, этим можно было закончить рассуждение о качествах военного слога, но Я.В. Толмачев венчает главу рассуждением о свойствах личности военного человека, называя затем особенные качества военного слога. Я.В. Толмачев пишет: «Благородные и высокие чувствования, твердость, мужество, решительность, величие духа, презирающего все препятствия, все страхи и даже самую смерть, – сии качества воина изображаются и в действиях и в речах его» [Толмачев 1825, ч. II, с. 50–51]. Кроме упомянутых выше «совершенств военного слога», он считает необходимым указать еще на общие «качества военного слога» (правильность, ясность, определительность, чистота, истина и основательность). Как видим, Я.В. Толмачев не везде последователен в разграничении качеств и совершенств, но ясно, что для него это разные термины: качества отчасти повторили совершенства, но они не заменили совершенства, а только развили количество названных свойств хорошей речи. «Особенными качествами военного слога» названы «скромность в подчиненном и решительность в начальствующем». Дальнейшее описание этих качеств показывает соединение в описании Я.В. Толмачева требований к личности с требованиями к речи, которые оказываются нераздельными. Если выразиться точнее, то вначале следует качество личности, а затем качество речи. Вот как описывается скромность: «Скромность есть цвет вежливости, украшение человека. По делам службы она есть непременный долг, которого строго требует связь военного чинопочитания. Сия скромность должна быть истинная, а не мнимая; должна проистекать от чистосердечия, а не от низкой лести, недостойной благородного звания воина. Подчиненный, представляя донесение своему начальнику, должен вникать в значение и силу выражений, дабы не показаться грубым или низким; он должен знать все формы, принятые общежитием и постановленные правилами в сношениях по делам службы» [Там же, с. 52]. Наиболее систематическим представляется описание качеств слога, представленных в знаменитой «Общей реторике» (писалось через «е». – В.А.) Н.Ф. Кошанского 1829 г., выдержавшей в последующее двадцатилетие десять изданий. Н.Ф. Кошанский – учитель российской и латинской словесности в Царскосельском лицее, прочитавший первую лекцию по словесности Пушкину и его лицейским друзьям, человек, которому обязаны первыми уроками в прозе и поэзии царскосельские отроки. Учение о слоге начинает 3-ю часть учебника Н.Ф. Кошанского. Общее определение «слога-стиля» предполагает «способ выражать мысли», а собственно «слог в особенности есть способ 155 выражать мысли, свойственный каждому писателю порознь» [Кошанский 2013, с. 98]. Таким образом, слог есть индивидуальный способ выражения. Согласно концепции Н.Ф. Кошанского, слог имеет общие свойства и частные: общие «подлежат правилам и имеют свои достоинства и недостатки – частные зависят от вкусов и бесчисленны. Общие достоинства необходимы и для всех частных» ([Там же, с. 87]; курсив наш. – В.А.). Н.Ф. Кошанский выделяет следующие достоинства слога, и они суть то, что мы называем сегодня качествами речи. Их шесть: 1. Ясность – «без нее все прочие достоинства, как красы природы без света для зрителя, исчезают». Ясность предполагает три правила: а) «знание предмета» (назовем его гносеологическим); б) (логическое) «здравая, основательная связь в мыслях»; в) (грамматическое) требующее: «1. естественного порядка слов, 2. точности и общей употребительности слов и выражений, 3. уместных знаков препинания» [Там же, с. 95–96]. 2. Приличие, которое требует «благопристойности и вкуса». Главнейших правил четыре: а) «слог должен быть приличен предмету: простой предмет требует простого, важный – возвышенного» (уместность, или соответствие). Конечно, Н.Ф. Кошанский испытывает явное влияние античных теоретиков, знатоком которых он как учитель не только российской, но и латинской словесности являлся; б) «слог должен быть приличен лицам, месту и времени»; в) «мысли, картины и все украшения должны быть свойственны предмету»; г) нельзя допускать «странного смешения слов и выражений низких с высокими, шуточных с важными, остроумных с простодушными» [Там же, с. 97–99]. 3. Чистота – «некоторые называют сие качество правильностью, другие отделкою». Впрочем, Н.Ф. Кошанский четко разграничивает их роли: правильность – «основание чистоты», а отделка служит «средством достижения чистоты, состоящей в словах и выражениях» [Там же, с. 99]. Чистота слога требуется в «словах лучших», выражениях и способах соединять слова наилучшим образом. Подобно И.С. Рижскому Н.Ф. Кошанский замечает, что чистота слов нарушается словами: 1) низкими, или площадными, 2) обветшалыми (архаизмами) или вышедшими из употребления, 3) чужестранными, 4) провинциальными, 5) техническими (видимо, излишним употреблением «темных» терминов), 6) новыми или неудачно составленными, 7) славянскими «не у места» [Там же, с. 86–99]. 4. Плавность – «искусство писать так, чтобы чтение было легко и приятно». Плавность имеет и другие синонимические наименования: течение речи, лад, склад, собственно слог, ибо 156 именно плавность позволяет почувствовать, «что есть в сочинении слог» ([Кошанский 2013, с. 101]; курсив наш. – В.А.). Плавность зависит «1) от естественного хода мыслей (мысли должны течь “одна за другою как струя за струею”); 2) от соразмерности в частях (тайное согласие речи с быстротою или медленностию описываемых происшествий); 3) от соответственности чувств и выражений (соответственность между порывами духа и мерою слов, в то время произносимых) и 4) от эвритмии (редкое искусство оканчивать мысли удовлетворительным образом)» [Там же, с. 101–103]. 5. Гармония понимается как «музыка слога, или удовольствие слуха», которое бывает двух родов: 1) благозвучность (эвфония) и 2) подражательная гармония (звукоподражание) [Там же, с. 103]. Благозвучность, или эвфония, есть «искусство составлять аккорды звуков, т.е. располагать звуки букв, как тоны музыки, приятно для слуха». Нарушение благозвучности вследствие «стечения одинаких звуков или многих одинаких согласных, неприятных для слуха» называется какофониею. Подражательная гармония, или звукоподражание, есть искусство звуками слов выражать звуки или действие описываемого предмета [Там же, с. 104]. 6. Украшение понимается как «живопись слога, искусство пользоваться красотами предмета, или красотами выражений». Украшение бывает внутреннее и наружное. Внутреннее украшение состоит в искусстве изобретения и расположения, поэтому основывается на силе ума и степени чувств, «врожденных человеку и образованных наукою», т.е. оно зависит от содержания и композиции речи. Наружное украшение – «роскошь слога, которая часто скрывает бедность мыслей» – состоит в тропах и фигурах. Именно оно присваивает себе «название красноречия» [Там же, с. 106]. Почти одновременно с Н.Ф. Кошанским публикует свою риторику под названием «Теория красноречия» другой учитель Царскосельского лицея, философ и литератор Александр Иванович Галич. Он был замечательным педагогом-словесником, временно заменявшим Н.Ф. Кошанского в должности лицейского преподавателя словесности и заслужившим большую любовь учеников простотой и благорасположенностью в общении с ними. В учебнике А.И. Галича, так же как и в предыдущей традиции, сначала дается описание общих качеств речи, а затем подобное описание качеств делается в «части особенной, или прикладной», касающейся разных видов словесности, в частности написания писем. Обратим внимание на то, что А.И. Галич начинает свой учебник разделом «Об ораторском языке, или выражении», 157 где проанализированы именно «качества речи». Таким образом, учение о качествах речи в некоторых теориях речи XIX века перемещается по важности на первое место. Хотя кажется, что А.И. Галич творит в русле сложившейся традиции, при внимательном чтении становится очевидно, что постановка качеств на первое место имеет для него существенное значение, и, следовательно, происходит переоценка значимости данной категории; в само же описание автором привнесено множество новых идей. А.И. Галич разбирает следующие качества речи: чистота, правильность, ясность, точность, благозвучие [Граудина 1996, с. 167–170]. При описании в «части особенной или прикладной» требований к созданию разных видов сочинений А.И. Галич пишет об особенных «свойствах» писем или деловых бумаг, или судебного красноречия и т.д. Так, «особенные свойства писем» следующие: 1) легкость и естественность, 2) приличие («письмописатель избегает всех странных, выисканных выражений...»), 3) живость («остерегаться сухого и однообразного тона»), 4) соразмерность частей. Свойства деловых бумаг суть: а) чистота и правильность грамматическая («фразы и словосочетания, получившие права гражданства... должны быть удерживаемы»), б) ясность и определительность, в) краткость, г) порядок, д) полнота [Граудина 1996, с. 179–181]. Этот стиль подвергался критике революционерами-демократами, особенно В.Г. Белинским, хотя, как можно заметить, В.Г. Белинский сам творил в русле данной традиции. Несмотря на то, что великий критик в статье «Содержание и задачи риторики» пишет «О господа, ужасная эта наука – риторика! Блажен, кто сможет стряхнуть с себя ее педантическую гниль и пыль...», тем не менее он сам пользуется теми же риторическими средствами и приемами. Не останавливаясь на вопросах критики риторики, скажем, что предложения В.Г. Белинского не идут дальше содержания, имеющихся в учебниках риторики, – это видно хотя бы из того, что он написал о требованиях к преподаванию на основе качеств речи. Вот что пишет В.Г. Белинский: «Оставляя в стороне теорию красноречия и поэзии и вообще всякую теорию в низших учебных заведениях, после основательного и строгого изучения грамматики, полагаем полезным занимать учеников практикою языка, чтобы они умели ясно, вразумительно, кругло, приятно и прилично написать записку о присылке книги, приглашение на вечер, письмо к отцу, матери или другу о своих нуждах, чувствах, препровождении времени и прочих предметах, не выходящих из сферы их понятий и жизни. Тут главное дело чтобы приучить их 158 к естественному, простому, но живому и правильному слогу, к легкости изложения мыслей и, главное к сообразности с предметом сочинения» ([Там же, с. 198–199]; курсив наш. – В.А.). Разве не о том же пишут все учителя риторики, в частности А.И. Галич, из «Теории красноречия» которого великий критик словно переписал свои суждения? Остроумно и вдохновенно критикуя риторику, ниспровергающий науку революционер-демократ повторил все основные качества речи, которым сам выучился в школе: «ясность, вразумительность, приятность, приличие, естественность, простота, живость, правильность слога, легкость, сообразность». Все это он сам почерпнул из риторики, а теперь, как настоящий революционер, предлагал выбросить «с корабля современности» то, что составляло предшествующую культуру. При существовавшей критике риторики к 50-м годам XIX века, тем не менее, раздел качеств речи, если и редуцировался, то не исключался вовсе из состава риторики и теории словесности. Так, наиболее влиятельный и популярный автор К.П. Зеленецкий, по чьим учебникам учились в России в середине XIX века, писал о «необходимых условиях всякой речи» [Граудина 1996, с. 208]. Словом условия он заменил существовавшие дотоле совершенства, качества, свойства. Обобщим сделанные наблюдения в следующих выводах: 1. В доломоносовской рукописной филологии имеются указания на качества речи в определениях каждой из наук: грамматики (правильность), риторики (украшенность, убедительность). В ранних русских риторических сочинениях имеются также описания достоинств речи, которые включают добрословие и благоречие, украшенность (красоту), сладость, чистоту, ясность, удобность (уместность), приличие. 2. Описание русского языка у М.В. Ломоносова свидетельствует о наличии в нем указаний на положительные качества речи (языка), которые затем проявляются в теории украшения речи как основе теории стиля или слога. Эти качества суть не только «великолепие, живость, крепость, нежность, богатство, краткость», но и описанные в «Кратком руководстве к красноречию» чистота стиля, течение слова, великолепие и сила. 3. Учение о качествах речи начинает формироваться в особый раздел в учебниках русской риторики и словесности конца XVIII – первой половины XIX вв. Их авторы И.С. Рижский, М.М. Сперанский, А.Ф. Мерзляков, Я.В. Толмачев, А.И. Галич, Н.Ф. Кошанский и другие предлагают подробные описания качеств слога или стиля, которые должны быть присущи образцовым сочинениям. 159 4. Термины для наименования качеств эволюционируют от одной теории к другой: «совершенства слова» у И.С. Рижского, «общие свойства слога» у М.М. Сперанского, «всеобщие свойства слога» у А.Ф. Мерзлякова, «всеобщие совершенства» и «особенные качества военного слога» у Я.В. Толмачева, «условия речи» – у К.П. Зеленецкого. 5. По-прежнему выделяются основные качества хорошей речи (стиля, слога), которых касаются все авторы: ясность, чистота (вводится ее синоним – правильность), красота (украшенность). Остальные термины соответствуют имевшимся еще в античной риторике представлениям, но каждый автор привносит свои новые понятия. Среди них: разнообразие, единство, равность (М.М. Сперанский); легкость, краткость, точность, возвышенность духа (Я.В. Толмачев); приличие, плавность, гармония (Н.Ф. Кошанский); благозвучие, естественность, соразмерность, определительность, полнота (А.И. Галич); сообразность (В.Г. Белинский). 6. Качества речи базируются на требованиях к качествам личности оратора или писателя. Хотя личность ритора мало исследуется в теории риторики и словесности, в некоторых работах имеется последовательность анализа сначала качеств личности, а затем качеств речи (см. концепцию Я.В. Толмачева). 7. Перечисленные качества речи стали основой для построения будущей теории коммуникативных качеств речи, которая получила развитие в стилистике и культуре речи XX столетия. Литература Аннушкин В.И. Первая русская «Риторика» XVII века. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2006. Граудина Л.К. Русская риторика: Хрестоматия. – М., 1996. Кошанский Н.Ф. Риторика / Изд. подгот. В.И. Аннушкин, А.А. Волков, Л.Е. Макарова. – М., 2013. Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию // Полн. собр. соч.: В 11 т. – М.–Л., 1952. – Т. VII. – С. 89–378, 805–839. Спафарий Н. Эстетические трактаты / Подготовка текстов и вступительная статья О.А. Белобровой. – Л., 1978. Толмачев Я.В. Правила словесности. – СПб., 1815. Толмачев Я.В. Толмачев Я.В. Военное красноречие. – СПб., 1825. 160 Балачандран Нидхи (Индия, Нью-Дели; аспирант Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] Языковые, коммуникативные и этикетные проблемы при общении в виртуальном пространстве Словарь Ожегова определяет слово «общение» как «взаимные сношения, деловую или дружескую связь». Для лингвистики же общение – сложное явление. Классифицируя его виды по разным основаниям, различают следующие виды общения: контактное – дистантное, непосредственное – опосредованное, устное – письменное, диалогическое – монологическое, межличностное – публичное – массовое, частное – официальное, свободное – стереотипное, кооперативное – конфликтное, речевое – текстовое, информативное – фатическое и нарративное – коммуникативное. К ряду видов общения, перечисленных выше, мы бы хотели добавить еще один вид. В зависимости от того, в каком пространстве происходит общение, оно делится на реальное и виртуальное. Слово «виртуальное» в самом широком смысле ассоциируется с Интернетом и с компьютером. Итак, виртуальное общение – это опосредованное общение при помощи компьютера. Здесь возникает вопрос, почему виртуальное общение противостоит реальному общению? Разве общение через компьютер не реальное? Возьмем аутентичный фрагмент виртуального общения и рассмотрим его (см. приложение 1). Нужно отметить, что это общение между двумя взрослыми культурными людьми, филологами, преподавателями. Маловероятно, что при реальном общении они бы целовались, плакали, дули в свисток и подмигивали. Виртуальное общение порождает новые личности, люди общаются на неких других «волнах». Справедливо будет сделать вывод, что виртуальное общение на самом деле отличается от 161 реального и имеет свою специфику. Некоторые из его особенностей таковы: 1) употребление сокращенных нелитературных форм (щас, фотки); 2) порождение потенциальных неологизмов типа «скайпуем завтра»; 3) пропущенные знаки препинания или их избыточность с целью создания эффекта (зайди к Томе!!!). Эти знаки передают эмоциональное состояние коммуниканта; 4) введение в употребление парадоксального с точки зрения других видов общения выражения типа «ты тут??» (значение статуса онлайн еще не говорит о том, что собеседник готов общаться и находится за компьютером). Так называемое «виртуальное общение» появилось в конце 20-го века. Появление виртуального пространства во многом повлияло на реальное общение и изменило его. 1. Возросла частотность общения – в то время как раньше друзья общались, пожалуй, раз в неделю, сейчас в Интернете общаются несколько раз в день. 2. Знаки препинания если и не исчезли полностью, то явно поменяли свое основное назначение. 3. Появилась виртуальная личность. 4. Количество писем, посылаемых обычной почтой уменьшилось. 5. Переход на «ты» происходит очень быстро или вообще с самого начала общения. 6. Наблюдается предпочтительность общения не на литературном языке, так как это считается более «крутым». 7. Появились специальные символы, передающие эмоциональное состояние (смайлики). 8. Появились многочисленные виртуальные друзья, среди которых встречаются как близкие друзья, так и едва знакомые и даже совсем незнакомые люди. Виды интернет-общения А. Аудио-визуальные. Лет 25 назад люди мечтали о телефоне, в котором появляется изображение собеседника во время разговора. А сегодня это уже стало частью реальности. С помощью таких приложений, как skype, можно разговаривать и видеть человека, находящегося в нескольких тысячах километров от собеседника. Этот вид общения отличается от непосредственного общения тем, что собеседник видит столько, сколько ему хотят показать. Мы его называем псевдоконтактное общение, так как 162 присутствует возможность зрительного восприятия собеседника, но это не обязательно и может быть ограничено в зависимости от качества интернет-связи, и компьютерного оборудования. Участники разделены пространством, но связаны во времени. Б. Письменные. 1. Письма. Могут пересылаться с помощью почтовых ящиков, так называемых «mail clients» (mail.ru, rambler, gmail, hotmail, yahoo и т.п.). Они могут быть официальные или неофициальные, и у каждой сферы есть свои стиль и специфика, которые соответствуют письмам этого жанра в неэлектронном виде, хотя существуют и отличия, например, отсутствие подписи (хотя юридические и другие официальные письма могут иметь электронную подпись). Письма бывают напечатанные или отсканированные, хотя отсканированные версии мы не рассматриваем как интернетобщение, а всего лишь как способ передачи стандартного письма посредством Интернета. 2. Открытки. Главное отличие в том, что, в то время как раньше бумажные открытки отправляли по праздникам, в Интернете популярные открытки рассылаются и без повода. Например, на таких сайтах, как americangreetings.com, yahoo.com/greetings и т.п., предлагаются открытки с пожеланием хорошего понедельника (и другие дни недели). Второе главное отличие в том, что одну открытку с теми же словами можно отправить сразу нескольким людям. Таким образом, этот процесс более имперсональный. Можно также поставить дату и время доставки по желанию адресанта – он может в начале месяца задать дату, с тем чтобы всем своим друзьям автоматически отправить открытку в определенное время. Кроме того, адресат теряет 1) фазу догадки, потому что сразу получает информацию, что такой-то человек отправил письмо, 2) марки, 3) теплое чувство, возникающее при виде знакомого почерка. 3. Общение на форумах. Общение происходит в виде полилога, где присутствует несколько участники которого 1) выражают свое мнение – утверждение или возражение – по поводу уже процитированной точки зрения, 2) оказывают помощь или дают совет по запросу адресанта 3) предлагают так называемый новый «thread», т.е. новую тему для обсуждения. 4. Чат. Мы называем этот жанр письменным спонтанным диалогом. Общение может быть межличностное в форме диалога или полилога. 5. Сайты знакомств типа edarling, mail.ru-знакомства. На этих сайтах одинокие люди знакомятся друг с другим обычно в 163 поисках своей любви. Здесь очевиднее всего проявляются так называемые «виртуальные личности». Шестидесятилетний плотник может представить себя как двадцатипятилетнего футболиста, чтобы общаться с другим контингентом женщин. 6. Твиттер. Общение осуществляется в форме публичного или массового общения с возможностью вступать в диалог или полилог на данную тему. 7. Блог. Сайты типа livejournal дают возможность выложить свой открытый дневник в Интернет или завести свою страницу обычно на определенную тему, например, кулинарный блог, политический блог, спортблог, фотоблог (типа Flickr). 8. Игровые сети. Это сайты типа playground.ru, games.com, gameshouse.com, где игроки выбирают себе так называемый «аватар», т.е. некий образ, имеющий свой характер. Нужно отметить, что слово «аватар» заимствовано из санскрита и обозначает «спуск далеко». Можно сказать, что игроки настолько усваивают характер выбранного образа, что как бы переступают порог реальности и входят в виртуальный мир. 9. Социальные сети: Фейсбук, Вконтакте, одноклассники или деловой networking Linkedin. Для этих сайтов характерно общение с большим количеством людей, при этом с мало- или незнакомыми. Общение осуществляется в основном в виде диалога, полилога. Кроме того, участники могут подмигивать и ставить «лайк», т.е. выражать свою симпатию. Возьмем один фрагмент общения на Фейсбуке (см. приложение 2). Анализ фрагмента Речевая интенция: Поздравить маму (но мамы нет на сайте). Итак, нарушается правило речевого акта – сообщение предназначено адресату, до которого это сообщение не доходит. Мы предполагаем, что цель общения другая. Адресант эксплуатирует день рождения мамы как повод возобновить свой «статус» и привлечь внимание к самому себе. Маловероятно, что при реальном общении адресант объявлял бы день рождения мамы, как это делается в реплике 1. Реплика 2 иллюстрирует, что эту «невидимую» маму поздравляют люди, которые даже не знали, что у нее день рождения, и едва ли поздравили бы ее при реальном общении. Реплики 4 и 8: появляются новые адресанты, которые поздравляют маму, несмотря на ее отсутствие и выражают радость (Ииииха). Реплика 9 иллюстрирует, что эти участники, видимо, близки и существуют в одном контексте. Употребляются нелитературные / сокра164 щенные формы слова (када – когда, Мск – Москва), т.е. наблюдается письменная редукция. Реплика 10 нарушает этикет беседы, так как употребляется иностранный язык (вполне возможно, что «мама» этот язык даже не понимает). Рассмотрение виртуального общения свидетельствует о том, что сегодня благодаря Интернету рождается «виртуальная личность». Мы не можем согласиться со словами современного философа и писателя Б. Кригера, который называет ее «фиктивной». Эта личность не фиктивная – она существует, но ее виртуальное поведение и психология слегка отступают от норм реального мира. Перед нами новая социопсихологическая личность, которая соблюдает неписанные правила виртуального речевого этикета. Таким образом, появляются новые правила игры, новые стереотипы и новый этикет общения, которые требуют глубокого филологического рассмотрения. Литература Кригер Б. Виртуальная личность: мифы и реальность // Электронный ресурс: http://mirbudushego.ru/ram/kriger/ch3.htm. ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 (чат) [17/02/2013 23:10:47] Татьянка: алллллллооооо [17/02/2013 23:11:13] Татьянка: зайди к Томе!!! (hug) (wink) тебя ждет мой привет у нее (sun) [18/02/2013 00:19:22] nidhi: Sweetheart, солнышко, наверное, уже поздно – я только что увидела твое сообщение [18/02/2013 00:30:03] Татьянка: ну ничего, завтра забери! требуй подарок! (party) 165 [18/02/2013 00:30:36] nidhi: awwww.... [18/02/2013 00:31:40] nidhi: завтра скайпуем. я щас с братом разговариваю. [18/02/2013 00:31:47] Татьянка: давай [18/02/2013 00:31:58] nidhi: соскучилась по тебе. [18/02/2013 00:32:12] Татьянка: я тооооже!!!! [18/02/2013 00:32:14] nidhi: вчера смотрела твои фотки на фэсбуке [18/02/2013 00:32:23] Татьянка: [18/02/2013 00:32:30] nidhi: [18/02/2013 00:32:39] Татьянка: (heart) завтра вечером буду в сети! [18/02/2013 00:33:24] nidhi: оки..целую [18/02/2013 00:33:39] Татьянка: (hug) [18/02/2013 00:33:51] nidhi: спокойной ночи бэбик!! [18/02/2013 00:34:00] nidhi: (hug) [18/02/2013 00:34:36] Татьянка: сладких снов, пупсик! (party) 166 Приложение 2 (Фейсбук) 1. ЛЛ(ж): Политика, ядерные испытания КНДР, падения метеоритов и т.п. Все подождет. Мама, с Днем рождения! ♥ Like · 10 2. ТС(м): У Татьяны Игоревны сегодня день рождения? Если так, то передай ей, пожалуйста, мои поздравления и самые наилучшие пожелания, такие как: счастья, здоровья, успехов! 15 February at 17:18 · Like · 1 3. ЛЛ(ж): Да, день рождения! Спасибо большое! Обязательно передам! 15 February at 17:19 · Like 4. МЛ(ж): С Днем Рождения!!! я еду) 15 February at 17:31 via mobile · Like · 2 5. ЛЛ (ж): 15 February at 17:31 · Like 6. ГР (м): И от меня 15 February at 17:39 · Like · 1 7. ЛЛ(ж): Передам-передам. 15 February at 17:48 · Like · 1 8. АР (ж): Ииииха, с днем рождения! Здоровья маме! 15 February at 20:48 · Like · 1 9. АР (ж): Машик, а ты надолго? И када ты в Мск? 15 February at 20:48 · Like 10. MMAd (ж): Liebe Mama, alles Gute zum Geburtstag! 15 February at 21:05 · Like · 1 11. ЛЛ (ж): Спасибо-спасибо!!!!!! 15 February at 22:59 · Like · 1 167 Гаврилова Татьяна Петровна (Россия, Москва; к.ф.н., доц. кафедры обучения русскому языку студентов и специалистов нефилологического профиля Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] Игнатьева Маргарита Васильевна (Россия, Москва; к.ф.н., зав. кафедрой обучения русскому языку студентов и специалистов нефилологического профиля Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] Из жизни заимствованных слов тариф и такса в русском языке Современный этап развития русского языка и особенно делового русского языка лингвисты определяют как «неологический взрыв», когда словарный запас языка активно пополняется за счет словообразования и иноязычного заимствования. Среди экономических терминов в начале 90-х гг. XX в. исследователи насчитывали более 60% терминов, заимствованных из английского языка, или англоамериканизмов [Бобылев 1992], что, во-первых, связано с объективными причинами: с интернационализацией всей жизни российского общества и коренными преобразованиями в политическом устройстве и экономике России; во-вторых, обусловлено особым положением английского языка в системе мировых языков и его экспансией на европейском пространстве, особенно ярко проявившейся на рубеже веков. Конечно, огромный поток иноязычных заимствований был отмечен и в другие периоды развития русского языка. Так, например, в Петровскую эпоху «перестройка России по сознательно выбранным передовым западным образцам открыла путь мощному воздействию на русскую речь иностранных форм общения» [Биржакова и др. 1972, с. 5]. Нельзя не согласиться с мнением Л.П. Крысина, что «иноязычное влияние на русский язык в конце 168 XX – начале XXI веков более многообразно и интенсивно, чем в предшествующие периоды его развития», так как следует учитывать не только «легко обнаруживаемые лексические заимствования, но и разные формы скрытого влияния других языков на русский, в частности, преобладающие в настоящее время семантические и сочетаемостные кальки (теневой бизнес, отмывать деньги и др.)» [Крысин 2012, с. 52–57]. Нам хотелось бы обратить внимание на особенности употребления двух иноязычных, не английских по происхождению слов такса и тариф, синонимичных по значению: ‘точно установленная расценка чего-либо’. Поисковые запросы слов такса и тариф в Интернете в системах Google и Yandex выдают следующие результаты: Такса. Система Yandex выдает 2 000 000 словоупотреблений, а Google – 3 130 000. Тариф. Система Yandex выдает 14 000 000 словоупотреблений, Google – 17 700 000. Из этого элементарного сравнения следует, что частотность экономического термина тариф увеличивается, а термин такса используется значительно реже. Оба слова попали в русский язык опосредованно из немецкого или французского языков в одно и то же время, но имеют различный язык-источник. Согласно М. Фасмеру, такса – это «расценка», известное уже в Петровскую эпоху, пришло через немецкое Taxe – объявление, оценка» из средне-латинского taxa «объявление, оценка» [Фасмер 1973, с. 13]. Судя по фиксации в словаре В.И. Даля, слово такса в русском языке XIX века имело терминологическое употребление и было лучше освоено словообразовательно, чем тариф. Ср.: такса – расценка, расписание ценам. Таксация – постановление цен вещам; оценка, расценка. Лесная таксация. Такса на говядину. Таксировать угодья, ценить, оценять; Таксированье, Таксировка – действия по значению глагола, оценка, расценка. Таксационная комиссия, оценочная, расценочная комиссия. Таксатор, оценщик, расценщик [Даль 1998, с. 387]. Для слова тариф у В.И. Даля указано только значение «роспись товарам, с расценкою пошлины на них». Торговый и ставший общеупотребительным термин тариф вошел во многие языки мира и в русский язык в частности несколько веков назад; первая письменная фиксация слова тариф встречается в Морском уставе 1724 года. А в наши дни это слово продолжает вести все более активную жизнь, особенно в связи с распространением мобильной связи и Интернета. 169 Уже начиная с XIX в. русские словари иностранных слов фиксируют слово тариф и объясняют его как арабское по происхождению, но пришедшее в русский язык опосредованно. Этимология слова не оспаривается. Так, уже в словаре иностранных слов 1865 года указан арабский источник слова тариф: arafa «знать, объяснять, определять» и его отглагольное существительное ta’rif «объяснение, определение» [Михельсон, 1865]. Это подтверждается и в словаре М. Фасмера, где указан путь заимствования: через немецкий Tarif или французский tariff из итальянского – tariffa, от арабского арабского ta’rif (а) «объявление о пошлинных сборах» [Фасмер 1973, с. 13]. Следует напомнить, что арабские заимствования в русском языке немногочисленны, они попадали в русский язык в основном опосредованно и в разное время. Проследим, как торговый термин тариф становится одним из «ключевых слов» в настоящее время. Словари русского языка в XIX веке так объясняют значения слова тариф, изначально активно употреблявшегося в торговле: 1) «обнародованная роспись цен или платы за провоз» [Павленков 1907]; 2) «таблица с ценами, платимыми в таможнях с товаров, дозволенных к ввозу и вывозу» [Чудинов 1910]; 3) «роспись товарам, с расценкою пошлины на них» [Даль 1998]. Фиксируя языковые изменения русской лексики в 80–90 годы XX в., авторы Толкового словаря русского языка конца XX века отметили актуализацию общеупотребительного и давно освоенного слова тариф со значением «официально установленный размер стоимости, оплаты, обложения чего-либо». Словарная статья указанного словаря имеет свободные словосочетания: страховой тариф, экспортный и импортный тариф. Кроме того в иллюстративном материале из российской прессы отмечены и следующие словосочетания: обычный рублевый тариф, действующий тариф, тариф на коммунальные услуги, срочный тариф. Здесь же приведены и родственные: тарификатор – «тот, кто занимается установлением тарифов на товары и услуги»; тарифный – «связанный с установлением и действием определенных тарифов». В «Современном толковом словаре русского языка», разработанном Институтом лингвистических исследований РАН и изданном в 2004 году, слово тариф представлено двумя значениями: Тариф – а, м. [франц. tarif] 1. Официально установленный размер и система размеров стоимости и оплаты, обложения чеголибо. Железнодорожный тариф. Таможенный тариф. Тарифы налогов. 2. Таблица, свод ставок обложения, оплаты чего-либо и т.п. Сверить сумму с тарифом. 170 Также Словарь приводит и однокоренные слова: прилагательные тарифный, -ая, -ое, -ые; тарификационный; существительное – тарификация; глаголы тарифицировать и тарифицироваться [Современный толковый словарь русского языка 2004, с. 821]. В словарях делового русского языка фиксируются дополнительные значения экономического термина и указываются синонимы: 1. Любой перечень цен на товары и услуги. 2. Перечень налогов или таможенных пошлин, подлежащих уплате с экспорта или импорта. Таможенное и акцизное управление устанавливает тарифы, конкретизируя, с каких товаров взимается таможенная пошлина и какова ставка пошлины. 3. Перечень цен в тех случаях, когда цена зависит от количества покупаемого товара либо наряду с платой, зависящей от количества. Существует некоторая постоянная плата, как например, в двойных тарифах на газ и телефонные услуги [Бизнес. Толковый словарь. 1998]. Тариф –это «система ставок платы за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниям, организациям, фирмам и учреждениям. К категории тарифа относится также система ставок оплаты труда. Синонимы: авиатариф, спецтариф, ставка, такса, цена» [Словарь бизнес-терминов 2001]. Словарь синонимов называет синонимами единицы тариф, цена, стоимость, себестоимость, курс, ставка, такса, расценка, авиатариф [Словарь синонимов по смыслу выражений 1999]. Интернет представляет огромное количество активных свободных словосочетаний со словом тариф: железнодорожный, таможенный, тарифы налогов, тарифы связи, тарифы оплаты труда, составить тарифы, выравнивать тарифы, произвести оплату в соответствии с тарифом. Здесь можно найти родственное прилагательное тарифный: тарифная система оплаты труда; тарифная ставка; тарифная сетка; тарифная политика; тарифное соглашение, тарифное выравнивание. Таким образом, констатируем следующее: 1. В отличие от слова такса иноязычный торговый термин тариф, давно освоенный русским языком, меняет и расширяет сочетаемость, становится все более актуальным в современном русском языке как в деловом общении, так и в общем употреблении. 2. Значение слова тариф за два века его использования практически не изменилось, и сегодня тариф – это «официально установленный размер стоимости чего-либо...». 171 3. Тариф может действовать, расти, тариф устанавливают на что?, тариф можно составлять, выбирать или подбирать, выравнивать, производить оплату в соответствии с тарифом. 4. При объяснении значения слова тариф, обычно используют близкие по значению существительные расценка, ставка, такса, цена. Сейчас тарифы в центре внимания российского общества. О росте тарифов говорит радио, телевидение, пишет пресса, в Интернете обсуждаются проблемы роста тарифов. Счетная палата РФ предлагает заморозить тарифы ЖКХ на 3 года (информация «МК» от 21.05.13); Президент и правительство России разрабатывают меры по снижению темпа роста тарифов (информация «МК» от 17.05.13). Анализ различных текстов показал, что слово тариф активно функционирует в разных жанрах речи: в официальных документах, в рекламе, в статьях и др., например: 1. Компания ОАО «Мосэнергосбыт» рассылает своим клиентам сообщения: «Многотарифный учет – выгодное решение по доступной цене. Многотарифный учет электроэнергии позволит экономить до 25%...». 2. На сайте МТС (www.mts.ru) предлагаются: тарифы на любую связь, мобильный тариф, выбор тарифа, подбор тарифа; выгодный, лучший, высокий, безлимитный, оптимальный, корпоративный, действующий, молодежный тарифы. Вам подберут тарифный план или тарифные опции, т.е. ежедневную плату за услуги. На рынке действует тарифное регулирование. На этом сайте помещена реклама: «МТС – крупнейший игрок на рынке бизнес-связи, более 90% населенных пунктов РФ пользуются услугами МТС... МТС представляет линейку тарифов МТС специально для доступа в мобильный Интернет. Как можно подключить Интернет МТС? Это очень просто. Для начала выберите наиболее подходящий Вам тарифный план. Скорость передачи данных зависит от тарифа, подключенных опций и силы сигнала...». 3. О тарифах рассказывают новые российские фильмы: «Тариф на любовь» и «Новогодний тариф». 4. В текстах СМИ: На заседании правительства 16 мая было решено принять за основу при формировании бюджета 2014–2016 годов умеренно-оптимистичный сценарий развития России. При этом особое внимание было уделено скандальному вопросу – росту тарифов ЖКХ. Дмитрий Медведев напомнил о поручении президента сдержать увеличение тарифов естественных монополий и попросил Минэкономразвития учесть это при формирова172 нии бюджета на будущую трехлетку. Правда, в этом году, 1 июля, тарифы все же вырастут в среднем на 10%, а на газ – на все 15%. Проблема роста тарифов ЖКХ все никак не утихает. Владимир Путин поручил правительству разработать меры по снижению темпов роста тарифов на естественные монополии. Дмитрий Медведев указал министру экономического развития Андрею Белоусову учесть при формировании бюджета на будущую трехлетку снижение темпов индексации тарифов (выдержки из статьи «Тарифам на ЖКХ приказано остановиться» в «МК» от 17.05.13). 5. Также анализируемое слово активно используется в заголовках статей для привлечения внимания аудитории. В большинстве случаев при этом происходит семантический сдвиг в значении слова для создания определенного эффекта: К лету в столице введут единый тариф на такси; Один оператор, один тариф; Тариф, откройся; Тариф в адеквате; Тариф «Коррупционный»; Тариф бессистемный; Тариф в сухом остатке; Депутатам нравится тариф «Столичный»; Тариф следствия – 5 млн. $ за справедливость; Тариф Хоттабыч, или предвыборные чудеса Владимира Путина и др. Проведенный анализ жизни заимствованных экономических терминов тариф и такса в русском языке показывает, что специфика экономической терминологии в ее социальном характере, так как все изменения, происходящие в ней, непосредственно связаны с изменениями социально-экономической жизни общества, где она функционирует. Литература Бизнес: Толковый словарь. – М., 1998. Биржакова Е.Э, Войнова Л.А., Кутина Л.Л. Очерки по исторической лексикологии русского языка. Языковые контакты и заимствования. – Л., 1972. Бобылев Ю.А. Словарь банковско-биржевой лексики. – М., 1992. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – М., 1998. – Т. 4. Крысин Л.П. Слова-чужестранцы в русском обличье // Русская речь. – 2012. – № 4. Михельсон А.Д. Объяснение 25 000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, со значением их корней. – М., 1865. Павленков Ф. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. – СПб., 1907. Словарь бизнес-терминов // Электронный ресурс: http://dic.academic.ru/ contents.nsf/business/. – 2001. 173 Словарь синонимов по смыслу выражений / Под ред. Н. Абрамова. – М., 1999. Современный толковый словарь русского языка. – М., 2004. Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения. – СПб., 1998. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. – М., 1973. – Т. 4. Чудинов А.Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. – СПб., 1910. 174 Ерусланов Роман Яковлевич (Россия, Москва; ведущий редактор ИУЦ Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] Словари сокращений1 русского языка: история возникновения и развития Бурное развитие аббревиации в течение XX столетия привело к чрезвычайному увеличению количества буквенных обозначений сокращаемых слов и словосочетаний в разных языках. Наиболее ярко и заметно это происходило в русском языке и не могло остаться незамеченным лексикографами, филологами и даже отдельными гражданами, весьма далекими порой от лингвистики и лексикографии, в том числе иностранцами, в той или иной степени владеющими русским языком. Так или иначе, они оказались вовлеченными в деятельность по сбору, упорядочению, систематизации, научному рассмотрению корпуса сокращенных единиц русского языка. В результате было создано большое количество словарей сокращений. К классу словарей сокращений мы относим те печатные издания справочного характера, в которых основным объектом рассмотрения являются сокращения русского языка. Сюда же мы относим и электронные словари – динамично-развивающийся, доступный для всех новый вид справочного пособия. Общее количество словарей и справочных пособий словарного типа, посвященных рассмотрению сокращений, приближается к 100 изданиям: книжных насчитывается свыше 80, размещенных 1 Общеизвестным терминологическим сочетанием «словарь сокращений» мы называем здесь словарные и квазисловарные произведения (даже если они таковыми не именуются), вышедшие в свет в виде отдельных печатных книг и электронных изданий. Последние, как правило, существуют только в сети Интернет или, реже, представляют собой электронные версии первых. 175 в сети Интернет или в виде компьютерного файла на электронном носителе информации – не менее 10. К сожалению, теоретические труды, посвященные словарям сокращений, как правило, ограничиваются перечислением лишь нескольких известных словарей. Наиболее полный список словарей сокращений приведен, по нашим данным, в монографии С. Шадыко «Аббревиация в специальных языках»: в библиографическом разделе этой книги в разделе «Словари» перечислено около 30 печатных изданий (см. подр.: [Шадыко 2006, с. 308–312]). Несмотря на столь внушительное количество созданных и реально используемых словарей обсуждаемого жанра лингвистика до их пор не располагает их надежным аналитическим обзором, отсутствуют и серьезные научные исследования (труды Д.И. Алексеева – счастливое исключение), посвященные всестороннему рассмотрению всего комплекса проблем, связанных с историей, теорией и практикой лексикографирования аббревиатур1. Это, впрочем, и неудивительно, поскольку сам поиск интересующих нас лексикографических произведений – очень трудоемкий процесс, а их общая классификация и описание каждого из них в рамках одного научного произведения представляет собой предмет объемного монографического исследования. В силу этих и ряда некоторых других причин в данной статье мы ограничимся кратким (пунктирным) изложением истории лексикографирования русских аббревиатур на протяжении XX–XXI веков (первые, наиболее простые в оформлении справочные издания, содержащие списки русских сокращений, вышли в свет в двадцатых годах XX века)2. В целом словари сокращений характеризуются разным пониманием объекта описания, разным объемом; они составлены в разное время, на разном языковом материале, с разными целями. 1 О понимании термина «аббревиатура» см. нашу статью [Ерусланов 2013]. В настоящей работе термины «аббревиатура» и «сокращение», используемые для указания на объект описания в тех или иных словарях, рассматриваются как синонимичные. 2 Как отмечает Д.И. Алексеев, представление слов в сокращенном виде (т.е. аббревиация) началось еще в глубокой древности – примерно в X веке. Условно этот процесс ученый разделяет на три качественно отличающихся друг от друга этапа. Первые два он называет графическими, имея в виду этап титлованных аббревиатур (период с X до XVIII вв.) и следующий за ним этап, когда начали широко применяться точечные сокращения, который длился около 200 лет от начала использования гражданского шрифта в XVIII в. до XX в. Третий этап – лексический – связан с широким использованием аббревиации уже как способа словообразования (с конца XIX – начала XX вв. по настоящее время; см.: [Алексеев 1979, с. 14]). Именно в этот период и начали создаваться словари сокращений русского языка. 176 Отметим три весьма любопытные особенности рассматриваемых словарей. Первая особенность состоит в выборе термина для обозначения объекта лексикографирования. Всего такого рода терминов оказалось шесть, в том числе: «сокращения» – 57 случаев употребления (65,5% от общего числа в 87 словарей), «аббревиатуры» – 14 (16,1%), «сокращения» и «аббревиатуры» – 9 (10,3%), «сокращенные наименования» – 3 (3,4%), «сокращенные слова» – 2 (2,3%), «сокращенные названия» – 2,3 (1,1%). Очевидно, что большинство авторов предпочитают слово «сокращение» как наиболее универсальное. Вторая особенность заключается в том, что в большинстве словарей так называемые лексические аббревиатуры, являющиеся, как известно, языковыми единицами (например: вуз – высшее учебное заведение; зав – заведующий; комсомол – коммунистический союз молодежи; РФ – Российская Федерация), и аббревиатуры графические, называемые обычно графическими сокращениями (например: зав. – заведующий, в. – век, гос-во – государство, б/у – бывший в употреблении), составляют единый организованный по алфавиту словник. Разумеется, авторы поступают так, вероятно, для того чтобы сделать словарь максимально простым для пользователя. Тем не менее подобное решение представляется вполне обоснованным и с точки зрения теории аббревиации, поскольку все сокращенные формы, выступающие в качестве заголовочных единиц словарных статей, получают свое рождение в письме, как единственном «инструменте» фиксации материальной формы (буквенного облика) аббревиатуры. Игнорировать этот факт нельзя, поскольку именно в письме находит свое выражение «механизм» аббревиации1. Третья особенность касается страны издания. Из общего количества в 79 книжных изданий (84 с учетом шести переизданий четырех словарей) 37 были созданы за пределами СССР и России, 1 Поясним это на примере со словом заведующий и его вышеупомянутыми сокращенными обозначениями. Данное слово сокращается двояко: изначально оно было сокращено до графической формы зав. (с точкой). Далее точка опускается и зав. становится разговорным словом зав, то есть превращается в лексическую единицу. Казалось, будучи уже фактом языка, новое слово должно было вытеснить графическое сокращение, но этого не происходит: первая форма с точкой, продолжает активно использоваться в письме – наглядный пример вариативности, типичной и широко распространенной в аббревиации. Нам не раз доводилось встречать данное сокращение, например, в сочетании «зав. кафедрой». Оба варианта имеют полное право быть отраженными в словаре, особенно в словаре учебной направленности. 177 что, по мнению некоторых ученых, «никак нельзя признать нормальным» [Ахманова 1964, с. 145]. В разное время за пределами СССР (в настоящее время России) словари выходили в свет в таких странах, как Франция (1918, ...)1, Германия (1923, ...), Япония (1927, ...), Швейцария (1928), Китай (1933, ...), США (1937, ...), Швеция (1940), Чехословакия (1948, ...), Голландия (1968, ...), Канада (1969, ...), Польша (1991), Белоруссия (1996). Кстати сказать, два первых наименования из нашего списка представлены небольшими по объему брошюрами, изданными, соответственно, во Франции2 и Германии3. Словари сокращений русского языка, изданные за рубежом, являются обычно русско-иноязычными. Средством семантизации в них выступают иноязычные переводные эквиваленты исходных русских словосочетаний и слов, которые «расшифровывают» соответствующие аббревиатуры, выступают в качестве их внутренней формы. Развитие словарного представления аббревиатурных образований русского языка в XX–XXI вв. можно условно разделить на три периода. В первый период с 1920-х до начала 1960-х гг. было создано около 20 словарей и справочников, посвященных сокращениям. Они были наиболее простыми в оформлении. Вот что пишет Д.И. Алексеев о первых трех словарях сокращений4, изданных в СССР в 1924 году: «Это были несовершенные словари, со случайным подбором сокращений, ненаучным и неквалифицированным толкованием значений, исключительной неупорядоченностью правописания аббревиатур и полных наименований» [Алексеев 1963, с. 46]. Словари представляют собой небольшие по объему словника брошюры: например, общее количество представленных сокращений в словаре И.М. Серокузова немногим больше 1000 единиц. 1 Расположены в хронологическом порядке; в скобках указан год издания первого словаря сокращений русского языка в этой стране. 2 Beaulieux Léon. Contribution au lexique des abréviations et mots conventionnels entrés dans l’usage russe depuis la Révolution de 1917. – Paris, 1918. – 74 p. 3 Сокращенные наименования советских учреждений, предприятий и прочие, вошедшие в обиход в Р.С.Ф.С.Р. – Берлин: Книга, 1923. – 51 с. 4 Краткий советский словарь общеупотребительных сокращений. – Ташкент, 1924. – 38 с.; Серокузов Н.Н. Словарь вошедших в обиход сокращенных названий / Изд. И.М. Серокузов. – Владивосток, 1924. – 58 с.; Словарь советских терминов и наиболее употребительных иностранных слов: Объяснение сокращений и новых понятий, вошедших в разговорную и литературную речь при Советской власти / Под ред. П.Х. Спасского. – Н. Новгород: Школа-типография им. В.Г. Короленко, 1924. – 56 с. 178 Словари сокращений русского языка начинают регулярно появляться как в СССР, так и за рубежом. Однако, несмотря на возросшие объемы словника, они мало чем отличались от первых словарей по качеству предъявляемого материала. Основными причинами этого явились практическая неизученность и слабая представленность сокращений в современных на то время лингвистических словарях. Тем не менее следует отметить более высокий качественный уровень словарей, датированных началом 1960-х, например, словаря Э. Шейтза1. Словарные статьи некоторых из словарей снабжены переводом на иностранный язык (английский, литовский, немецкий, французский, китайский, чешский, японский). Расширилась и география издания словарей, что может служить показателем постоянного интереса к аббревиатурам. Также необходимо упомянуть о появлении в этот период отраслевых словарей, в том числе словаря военных сокращений2 и т.п. Основные недостатки этих словарей, как уже упоминалось выше, были связаны со слабой изученностью аббревиации как явления и соответственно отсутствием теоретической базы лексикографирования аббревиатур. Эти проблемы начали решаться в начале 1960-х, с которых берет свое начало второй период в развитии словарного представления аббревиатур русского языка. Именно в это время начались теоретические исследования проблем аббревиации вообще и аббревиатур как объекта системного лексикографирования в частности. К этому периоду относятся словари, созданные с первой половины 60-х – до начала 90-х гг. прошлого столетия. Одним из самых ярких событий рассматриваемого периода стал выход в свет «Словаря сокращений русского языка», составленного Д.И. Алексеевым, И.Г. Гозманом и Г.В. Сахаровым под руководством Д.И. Алексеева. Первое издание данного словаря увидело свет в 1963 году3, и с каждым последующим изданием словарь качественно только улучшался, а его словник увеличивался. Немалую роль в этом сыграли прекрасно разработанная теоретическая база словаря и 1 Scheitz E. Russische Abkürzungen und Kurzwörter: Russisch-Deutsch: mit etwa 20 000 Abkürzungen. – Berlin: Verlag Technik, 1961. – 728 S. 2 Glossary of Soviet military and related abbreviations: Technical Manual TM30-546, February 1957. – Washington: Department of the Army, 1957. – 184 p. 3 Алексеев Д.И., Гозман И.Г., Сахаров Г.В. Словарь сокращений русского языка. 12 000 слов / Под общ. ред. Б.Ф. Корицкого. – М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1963. 179 развернувшееся на страницах научных изданий тех лет обсуждение проблем как данного словаря сокращений, так и аббревиации в целом. Определенную положительную роль сыграло и введение в 1956 году на законодательном уровне упорядоченных правил орфографии. Словарь оказал позитивное влияние на все последующие словари сокращений и сегодня остается своеобразным эталоном для лексикографирования в области аббревиатур. Всего в период с 1963 по 1992 гг. были созданы 32 словаря (всего 37 изданий с учетом пяти переизданий трех из них). Третий период развития словарей сокращений начался в середине 1990-х гг. и продолжается в настоящее время. За этот период в свет вышли около 30 различных изданий, среди которых следует отметить весьма качественно исполненные тематический словарь сокращений С.В. Фадеева, словарь сокращений Г.Н. Скляревской, словарь аббревиатур иноязычного происхождения Л.А. Барановой1 и некоторые другие. Этот этап характеризуется появлением нового средства предъявления необходимых читателю сведений о языковых объектах – электронного носителя информации. По нашим сведениям, появление первого словаря сокращений русского языка в сети Интернет датируется 2000 годом2. Электронные словари сокращений часто размещаются в составе так называемых «сборников онлайнсловарей». Существуют также: отдельные словари, имеющие свой адрес в Интернете3, отдельные оффлайн4-словари, составленные на базе «бумажного словаря»5. Предъявленный в статье и очень кратко прокомментированный массив имеющихся словарей сокращений нуждается во всестороннем теоретико-лингвистическом и словарно ориентированном анализе с целью выяснения таксономического распределения 1 Фадеев С.В. Тематический словарь сокращений современного русского языка. Около 20 000 сокращений. – М.: РУССО, 1998. – 538 с.; Скляревская Г.Н. Словарь сокращений современного русского языка. Более 6000 сокращений. – М.: Изд-во «Эксмо», 2004. – 448 с.; Баранова Л.А. Словарь аббревиатур иноязычного происхождения. – М.: АСТ-Пресс; АСТ-Пресс Книга, 2009. – 320 с. 2 Sokr.ru – самый полный словарь сокращений, акронимов, аббревиатур и сложносоставных слов русского языка / Сост. Студия Артемия Лебедева // Электронный ресурс: http://www.sokr.ru/. 3 Например, Словарь сокращений S2 / Проект Дроздовского Михаила // Электронный ресурс: http://s2.artotron.com/ и вышеупомянутый Sokr.ru. 4 Оффлайн-словари обычно предлагаются пользователю в виде файла по электронной почте, на компакт-диске и т.п. 5 Коваленко Е.Г. и др. Словарь сокращений русского языка Polyglossum (на русском языке). – М.: Издательство ЭТС, 2004. 180 уже созданных лексикографических произведений (алфавитные vs. тематические, одноязычные vs. неодноязычные, общие vs. учебные, рецептивные vs. продуктивные и т.п.), установления их собственно лексикографического качества, определения наиболее перспективных направлений дальнейшего развития аббревиатурной лексикографии. Литература Алексеев Д.И. О словаре сокращений русского языка // Лексикографический сборник. – М., 1963. – Вып. VI. – С. 45–52. Алексеев Д.И. Сокращенные слова в русском языке. – Саратов, 1979. Ахманова А.С. «Словарь сокращений русского языка», сост. Д.И. Алексеев, И.Г. Гозман, Г.В. Сахаров, под руководством Д.И. Алексеева, под общей ред. Б.Ф. Корицкого. – М., Изд-во иностр. и нац. словарей, 1963. 488 стр. // Вопросы языкознания, 1964. – № 4. – С. 144–146 (рецензия на словарь). Ерусланов Р.Я. О реабилитации исконного понимания термина «аббревиатура» // Вопросы языка в современных исследованиях: Материалы Международной научно-практической конференции «Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XIV Кирилло-Мефодиевские чтения». 14 мая 2013 года. – М.–Ярославль, 2013. – С. 17–24. Шадыко С. Аббревиация в специальных языках (на материале русского языка). – Варшава, 2006. 181 Жукова Арина Геннадьевна (Россия, Москва; к.ф.н., доц. кафедры общего и русского языкознания Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] Прописная буква в многокомпонентных эргонимах: орфографическая практика и языковое сознание носителей языка Произошедшие за последние почти два с половиной постперестроечных десятилетия политические, экономические и социальные изменения способствовали активному развитию имен собственных в русском языке, значительному увеличению их типов [Пахомов 2008]. Появилось и регулярно появляется большое количество единиц, написание которых не регламентируется ни в одном из современных пособий по орфографии. Необходимо учитывать и влияние на русский язык англо-американской культуры, которое за указанный период значительно возросло. Одной из актуальных проблем современной русской орфографии является употребление прописных / строчных букв; сегодня мы можем наблюдать значительную вариативность в написании однотипных наименований. Орфографическая практика здесь значительно опережает теорию, поэтому справочники по правописанию характеризуются неполнотой описанного материала, отсутствием исчерпывающих рекомендаций по написанию и актуальных примеров. В связи с этим переработка и дополнение существующих правил является важнейшей задачей современной орфографической науки. В связи с интересом к аксиологическому критерию языковой нормы, к «человеческому фактору» в последнее время появилось много работ, посвященных изучению языковых явлений с учетом позиций непосредственных субъектов деятельности (говорящих / пишущих, слушающих / читающих). Такой подход сегодня востребован и при изучении орфографии: в его задачи входит описа182 ние реальной орфографической практики носителей языка. По мнению Н.Д. Голева, активно работающего в этой области, в традиционной модели орфографии отсутствует узус, а важнейшая категория узуса – варьирование – трактуется как ошибка; между тем «предписательная модель орфографии не может успешно существовать без дополнения ее описательной моделью, поскольку всегда есть опасность предписывать то, что реально не выполняется и существует лишь как идеальное представление, несмотря на кажущуюся ее безупречность» [Голев 1998, с. 83]. Важным также представляется выявление орфографических предпочтений носителей языка и тех «резонов», которые эти предпочтения определяют. Одной из актуальных групп наименований являются эргонимы, под которыми мы понимаем собственные имена деловых объединений людей, в том числе союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения и т.д. [Подольская 1978]. Особенно активно сегодня развивается коммерческая эргонимия – названия магазинов и торговых центров, предприятий общественного питания, сферы бытовых услуг, коммерческих медицинских, образовательных и других учреждений и т.д. Большинство из них являются не только наименованиями коммерческих организаций, но и элементами городской среды, что придает им дополнительную специфику [Шимкевич 2002]. Исследователи выделяют несколько функций эргонимов: номинативная (выделить данный объект из ряда подобных), информативная (ориентировать потенциального адресата прежде всего относительно сферы деятельности организации / предприятия), рекламная (привлечь внимание к поименованному объекту, создать его положительный образ). Отметим, что в доперестроечный период рекламная функция по понятным причинам не была актуальной, в настоящее же время она является очень важной: номинатор стремится сделать название фирмы / предприятия / учреждения запоминающимся и привлекательным в глазах потенциального клиента. Именно усилением значимости рекламной функции эргонимов во многом обусловлены те орфографические явления, о которых пойдет речь ниже. Одной из «слабых» орфографических зон для эргонимов является употребление в них прописной буквы. Именно здесь мы можем наблюдать формирование новых орфографических тенденций, которые требуют отдельного исследовательского внимания. В настоящей статье мы остановимся на двух тенденциях: 1) написание с большой буквы каждого слова в многолексемном названии, в том числе при расшифровке аббревиатуры, 2) выделение 183 прописной буквой каждой части многокомпонентного (однословного) названия. 1. По правилам 1956 г., так же как в рекомендациях нового свода [Правила русской орфографии и пунктуации... 2007], в названиях государственных учреждений, учебных заведений, промышленных и торговых предприятий, учреждений культуры и других организаций с прописной буквы пишется первое слово за исключением имен собственных, входящих в их состав: Всемирный совет мира, Государственная дума, Российская академия наук, Союз театральных деятелей России и т.д. Однако на практике ярко проявляет себя тенденция написания всех компонентов многолексемного эргонима с прописной буквы: Центр Новых Информационных Технологий, Центр Бизнеса и Туризма, Центр Оконных Технологий, Центр Информационных Систем, Сибирский Компьютерный Центр, Международное Агентство Культурно-Социальной работы (МАКСОРА), Сибирская Курьерская Служба, Региональный Сервисный Центр, Межрегиональная Ассоциация Мониторинга и Статистики Образования (МАМСО). Отметим, что написания многих из приведенных эргонимов различаются в зависимости от типа текста, в котором они употребляются: написания по правилу встречаются в официальных документах – лицензии, а некодифицированные – в рекламных материалах, на сайте предприятия и т.д. Интересная ситуация наблюдается с названиями учебных заведений: в справочнике «Московские вузы» встречаем такие написания, как Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Московский Государственный Строительный Университет. Далее, на страницах с подробной информацией о данных вузах, наименования этих учебных заведений пишутся в соответствии с установленными нормами. Но если в наименованиях государственных вузов ненормативное употребление прописной буквы встречается крайне нечасто и по преимуществу в рекламных целях, то в названиях негосударственных учебных – регулярно, в том числе и в деловой документации, например, в договорах: Международный Независимый Эколого-Политологический Университет, Современный Гуманитарный Университет, Академия Астрологии, Российская Академия адвокатуры, Институт Актуального образования, Первый Московский Юридический Институт, Институт Инфраструктуры предпринимательства и др. Подобная тенденция объясняется стремлением номинатора подчеркнуть статус учебного заведения, доказать, что он достоин доверия. Большое влияние на орфографическое оформление многолексемных эргонимов оказывает англоязычная традиция написания 184 каждого компонента с прописной буквы. Это касается не только транслитерированных иноязычных эргонимов (в том числе и образованных отечественными номинаторами путем транслитерации отдельных иноязычных слов): Дент Арт Плюс, Топ Сикрет, Диамант Компани, Макси Пресс, Альянс Медиа, Алемар Консалтинг Групп, Грин Велли, Скай Лайн, Диджитл Коммуникейшн, Стар Трэвел, Некст Плюс, но и исконных: Ваш День (фабрика мебели), Старая Крепость (ресторан), Новые Лица (модельное агентство), Золотой Лев (отель), Пивная Штольня (клуб), при этом для второй группы подобные написания чаще характерны для рекламы и вывесок, в документах же могут использоваться кодифицированные варианты. 2. Иноязычным влиянием многие исследователи склонны объяснять появление заглавной буквы внутри слова. Подобные написания окружают нас повсюду: наряду с Автоград, Автореал, Агромонтаж, Аэросервис, Биоцентрплюс, Трансмебель, Фотоленд, Электросетьсервис в большом количестве встречаются АвтоАльянс, АвтоАудиоЦентр, АвтоГарант, АвтоСкан, АвтоПрофи, АэроМастер, АгроВетСервис, АгроСервис, АгроСибЛизинг, БиоЛайн, ФотоДом, ЭлектроСервис, ТрансМега, ВладСпецТур и т.д. Распространилась эта тенденция и на сложносокращенные многокомпонентные эргонимы, столь распространенные в советский период (ср.: Роспромстальконструкция, Запсибгидромаш, Росстроймонтажкомплект). Такие названия, очевидно, не претендовали на выполнение рекламной функции, в них преобладала информативная. В настоящее время активно проявляется тенденция написания всех частей сложного слова с заглавной буквы: ЭлТехКом, ЛесТехКорпорация, НовоМедТех, ПластТех, ПромТехСпецМонтаж, СанТехСиб, РосИнКом, РосКомАвто, ИнтерСвязь и т.д. Поскольку главной целью владельца предприятия является привлечение клиентов, то необходимо изучать отношение потребителя к многообразию существующих вариантов наименований, его восприятие тех или иных написаний. Нами совместно со студентами В. Благовой (Гос. ИРЯ им А.С. Пушкина) и М. Морковиной (НГТУ) были проведены аналогичные социолингвистические эксперименты в двух городах: Москве и Новосибирске. Общее число опрошенных – 100 человек (по 50 в каждом городе) в возрасте от 18 до 55 лет. В Москве среди опрашиваемых были студенты филологического факультета Государственного института русского языка им А.С. Пушкина (62%), преподаватели средних учебных заведений с высшим педагогическим образованием (20%), студенты математических и экономических факультетов 185 московских вузов (12%). В Новосибирске – студенты-филологи Новосибирского государственного технического университета (20%), студенты технических специальностей (25%), студенты специальности «связи с общественностью» (20%), а также инженеры, дизайнеры, чиновники – специалисты с высшим образованием. Отметим, что сама анкета была идентичной, но материал использовался разный. В частности, помимо многолексемных названий и многокомпонентных однословных эргонимов московским информантам были предложены другие случаи некодифицированного употребления заглавных букв (ср.: АкадемиЯ, МаксидоМ, БуБеН, МойДоДыр, аЛтын, ПланТация, миниСАМ). Анкета состояла из трех заданий: 1. а) Правильно ли, на ваш взгляд, пишутся следующие названия? б) Если нет, укажите правильный, с вашей точки зрения, вариант. 2. Выберите из предложенных ниже вариантов написания одного и того же названия тот, которым воспользовались бы вы сами. Аргументируйте свой выбор. 3. а) Является ли употребление прописных букв в приведенных ниже названиях оправданным, удачным (эстетичным / неэстетичным, понятным / непонятным, ярким / скучным, другое)? Разделим примеры на три условные группы и рассмотрим результаты эксперимента. Многолексемные наименования. В первом пункте анкеты московским респондентам были предложены написания: фабрика мебели «Ваш День», Современный Гуманитарный Университет, новосибирцам – Сибирское Страховое Агентство, ресторан «Тихая Площадь». Написание каждого слова с прописной буквы в наименовании Ваш День и Тихая Площадь примерно по 40% опрошенных признали соответствующими норме, ссылаясь на заимствованную у английского языка традицию, широко распространившуюся в последнее время в русской практике письма, однако 60% респондентов оценили как верные кодифицированные варианты Ваш день и Тихая площадь. С употреблением заглавных букв в каждом слове в наименованиях Современный Гуманитарный Университет и Сибирское Страховое Агентство согласилось больше опрошенных: 52% и 55% респондентов соответственно. Комментируя свои ответы, некоторые информанты ссылались на то, что название с прописными буквами уместнее на вывеске или в рекламном объявлении. Выбирая между вариантами Академия Астрологии – Академия астрологии (учебное заведение), практически все москвичи предпочли кодифицированный вариант; среди новосибирских информантов кодифицированный вариант Новосибирская ассо186 циация риэлтеров выбрали лишь 35%, остальные предпочли написание с прописных букв либо предложили вариант Новосибирская Ассоциация риэлтеров, оставляя прописную букву для компонента, передающего статус организации. А вот в наименовании Центр Оконных Технологий более 70% респондентов в обоих городах не нашли мотивировки написания всех компонентов с прописной буквы, выбрав кодифицированный с частой мотивировкой: «так лучше смотрится», «нет необходимости писать все слова с большой буквы». Как видим, в оценках носителем языка орфографического оформления однотипных наименований нет последовательности, что можно считать следствием широкой вариативности написаний и отсутствием у носителей языка четких представлений о кодификаторских требованиях. Наблюдается зависимость оценок как от сферы употребления варианта, так и от особенностей конкретного наименования: количества входящих в него слов и наличия «статусоопределяющих» компонентов. Многокомпонентные однословные наименования. В первом пункте анкеты москвичам были предложены: ПромСпецТехМонтаж, Росгосстрах (страховое общество), новосибирцам – СибМашТехКомплект, Сибсельмаш, АгроСервис, ДомоЦентр. Лишь чуть больше половины опрашиваемых (58%) отметили ненормативное употребление прописных букв в середине слова ПромСпецТехМонтаж и указали как правильный вариант Промспецтехмонтаж. Остальных вариант с прописными буквами не смутил. При этом удовлетворяющим нормам правописания название Росгосстрах посчитали 94% анкетируемых, хотя 6% предпочли бы другие способы написания: РосГосСтрах (4%), РОСГОССТРАХ (2%). Как видим, здесь есть определенное противоречие, которое, возможно, объясняется большей привычностью наименования Росгосстрах. Около 40% новосибирских информантов посчитали неправильным написание СибМашТехКомплект, исправив его на Сибмаштехкомплект, и примерно столько же наоборот, исправили вариант Сибсельмаш (известное в городе наименование, довольно крупный завод) на СибСельМаш. Интересно, что несколько человек предложили написать СибмашТехКомплект, потому что в первоначальном варианте «слишком много заглавных букв». При выполнении второго задания более 80% опрошенных москвичей предпочли варианты ЭлитСтройМаркет и АртИндастри соответствующим нормативным рекомендациям написаниям Элитстроймаркет и Артиндастри (вспомним, что при выполнении первого задания в качестве правильного аналогичный 187 вариант выбрали лишь 42%), мотивировав это наглядностью такого названия, удобством чтения, поскольку прописные буквы помогают расставить смысловые акценты. Кроме того, по мнению ряда информантов, в наименовании АртИндастри прописная буква, указывает, куда должно падать ударение в части индастри, являющейся калькой английского слова «industry» – «индустрия», а также разграничивает две части слова, указывает на то, что это слово сложное, что могло бы быть непонятным при отсутствии прописной буквы в середине слова (отметим, что в данном случае выходом могло бы являться использование дефиса, однако никто из информантов на эту возможность не указал). Более 50% респондентов, выбирая вариант, обозначили сферу его употребления как рекламную (вывески, объявления, рекламные щиты, баннеры) и ненормативные варианты выбрали сознательно, потому что «симпатичнее смотрится», «больше привлекает внимание». Особенно ярко это проявилось в примерах АгроСибЛизинг / Агросиблизинг и СибАртПак / Сибартпак, Компьютерград / КомпьютерГрад. Больше 60% опрошенных предпочли варианты с заглавными буквами в середине слова, потому что «сразу становится понятно, чем занимается фирма и не приходится долго думать о смысле названия организации». При этом информанты часто осознают «неправильность» такого написания, но оправдывают его именно сферой функционирования, в которой появляется потребность выделить все информативные части слова или использовать логотип. Одним информантом был приведен собственный пример названия на вывеске «Запсибгидроводхоз» и отмечено, что если бы номинатор выделил хотя бы какието части прописными буквами, то воспринимать название было бы значительно удобнее и оно не выглядело бы таким «монстром». В третьем пункте анкеты употребление заглавных букв в наименовании БигАвтоТранс было оценено большинством москвичей как уместное и понятное, а написание Ленмонтажремонтсервис в оценке 67% опрошенных выглядит «неэстетично и даже комично», «перегружено», «содержит труднопроизносимые сочетания согласных», «слишком длинное», «тяжело воспринимается» и нуждается в сокращении количества входящих в него частей. Информантами высказывались и замечания по поводу принадлежности подобных написаний к старшей / младшей норме (22% информантов считают, что написания вроде Ленмонтажремонтсервис – это «старая норма, так называли предприятия раньше», «раньше называли так, а сейчас владельцы пытаются 188 выделить свою фирму и поэтому пишут не по правилу»), а также по поводу их частотности (40% респондентов считают, что очень длинные названия чаще пишутся по правилу, т.к. большое количество прописных букв в одном слове также воспринимается плохо). В то же время вариант АвтоЦвет (фирма, специализирующаяся на покраске машин) подвергся критике из-за «перебора» прописных букв в очень коротком слове. Другие случаи (материал предлагался только московским респондентам). Употребление прописной Я на конце названия АкадемиЯ признали ненормативным 50% московских респондентов, 44% сочли подобное написание приемлемым, а 6% анкетируемых затруднились дать ответ. Показательно наличие в некоторых ответах комментариев относительно того, что прописная буква выделяет компонент Я для более сильного воздействия на адресата. Написание БуБеН признали неоправданным, необоснованным и нарушающим правила русской орфографии 78% участников опроса, при этом часто встречался комментарий вроде: «непонятно, зачем написали именно так», «может, имена, фамилии владельцев зашифрованы?». Не всегда и легко дешифруемое использование прописных букв способствует успешному выполнению эргонимом рекламной функции. Так, излишним посчитали 47% опрашиваемых прописные буквы в середине в названии мойки машин МойДоДыр (в Москве есть и магазин техники для уборки дома с таким названием, на вывеске которого прописные буквы используются так же). Многие признали, что языковая игра была бы удачной, если бы заглавные буквы не расчленяли имя героя произведения К. Чуковского на отдельные слова. В этом случае реклама получается сомнительной: вряд ли автомобилист захочет обратиться в фирму, где «моют до дыр» (Интересно, что имя собственное «умывальников начальника и мочалок командира» многими информантами (преимущественно молодыми) воспринимается нерасчлененно). Однозначно негативную оценку вызвало написание имени собственного со строчной буквы в названии аЛтын, поэтому 100% участников опроса отдали предпочтение второму варианту – Алтын. Аргументация: некрасиво, когда название начинается со строчной буквы, и непонятно, почему выделить надо было именно вторую букву. Подавляющее большинство опрошенных негативно оценили наименования ПланТация и МаксидоМ, в которых им не удалось найти мотивацию в употреблении прописной буквы и связь названия в целом с деятельностью организации. Во втором случае 25% участников опроса отметили, что признали бы мотивированным 189 выделение как заглавной буквы «д»: МаксиДом. Тогда название говорило бы о внушительных размерах магазина. Всего 5% опрошенных увидели в написании МаксидоМ попытку номинатора симметрично оформить наименование. Более 90% участников опроса дали отрицательную оценку написанию наименования миниСАМ (окказиональное наименование по аналогии с универсам). Как и во втором задании, участниками было высказано неприятие строчной буквы вместо прописной в начале слова, поскольку это нарушает одно из фундаментальных правил орфографии и является «некрасивым». Кроме того, это написание, как и само наименование, было признано неудачным, поскольку оно с трудом поддается расшифровке. Анализ результатов анкетирования позволил прийти к следующим выводам. Носитель языка в целом лояльно относится к вариантности в сфере употребления прописных букв в эргонимах. Во-первых, он вполне допускает нарушение правил ради придания эргониму эстетичного внешнего вида, передачи дополнительных смыслов, согласен на языковую игру как средство привлечения внимания к наименованию. Например, в названии пУХовик (фирма по производству зимней одежды, имеющая сеть одноименных магазинов) оригинальным и интересным было признано выделение междометия «ух», как отражение русского холода и русской удали, однако во многих ответах подчеркивалось, что эту часть можно было бы выделить какими-либо другими графическими средствами, а не за счет утраты начальной прописной буквы. Главное требование, предъявляемое к креативным решениям номинатора, – чувство меры, чтобы название не выглядело неадекватно; креативность должна быть мотивированной, смысл ее должен дешифровываться реципиентом. Негативно оцениваются те некодифицированные варианты написания, смысл и назначение которых остается неясным адресату. Во-вторых, можно говорить о положительном (или, по крайней мере, нейтральном) отношении большей части информантов к таким некодифицированным явлениям, как прописная буква в середине многокомпонентного наименования или в каждом слове многолексемного названия: в обеих группах информантов практически не было людей, отвергнувших подобные варианты во всех случаях, и в целом статистические данные в обоих случаях совпадали. Как уже отмечалось выше, здесь наблюдается определенная непоследовательность: например, в задании на оценку правильности варианта выбор соответствует кодифицированной норме, а в задании, предполагающем выбор наиболее приемлемого варианта – предпочтение отдается некодифицированному. Сле190 довательно, даже зная правило, носитель языка часто склонен выбирать вариант, ему не соответствующий, оправдывая такое употребление в одних случаях и критикуя в других. Это вполне согласуется с замечанием Л.Н. Крысина о том, что «даже внутри однородной социальной группы и в идиолекте одного и того же носителя языка разные языковые новшества оцениваются с разной степенью толерантности» [Крысин 2006, с. 181]. В-третьих, при аргументации выбора или оценке отдельных вариантов написания оказались задействованы такие критерии нормативной оценки, как: эстетический (так лучше смотрится, интереснее, красивее и т.д.); функциональный (наиболее часто встречались указания на то, что в рекламе, на вывеске так писать можно, в других случаях – нежелательно); прагматический (так понятнее, удобнее читать, больше привлекает внимание, лучше запоминается и т.д.); реже были задействованы ксеноразличительный (указание на англоязычную традицию, заимствованную русским языком), частотный (чаще пишут так, а так реже), а также хронологический (отнесение к старшей / младшей норме) критерии (использован набор критериев нормативной оценки, приведенный в [Ейгер 1990]. Менее всего в качестве аргументов приводится апелляция к правилу. Отметим также, что ксеноразличительный критерий оценки (влияние англоязычной орфографической традиции), задействованный многими нашими информантами, сам по себе не служит основанием для неприятия ими конкретного варианта. Регулярность и многообразие ненормативных случаев написания прописных букв влияет на восприятие носителем языка этих написаний: он привыкает к ним, и даже знание правил не мешает ему выбирать некодифицированный вариант, если он является более понятным, удобочитаемым, ярким и т.д. При выборе и оценке вариантов написания эргонимов носитель языка в большей степени склонен опираться на эстетический, функциональный и прагматический критерии, нежели на критерий правильности. Немаловажное значение имеет учет сферы, в которой используется эргоним: официально-деловым документам необходима четко структурированная регламентация, нарушение которой будет расцениваться как явная орфографическая ошибка. Однако в активно развивающейся сфере рекламы, на наш взгляд, возможно допущение вариантов написания, поскольку создание эргонима – творческий процесс и ненормативное использование прописной буквы нередко является стилистическим приемом, языковой игрой, привлекающей клиента. Такая лояльность к нормам письма в 191 рекламной сфере связана, на наш взгляд, с положительным отношением адресата к новым тенденциям в создании эргонимов. Здесь очевидно проявляет себя «коммуникативная толерантность языковой нормы – использование вариативных средств языка в зависимости от коммуникативных целей, которые преследует говорящий в тех или иных условиях общения [Крысин 2006, с. 179]. Как кажется, рассмотренные выше некодифицированные написания многокомпонентных однословных и многолексемных эргонимов можно считать специфической функционально стилистической нормой рекламы (см. подр.: [Кара-Мурза 2008]). Однако абсолютная свобода здесь неприемлема, поскольку: а) складывающееся в сознании носителя языка убеждение в возможности свободного выбора написания на самом деле затрудняет употребление в письменной речи однотипных наименований, создает излишний разнобой; б) эргоним выполняет не только рекламную, но и прежде всего номинативную функцию и является официальным наименованием организации. Все это говорит о необходимости более глубокого изучения существующих тенденций в целях совершенствования кодификации и практики нейминга. Литература Голев Н.Д. Русская орфография как «вещь в себе» // Человек. Коммуникация. Текст / Под ред. А.А. Чувакина. – Барнаул, 1998. – Вып. 2. – Ч. 1 – С. 83–85. Ейгер Г.В. Механизмы контроля языковой правильности высказывания. – Харьков, 1990. Кара-Мурза Е.С. Язык рекламы в нормативно-стилевом аспекте // Вестник Московского университета. – 2008. – № 4. – С. 55–61. – Сер. 10: Журналистика. Крысин Л.Н. Толерантность языковой нормы // Язык и мы. Мы и язык: Сборник статей памяти Б.С. Шварцкопфа. – М., 2006. – С. 175–183. Пахомов В.М. Кавычки и смежные орфографические явления в сфере номинации: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 2008. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – М., 1978 // Электронный ресурс: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t= 2757691. Правила русской орфографии и пунктуации: Полный академический справочник / Под ред. В.В. Лопатина. – М., 2007. Шимкевич Б.Н. Русская коммерческая эргонимия: прагматический и лингвокультурный аспекты: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Екатеринбург, 2002. 192 Кадырова Галина Рабиковна (Казахстан, Алма-Ата; к.ф.н., доц. Казахского национального педагогического университета им. Абая) [email protected] Сослагательное наклонение как отражение гипотетической семантики действия Многонаправленность исследований современной русистики предполагает разработку четкого понятийного аппарата, единообразие обозначения традиционных и вновь вводимых грамматических понятий. Вместе с тем современные научные и учебные тексты пестрят многоплановостью терминологических обозначений, что противоречит сущности термина как такового. Это отнюдь не способствует адекватному восприятию теории научных текстов и ее усвоению в учебных текстах. Сказанное в полной мере относится к терминам, обозначающим предположительные действия, план выражения которых представлен в русской языковой системе формой глагола на -л в сочетании с частицей бы. Данная форма глагола в современных грамматиках не получила единообразного обозначения, что привело к терминологическому разнобою в вузовских и школьных учебниках. Так, в большинстве школьных учебников Республики Казахстан по русскому языку рассматриваемая граммема необоснованно, на наш взгляд, обозначена термином «условное наклонение». С целью выявления разнообразия терминологических обозначений проследим развитие теории ядра гипотетической семантики в русистике второй половины XX столетия. Априори заметим, что выбор конкретного термина основывался в целом на грамматической семантике и доминирующей семе предполагаемого действия, которая усматривалась в грамматике тем или иным исследователем. Авторы Лингвистического энциклопедического словаря выделяют условно-предположительное наклонение, усматривая в этом 193 наклонении условно-предположительную семантику [Лингвистический энциклопедический словарь 1990, с. 140]. Согласно ЛЭС, это наклонение передает значение желательности, предположительности, возможности и выражается глагольной формой, совпадающей с формой прошедшего времени (в иной терминологии элевым причастием), и частицей бы [Там же, с. 321]. Функционирование сослагательного наклонения начиная с древнерусского языка (ХIV в.) и кончая современным русским языком рассматривает в своих трудах Е.А. Нелисов. Как отмечает ученый, категориальным значением конструкций «лъ + бы» в русском языке с ХIV века является нереальность совершения действия [Нелисов 1989, с. 47]. Это значение воплощается, согласно исследованию ученого, в древнерусских речевых актах в вариантных значениях желания и условия. В современном русском языке к этим двум значениям добавляются предположительное значение, предположительно-оптативное, потенциальное, оптативное, ирреально-гипотетическое, выделенные исследователем со ссылкой на работы В.Т. Володина [Там же, с. 50–52]. Таким образом, в качестве языкового значения сослагательного наклонения Е.А. Нелисов выдвигает значение ирреальности действия, присущее этому наклонению со времени его становления до наших дней. Это категориальное значение проявляется в речи в вышеперечисленных вариантных значениях. Более убедительной представляется точка зрения Б.В. Хрычикова, который выделяет значение предположительности. А значения желательности и условности, по мысли ученого, оформляются на почве этого инвариантного значения. Он объясняет свое мнение, в частности, тем, что условное значение можно трансформировать в изъявительное, поскольку предположительные факты могут стать реальными. Согласно исследователю, данное наклонение точнее было бы назвать предположительным [Хрычиков 1956, с. 138]. Отметим, что, рассматривая сослагательное наклонение в системе грамматической категории наклонения, мы считаем его грамматическим значением, участвующим в формировании оппозиций как обязательных компонентов этой морфологической категории. При этом под грамматическим значением вслед за авторами Лингвистического энциклопедического словаря понимается «обобщенное, отвлеченное языковое значение, присущее ряду слов, словоформ, синтаксических конструкций и находящее в языке свое регулярное (стандартное) выражение» [Лингвистический энциклопедический словарь 1990, с. 116]. Внутри грамматического значения могут иметь место различные его модификации. 194 Б.В. Хрычиков выделяет следующие модификационные значения сослагательного наклонения: 1) предположительное, выражающее предполагаемый факт; 2) предположительно-оптативное, включающее предположительный факт в сочетании с волевым элементом; 3) обусловленной возможности; 4) предположения с оттенками: а) долженствования; б) желания; в) побуждения; г) совета; д) просьбы; е) приказания; ж) сравнения [Хрычиков 1956, с. 138]. В основе грамматического значения сослагательного наклонения, как и любого грамматического значения, лежит лексическая семантика. Однако, по наблюдениям Е.А. Нелисова, если в изъявительном и повелительном наклонениях лексический элемент, выступающий в качестве постоянного в парадигматическом ряду, равен основе слова, то в сослагательном наклонении он представлен в виде ‘основа глагола + суффикс л’. Чередующимся элементом в парадигматическом ряду категории наклонения оказывается компонент бы. Его функцию ученый справедливо приравнивает к функции окончаний в синтетической форме глагола [Нелисов 1989, с. 30]. В связи с этим возникают вопросы о статусе компонентных составляющих сослагательного наклонения, относительно которых в лингвистической литературе последних лет не обнаруживается единства взглядов. Традиционно ученые относят компонент бы к формообразующим частицам. Наиболее же точно статус компонента бы определяет В.В. Виноградов, относя его к частицам-морфемам и характеризуя как «формальный знак ирреальности и гипотетичности» [Виноградов 1986, с. 488]. Е.А. Нелисов считает форму сослагательного наклонения аналитичекой, имеющей свои специфические черты, отличающие ее от других аналитических форм русского языка. В частности, если в форме будущего времени «буду + инфинитив» вспомогательный компонент кроме значения времени выражает лицо, число и вид, то частица бы в составе сослагательного наклонения никаких других грамматических значений не выражает [Нелисов 1989, с. 30]. В отдельных исследованиях форма с суффиксом -л в составе сослагательного наклонения трактуется как форма прошедшего времени [Юрик 1959, с. 159], что, на наш взгляд, представляется необоснованным, если говорить о грамматической форме. Еще А.А. Потебня отмечал: «Необходимо раз и навсегда отделаться от ложного понимания грамматической формы... Необходимо твердо знать, что при счете форм должно стремиться к тому, чтобы считать за единицу действительную форму, а не абстракцию. Мы 195 привыкли, например, говорить об одном творительном падеже в русском языке, но на деле этот падеж есть не одна грамматическая категория, а несколько различных, генетически связанных между собою. Всякое особое употребление творительного есть новый падеж...» [Потебня 1977, с. 406]. Таким образом, если каждое употребление какой-то формы представляет собой новое значение, то трактовка омонимичной формы в качестве формы, тождественной по значению, представляется неправомерной. Образуемый из древнерусского элевого причастия компонент на -л в составе сослагательного наклонения представляет собой, согласно справедливому утверждению А.Н. Гвоздева, общую с прошедшим временем форму с суффиксом -л [Гвоздев 1958, с. 310]. Как подчеркивает Е.А. Нелисов, «перед нами налицо факт исторически развившейся грамматической омонимии глагольной формы на -л» [Нелисов 1989, с. 32], неслучайно трактуемой П.С. Кузнецовым как мнимая форма прошедшего времени [Юрик 1959, с. 167]. Актуальным является определение статуса частицы-морфемы бы в составе союзов, образующихся путем сращения, типа чтобы. А.А. Потебня полагает, что союз чтобы в сочетании с формой прошедшего времени образует особое наклонение [Потебня 1958, с. 24]. А.М. Пешковский рассматривает это сочетание как «составную форму подчинительного наклонения», отмечая, что более оправданным в языке было бы сочетание союза чтобы с формой будущего времени, поскольку оно выражает цель как перспективу будущего действия [Пешковский 1956, с. 11]. Указывая на такую позицию ученого, В.А. Юрик, однако, подчеркивает, что новое наклонение в данном случае выделяется не на основе модальности, а по функции (показатель придаточности) и поэтому его выделение оказывается необоснованным. Данное сочетание, по его мнению, представляет собой вариант формы сослагательного наклонения [Юрик 1959, с. 169]. Согласно Б.В. Хрычикову, «морфологическое единство чтобы сочетает две функции: подчинительную (союзную) и модальную (сослагательного наклонения) [Хрычиков 1956, с. 211]. И только с утратой значения предположения бы в составе чтобы в предложении выступает как союз с целевым значением [Нелисов 1989; Золотова 1981, с. 46; Хрычиков 1956, с. 219]. Относительно сочетаний компонента бы с союзами если, хотя представляется правомерной точка зрения тех лингвистов, которые не усматривают в них семантического единства, поскольку частица бы сохраняет модальное значение предположительности. Исходя из этого можно утверждать, что в структуре придаточной 196 части сказуемое выражено формой сослагательного наклонения [Нелисов 1989, с. 41; Хрычиков 1956, с. 211]. Семантический фактор, положенный в основу такой позиции, предполагает рассмотрение взглядов относительно терминов, передающих грамматическое значение предположительности в составе категории наклонения. В.В. Виноградов предлагает термины «предположительное», «гипотетическое» наклонение и, лишь ссылаясь на традиционную терминологию, называет его условным [Виноградов 1986, с. 488]. С опорой на исследования А.А. Потебни и А.А. Шахматова ученый подчеркивает, что в аналитической форме, включающей глагол на -л и частицу бы, объединены значения трех разных наклонений: условного, желательного и сослагательного. При этом он полагает, что формы и функции их должны рассматриваться в синтаксисе, а термин «сослагательное наклонение» относится исключительно к синтаксическим [Там же, с. 489]. Уточняя эту характеристику, Русская грамматика-80 выделяет на уровне морфологии сослагательное наклонение, используемое в значениях, о которых говорилось выше, а на уровне синтаксиса – три значения наклонения, соответствующих классификации В.В. Виноградова [Виноградов 1986, с. 625; Русская грамматика 1982, с. 102–110]. Совершенно обоснованно дифференцируются грамматическое значение формы сослагательного наклонения как «значение возможности в неопределенном временном плане» [Там же, с. 102]; значение формы условного наклонения – как «значение стимулирующей причины, отнесенной в неопределенный временной план» [Там же, с. 104]; а значение формы желательного наклонения – как отвлеченной устремленности «к какой-то действительности», которая «может мыслиться как неопределенно отнесенная и в будущее, и в настоящее (осуществление возможно), и в прошлое (осуществление невозможно)» [Там же, с. 106–107]. Категориальное значение сослагательного наклонения определяется как «значение возможности, предположительности». Термин «сослагательное наклонение» в наибольшей степени передает тот семантический аспект, который соответствует функционально-семантическому полю гипотетичности. Кроме того, данный термин в большей мере соответствует модальной иерархии в составе грамматической категории наклонения, представленной в исследованиях С.С. Ваулиной: действительность (возможность) необходимость, являясь вторым ее компонентом [Ваулина 1988, 144]. Другие значения, на основе которых в изложенных теориях выделяются отдельные наклонения, на наш взгляд, представляют 197 собой вариантные значения сослагательного наклонения, реализуемые в определенном контексте. Термин «условное наклонение» представляется узким, поскольку охватывает предполагаемые действия, реализация которых возможна при определенных условиях, например: Если бы меня послали учиться в Англию, я оправдал бы надежды государства. Анализ данного высказывания позволяет усомниться в обоснованности термина «условное наклонение»: во второй (главной) предикативной части высказывания форма глагола на -л и частица бы передают исключительно гипотетическую семантику. И лишь контекстные составляющие формируют условную семантику, которая, однако, не является превалирующей относительно второй предикативной части. Кроме того, если брать за основу обозначения гипотетического действия термин «условное наклонение», то изолированно взятые формы глагола типа читал бы следовало бы интерпретировать с позиции препятствия обозначенному действию. Иными словами, читал бы – предполагаемое действие осуществляется при определенных условиях которые, возможно, отсутствуют. В то же время превалирующей может выступать семантика желательности осуществления действия. Подтверждением этому служит употребление данных форм в конструкциях, в которых выражается желание от лица говорящего: Я бы всю жизнь посвятила этому. При этом, если в приведенной конструкции выражается гипотетическая семантика с оттенком желательности, то в высказывании: Он бы так никогда не сделал передается семантика абсолютной гипотетичности действия, имплицитно сопровождаемая сопоставлением с произведенным действием некоего другого субъекта. Желаемое действие также выражается лексически с помощью модальных глаголов хотеть, желать: Он тоже хотел бы пойти с нами на концерт; Ты бы желала ему только добра; возможное действие передается модальным глаголом мочь, сметь: Она не смогла бы устоять перед таким соблазном / Она не устояла бы перед таким соблазном. Как видим, приведенные высказывания, равно как и высказывание Я, пожалуй, пошел бы на этот концерт, далеко не всегда предполагают условную валентность (если бы...). Модальные оттенки гипотетической семантики действия вне определенного условия его осуществления в значительной мере обнаруживаются в разговорной речи. В частности, значение пожелания действия, направленного на адресата, отмечается в высказываниях тип: Шел бы ты лучше домой. В данном случае фор198 ма глагола на -л с частицей бы передает предполагаемое действие, влекущее за собой стабилизацию некоей негативной ситуации. Она используется с целью выражения совета, следовательно, синонимична форме повелительного наклонения иди. Заключенная в ней же функция выражения желательности осуществления действия делает ее более оптимальной в употреблении. Интерес представляют собой высказывания с имплицитно представленной условной семантикой. Облигаторными составляющими в них является расположенная в абсолютном начале частица как бы и глагол, передающий предполагаемое действие, с отрицательной частицей не: Как бы я (ты, он) не угодил в эту лужу. Частица бы в подобного рода высказываниях выполняет двоякую функцию: она включена в состав частицы вопросительного характера как бы и выполняет роль формообразующего элемента формы глагола сослагательного наклонения. Это позволяет избежать ее повторного употребления с целью экономии речевых средств, ср.: Как бы я не угодил бы в эту лужу. Экспликация конструкции позволяет обозначить негативный исход в случае положительного осуществления действия, разрешение ситуации отнюдь не в пользу субъекта действия. Поэтому высказывания такого рода трансформируемы в придаточные части со значением условия: Если я угожу в эту лужу... Однако в целом семантика желательности действия превалирует, поскольку субъект ищет пути предотвращения действия. Вариантные значения предположительной семантики действия в русской разговорной речи актуализируются за счет двойного использования в высказывании частицы бы. Расположение одной из них тяготеет к началу высказывания, а вторая употребляется непосредственно в постпозиции к глаголу на -л, благодаря чему подчеркивается информативная значимость предполагаемого (желаемого) действия: Ремонт бы в квартире за лето сделали бы; Я бы на ткань крестик наложила бы. Как констинуент категории наклонения сослагательное наклонение передает нереальную модальность. Таким образом, по семантической характеристике отношения высказывания к действительности с точки зрения говорящего сослагательное наклонение оказывается в одном ряду с повелительным наклонением, составляя единый компонент оппозиции грамматической категории наклонения по признаку реальности / нереальности. С точки зрения функционально-семантической, по мнению целого ряда лингвистов, в частности В.Н. Бондаренко, Т.П. Ломтева [1956, с. 24], С.С. Ваулиной [1988, с. 144], констинуенты категории наклонения нерядоположены. Изъявительное и сослагательное наклонения 199 выполняют функцию квалификатора действия, а через него и всего высказывания с позиций реальности / нереальности, в то время как функция повелительного наклонения сводится к тому, чтобы «фиксировать, с какой целью совершается акт речи» [Ваулина 1988, с. 12]. На основании выявленного различия в функциональном назначении грамматических значений категории наклонения С.С. Ваулина делает вывод о том, что повелительное наклонение относится к прагматическому аспекту, поскольку выражает не действие, а волю говорящего, а изъявительное и сослагательное наклонения определяют действие и через него всю ситуацию в целом, следовательно, носят денотативный характер. Таким образом, ученый вслед за целым рядом лингвистов противопоставляет констинуент категории наклонения на основании двух аспектов: номинативного, содержащегося в изъявительном и сослагательном наклонениях, с одной стороны; коммуникативно-прагматического, содержащегося в повелительном наклонении, с другой стороны [Там же, с. 12–16]. Такой взгляд на сослагательное наклонение в системе категории наклонения опровергается в исследованиях Л.Т. Килевой. Она усматривает противоречие в данной позиции. Категория наклонения относится к классификационным грамматическим категориям. При классификации одни действия рассматриваются как реальные, а другие – как возможные, соответствующие определенным целям. Последние по значению ирреальности объединяют действия, передаваемые сослагательным и повелительным наклонениями [Килевая 2003, с. 27]. К сказанному следует добавить, что данные наклонения отмечаются большей модальностью по сравнению с изъявительным наклонением. Предположительная семантика сослагательного наклонения обеспечивает его ядерное положение в функционально-семантическом поле гипотетичности по отношению к другим компонентам поля. Таким образом, гипотетическая семантика ирреального действия, сопровождаемая оттенками желательности, условности, возможности, сосредоточена в термине «сослагательное наклонение», охватывающем весь аспект обозначенных смыслов, что позволяет отвести ему приоритетную позицию в канве предлагаемых терминологических обозначений. Литература Ваулина С.С. Эволюция выражения средств модальности в русском языке (ХI–ХVII вв.). – Л., 1988. Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). – М., 1986. 200 Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык. – М., 1958. – Ч. 1: Фонетика и морфология. Золотова Н.О. О ходе исследования специфики ядра // Психолингвистические исследования в области лексики и фонетики. – Калинин, 1981. – С. 45–48. Килевая Л.Т. Становление категории наклонения славянского глагола: Дис. ... д-ра филол. наук. – Алма-Ата, 2003. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. Ломтев Т.П. Очерки по историческому синтаксису русского языка. – М., 1956. Нелисов Е.А. Сослагательное наклонение в русском языке (значение и употребление). – Таллин, 1989. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М., 1956. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. – М., 1977. – Т. 4. – Вып. 2: Глагол. Русская грамматика. – М., 1982. – Т. 1. Хрычиков Б.В. Значение форм сослагательного наклонения в сложноподчиненных предложениях с придаточными, присоединенными союзом «чтобы», условными и уступительными // Уч. зап. Новгородского гос. пед. ин-та. – 1956. – Т. 2. – Вып. 2. – С. 209–220. Юрик В.А. К вопросу о составе и функционировании форм сослагательного наклонения глагола в современном русском литературном языке // Уч. зап. Латвийского гос. у-та. – Рига, 1959. – Т. 30. – С. 159–170. 201 Караджев Багаудин Ибрагимович (Россия, Москва; к.ф.н., доц. кафедры обучения русскому языку студентов и специалистов нефилологического профиля Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] Некоторые подходы к проблеме адресации и адресата в современной лингвистике Современный этап развития лингвистической науки характеризуется разноаспектным и всесторонним изучением человеческого фактора в языке. Ориентация современной лингвистической парадигмы на изучение человеческого фактора в языке и речи способствует тому, что адресат как один из главных антропокомпонентов коммуникативного акта становится объектом современных лингвистических исследований. Адресация речи – это учет адресантом уровня культуры, знаний, интересов, социального статуса и других качеств адресата, умение вовлечь его в процесс общения, достичь определенного уровня воздействия на адресата. Адресат при этом становится существенно значимым участником общения. От понимания со стороны адресата во многом зависит эффективность коммуникации. Особенно активно проблема адресации стала изучаться, когда от исследования речи как реализации языка лингвисты перешли к исследованию общения, в котором адресация как коммуникативное проявление активного субъекта является важнейшим отличием общения от речи. «Категория прагмасемантического адресата возникает только тогда, – пишет А.В. Полонский, – когда мы переходим от языка как структуры к языку как средству общения, т.е. выходим за пределы внутриязыкового пространства в функционально-коммуникативное, в котором реализуется диалоговая природа слова» [Полонский 1999, с. 37]. В исследованиях речи 202 адресация лишь постулируется как явление, а в теории общения адресация конкретизируется, т.е. адресат исследуется уже как второй активный субъект коммуникативных взаимодействий. Проблеме адресации посвящено множество широко известных работ таких ученых, как Н.Д. Арутюнова, А.В. Полонский, Н.И. Формановская, Л.А. Азнабаева и др. Ученые анализируют роль фактора адресата в актах речевого общения (Н.Д. Арутюнова; М.М. Бахтин), уделяют внимание вопросам коммуникативной типологии адресата (Н.И. Формановская, В.В. Богданов), типам номинации адресата; исследуют категориальную и функциональную сущность адресованости (А.В. Полонский, О.П. Воробьева), изучают характер репрезентации образа слушателя в речи (Ю.Д. Апресян; Н.И. Формановская), анализируют варианты коммуникативного поведения адресата (Т.Г. Винокур; И.А. Стернин), способ выражения коммуникативного намерения адресата (Н.И. Формановская). Несмотря на наличие работ, ориентированных на различные аспекты исследования фактора адресата в коммуникации, комплексное изучение проблемы адресации и адресата (речевого выражения статуса адресата) в лингвистике отсутствует. Адресант и адресат прямо и косвенно воздействуют друг на друга. Степень удовлетворительности решения ими коммуникативных задач определяет успех речевого взаимодействия. Задачи, стоящие перед коммуникантами, различны. Задача адресанта – отобрать наиболее целесообразные в конкретной коммуникативной ситуации языковые средства, отвечающие его замыслу и наиболее полно отражающие его позицию, способные максимально активизировать внимание, мыслительную деятельность, а иногда и чувства адресата. Задача адресата состоит в восприятии, понимании и в адекватной интерпретации полученного сообщения. Степень понимания и приемлемости высказывания говорящего демонстрируется адресатом в ответной реакции речью или действием. Вопрос о роли фактора адресата, о принципе взаимодействия адресанта и адресата в коммуникативном акте решается неоднозначно. Сторонники социолингвистического подхода Д.Х. Хаймс и С.М. Эрвин-Трипп акцентируют зависимость распределения коммуникативных ролей адресанта и адресата от культуры, верований, обычаев каждой определенной группы людей и экстралингвистической ситуации [Хаймс 1975; Эрвин-Трипп 1975]. Распределение ролей зависит от ситуации, общественного статуса участников (пол, возраст, занятие), специфических ролей, 203 характеризующих конкретную социальную ситуацию (хозяйка – гость, учитель – ученик, покупатель – продавец), их ролей относительно друг друга (наниматель – служащий, муж – жена). Социальные взаимоотношения коммуникантов выстраиваются по координатам вертикали – вышестоящий – равный – нижестоящий по статусу и роли и свой – чужой – по горизонтали, по степени близости, доверительности отношений. Симметрия или асимметрия статусно-ролевых взаимоотношений адресанта и адресата находит непременное отражение в коммуникации. Прагматический подход в изучении роли фактора адресата в речевом общении связывается с понятием «интерпретатор» [Morris 1938]. При построении высказывания адресант учитывает способность адресата интерпретировать высказывание. Адресат – это не просто коммуникант, которому непосредственно направлено высказывание, это – интерпретатор сообщения, применяющий правила ведения разговора и опирающийся на соотнесение говорящим используемых им знаков со своим «Я» и на семантику высказывания. Интерпретация осуществляется на фоне информационного запаса включая коммуникативные знания, в результате чего выявляются схемы прагматических видов интерпретации и возможности их заполнения. Модель возможного мира адресата, существующая в сознании адресанта, помогает ему выбирать адекватные языковые средства для реализации своих интенций. Рассмотрение взаимодействия возможных миров адресанта и адресата возможно с точки зрения теории пресуппозиций. Личный опыт каждого человека фиксируется в сознании как система пресуппозиций. Возможный мир каждого человека основывается на его собственной системе пресуппозиций, которая, как правило, не совпадает полностью с системами пресуппозиций других людей. В связи с этим адресант строит гипотезу о возможном мире адресата как определенном наборе пресуппозиций и на основе этого выбирает адекватные языковые средства. Чем больше у говорящего информации об адресате, тем эффективнее достигается цель коммуникации. С точки зрения теории речевых актов адресант и адресат рассматриваются как абстрактные индивиды, носители определенных психолингвистических и социальных характеристик. Н.Д. Арутюнова пишет, что «адресат, как и говорящий, вступает в коммуникацию не как глобальная личность, а в определенном своем аспекте, амплуа или функции, соответствующих аспекту говорящего» [Арутюнова 1981, с. 357]. Функция адресата не сводится к роли воспринимающего и интерпретирующего сообщение. Оппозиция «говорящий – адресат» органически связана с оппозицией 204 «коммуникативный стимул – ответная реакция» [Арутюнова 1981, с. 359]. От фактора адресата в немалой степени зависит, каким образом участники коммуникации будут воздействовать друг на друга, осуществлять свои коммуникативные цели, эксплицировать и имплицировать свои намерения. «Неотделимость адресата от речевого произведения обусловлена тремя факторами: 1) связью адресата с перлокутивным эффектом; 2) игровым принципом речи, постоянно меняющим местами собеседников и создающим «инвертированного адресата»; 3) принадлежностью речевого акта к сфере межличностных отношений» [Там же, с. 361]. Среди лингвистов нет единства мнений в отношении участника коммуникативного акта (имеются в виду адресант и адресат), в большей степени влияющего на выбор типа адресата высказывания и способ представленности определенного смысла в языковых средствах. Ряд ученых, признавая тесную взаимосвязь деятельности адресанта и адресата в речевой коммуникации, указывают на различие выполняемых ими функций, а также на различную трактовку смысла одного и того же высказывания. Исходя из этого следует различать два аспекта информации, извлекаемой из сообщения: 1) информация с точки зрения адресанта; 2) информация с точки зрения адресата. Так, М.М. Бахтин утверждает, что: 1) адресат является основным критерием завершенности высказывания; 2) прагматическая адекватность сообщаемого эксплицируется при «встрече» с «чужим» смыслом: «Смысл потенциально бесконечен, но актуализоваться он может лишь соприкоснувшись с другим (чужим) смыслом, хотя бы с вопросом во внутренней речи понимающего... Актуальный смысл принадлежит не одному, а только двум встретившимся и соприкоснувшимся смыслам» [Бахтин 1979, с. 350]. Автор речи и ее адресат – обязательные структурные компоненты как межличностного, так и опосредованного текстом коммуникативного акта, поскольку, по мнению Н.И. Формановской, «адресант и адресат теснейше связаны: интенция / иллокуция говорящего устремлена к адресату, и его (адресата) реагирование может быть и в замыслах адресанта» [Формановская 2007, с. 68]. А.В. Полонский характеризует участников коммуникативного акта следующим образом: «...адресант – первый субъект коммуникативно-речевого акта, реализующий свои личностные, социально-психологические и ролевые особенности» в речевом произведении, направленном конкретному получателю – адресату, который понимается как «второй субъект коммуникативно-речевого 205 акта, реализующий свои личностные, социально-психологические и ролевые особенности в ответной реакции» на полученное от адресанта речевое произведение [Полонский 1999, с. 8]. Адресат в свою очередь имеет собственную точку зрения на высказывание собеседника, а также характеризуется определенным отношением (позитивным или негативным) к адресанту. Отношение адресата к содержащейся в сообщении информации определяется целым рядом факторов: его предыдущим знанием о предмете коммуникации и его собственным мнением о нем, уровнем его интеллектуального развития, образования, отношения адресата к адресанту (симпатия или антипатия). Кроме того, далеко не последнюю роль при этом играет возрастной критерий, а также социальная стратификация. Это означает, что при проведении прагматически ориентированных исследований важно учитывать социолингвистический аспект. Общий интерес к «человеку в языке», по определению Э. Бевениста, и к «человеку в коммуникации» в современном языкознании нашел свое отражение прежде всего в особом внимании к изучению диалога и диалогической речи, теории и практики коммуникации, речевого этикета, прагматики речевых актов. Ученые обращаются также к социолингвистическим и психологическим проблемам формирования текста. «При этом, – пишет Н.И. Формановская, – заметно выдвигаются аспекты исследования, в которых лингвисты не обходятся без учета говорящего лица и производителя текста, коммуникативных намерений (интенций) говорящего, фактора адресата речи, достижения согласованности в речевом акте между «я» и «ты» и мн. др., что в свою очередь влияет на организацию модусного плана предложениявысказывания, его социального и субъективного смысла, а в конечном итоге и на организацию текста в целом» [Формановская 1984, с. 67]. Как утверждает А.В. Полонский, «говорящий будучи субъектом речи учитывает свойства своего партнера, наделенного свойствами субъекта, каузируя его и ожидая прогнозируемую незамедлительную реакцию» [Полонский 1999, с. 38]. Другими словами, адресант прогнозирует в адресате определенный образ, ориентируясь на который он использует общий фонд знаний, общую апперцепционную базу, тематический пласт и т.д. «Адресат – это та фигура, которая определяет природу общения как коммуникативного взаимодействия» [Формановская 2007, с. 174]. Вслед за Н.И. Формановской мы различаем три функции адресата как активного субъекта общения: 1) адресат как мысленный образ в речевом сознании адресанта; 2) адресат как субъ206 ект восприятия и интерпретации дискурса / текста; 3) адресат как субъект реакции на дискурс / текст. В этой связи целесообразно говорить о прагматике адресанта и прагматике адресата. Прагматика адресанта связана прежде всего с иллокутивной силой высказывания, то есть с намерением говорящего произвести определенное впечатление на адресата и вызвать у него определенную реакцию. Прагматика адресата заключается в восприятии и декодировании адресованной ему информации с учетом отношения к ней адресанта, что в итоге предполагает ту или иную реакцию на конкретное сообщение. Это значит, что прагматика адресата связана в первую очередь с перлокутивным эффектом. Можно сделать вывод, что действия адресата предопределяют действия говорящего, обработка речи происходит под давлением фактора адресата [Арутюнова 1981, с. 358]. Итак, адресат – неотъемлемый компонент речевого акта, без него язык не выполняет коммуникативную функцию, и, хотя адресат не участвует в акте номинации, его отношение к говорящему, его возможный мир опосредуются говорящим. Содержательный аспект акта речи, его внешние условия отражает корреляция «адресант – адресат». Субъекты речи всегда представлены как носители социальных и индивидуальных (личностных) характеристик, как «носители определенного континуума знаний о мире и конкретной коммуникативно-речевой ситуации, представленной в их всегда несовпадающих тезаурусах» [Полонский 1999, с. 38], то есть, адресант и адресат – языковые личности, несущие в себе, с одной стороны, типизированные, обобщенные черты своего народа, своей культуры и своей социальной среды, с другой стороны – личный опыт знаний, мнений, предпочтений, оценок, отношений. Таким образом, адресацию следует признать важной, сущностной характеристикой эффективного общения, которое по своей сути диалогично. Так или иначе, этот вопрос стоит того, чтобы им заняться вплотную и в теоретическом и тем более в практическом плане. Литература Арутюнова Н.Д. Фактор адресата // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1981. – Т. 40. – № 4. – С. 356–367. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М., 1974. Полонский А.В. Категориальная и функциональная сущность адресатности (на материале русского языка в сопоставлении с польским): Дис. ... д-ра филол. наук. – Белгород, 1999. 207 Формановская Н.И. Речевое взаимодействие: коммуникация и прагматика. – М., 2007. Хаймс Д.Х. Этнография речи // Новое в лингвистике. – М., 1975. – Вып. 7: Социолинвистика. – С. 42–95. Эрвин-Трипп С.М. Язык. Тема. Слушатель. Анализ взаимодействия // Новое в лингвистике. – М., 1975. – Вып. 7: Социолингвистика. – С. 336–362. Morris Ch.W. Foundations of the Theory of Signs // International Encyclopedia of Unified Science. – Chicago, 1938. – Vol. 1. – № 2. – Р. 1–59. 208 Котлярова Ирина Васильевна (Казахстан, Алма-Ата; преп. кафедры русского языка Казахского Национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова) [email protected] Моделирование результатов номинативной деятельности в языковом сознании Моделирование результатов номинативной деятельности в языковом сознании представляет собой установление и описание совокупности языковых средств, номинирующих концепт и его отдельные признаки. В построении когнитивно-номинативной парадигмы концепта исследователь может пойти двумя путями. Во-первых, можно сосредоточиться на выявлении только прямых номинаций концепта – ключевого слова и его синонимов (как системных, так и окказиональных, индивидуально-авторских), это приведет к построению ядра номинативного поля [Попова, Стернин 2007, с. 176–177]. Например, ядро номинативного поля концепта женщина составят такие единицы (синонимы): 1) женщина, лицо женского пола, дама, дамочка, баба, бабенка, бабешка, жена, телка, тетка, тетенька, тетя, слабый пол, дочь дьявола; 2) жена, супруга, благоверная, половина, подруга, спутница жизни, супружница, хозяйка, баба, жинка, женка [Горбачевич 2006, с. 168–170; Евгеньева 2007, с. 139]. Во-вторых, можно не ограничиться прямыми номинациями и выявить все доступное исследователю номинативное поле концепта включая номинации разновидностей денотата концепта (гипонимов) – жена, супруга, благоверная, половина, подруга, спутница жизни, супружница, хозяйка, мать, родительница, богиня, бабушка, ведьма, колдунья, фурия, мегера, девчонка, девушка, девица, барышня, дева, девка, деваха, дивчина, юница, фифа, 209 мымра, леди, бизнес-леди, мадам, мадемуазель, мисс, миссис, королева, старуха, старая карга [Ожегов 1989, с. 39–863] и под. и наименования различных отдельных признаков концепта, обнаруживающихся в разных ситуациях его обсуждения, – красивая, изящная, пикантная, очаровательная, добрая, сердечная, ласковая, нежная, чуткая, гордая, властная, самолюбивая, вздорная, веселая, строптивая, умная, бойкая, молодая, хитрая, лукавая, капризная, скандальная, незамужняя, одинокая, преданная, верная, любящая, неверная, гулящая, хозяйственная, работящая, заботливая, внимательная, светская, благородная, респектабельная, эффектная, элегантная, чопорная, церемонная, незнакомая, замужняя, рожает детей, сплетничает, убирает, стирает, ревнует, ругает мужа, заботится о семье, любит тратить деньги, следит за мужем, чинит одежду и т.д. [Горбачевич 2006, с. 168– 170; Евгеньева 2007, с. 139]. Наиболее часто номинируемые гипонимы оказываются типичными представителями концепта в коммуникации, наиболее часто номинируемые признаки – яркими признаками концепта, обсуждаемыми в коммуникации. И те и другие позволяют пополнить наши представления о структуре изучаемого концепта [Попова, Стернин 2007, с. 177]. Для выявления когнитивных признаков исследуемого концепта паремии, содержащие ключевое слово-репрезентант концепта, его синонимы или характеризующие концепт описательно, упорядочиваются в паремиологическое поле. Источником паремий являются словари пословиц, поговорок, крылатых выражений и афоризмов [Попова, Стернин 2007, с. 183]. Ср., например, русские пословицы, объективирующие концепт женщина: Муж да жена – одна сатана (муж и жена – одно целое, составляющее семью). Жена – не рукавица, с белой ручки не стряхнешь (от жены просто так нельзя уйти) [Горбачевич 2006, с. 168]. Бабьи сборы – гусиный век (женщины очень долго собираются для выхода в свет). Бабе дорога – от печи до порога (о роли женщины дома). Где баба, там рынок; где две, там базар. Бабьи-то промыслы, что неправые помыслы. Бабий кадык не заткнешь ни пирогом, ни рукавицей. Вольна баба в языке, а черт в бабьем кадыке. Баба – что жаба. Женское слово, что клей, пристает (женщины любят поговорить, посплетничать). Бабе хоть кол на голове теши. С бабой не сговоришь. Бабу не переговоришь. За бабой покидай последнее словцо. Стели бабе вдоль, она меряет поперек (женщина все равно сделает по-своему, что бы ей ни говорили). У бабы семь пятниц на неделе. Женские умы – что татарские сумы (переметны). Перекати-поле – бабий ум. На жен210 ский нрав не угодишь. На женские прихоти не напасешься. Девичьи (Женские) думы изменчивы (женщины часто меняют свое мнение, решение). Баба пьяна, а суд свой помнит (женщина все помнит). Баба, что глиняный горшок: вынь из печи, он пуще шипит. Курица не птица, а баба не человек. Баба да бес – один у (в) них вес (женщина ругает мужа). Женский обычай – слезами беде помогать. Без плачу у бабы дело не спорится (женщины любят поплакать). Баба что мешок: что положишь, то и несет. Куда черт не поспеет, туда бабу пошлет (о силе женщины) [Даль 1957, с. 350–352]. Лексико-фразеологическое поле, репрезентирующее концепт женщина: Женский род – грамматическая категория: 1) у имен (в 6 знач.): класс слов, характеризующийся своими особенностями склонения, согласования и (в части слов, называющих одушевленные предметы) способностью обозначать отнесенность к женскому полу, напр., (добрая) жена, (сырая) земля, (темная) ночь; 2) у глаголов: формы ед. числа прош. времени и сослагательного накл., обозначающие отнесенность действия к имени (в 6 знач.) такого класса или к лицу женского пола, напр., зима наступила, дочь пришла (пришла бы) [Ожегов 1989, с. 195]. Базарная баба – о грубой и крикливой женщине. Баба с возу – кобыле легче – если кто-либо уйдет или откажется от чего-либо, то оставшимся будет от этого только лучше [Фразеологический словарь русского языка... 2005, с. 11]. Каменная баба – древнее каменное изваяние в виде человеческой фигуры. Снежная или снеговая баба – человеческая фигура, слепленная из комков снега [Ожегов 1989, с. 39]. Бабье лето – 1. ясные, теплые дни в начале осени; 2. период расцвета женщины в зрелом возрасте. Бабушка (еще) надвое сказала (гадала) – 1. еще неизвестно, сбудется ли предполагаемое, желаемое; 2. неизвестно, соответствует ли действительности то, о чем идет речь. Бальзаковский возраст – возраст женщины от 30 до 40 лет. Девичья память шутл. – о плохой памяти [Фразеологический словарь русского языка... 2005, с. 11–12, 70]. Старая дева (разг.) – о немолодой девушке, не вступавшей в брачные отношения. Кисейная барышня (разг.) – жеманная девушка с мещанским кругозором. Телефонная барышня (устар.) – то же, что телефонистка [Ожегов 1989, с. 43, 158]. В чем (как) мать родила – 1. прост. голый, без всякой одежды; 2. без денег, средств к существованию [Фразеологический словарь русского языка... 2005, с. 159]. Помаминому (разг.) – 1. по маминой воле, желанию; 2. так, как поступает мама. Мать честная! (разг.) – восклицание, выражающее удивление, радость, огорчение. Мать моя! (разг.) – то же, что 211 мать честная [Ожегов 1989, с. 339, 344]. И на старуху (старушку) бывает проруха – и опытный, бывалый человек может ошибиться [Фразеологический словарь русского языка... 2005, с. 336]. Здравствуйте, я ваша тетя! (разг. шутл.) – выражение удивления и несогласия, насмешки по поводу чего-нибудь неожиданного. Домашняя хозяйка – женщина, которая нигде не служит, а занимается только домашним хозяйством, семьей [Ожегов 1989, с. 795, 863]. Построение и изучение деривационного поля ключевого слова позволяет выявить когнитивные признаки исследуемого концепта [Попова, Стернин 2007, с. 182]. Например, лексема женщина имеет следующие однокоренные слова: женский, женственный [Словообразовательный словарь русского языка... 2004, с. 112]. Данные лексемы позволяют выявить когнитивный признак концепта – «качества, свойства женщины». В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова [1989, с. 194–195] приводятся и другие однокоренные единицы: жена, женка, женушка, женин, женатик, женатый, женить, жениться, пожениться, жених, женишок, жениховский, женихаться, женолюб, женолюбивый, женолюбие, женоненавистник, женоненавистнический, женоненавистничество, женоненавистнический, женоподобный, женоподобность, женоубийство, женоубийца, которые также вербализуют названный когнитивный признак. Это будет расширенное описание номинативного поля, построение полного номинативного поля концепта [Попова, Стернин 2007, с. 177]. Опорное слово Номинативные единицы ЖЕНЩИНА Номинативная парадигма Женщина: 1. «лицо, противоположное мужчине по полу, та, которая рожает детей и кормит их грудью». 2. «лицо женского пола, вступившее в брачные отношения». Дама: 1. «женщина из интеллигентских, обычно обеспеченных городских кругов (устар.)». 2. «по отношению к иностранкам: форма вежливого обращения, упоминания (вообще о женщинах разг.)». 3. «женщина, танцующая в паре с кавалером». 4. «игральная карта с изображением женщины». Баба: 1. «замужняя крестьянка, а также вообще женщина из простонародья (прост.)». 2. «вообще о женщине (иногда с пренебр. или шутл. оттенком; прост.)». 212 Зоны номинативной парадигмы Лексическая зона Опорное слово Номинативные единицы ЖЕНЩИНА 3. «то же, что жена (в 1 знач.) (прост. и обл.)». 4. «то же, что бабушка (во 2 знач.) (прост. и обл.); в детской речи – то же, что бабушка (в 1 знач.)». 5. «перен. о робком слабохарактерном мужчине (разг.)». Бабенка (прост.): «молодая бойкая женщина». Жена: 1. «женщина по отношению к мужчине, с которым она состоит в официальном браке (к своему мужу)». 2. «то же, что женщина (в 1 знач.) (устар. высок.)». Тетка: 1. «сестра отца или матери, а также жена дяди». 2. «вообще женщина (чаще пожилая)». Тетя: 1. «то же, что тетка (в 1 знач.)». 2. «в сочетании с именем собственным: уважительно о простой немолодой женщине (разг.)». 3. «то же, что женщина (в 1 знач. в детской речи и прост. шутл.)». Слабый пол: «о женщинах; шутл.». Дочь: 1. «лицо женского пола по отношению к своим родителям». 2. «перен. женщина как носитель характерных черт своего народа, своей среды (высок.)». Супруга (устар., теперь офиц. и прост. или ирон.): «то же, что жена (в 1 знач.)». Благоверная (разг. шутл.): «жена, супруга». Половина: 1. «одна из двух равных частей, вместе составляющих целое». 2. «середина какого-н. расстояния, промежутка времени». 3. «отдельная часть помещения (устар.)». 4. «с определением. о жене (разг. шутл.)». Подруга: «девочка, девушка или женщина, состоящая в дружеских, близких отношениях с кем-н.». Спутница жизни: «перен.: о жене». Супружница (прост. шутл.): «то же, что жена (в 1 знач.)». Хозяйка: 1. «см. хозяин». 2. «то же, что жена (в 1 знач.) (прост.)». 3. «о женщине, хорошо ведущей домашнее хозяйство (разг.)». 4. «то же, что домашняя хозяйка (разг.)». Женка (уменьш.-ласк.): «то же, что жена (в 1 знач.)». 213 Зоны номинативной парадигмы Лексическая зона Опорное слово Номинативные единицы ЖЕНЩИНА Женский род «грамматическая категория: 1) у имен (в 6 знач.): класс слов, характеризующийся своими особенностями склонения, согласования и (в части слов, называющих одушевленные предметы) способностью обозначать отнесенность к женскому полу, напр. (добрая) жена, (сырая) земля, (темная) ночь; 2) у глаголов: формы ед. числа прош. времени и сослагательного накл., обозначающие отнесенность действия к имени (в 6 знач.) такого класса или к лицу женского пола, напр. зима наступила, дочь пришла (пришла бы)». Базарная баба «о грубой и крикливой женщине». Каменная баба «древнее каменное изваяние в виде человеческой фигуры». Снежная или снеговая баба «человеческая фигура, слепленная из комков снега». Баба с возу – кобыле легче «если кто-либо уйдет или откажется от чего-либо, то оставшимся будет от этого только лучше». Бабье лето «1. ясные, теплые дни в начале осени; 2. период расцвета женщины в зрелом возрасте». Бабушка (еще) надвое сказала (гадала) «1. еще неизвестно, сбудется ли предполагаемое, желаемое; 2. неизвестно, соответствует ли действительности то, о чем идет речь». Бальзаковский возраст «возраст женщины от 30 до 40 лет». Девичья память (шутл.) «о плохой памяти». Старая дева (разг.) «о немолодой девушке, не вступавшей в брачные отношения». Кисейная барышня (разг.) «жеманная девушка с мещанским кругозором». Телефонная барышня (устар.) «то же, что телефонистка». В чем (как) мать родила «1. прост. голый, без всякой одежды»; 2. без денег, средств к существованию». По-маминому (разг.) «1. по маминой воле, желанию; 2. так, как поступает мама». Мать честная! (разг.) «восклицание, выражающее удивление, радость, огорчение». Мать моя! (разг.) «то же, что мать честная». И на старуху (старушку) бывает проруха «и опытный, бывалый человек может ошибиться». Здравствуйте, я ваша тетя! (разг., шутл.) «выражение удивления и несогласия, насмешки по поводу чего-нибудь неожиданного». Домашняя хозяйка «женщина, которая нигде не служит, а занимается только домашним хозяйством, семьей». 214 Зоны номинативной парадигмы Фразеологическая зона Опорное слово Номинативные единицы ЖЕНЩИНА Жен-ск (ий) 1) «см. женщина»; 2) «такой, как у женщины, характерный для женщины». Жен-ственн (ый) «с качествами, свойствами женщины, мягкий, нежный, изящный». Красивая, изящная, пикантная, очаровательная женщина Добрая, сердечная, нежная, чуткая женщина Гордая, властная, самолюбивая женщина Вздорная, капризная, скандальная женщина Незамужняя, одинокая женщина Незнакомая женщина Замужняя женщина Любовь, уважение к женщине Любить, уважать женщину Ухаживать за женщиной Забота о женщине Извиниться перед женщиной Уступить место женщине Равноправие женщин и мужчин Женщина-мать. Женщина-врач Женщина рожает детей, сплетничает, убирает, стирает, ревнует, ругает мужа, заботится о семье, любит тратить деньги, следит за мужем, чинит одежду Светская, благородная дама Респектабельная, эффектная, элегантная дама Чопорная, церемонная дама Ухаживать за дамой Уступить место даме Дама сердца (о возлюбленной) Форма вежливого обращения: Дамы и господа! Бойкая, веселая, работящая баба Смазливая, пригожая баба Разбитная, взбалмошная, строптивая баба Смазливая, пригожая бабешка Верная, любящая, нежная жена Неверная, гулящая жена Хозяйственная, работящая жена Любить, ценить жену Заботиться, грустить о жене Ревновать жену Поссориться, помириться с женой Развестись с женой Законная супруга Преданная, верная, заботливая, внимательная супруга 215 Зоны номинативной парадигмы Словообразовательная зона Синтаксическая зона Опорное слово Номинативные единицы ЖЕНЩИНА В саду почти никого нет; какой-то пожилой господин... делает моцион для здоровья, да две... не дамы, а женщины, нянька с двумя озябшими до синевы в лице детьми (И. Гончаров. Обломов) Порою, особенно в гостях, среди чужих, она держала себя с нарочитой чопорностью, как светская дама высокого тона (К. Чуковский. Об Ахматовой) Женщина, ждавшая мужчину с Востока, не замечала холодного презрения школьных дам... и ухаживаний школьных рыцарей (О. Ермаков. Афганские рассказы) У другой бабы, молодой женщины лет двадцати пяти, глаза были красны и влажны (И. Тургенев. Касьян с Красивой Мечи) Женские умы – что татарские сумы (переметны). (Пословица) На женский нрав не угодишь (Пословица) На женские прихоти не напасешься (Пословица) Девичьи (Женские) думы изменчивы (Пословица) Женский обычай – слезами беде помогать (Пословица) Женское сердце, что котел кипит (Пословица) Женское сердце – что ржа в железе (Пословица) Женское слово, что клей, пристает (Пословица) Женская лесть без зубов, а с костьми сгложет (Пословица) Бабьи сборы – гусиный век (Пословица) Бабе дорога – от печи до порога (Пословица) Где баба, там рынок; где две, там базар (Пословица) Бабе хоть кол на голове теши (Пословица) У бабы семь пятниц на неделе (Пословица) С бабой не сговоришь (Пословица) Бабу не переговоришь (Пословица) За бабой покидай последнее словцо (Пословица) Стели бабе вдоль, она меряет поперек (Пословица) Баба пьяна, а суд свой помнит (Пословица) Бабьи-то промыслы, что неправые помыслы (Пословица) Баба, что глиняный горшок: вынь из печи, он пуще шипит (Пословица) Перекати-поле – бабий ум (Пословица) Бабий кадык не заткнешь ни пирогом, ни рукавицей (Пословица) Вольна баба в языке, а черт в бабьем кадыке (Пословица) Без плачу у бабы дело не спорится (Пословица) 216 Зоны номинативной парадигмы Синтаксическая зона Опорное слово Номинативные единицы ЖЕНЩИНА Курица не птица, а баба не человек (Пословица) Баба что мешок: что положишь, то и несет (Пословица) Баба – что жаба (Пословица) Баба да бес – один у (в) них вес (Пословица) Куда черт не поспеет, туда бабу пошлет (Пословица) Бабий быт – завсе бит (Пословица) Баба у меня – жена то есть – простая тоже (И. Тургенев. Несчастная) – Была у меня одна бабенка, пригоженькая (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей) Хитрая, лукавая бабешка из богатого высокого дома согласилась дать [молока] (Д. Фурманов. Мятеж) Муж да жена – одна сатана (Пословица) Жена – не рукавица, с белой ручки не стряхнешь (Пословица) Жена виновата искони бе (Пословица) Пойдемте, я представлю вас своей благоверной... – продолжал он, представляя доктора жене (А. Чехов. Ионыч) – Если пожелаете получать от нас харчи, милости просим, поговорим об этом с моей супружницей (В. Набоков. Дар) Нежный супруг сопутствует своей дражайшей половине..., заботливо охраняя ее от толчков (И. Кокорев. Фомин понедельник) – Характера русской женщины мы не учитываем... – продолжал полковник. – Русская баба, как ни смотри, по натуре своей однолюбка (С. Баруздин. Повести о женщинах) И женщина, которая была за рулем, предложила нас подвезти. Интересная дама! Впрочем, все женщины за рулем кажутся мне такими (А. Алексин. Здоровые и больные) – Какая ты баба! – вздохнул я. – Умная женщина, а бредишь, как нянька (А. Чехов. Шампанское) Ну и бабы же там, на рыбных промыслах!... Отличные бабы (К. Чуковский. Дневник) Там [в городе] я вдоволь насмотрелся на этих женщин... – А если война? Что тогда с этих женщин? Слезы лить да помирать. В той войне нам наполовину бабы помогли победить. А теперь уж и баб-то не остается (В. Распутин. Последний срок) 217 Зоны номинативной парадигмы Синтаксическая зона Текстовая зона Опорное слово Номинативные единицы ЖЕНЩИНА Еще есть другая загадочная личность – это тетя, которая подарила Грише барабан. Она то появляется, то исчезает (А. Чехов. Гриша) Пиши мне..., не стесняйся. Ведь ты можешь писать мне все, что угодно, потому что ты жена, супруга (А. Чехов. Письма) Она мне не жена! – резко ответил Башилов. – Хорошо еще, что вы не сказали «супруга»... – Она – все! Вся моя жизнь (К. Паустовский. Дождливый рассвет) – По сердцу я нашла бы друга, Была бы верная супруга и добродетельная мать (А. Пушкин. Евгений Онегин) [Лаптева] стесняло то, что она [Юлия] уже готовится к роли «верной и преданной» жены, – скорее супруги, чем жены, – и даже обнимая ее и испытывая восторг, он не мог забыть, что она его не любит (А. Чехов. Три года) Так у вас, оказывается, супруга-то... – спохватившись, после долгого молчания начинает Иван. – Жена, а не супруга, – посмеиваясь, тихо поправляет капитан-лейтенант. Супруга – это слишком, как бы сказать, парадно (Н. Мамин. Знамя девятого полка) Зоны номинативной парадигмы Текстовая зона Таким образом, номинативное поле концепта строится из ключевого слова-репрезентанта, его синонимического ряда, единиц, выявленных в художественных и публицистических текстах, фразеологических единиц, лексико-фразеологического, деривационного, паремиологического полей ключевого слова-репрезентанта концепта [Попова, Стернин 2007, с. 186]. Если номинативная сторона, представляющая языковое сознание, состоит из номинативных парадигм: опорных слов – номинативных единиц – зон номинативных парадигм (лексическая, фразеологическая, словообразовательная, синтаксическая, текстовая), то когнитивная сторона, представляющая когнитивное сознание, включает понятийную категорию и систему концептов, которые затем вербализуются номинативной стороной. 218 Фрагмент когнитивно-номинативной парадигмы понятийной категории «пол» Когнитивная сторона (когнитивное сознание) ПоняСистема тийная концептов категория Женщина: 1. «лицо, противоположное мужчине по полу, та, которая рожает детей и кормит их грудью». 2. «лицо женского пола, вступившее в Пол брачные отношения» Мужчина: 1. «лицо, противоположное женщине по полу». 2. «такое взрослое лицо, в отличие от мальчика, юноши» Номинативная сторона (языковое сознание) Номинативные парадигмы Зоны Опорные Номинативслова ные единицы номинативной парадигмы: 1) женщина, лексическая лицо женско- фразеологическая го пола, дама, словообразовательная дамочка, баба, синтаксическая бабенка, батекстовая (см. выше) бешка, жена, телка, тетка, тетенька, тетя, слабый пол, Женщина дочь дьявола; 2) жена, супруга, благоверная, половина, подруга, спутница жизни, супружница, хозяйка, баба, жинка, женка 1) мужчина, муж, лицо мужского пола, мужик, сильный пол, дядя, дядька; Мужчина 2) муж, супруг, благоверный, половина, спутник жизни, супружник, хозяин, мужик Данный фрагмент когнитивно-номинативной парадигмы «пол» представляет собой объединение номинативных парадигм с категориально сгруппированными опорными словами женщина и мужчина. В когнитивной части общая категория «пол» представлена концептами «женщина» и «мужчина». Когнитивный классификационный признак «пол» конкретизируется в структуре 219 соответствующих концептов «женщина» и «мужчина» дифференциальными когнитивными признаками «мужской пол» и «женский пол». В языковой части за концептами идут выражающие их слова, которые выполняют роль опорных слов. А опорные слова объединяют номинативные парадигмы. Проведенный семантико-когнитивный анализ позволил исследовать концепт «женщина» через значения номинирующих их языковых единиц, так как номинация выступает основным средством материализации языкового сознания. Литература Горбачевич К.С. Словарь синонимов русского языка. – М., 2006. Даль В.И. Пословицы русского народа. – М., 1957. Евгеньева А.П. Словарь синонимов русского языка. – М., 2007. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М., 1989. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. – М., 2007. Словообразовательный словарь русского языка для школьников. – М., 2004. Фразеологический словарь русского языка для учащихся. – М., 2005. 220 Мандрикова Галина Михайловна (Россия, Новосибирск; д.ф.н., зав. кафедрой филологии Новосибирского государственного технического университета) [email protected] Что такое коммуникативная власть? Власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Ф.М. Достоевский Мы привыкли к тому, что в процессе коммуникации часто играем роли «подчиняющего» и «подчиняющегося», то есть сталкиваемся с ситуацией проявления так называемой коммуникативной власти. Это явление еще недостаточно изучено в лингвистике, но, несомненно, «является объектом исследовательского интереса для ученых – представителей гуманитарных наук – социологии, психологии, философии, политологии» [Копылова 2007, с. 162], а также таких наук, как теория коммуникации, риторика, психолингвистика и др. Проведенный анализ исследовательской литературы показал, что разные исследователи вкладывают в «коммуникативную власть» разное содержание. Так, это понятие было определено Е.И. Шейгал и И.С. Черватюк как «специфический набор прав – прав на осуществление определенных речевых действий, на употребление того или иного типа языковых единиц, на определенный тип коммуникативного поведения, а также на право распоряжаться коммуникативными действиями партнера по общению» [Шейгал, Черватюк 2007, с. 63–64]. Таким образом, основными признаками коммуникативной власти, по мнению данных авторов, являются следующие: а) коммуникативная власть принадлежит определенной личности, но сама по себе не возникает; б) это определенные права, которыми личность наделена и которыми может пользоваться в той или иной ситуации; в) набор этих 221 прав специфичен, не каждый человек обладает ими и, следовательно, способен проявлять коммуникативную власть по отношению к другим. Эти признаки особенно проявляются в умении распоряжаться коммуникативными действиями партнера по общению: не всякая личность способна повлиять хотя бы на одного человека, не говоря уже о большом количестве собеседников. Так возникает термин «коммуникативный лидер» (Е.И. Шейгал и И.С. Черватюк): «...коммуникативный лидер обладает свободой выбора из набора вариативных средств, предлагаемых языком на каждом этапе общения» [Шейгал, Черватюк 2007, с. 64]. Из этого следует, что человек, проявляющий власть в коммуникации, должен обладать качествами лидера, а тот человек, который под этой властью находится, таковыми обладать не будет или обладает в меньшей степени. Заметим, что человек, находящийся в данной речевой ситуации в зависимой позиции, не обязательно будет занимать такую позицию в другое время в другой коммуникативной ситуации. То есть мы должны говорить о степени обладания качествами лидера: в одной ситуации их может быть достаточно, в другой – уже нет, и тогда коммуникативные роли будут меняться, например: Ситуация деловой игры. А: Я предлагаю петь! Давайте петь, ведь никто не говорил, что именно делать! В: Не думаю... Все поют.(прошло некоторое время) В: Так, хватит петь уже! Мы так никогда отсюда не выберемся! Надо звать на помощь! Все: Помогите! Диспетчер! Обладание коммуникативной властью не является постоянным свойством языковой личности. Чем более целесообразную для слушающих информацию сообщает говорящий, тем более велика вероятность осуществления этим говорящим коммуникативной власти. Но если появляется еще более важная и подходящая информация от другого адресанта, то коммуникативная власть может перейти к новому лидеру. Обратимся к исследованиям Р. Блакара, который рассматривает речевое взаимодействие в определенных социальных сферах. Автор выделяет не само интересующее нас понятие «коммуникативная власть», а инструменты власти, определяя их как выбор слов и выражений, позволяющий выразить свое отношение к референту, создание новых слов и выражений, выбор определенной грамматической формы, влияние суперсегментных и композиционных 222 характеристик высказывания [Блакар 1987]. Из этого следует, что коммуникативную власть стоит понимать как умение пользоваться приведенными выше инструментами в ситуации общения. Использование названных Р. Блакаром инструментов часто происходит на подсознательном уровне, однако и целенаправленное употребление тех или иных инструментов также имеет место, что подтверждается активным функционированием различных тренингов и курсов по обучению коммуникативному лидерству. Рассматривая понятие коммуникативной власти, необходимо привлечь работы О.С. Иссерс. Автор изучает проблему речевого воздействия, лишь косвенно затрагивая коммуникативную власть. В сущности, два этих понятия О.С. Иссерс объединяет и, рассуждая об инструментах данных типов коммуникации, часто подменяет одно понятие другим. Например, глава, посвященная описанию языковых инструментов воздействия, называется «Языковые “инструменты власти”», а далее следуют рассуждения о влиянии на «понимание сущности процессов речевого воздействия» способов осуществления этого воздействия [Иссерс 2002]. Как уже было сказано, четкого определения коммуникативной власти в соответствующей литературе найти не удалось, хотя отдельные авторы так или иначе касаются этого понятия в своих исследованиях, посвященных различным аспектам коммуникации. Так, Н.В. Муравьева, описывая причины коммуникативных конфликтов, выделяет такой критерий распределения ролей, как «правило влиятельности». Автор пишет: «В ситуации общения знаком авторитета является право быть источником информации, а также изменять позицию собеседника» [Муравьева 2002, с. 60]. Вышесказанное соотносится с мыслью, высказанной Е.И. Шейгал и И.С. Черватюк, о том, что власть – это право, обусловленное различными факторами. Одним из таких факторов, на наш взгляд, и будет выделенный Н.В. Муравьевой авторитет человека, его влиятельность. В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин также не говорят напрямую о понятии «коммуникативная власть», касаясь обсуждаемой нами проблемы через понятие запрета и его нарушения: «В системе ценностей любого общества существуют запреты на совершение определенных действий», значит, нарушая те или иные запреты, человек будет проявлять свою власть [Карасик, Слышкин 2005, с. 17]. В связи с затронутой проблемой системы ценностей и запретов обратимся к понятию лингвокультурного контекста. Смысл такого обращения видится нам в том, что именно лингвокультурный контекст определяет возможности возникновения тех или 223 иных проявлений власти в данном обществе. Например, ситуация «начальник – подчиненный» во французской лингвокультуре не требует отличных от повседневных проявлений вежливости, тогда как в российском обществе такая ситуация является особой ситуацией, в которой социальные статусы очень явно различаются и проявление вежливости будет иным, нежели в обычной жизни. Также в сферу понятия «лингвокультурный контекст» входит определение тех речевых действий, которые в данном обществе являются запрещенными. Нарушая подобные запреты, человек проявляет свою власть в коммуникации: если какой-либо запрет нарушит человек, обладающий определенным влиянием в данном обществе, то никаких пагубных последствий для нарушителя не наступит. Если то же самое попытается осуществить человек, таким влиянием не обладающий, то скорее всего его действия подвергнутся осуждению в обществе. Рассмотрев различные взгляды, близкие понятию «коммуникативная власть», а также выявив важность такого фактора, как лингвокультурный контекст, мы пришли к нескольким выводам. Во-первых, соглашаясь с Е.И. Шейгал и И.С. Черватюк, считаем, что коммуникативная власть – это набор прав, которым может обладать человек. Но степень владения этими правами у разных людей будет разной, что, несомненно, дает возможность быть или не быть коммуникативным лидером. Во-вторых, по Р. Блакару, существуют различные лингвистические инструменты власти, которыми личность пользуется как сознательно, так и бессознательно. В-третьих, немаловажным для рассматриваемой нами проблемы является «правило влиятельности» (Н.В. Муравьева), которое определяет для каждого человека конкретные возможности в проявлении власти. В-четвертых, понятие коммуникативной власти тесным образом связано с нарушением определенных коммуникативных запретов, что обусловливается лингвокультурным контекстом. Обобщив сделанные выводы, попытаемся дать определение понятию «коммуникативная власть» – это специфический набор прав личности, умеющей пользоваться определенными лингвистическими инструментами для осуществления власти над собеседником, личности, обладающей влиятельностью в данном социуме или конкретной ситуации; данный набор прав определяется лингвокультурным контекстом и правилами, установленными в данном обществе. Когда человек вступает в коммуникативные отношения, он принимает на себя определенную роль, которая в данной конкретной ситуации может быть обусловлена различными фактора224 ми, например, возрастом участников общения, социальным статусом каждого из них, часто – внушительными внешними данными и др. Несомненным является и тот факт, что владение речевыми инструментами и манера произнесения слов влияют на позицию, занимаемую тем или иным участником коммуникативного акта, а также на то, как эта позиция в ходе общения может меняться. Причем меняться она может как стихийно, так и под воздействием кого-либо из участников коммуникации. Такую перемену обычно называют результатом речевого воздействия. Речевое воздействие, по О.Ю. Найденову, это «регуляция психической деятельности адресата и отправителя, их социальной деятельности в акте речевой коммуникации через изменение установок, вызываемое в результате восприятия / порождения текста» [Найденов 2000, с. 7]. Таким образом, при взаимодействии адресата и адресанта адресат изменяет какие-либо установки и эти изменения принимаются адресантом. Цель речевого воздействия – с помощью речи убедить собеседника «сознательно принять нашу точку зрения» [Стернин 2003, с. 12], т.е. изменить мнение, позицию по тому вопросу, который затрагивается в ходе коммуникации. Давая определение коммуникативной власти, мы обратили внимание на сходство данного понятия с понятиями «речевое воздействие» и «манипуляция». Следовательно, необходимо выяснить, что такое коммуникативная власть – один из вариантов существующих явлений или иной феномен? Коммуникативная власть и речевое воздействие. Еще раз вспомним признаки коммуникативной власти: она принадлежит определенной личности, наделенной специфическими правами, которыми может пользоваться в различных ситуациях, но обладать этими правами может не каждый человек. Речевое воздействие большинством лингвистов понимается как любое речевое общение, направленное на регуляцию действий собеседника. Итак, первым отличием коммуникативной власти от речевого воздействия будет наличие специфических прав у определенной личности, тогда как речевое воздействие может осуществить любой носитель языка. Вторым критерием различения двух понятий является определение цели осуществления коммуникативного акта. Цель речевого воздействия, как уже было обозначено, – с помощью речи убедить собеседника «сознательно принять нашу точку зрения»; цель коммуникативной власти – доказать ту власть, которую данный индивид имеет в речевой ситуации над другим, для того чтобы добиться своей цели (материальной или моральной). 225 Отсюда следует, что речевое воздействие является более мягким, нежели коммуникативная власть. «Эффективное речевое воздействие – это такое воздействие, которое позволяет говорящему достичь поставленной цели и сохранить баланс отношений с собеседником (коммуникативное равновесие), то есть остаться с ним в нормальных отношениях, не поссориться» [Стернин 2001, с. 67]. В ситуации проявления коммуникативной власти редко можно наблюдать такое взаимодействие собеседников, при котором ставится цель «не поссориться». Коммуникативный лидер имеет «право распоряжаться коммуникативными действиями партнера по общению (принуждать к определенным действиям, ограничивать его вклад в коммуникацию, навязывать определенный тип коммуникативного поведения, исполнение определенных коммуникативных ролей и т.д.)» [Шейгал, Черватюк 2007, с. 64], следовательно, так или иначе один из участников коммуникации находится в такой позиции, в которой за него делает выбор тот, кто обладает коммуникативной властью. Рассмотрев понятия «коммуникативная власть» и «речевое воздействие», можно сказать, что они различаются 1) наличием / отсутствием определенных прав на проявление власти и 2) коммуникативными целями. Таким образом, речевое воздействие и коммуникативная власть – это два различных феномена в сфере коммуникации. Коммуникативная власть и манипулирование. Проблемы манипулирования сознанием стали особенно популярными после выхода перевода книги Э. Шостром «Анти-Карнеги: Человекманипулятор» [1992], в которой автор рассуждает о продуктивной и непродуктивной манипуляции. Ориентируясь на такое разделение, можно соотнести коммуникативную власть с двумя приведенными типами манипуляции. Непродуктивная форма манипулирования направлена на то, чтобы вызвать у личности «внутренний конфликт... между ее направленностью и объективными возможностями, с которыми личность не согласна» [Платонов 1984, с. 162]. Коммуникативная власть такой направленности не имеет. Если все же дискомфорт возникает, то скорее всего он будет носить не преднамеренный характер, а спонтанный, зависящий от психического состояния адресата (например, преподаватель отправляет студента на пересдачу; студент может отреагировать нейтрально – согласиться и уйти, а может вспылить, заплакать и проч.). Продуктивная форма манипулирования имеет своей целью «расположить к себе коммуникативного партнера, используя его слабости» [Седов 2003, с. 23]. Коммуникативная власть чаще все226 го направлена не на расположение собеседника к себе, а на реализацию тех прав, которыми обладает личность, проявляющая коммуникативную власть. Вышестоящий ограничивает коммуникативный вклад нижестоящего, и «коммуникативное поведение нижестоящего полностью соответствует ожидаемой реакции на властный ход» [Шейгал, Черватюк 2007, с. 66], то есть слабости собеседника заранее определены как для властвующего, так и для подвластного, например: Ситуация на остановке общественного транспорта. Подъезжает маршрутка. Двое крепких парней рвутся через толпу и кричат: «Впереди два заняты!» Остальные не садятся вперед, пропускают этих парней, те садятся на передние места. Следовательно, коммуникативная власть отличается от продуктивной манипуляции своей предсказуемостью и отсутствием цели расположения к себе собеседника. Манипуляция и коммуникативная власть схожи по такому признаку, как направленность на выполнение собеседником какого-либо действия. Коммуникативная власть – открытое проявление своего намерения, заявление о своих целях в определенной ситуации (ситуация «преподаватель – студент»). Манипуляция – скрытое воздействие, заставляющее партнера по общению неосознанно выполнить то, чего хочет адресант (см.: [Грайс 1985, Стернин 2001, Шейнов 2002]). Рассмотрение явления коммуникативной власти невозможно без учета информации о социальном положении носителя языка. В.И. Карасик дает такое определение понятия «социальный статус»: «...термином с о ц и а л ь н ы й с т а т у с обозначается... соотносительное положение человека в социальной системе, включающее права и обязанности и вытекающие отсюда взаимные ожидания поведения» [Карасик 2002, с. 5]. Статус, так же как и коммуникативная власть, сам по себе не возникает, это п р и о б р е т а е м а я категория. Выбирая профессию, место работы, налаживая деловые связи, человек достигает определенной социальной значимости и занимает свое место в коммуникативной среде. По В.И. Карасику, «без учета социального статуса участников общения само по себе общение носит искусственный либо провокационный характер» [Там же, с. 6], то есть, не учитывая социального статуса, мы не сможем полностью оценить ситуацию общения, не поймем предпосылки и условия общения. Социальный статус играет большую роль в межличностном взаимодействии, так как предполагает некие рамки общения, определяя тем самым возможности для каждого из участников коммуникации. В ситуации коммуникативной власти – это право 227 проявлять ее, право пользоваться теми или иными инструментами власти, или наоборот – отсутствие таких прав. Примером здесь может послужить общение в ситуации «начальник – подчиненный» (правда, не для всех культур), когда начальник имеет право на распоряжение коммуникативными действиями подчиненного, не рискуя при этом лишиться должности, в то время как подчиненный таких прав не имеет, а вот получить выговор или навлечь на себя неудовольствие со стороны начальника может. Статус при проявлении коммуникативной власти может выступать в различных своих разновидностях. Е.Д. Поливанов отмечает существование помимовольного статуса человека [1968] и намеренного. Помимовольный статус – это совокупность всех вербальных выражений, из которых складывается коммуникативная позиция человека. Намеренный статус – это стилизация речи по модели поведения какой-либо социальной группы. Нас интересует помимовольный статус – ведь именно такой статус и показывает, какой степенью коммуникативной власти обладает коммуникант, например: Ситуация общения студентов между собой в группах: А: Нам нужно составить вопросы другим группам. О чем будем спрашивать? В: Давайте спросим про этическую сторону искусства! А: Нет, зачем?! Мне эта тема кажется неинтересной, давайте лучше про психологическое содержание произведения! Группа соглашается со студентом А, который по своей природе является человеком со взрывным характером, громким голосом, всегда настаивающим на своем. Статус этого человека помимовольный, поскольку в обществе к нему прислушиваются благодаря его активности в общении. Студент В такими качествами не обладает, не привлекает к себе внимания, значит его помимовольный (ведь скорее всего такое положение его не устраивает) статус здесь ниже, чем у студента А. Коммуникативная власть – это ситуативное явление, то есть, если в одной ситуации коммуникант не сможет проявить власть, то в другой, возможно, ему это удастся. Социальный статус также можно рассматривать как ситуативную, т.е. изменчивую категорию. Это подтверждается тем, что «социальный» означает «общественный», а общество, в котором носитель языка может оказаться в ситуации проявления коммуникативной власти, всегда различно. Например, бизнесмен на работе распоряжается подчиненными, дает указания, руководит процессом: Так, Иванова ко мне, пусть с отчетом разберется! Так, Петрова, что это та228 кое? Почему пробелы? Придя домой, он встречает свою жену, но ею командовать он уже не может. Она в данной ситуации обладает более высоким социальным статусом, поскольку в семье ее авторитет выше, чем у мужа: Так, пришел? Давай бегом руки мыть! Иди с собакой погуляй! Я устала, надо посуду помыть! Таким образом, попадая в различную коммуникативную среду, человек меняет свой статус, значит и способность проявлять коммуникативную власть. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что проявление коммуникативной власти зависит от социального статуса коммуниканта, а также от наличия качеств, этим статусом определяемых. Но следует также отметить, что социальный статус участников общения известен не всегда, а ситуация коммуникативной власти все же имеет место. В этой связи следует назвать такой важный для ситуации власти аспект, как коммуникативное лидерство. В.В. Богданов раскрывает понятие «коммуникативное лидерство» следующим образом: «Коммуникативный лидер – это человек, который обладает нетривиальной информацией с точки зрения данной ситуации общения, умеет выразить эту информацию в наилучшей форме и довести ее до сведения адресата посредством оптимального языкового контакта» [Богданов 1990, с. 30]. В этом определении можно выделить те качества, которые близки человеку, проявляющему коммуникативную власть, – право выражения информации и донесение ее до слушающего, а не наоборот (слушающий до говорящего). Залогом лидерства и правом влияния на внимание и точку зрения слушающего является обладание информацией, распоряжение ею в своих коммуникативных целях. Е.И. Шейгал отмечает: «Слово первоначально было командой для других (первые протовысказывания, предположительно, были императивами). Первобытный лидер воспринимается как источник авторитетного Слова, значимого для выживания группы. Неудивительно, что слово лидера и в современном обществе обладает особым авторитетом и служит мощным инструментом социальной власти» [Шейгал]. Согласимся с таким замечанием, поскольку в рамках проблемы коммуникативной власти такие понятия как «авторитет», «императивы» и проч. играют важную роль при выявлении причин и условий возникновения ситуации власти вообще. Словарь современного русского литературного языка среди предлагаемых значений лексемы «лидер» дает следующее: «тот, кто пользуется наибольшим авторитетом, влиянием в каком-либо 229 коллективе, группе лиц / тот, кто добился наибольших успехов, первенствует, превосходит других в какой-либо сфере» [БАС 2007, с. 185], то есть человек, обладающий перечисленными качествами лидера, способен открыто проявлять коммуникативную власть, причем бесспорно принимаемую остальными участниками общения как истину, например: Ситуация деловой игры среди студентов. Задается тема обсуждения. Начинается работа в группах. А: Давайте все по порядку. Сколько у нас есть волонтеров? (другие начинают перебивать, перекрикивать) А: Так, друзья, давайте не будем ругаться. Выслушайте мой вариант (все затихают). Я предлагаю дать возможность людям с активной гражданской позицией ее проявить. То есть предлагать состоять в патруле тем, кто видит в этом свой долг. Надо указать людям на то, что они будут ПОМОГАТЬ! В рассмотренной ситуации, по нашему мнению, человек обладает качествами коммуникативного лидера: он смог применить нужное обращение (друзья), заинтересовать собеседников чем-то необычным (дать возможность), то есть в данном конкретном случае проявить по отношению к остальным участникам общения коммуникативную власть. Говоря о речевом воздействии, О.С. Иссерс отмечает связь феномена речевого воздействия с целевой установкой говорящего: «Быть субъектом речевого воздействия – значит регулировать деятельность своего собеседника» [Иссерс 2002, с. 21]. В ситуации проявления коммуникативной власти мы можем наблюдать подобное в отношении коммуникативного лидера: лидер обладает правом ставить определенные цели и добиваться их через влияние на слушающего, а также, как уже было сказано, регулировать не только действия, но и высказывания собеседника, например: Мама отправляет дочку на собеседование для устройства на новую работу: «Так, чтобы все удалось, скажи, что денег больших не требуешь, что согласна на 12-часовой рабочий день. И не забудь спросить про расходы на транспорт!» Как можно видеть, мать в силу возраста, опыта дает распоряжения дочери, что и как сказать начальнику, то есть она ставит определенные цели и посредством указания на правильные языковые единицы побуждает дочь использовать именно их. Коммуниканты, обращаясь друг к другу, определяют возможность устанавливать контакт. Н.В. Муравьева определяет три правила, на наш взгляд, помогающие выяснить, кто в ситуации 230 общения будет коммуникативным лидером: 1) правило коммуникативной инициативы, 2) правило влиятельности и 3) правило представительства [Муравьева 2002]. Правило коммуникативной инициативы говорит о том, что «потребность в общении может проявляться вовне в разной степени» [Там же, с. 60] у разных людей и в зависимости от ситуации, следовательно, из этого правила можно вывести такое положение: каждый человек в зависимости от своих потребностей в общении и от возможностей его поддерживать может быть или не быть коммуникативным лидером. «Правило влиятельности имеет характер взаимного соглашения, и это соглашение может удостоверять равные или неравные возможности быть влиятельным и для адресата, и адресанта», – отмечает Н.В. Муравьева. Правило представительства оперирует понятием «открытости» человека, его искренности, откровенности, желании «показать собственную позицию, свое видение мира и языка» [Там же]. Именно последнее толкование открытости представляется важным при исследовании феномена коммуникативной власти и проявления коммуникативного лидерства. Человек, открытый к обмену информацией, которой он обладает, чаще всего склонен четко обозначать свою позицию по тому или иному вопросу или вообще позицию в обществе. Это можно заметить при описании ситуаций, касающихся общения людей с разными социальными статусами. Коммуникативный лидер – это человек, мнение которого является авторитетным, тот, к кому прислушиваются. Такой носитель языка способен проявлять коммуникативную власть, он обладает для этого практически всеми необходимыми качествами. Власть для лидера – это нечто ему внутренне присущее, то, что может проявиться в любой ситуации общения. Стоит также отметить, что в разных ситуациях с участием одних и тех же коммуникантов лидер может меняться, например: Деловая игра. Все находятся в равных условиях, но по заданию необходимо выбрать лидера. Первый раз лидером становится человек, который предложил лучшую тему проекта. В следующий раз лидером стал человек, предложивший наиболее разумный и рациональный способ разрешения проблемы. Таким образом, коммуникативный лидер – обладает информацией и правом доступно передать ее собеседнику; – своими речевыми действиями способен вести за собой остальных участников общения; – ставит цели и добивается их; 231 – является непосредственным участником ситуации коммуникативной власти. При этом в разных ситуациях лидерство может переходить от одного коммуниканта к другому. В качестве вывода можно сказать, что проблема коммуникативной власти остается во многом дискуссионной, пока она, скорее, заявлена в качестве актуальной на современном этапе изучения особенностей процесса коммуникации. Коммуникативная власть – это языковой феномен, отличающийся от таких явлений, как речевое воздействие и манипуляция, во-первых, необходимостью для адресанта обладать специфическими правами на проявление коммуникативной власти; во-вторых, целью проявления – доказав свою власть, добиться личной выгоды; в-третьих, открытостью и предсказуемостью, т.е. адресат видит и осознает намерения адресанта. Проявление коммуникативной власти зависит от социального статуса коммуниканта, а также от наличия качеств, этим статусом определяемых. Но наиболее интересным в исследовательском отношении мы считаем проявление коммуникативной власти в тех ситуациях, когда социальный статус участников общения неизвестен / не определен. Коммуникативное лидерство – важное понятие, которое следует рассматривать в рамках изучения проблемы проявления коммуникативной власти как обусловливающее распределение ролей между участниками общения. Литература Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального взаимодействия. – М., 1987. – С. 88–125. Богданов В.В. Коммуникативная компетенция и коммуникативное лидерство // Язык, дискурс и личность. – Тверь, 1990. Большой академический словарь русского языка / Под ред. К.С. Горбачевича. – М.–СПб., 2007. – Т. 9. (БАС). Грайс П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. М, 1985. – Вып. XVI. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. – М., 2002. Карасик В.И. Язык социального статуса. – М., 2002. Карасик В.И., Слышкин Г.Г. Запрет и нарушение запрета как коммуникативные действия // «Злая лая матерная...»: Сб. статей / Под ред. В.И. Жельвиса. – М., 2005. – С. 17–34. Копылова Н.В. Стратегическое взаимодействие говорящих в условиях реализации отношений власти и подчинения (на материале диалогов) // 232 Прагмалингвистика и практика речевого общения: Сб. научн. тр. международной научной конференции (24 ноября 2007 г.). – Ростов н/Д, 2007. Муравьева Н.В. Язык конфликта. – М., 2002. Найденов О.Ю. Прагматические аспекты оптимизации речевого воздействия печатных средств массовой коммуникации (на материале торговой рекламы в российских печатных изданиях): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М, 2000. Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. – М., 1984. Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию. – М., 1968. Седов К.Ф. О манипуляции и актуализации в речевом воздействии // Проблемы речевой коммуникации: межвузовский сб. научн. тр. / Под ред. М.А. Кормилицыной. – Саратов, 2003. Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. – Воронеж, 2001. Стернин И.А. Практическая риторика: Учебное пособие. – М., 2003. Шейгал Е.И. Власть как концепт и категория дискурса // Электронный ресурс: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/scheig_vlast.php]. Шейгал Е.И., Черватюк И.С. Типы жанров и градация коммуникативной власти // Жанры речи: Сб. научн. ст. – Саратов, 2007. – Вып. 5: Жанр и культура. – С. 63–81. Шейнов В.П. Психология влияния. – М., 2002. Шостром Э. Анти-Карнеги, или Человек-Манипулятор. – М., 1992. 233 Милованова Мария Станиславовна (Россия, Москва; д.ф.н., проф. кафедры общего и русского языкознания Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] Пушкин и Ахматова: синтаксические параллели Ахматова – пушкинист, что в данном случае означает не только и не столько исследование жизни и творчества Пушкина, но любовь к Пушкину, глубокое восприятие его поэтических традиций, его видения и ощущения мира. По словам Б. Эйхенбаума, «лаконизм и энергия выражения – основные особенности поэзии Ахматовой» [Эйхенбаум 2001, с. 493], что по сути является продолжением и развитием мысли А.С. Пушкина о выразительной краткости повествования. Б. Эйхенбаум прямо считал именно синтаксис индивидуальной особенностью стиля Ахматовой [Там же, с. 496]1. Приемы и средства, освоенные, введенные и узаконенные Пушкиным для создания энергичной, логически прозрачной прозы2, наследует Анна Ахматова и переносит их в текст малой формы – лирического стихотворения. Это недлинные, неразвернутые предложения, быстрая смена фраз (ср. пушкинское хрестоматийное: Колокольчик зазвенел, лошади тронулись, кибитка понеслась), переход предложения на новую строку (часто – в варианте точки перед концом строки), что придает поэтической речи разговорный, «прозаический» характер: Казалось мне, что туча с тучей / Сшибется гдето в высоте...; Бессмертник сух и розов. Облака / на свежем небе 1 Далее Б. Эйхенбаум развивает эту мысль: «Недаром подражателей Ахматовой узнаешь не столько по словам, сколько по синтаксису» [Эйхенбаум 2001, с. 496–497]. 2 Любопытно замечание Л.Н. Толстого (Дневники, 31 октября 1853): «Повести Пушкина голы как-то». 234 вылеплены грубо...; Я очень спокойная. Только не надо / со мною о нем говорить...; Для детей, для бродяг, для влюбленных / Вырастают цветы на полях... Однако представляется, что характерным синтаксическим приемом, унаследованным Ахматовой от Пушкина, становится присоединение1. О сути и характере этого явления В.В. Виноградов пишет в работе «Стиль Пиковой дамы»: «Смысловая связь основана не на непосредственно очевидном логическом соотношении сменяющих друг друга предложений, а на искомых, подразумеваемых звеньях, которые устранены повествователем, но лишь благодаря которым стало возможно присоединение» [Виноградов 1936, с. 140]. Ахматова воспринимает сам способ синтаксического построения – присоединение, оформленное сочинительными союзами, однако в ее творчестве находит отражение не логика собственно мысли, как у Пушкина, а логика мысли о чувстве («логика чувства»), его движении и развитии: «формы логические вступают в своеобразное сочетание с формами эмоциональными» [Жирмунский 2001, с. 718]. Именно в логических формах синтаксической связи, показателем которой становятся союзы (многосоюзие), В.М. Жирмунский видит основу композиции ее стиха. Такие синтаксические конструкции в лирике Ахматовой В.М. Жирмунский охарактеризовал как «логический синтаксис»2. В.В. Виноградов, не принимая термина «логический синтаксис», в книге «Поэзия Анны Ахматовой» раскрывает и детализирует именно эту чрезвычайно важную мысль В.М. Жирмунского – о внешних логических формах и диссонирующим с ними внутренним содержанием. Для описания случаев нарушения логических связей, представляющих собой некоторое несоответствие, В.В. Виноградов всякий раз находит новые определения: «логически контрастная связь», «эффектная антитеза», «контрастная внезапность», «резкость переходов», поэтическая манера Ахматовой «контрастно-обрывна», «диссонансно-лаконична» и т.д. 1 Современный исследователь синтаксиса романа «Евгений Онегин» Л.Д. Беднарская примеры присоединения (союзного и не только) рассматривает в параграфе «Прерванный текст» [Беднарская 2008, с. 116], но, на наш взгляд, именно термин присоединение, внутренняя форма которого подчеркивает не разрыв, а связь – дополнительную связь, – является наиболее подходящим, раскрывающим восприятие мира обоими поэтами. 2 В.М. Жирмунский впервые так определил специфику построения лирических стихов Анны Ахматовой в работе «Валерий Брюсов и наследие Пушкина» [Жирмунский 1922, с. 100]. 235 Внимание В. Жирмунского (1, 2) и В.В. Виноградова (3, 4) привлекают объединенные союзом, однако семантически трудно сочетающиеся фрагменты стихотворного текста: О, как сердце мое тоскует! Не смертного ль часа жду? А та, что сейчас танцует, Непременно будет в аду. (1) И я стану – Христос помоги! – На покров этот светлый и ломкий. А ты письма мои береги, Чтобы нас рассудили потомки... (2) Бухты изрезали низкий берег, Все паруса убежали в море, А я сушила соленую косу За версту от земли на плоском камне. (3) Все как раньше: в окна столовой Бьется мелкий метельный снег, И сама я не стала новой, А ко мне приходил человек... (4) По словам В.М. Жирмунского, «употребление союза а в случаях мнимого логического противопоставления выражает неожиданный капризный поворот мысли» [Жирмунский 2001, с. 718]. Для самой же героини это естественный ход мысли – не нелогичной, просто иной по своему характеру, основанием которой является не противоречие, а соединение. Это не бессвязность, как может показаться вначале, но связь, основанная на других принципах – включения в один ряд кажущихся разнородными предметов и явлений, однако объединенных одной мыслью – о любви и о любимом человеке. Это предчувствия, ассоциации, воспоминания. В.В. Виноградов подобные противоречия объясняет особенностью восприятия мира лирической героини Ахматовой [Виноградов 1925, с. 81]. Такое соединение элементов, с позиции современного ratio не способных к соединению, «обусловливает остроту восприятия стихов Ахматовой» [Виноградов 2001, с. 325]. Собственно, синтаксическая композиция ее стихов – это проявление диахронии в синхронии1, это наивный взгляд на мир в современную эпоху раз1 Элементы пралогического мышления (Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. – М., 1930), в основе которого принцип партиципации (сопричастности = приобщения, включения), можно обнаружить в детской речи. 236 витого логического мышления, в основе которого обязательные оппозиции – дихотомии, антиномии и пр. При таком «несвоевременном» характере мысли ведущим приемом становится присоединение; сигналом присоединения – многочисленные сочинительные союзы и, а, но; актуализирующей присоединение позицией – начало нового, структурно самостоятельного предложения, открывающего строку, строфу или даже стихотворение. Причем присоединительная функция не может нейтрализовать семантические тонкости каждого союза, и даже при возможной взаимозамене каждый из союзов сохраняет свое оттеночное значение. Однако идеальным воплощением присоединения как абсолютной связи становится союз а – на необыкновенную частотность его употребления неоднократно обращали внимание первые исследователи творчества Ахматовой [Жирмунский 2001(б), с. 115–116; Жирмунский 2001, с. 717; Эйхенбаум 2001, с. 497–498; Виноградов 1925]. У Ахматовой союз а синкретичен настолько, насколько ему было свойственно, например, в эпоху создания «Слова о полку Игореве» [Колесов 1995, с. 60], и может быть равен по значению современным союзам и, да, но. Ахматовский союз а один может охватить весь спектр значений, представленных в современном русском языке другими сочинительными союзами, и при этом универсален в выполнении главной роли – присоединения: Вместо мудрости – опытность, пресное, / Неутоляющее питье. / А юность была – как молитва воскресная... / Мне ли забыть ее?; Но звезды синеют, но иней пушист, / И каждая встреча чудесней, – / А в Библии красный кленовый лист / Заложен на Песне Песней; Тихо в комнате просторной, / А за окнами мороз... Дистанция между присоединяемыми смысловыми компонентами может быть разной. Например, она невероятно велика в стихотворении Он любил...: мысль о трагическом несочетании характеров и судеб двух любивших друг друга людей оформлена традиционной присоединительной конструкцией с союзом а, многоточие же скрывает логический пропуск и логическую связь, существующую «только для любящей женщины» [Жирмунский 2001, с. 718]: Речь ребенка проходит этап многосоюзия (употребление сочинительных союзов или союзов-частиц), причем с бесконечным повторением слов и или а, выполняющих функцию присоединения, или подключения, одной мысли к другой. Такой «детский синтаксис» находит отражение, например, в произведениях для детей Д. Хармса, С. Михалкова, В. Драгунского. 237 Он любил три вещи на свете: За вечерней пенье, белых павлинов И стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети, Не любил чая с малиной И женской истерики. ...А я была его женой. Так лаконично и сдержанно Ахматова описывает боль раз рыва. Е.В. Падучева определяет союз а как «первичный эгоцентрический элемент», отражающий стихийное эмоциональное состояние сознания субъекта, в то время как но – «вторичный эгоцентрик», свидетельствующий о продуманности оценки, мнения, позиции говорящего [Падучева 1997]. Другими словами: логический компонент в семантике союза но сильнее, союз а отражает «логику чувств». Эти тонкие семантические различия двух противительных союзов определяют выбор Ахматовой, предпочитающей союз а, и выбор Пушкина: в «Евгении Онегине» при оформлении присоединения безусловное первенство принадлежит союзу но – в инициальной позиции (начало строфы) он встречается 33 раза, союз а – только 8. В творчестве Ахматовой синтаксический композиционный прием присоединения с участием сочинительных союзов становится основным не только в создании конкретного лирического стихотворения, но и в создании, возможно, дискурса (любовного или эпического) – если союзом стихотворение начинается: А ты теперь, тяжелый и унылый...; А Смоленская нынче именинница...; А я росла в узорной тишине...; А в книгах я последнюю страницу...; А вы, мои друзья последнего призыва...; А человек, который для меня...; А тот, кого учителем считаю...; ...И ктото, во мраке дерев незримый...; И с тобой, моей первой причудой...; И та, что сегодня прощается с милым...; И в День Победы, нежный и туманный...; И в пестрой суете людской все изменилось вдруг...; И наконец ты слово произнес... (ср. стилизованное «зачинательное» и в начале каждого стихотворения из цикла «Библейские стихи»). В стихотворении Я пришла к поэту в гости... традиционные «присоединительные» союзы а, и, вынесенные в начало строк (Тихо в комнате просторной, / А за окнами мороз / И малиновое солнце...), актуализируют присоединение, однако наиболее сильную позицию занимает но – начало последней строфы, то есть «там, где сгущается смысл стихотворения» [Эйхенбаум 2001, с. 497]: Но запомнится беседа... Ср. также начало последней 238 строфы в классическом любовном стихотворении А. Ахматовой Двадцать первое. Ночь. Понедельник..: Но иным открывается тайна... У Ахматовой в позиции абсолютного начала стихотворения союз но не встречается: видимо, он проигрывает в конкуренции с более экспрессивным отрицательным словом нет (Нет, царевич, я не та...; О нет, я не тебя любила...). О том, что такая семантическая конкуренция (между семантикой противопоставления, включающей отрицание, и собственно отрицанием) в действительности все же существует, говорит факт, отмеченный В. Жирмунским [2001(а), с. 429], – общая синтаксическая структура начала строфы у Блока: Нет, с постоянством геометра... (1909) и Ахматовой: Но с любопытством иностранки... (1929). Таким образом, даже союз участвует в создании контекста всей лирики А. Ахматовой: новое стихотворение присоединяется к уже написанным и оказывается включенным в дискурс – любовный или эпический. Интересно, что рассмотрение такой частной синтаксической проблемы, как присоединение, позволяет говорить о характере лирики Анны Ахматовой: поэзия Ахматовой – это всеобщая связь, а не отдельность, фрагментарность или прерывистость. В таком стремлении к целостности и гармонии Анна Ахматова – прямой наследник Пушкина, его мировидения и мировосприятия. Литература Ахматова А. Подорожник. – Петроград, 1921. Ахматова А. Стихотворения и поэмы. – М., 1989. Ахматова А. Узнают голос мой... Стихотворения. Поэмы. Проза. Образ поэта. – М., 1989. Ахматова А. В то время я гостила на земле. Избранное. – М., 1991. Ахматова А. Сероглазый король. Стихотворения 1909–1919. – М., 1995. Беднарская Л.Д. Синтаксис романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». – Орел, 2008. Виноградов В.В. Поэзия Анны Ахматовой. – Л., 1925. Виноградов В.В. Стиль «Пиковой дамы». – М.–Л., 1936. Виноградов В.В. О символике А. Ахматовой // Анна Ахматова: pro et contra. – СПб., 2001. – С. 260–329. Жирмунский В.М. Валерий Брюсов и наследие Пушкина. Опыт сравнительно-лингвистического исследования. – Петроград, 1922. Жирмунский В.М. К вопросу о синтаксисе А. Ахматовой // Анна Ахматова: pro et contra. – СПб., 2001. – С. 716–719. Жирмунский В.М. Анна Ахматова и Александр Блок // В. Жирмунский. Поэтика русской поэзии. – СПб., 2001(а). – С. 412–454. 239 Жирмунский В.М. Мелодика стиха // В.М. Жирмунский. Поэтика русской поэзии. – СПб., 2001(б). – С. 111–161. Колесов В.В. Антитезы в «Слове» // Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 т. – СПб., 1995. – Т. 1. – А–В. – С. 60. Падучева Е.В. Эгоцентрическая семантика союзов а и но // Славянские сочинительные союзы. – М., 1997. – С. 36–47. Эйхенбаум Б.М. Анна Ахматова. Опыт анализа // Анна Ахматова: pro et contra. – СПб., 2001. – С. 481–545. 240 Ольховская Александра Игоревна (Россия, Москва, аспирант Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] О природе метафорической регулярности Регулярная многозначность как обстоятельство, доказывающее системность лексико-семантического уровня и его изоморфность словообразовательной подсистеме, в настоящий момент серьезным образом занимает умы лингвистов, в особенности лингвистов лексикографического профиля (ср. создающиеся в Институте русского языка им. В.В. Виноградова каталоги и базы данных). Первым исследователем, обратившимся к этому вопросу со всей основательностью, был, насколько нам известно, Ю.Д. Апресян, составивший каталог регулярных семантических трансформаций, насчитывающий 88 моделей (79 метонимических и 9 метафорических). Существенный вклад в изучение регулярной полисемии внесли также такие исследователи, как Д.Н. Шмелев, Е.Л. Гинзбург, Г.Н. Скляревская, И.А. Мельчук, Дж. Лакофф и М. Джонсон, И.Г. Ольшанский и В.П. Скиба и др. В настоящий момент изучением регулярной семантической деривации занимаются А.Л. Новиков, Г.И. Кустова, Е.В. Падучева, Анна А. Зализняк, Т.А. Кукса, В.А. Плунгян, Е.В. Рахилина, Р.И. Розина и др. Достаточно распространенным в лингвистической литературе является представление об идеографической природе лексикосемантической регулярности. Говоря о регулярной многозначности, имеют в виду прежде всего сопряженность определенных тематических классов. В отношении метонимических сдвигов это положение, по-видимому, действительно справедливо. Регулярные метонимические преобразования могут быть относительно исчерпывающе описаны с помощью указания на тематическую принадлежность исходного и производного значений (даже актантные, т.е. грамматические, метонимии вроде «действие → 241 объект действия» тематичны в широком смысле слова, и их отличие от традиционных тематических сдвигов состоит лишь в том, что они осуществляются в идеографических классах более высокого уровня абстракции). Так, модель «растение → его плод» дает достаточно определенное представление и об исходном значении, и о производном значении, и о свершившемся преобразовании. Однако с метафорическими переносами дело обстоит, как кажется, несколько иначе. Подтверждением этого является хотя бы то, что лишь единицы метафорических транспозиций можно представить в виде тематических переходов. Но и те из них, которые все же поддаются тематической обрисовке, во-первых, затрагивают часто не именно тематический класс, а только его часть или несколько тематических классов вместе, а во-вторых, едва ли могут быть охарактеризованы с помощью такого рода квалификации. Для наглядности приведем здесь, насколько это возможно, полный перечень обнаруженных в лингвистических исследованиях моделей метафорических изменений, основанных на идеографическом расслоении лексики (расположим их в последовательности от абстрактных к конкретным). 1. Предмет → предмет, ср.: водопад слез, снежная каша, копна волос. 2. Предмет → человек, ср.: тюфяк, сокровище, куколка. 3. Предмет → физический мир, ср.: волна света, комок в горле, град ударов. 4. Предмет → психический мир, ср.: обывательское болото, гранит науки, духовная пища. 5. Предмет → абстракция, ср.: бездна дел, цепь событий, крупинка радости. 6. Животное → человек, ср.: жук, кабан, ишак. 7. Человек → человек, ср.: младенец, ведьма, растрепа. 8. Физический мир → психический мир, ср.: весна жизни, жар сердца, нервная встряска ([Скляревская 1993, с. 80–95], а также в отношении моделей 1, 2, 7 [Ольшанский, Скиба 1987, с. 83–101]. 9. Пространственные отношения → временные отношения, ср.: длинный перерыв, время течет, около трех часов [Гак 1977, с. 115]. 10. Физическое состояние → эмоционально-психическое состояние, ср.: дрожать от холода – дрожать от страха, поморщиться от горького вкуса – поморщиться от отвращения, боль пронзила сердце – жалость пронзила сердце, гореть от температуры – гореть от страсти [Апресян В.Ю., Апресян Ю.Д. 1993]. 242 11. Мыслительная деятельность человека → деятельность компьютерных устройств, ср.: память компьютера, компьютер думает / решает задачу, искусственный интеллект [МакКормак 1990]. 12. Неживые предметы и их свойства → физическое состояние человека, ср.: лицо перекосило, пышное тело, кубышка (о толстом человеке). 13. Животные и их внешние характеристики → физическое состояние человека, ср.: бык, жеребец, лось (о молодом физически сильном человеке), вобла, выдра (о худой женщине). 14. Человек и его действия → физическое состояние человека, ср.: в ухе стреляет, победить болезнь, поражение сетчатки глаза. 15. Явления растительного мира → физическое состояние человека. 15.1. Недостаток влаги, приводящий к гибели растения или его части → атрофированность мышц, частей тела человека, ср.: сухая рука, нога отсохла. 15.2. Утрата свежести растением → утрата здоровья, силы, красоты человеком, ср.: вялый человек, увядшие губы, чахлая грудь. 15.3. Стадия цветения растения → здоровье, красота, молодость человека, ср.: цвести здоровьем, девушка расцвела, красавица отцвела. 15.4. Утрата влаги растением → худой человек, ср.: болезнь его подсушила, высохшая женщина. 15.5. Ствол обрубленного дерева → особенности телосложения человека, ср.: был хрупким мальчуганом, а смотри, какой кряж вырос!, куда ты меня такую колоду спрячешь? 15.6. Гриб → старый дряхлый человек, ср.: пора бы старому грибу о здоровье подумать, старик-мухомор имел измученный вид. 15.7. Большой плод растения → большая часть тела человека, ср.: ну и арбуз ты отрастил!, надень кепку, а то дыню напечет. 15.8. Степень готовности плода → физическое развитие человека, его возраст, ср.: зрелая женщина, зеленая молодежь, красавица поспела [Кукса 2007]. 16. Часть тела животного → часть тела человека, ср.: брюхо, грива, морда. 17. Животное, насекомое → человек, похожий на него, ср.: баран, ворона, обезьяна. 18. Предмет → то, что похоже на этот предмет по форме, ср.: трамвайное кольцо, коробка дома, пулеметная лента. 243 19. Издавать характерный (для определенного животного) звук → говорить, издавая подобные звуки, ср.: блеять, верещать, каркать. 20. Перемещаться определенным способом → проходить (о времени) → перемещаться → пролегать (о дороге), ср.: лошадь идет – время идет – тучи идут – тропка идет по склону горы. 21. Больше нормы Х-а → высокая степень, ср.: глубокие знания, крайняя нужда, крепкий сон. 22. Больше <меньше> нормы Х-а → положительная <отрицательная> оценка, ср.: богатый язык, низкие мысли, тяжелое чувство. 23. Относящийся к Х-у → похожий на Х, ср.: бархатная кожа, деревянное лицо, железные нервы. 24. Относящийся к Х-у → похожий на Х цветом, ср.: васильковое платье, лимонные перчатки, огненные волосы [Апресян 1974, с. 193–215]. 25. Часть тела (человека или животного) → деталь механизма, палец, колено, головка 26. Животное → приспособление, ср.: журавль, козлы, кошка [Гак 1977, с. 113–114]. Что может сказать о метафорическом переносе его принадлежность к модели «мыслительная деятельность человека → деятельность компьютерных систем»? Только то, что названия какихто действий человека используются для наименования каких-то действий компьютера. Но и только. Какие это названия, почему они используются в такой функции и что несут в себе – остается неизвестным. Еще менее информативны обобщенные переходы типа «предмет → предмет» или «предмет → абстракция». Что они могут сообщить? Сама суть метафорического переноса остается за рамками таких моделей. Представляется, что из трех бытующих способов описания регулярных метафорических трансформаций – концептуального (как в [Лакофф, Джонсон 1990]: «счастье – верх; грусть – низ»), посемемного (как в [Зализняк Анна А. 2001] ‘схватить’ → ‘понять’, ‘пустой’ → ‘тщетный’, ‘стоять’ ↔ ‘стоить’) и идеографического – последний является наименее удачным, поскольку порождает неверное представление о существе метафорического переноса. Сложно вообразить, что в момент зарождения метафоры снежная каша было хоть сколько-нибудь значимо, что каша ‘кушанье из сваренной крупы’ и каша ‘вязкая, липкая субстанция’ относятся к предметным разрядам. Трудно также представить, например, что метафора гореть от страсти создавалась хоть с какой-то оглядкой на то, что гореть от температуры / лихорадки 244 относится к тематической (даже логической) группе «физическое состояние человека». Куда важнее в этом случае конкретные сходства индивидуальных объектов – каши, потребляемой в пищу, и снежной каши под ногами; страсти и болезни / агонии / лихорадки; куда важнее та концептуальная вспышка, которая привела к сближению этих объектов; куда важнее способность метафоры творить в языке «человеческий» мир, в котором сваренная крупа и снежная субстанция под ногами – одно и то же. Напротив, возникновение метонимических сдвигов всегда соотнесено с логической категоризацией действительности и отражающей ее идеографией. При возникновении метонимии весь класс встал важно и, главное, в первую очередь важно, что класс ‘помещение’ и класс ‘люди в помещении’ состоят в отношениях «помещение → люди в помещении». В соотнесенности идеографических групп и состоит сама суть и возможность метонимии. Разумеется, логическая и тематическая отнесенность членов метафорического переноса также небезынтересна и в какой-то степени информативна (она, в частности, может свидетельствовать об устройстве концептосферы человека), однако к природе метафоры она, как кажется, не имеет непосредственного отношения. Метафора чрезвычайно индивидуальна и работает не на базе групповых соотношений и классификаций, а на базе ощущения единства (возможно, даже тождества) двух конкретных явлений. Такие единичные ощущения, конечно, не могут быть бесконечно многообразными и поддаются типизации, уместной в метаязыковых и в особенности педагогических построениях. Но метафоре чужд групповой характер метонимии; идеографическая сетка слишком жестка для ее образной природы. Метафора есть творческий ответ человека структуре объективного мира, может быть, даже протест против этой структуры, инструмент креации сугубо «человеческой» реальности, в какой-то степени чудесной, поскольку в ней, вопреки законам логики, случается то, чего в действительности не существует. За рамками автоматического восприятия передвигающееся время не менее чудесно, чем передвигающийся по воздуху ковер-самолет, дорожное полотно – чем скатерть-самобранка, а рыба-меч – чем конек-горбунок. Мы живем в чудесной реальности, сами того не замечая, и этому во многом способствует метафора (но никак не метонимия). Таким образом, метафора не может быть регулярной в том тематическом плане, который часто ей приписывается. Из этого положения может вытекать два вывода: 1) метафорические изменения принципиально иррегулярны, 2) метафорические изменения регулярны, но природа их регулярности основана не на 245 логической категоризации действительности, запечатленной в идеографической сетке, а на категоризации иного характера, которая, хотя и может быть соотнесена с идеографической, но имеет совершенно иные основания. Верно, как кажется, второе. Отличная от логической категоризация действительности может быть названа метафорической. В целях разграничения логической и метафорической категоризации действительности обратимся к обоснованному Э. Кассирером противопоставлению способов создания понятий. По мнению ученого, в мышлении человека действуют два разнонаправленных механизма концептуализации – логически-дискурсивный (интеллектуальный) и лингво-мифологический (мифо-поэтический). Первый движется от частного единичного случая эмпирии к обобщениям высокого уровня абстракции за счет постепенного «пробегания» мысли по всей известной области бытия (отсюда – дискурсивное). Данное обобщение происходит на основе принципа синтетической дополнительности, благодаря которому отдельное в составе общего не теряет своей индивидуальности и не сливается с ним. Ярче всего результат этого типа мышления отражается в иерархических отношениях, образующих роды и виды. В родовидовой сетке все понятия равномерно освещены и каждое обладает собственной сферой. «Эти сферы могут многообразно перекрываться и пересекаться друг с другом, и тем не менее каждая из них занимает строго определенное место в понятийном пространстве. В этой сфере понятие сохраняется и при синтетической взаимодополнительности: новые отношения, в которые оно вступает, не ведут к размыванию границ, а, наоборот, способствуют его более четкому узнаванию и вычленению» [Кассирер 1990, с. 37]. Коль скоро логически-дискурсивный способ есть способ создания понятий за счет концентрического расширения представлений о предметах и явлениях, его можно назвать экстенсивным. В противоположность ему лингво-мифологический путь интенсивен. Отправным пунктом для него служит некоторое качественное единообразие явлений, позволяющее свести концепт в единую точку. Свет концентрируется в этой точке качественного совпадения и не распространяется на все, что выходит за его пределы. Соответственно, различия между объектами оказываются окутанными тьмой и как бы невидимыми. Благодаря этому возникает известное метафорическому переосмыслению тождество между абсолютно различными на первый взгляд явлениями. Опираясь на высказанные Э. Кассирером мысли, можно предположить, что в сознании бытуют две языковые (если только есть 246 еще какие-то другие) модели действительности – иерархическая сетка логических классов (по большей части общечеловеческая) и континуальное понятийное полотно, усыпанное световыми вспышками (национально специфичное). Поскольку любое явление имеет свою клеточку в иерархической сетке понятий, световая вспышка, вызывающая метафорический перенос в принципе поддается идеографическому описанию. Другое дело, что идеографическое описание для нее – нечто привнесенное извне, или, попросту говоря, что-то «из другой оперы». Обратимся теперь к природе метафорической регулярности. Ее специфику следует искать, как кажется, во все том же лингвомифологическом мышлении: регулярным метафорическим переосмыслением можно считать то, что переосмысляется в рамках световой точки и качественно соответствует этой точке. В этом плане метафорические переносы, традиционно считающиеся регулярными («животное → человек», «физический мир → психический мир», «пространство → время»), по-видимому, нельзя считать регулярными, поскольку названные таким образом компоненты имеют целое множество фокусов или – что в нашем случае одно и то же – не имеют ни одного единого фокуса. Так, в рамках тематического перехода «животное → человек» существует множество световых точек (символов метафоры в терминологии Г.Н. Скляревской): глупость, упрямость (осел, ослиный, ослик, ослица); неуклюжесть (медведь, медвежий, медвежонок, косолапый); верность (пес, собачий) и др. И в каждом случае мы имеем дело с новой метафорой, а не с реализацией абстрактной модели «животное → человек». Представляется, что метафор всегда столько, сколько есть световых точек. Если световая точка фиксируется лишь в одной языковой единице, следует говорить о нерегулярной метафоре; ср.: голова сыру – формальное подобие головы и куска сыра запечатлено лишь в слове голова. Регулярная же метафора возникает тогда, когда световую точку обслуживает более одной языковой единицы, при этом неважно, являются эти единицы одно- или разнокоренными, лексическими или грамматическими, знаменательными или служебными, относятся к одной или разным частям речи. Идеальным способом представления регулярной метафоры является, на наш взгляд, указание на 1) объединенные в метафорическом переносе объекты, 2) обнаруженное между ними качественное единство, 3) все языковые единицы, воплощающие это единство, ср. перемещение физического объекта → [скорость изменения] ← протекание времени: идти, ползти, лететь, бежать, стоять, остановиться, плыть, тащиться, влачиться, нестись, движение, двигаться, 247 течь, неподвижность, неподвижный, скорость, ход, быстрый, быстро, стремительный, стремительно, медленный, медленно, ускорение, ускорять, замедление, замедлять и проч. Эта метафора, как видно из количества реализующих ее лексем, чрезвычайно регулярна. Она, по-видимому, является надстройкой над более глубинной метафорой «пространство → [онтологическая природа] ← время: безграничный, бесконечный, непрерывный, граница, точка, сфера, с, по, между, от, до, в, на, вперед, назад, длина, длинный, быть и др. Так метафоры накладываются друг на друга и образуют системы, моделирование которых представляется делом чрезвычайной сложности. Таким образом, есть сущностное различие между метонимией и метафорой, которое предопределяет различие в природе регулярности метонимических и метафорических изменений. Метонимия есть явление в первую очередь языковое, а не концептуальное; сама не создавая понятия, она пользуется понятийной сеткой, выстроенной на основании логически-дискурсивного мышления. Поэтому регулярность метонимических сдвигов легко описывается в терминах идеографии и даже самые эти сдвиги мыслятся как сдвиги в идеографической плоскости. Метафора же есть в первую очередь средство концептуальное – она творит понятия и категории, основываясь на лингво-мифологическом мышлении, которое работает за счет схлестывания качественно однородных объектов. Тематическая отнесенность этих объектов на фоне тождества их индивидуальных свойств оказывается вторичной и несущественной, и потому идеографическая классификация оказывается не по размеру метафорической регулярности: она или оказывается внутри ее рамок, или выходит за ее рамки. На языковом уровне метафорическую регулярность следует рассматривать как ориентированность различных единиц языка на выражение обнаруженного в каком-либо отношении тождества объектов. Литература Апресян Ю.Д. Лексическая семантика: синонимические средства языка. – М., 1974. Апресян В.Ю., Апресян Ю.Д. Метафора в семантическом представлении эмоций // Вопросы языкознания. – 1993. – № 3. – С. 27–35. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология (на материале французского и русского языков). – М., 1977. Зализняк Анна А. Семантическая деривация в синхронии и диахронии: проект «Каталога семантических переходов» // Вопросы языкознания. – 2001. – № 2. – С. 13–25. 248 Кассирер Э. Сила метафоры // Теория метафоры. – М., 1990. – С. 33–43. Кукса Т.А. Метафорические модели как компонент идеографического поля (на материале слов, определяющих физическое состояние человека): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Ростов н/Д, 2007. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. – М., 1990. – С. 387–415. МакКормак Э. Когнитивная теория метафоры // Теория метафоры. – М., 1990. – С. 358–386. Ольшанский И.Г., Скиба В.П. Лексическая полисемия в системе языка и тексте (на материале немецкого языка). – Кишинев, 1987. Скляревская Г.Н. Метафора в системе языка. – СПб., 1993. 249 Толстова Наталья Николаевна (Россия, Москва; ассистент кафедры обучения русскому языку студентов и специалистов гуманитарного профиля Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] Фигуры непрямой коммуникации: уклонения в русскоязычном дискурсе Сегодня большое внимание лингвисты уделяют проблеме речевого взаимодействия, дискурсу, в том числе проблеме понимания скрытых смыслов. Действительно, из множества смыслов, идущих из сознания говорящих, поверхности достигают, т.е. вербализуются, лишь некоторые, а остальные остаются невысказанными [Плотникова 2003]. Однако «то, что не сказано открыто, может оказаться более важным, чем то, что выражено эксплицитно или открыто подразумевается» [Ван Дейк 2000, с. 132]. Очевидно, что для понимания метасмысла, т.е. дополнительной, вербально не выраженной в словах собеседника информации, которую необходимо осознать слушателю, если он хочет понять смысл сказанного, нужны не только знания о системе языка, но и представление о теме разговора, о намерениях собеседника, знания о конвенциях и т.п. Все эти знания запечатлены в ментальных матрицах, фреймах. Инструментом, синхронно и асинхронно извлекающим метасмысл, служит рефлексия говорящих и метанаблюдателя, т.е. лингвиста-исследователя. В когнитивнокоммуникативной парадигме ей отводится ведущая роль как «способности человека думать о языке и о том, что было сказано, как было сказано и зачем» [Шляхов 2010, с. 6]. Действительно, человек способен вкладывать в язык и его использование, а также извлекать из него гораздо больше информации, чем представлено в явном виде [Рябцева 2005]. Именно языковая рефлексия положена в основу экспланаторных практик дискурс-анализа, которые направляют мысль исследователя от поверхностных структур к 250 их семантике, смысловому наполнению, к исходным ментальным структурам или фреймам1 и позволяет извлечь метасмысл. Важно обратить внимание на то, что у носителей языка когнитивные операции, предназначенные для планирования и осуществления рефлекторных действий, формируются естественно в ходе освоения речевых практик в детстве, т.е. они ими пользуются без участия сознания. Очевидно, что латентное состояние рефлекторных умений не может устраивать организаторов обучения иностранным языкам. Таким образом, одна из основных задач, стоящих сегодня перед теоретиками и практиками, – вывести в область сознания когнитивные приемы и способы опознания и интерпретации составляющих дискурса. Другими словами, необходимо обнаружить интерпретационные правила, направленные на элиминирование метасмысла, и на их основе построить систему заданий и упражнений для того, чтобы иностранцы понимали, как создаются и как понимаются стратегии, иносказания, фигуры непрямой коммуникации в русском речевом общении. Ниже мы предлагаем модель упражнений, направленных на выявление и интерпретацию уклончивых ответов, неотъемлемым свойством которых является осложненность семантики имплицитным содержанием. Значительный интерес к уклончивости проявился прежде всего в исследованиях по обманчивой коммуникации [Экман 2009; Bradac 1983 и др.], в которых уклончивые сообщения понимаются как средство, позволяющее человеку избегать говорить правду или удерживать какую-либо релевантную информацию2. И это не случайно, поскольку «язык – не только средство формирования и выражения мыслей, но и средство их сокрытия» [Шаховский 2008, с. 129]. Однако представляется, что уклончивость может выступать и как средство «защиты», и как средство «манипуляции». В связи с этим мы подразумеваем под уклончивым ответом тактику, к которой прибегает коммуникант, реализующий стратегию сопротивления словесному воздействию. Последнее, как известно, имеет своей целью повлиять на адресата в «выгодном» 1 Заметим, значительный вклад в развитие алгоритма формирования рефлексии внесла лингвистическая теория Н. Хомского. Прежде всего важны его выводы о том, что применять рефлексию можно в обратном порядке, т.е. производить трансформационные операции, продвигаясь от поверхностной структуры к глубинному уровню [Хомский 1972]. 2 Под релевантностью в данном случае понимается смысловое соответствие между информационным запросом и полученным сообщением; выдвижение лишь тех суждений, которые не нарушают логичности начатого разговора [Орлов 1991, с. 105]. 251 направлении. При этом воздействие может быть направлено как на информационные структуры (например, подтвердить информацию, доказать ее правдивость / ложность, изменить мнение собеседника), так и на эмоции, которые, несомненно, играют доминирующую роль в человеческом сознании: «...человек далеко не только homo sapiens, но и homo sentis, поскольку многими его действиями руководят эмоции» [Шаховский 2009, с. 29]. Уклончивый ответ как реплика-реакция обязательно предполагает инициальную реплику-стимул, т.е. рассматривается в диалогическом дискурсе. Как известно, развитие диалога может быть гармоничным, а может осложняться и обостряться. Это зависит от интенции и психологического состояния каждого коммуниканта, от умения понять другого, от меры готовности к компромиссу. В частности, нарушение диалогического единства наблюдается, когда реплика-реакция, следующая за репликой-стимулом, не выполняет ни одну из первичных задач, а именно: не подтверждает, не уточняет и не разъясняет факт, выраженный содержанием вопроса, или же делает это в завуалированной форме. Итак, уклончивые ответы рассматриваются с учетом функций как инициирующего, так и реагирующего высказывания. Исходя из того, что жизненный контекст дискурса моделируется в форме сценариев, делающих акцент на развитие ситуаций, можно представить следующий общий сценарий реализации тактики уклончивого ответа: адресант (К1) запрашивает информацию у адресата (К2) с целью заполнения лакуны или побуждает его к действию / активности, воздействуя на его сознание. К2 воспринимает реплику-стимул в общем социально-культурном и конкретном ситуативно-коммуникативном контекстах. При этом К2, осознавая, что не хочет / не может выполнить то или иное действие, что настоящее положение вещей требует изменения в какой-либо своей составляющей, прибегает к тактике уклончивого ответа. То, каким образом К2 уклоняется от ответа – смена темы, переадресация вопроса, снижение значимости запрашиваемой информации и пр. – зависит от его индивидуального опыта, намерений, убеждений, мотивов, физического и психического состояния на данный момент. Уклончивый ответ К2 не является ожидаемой реакцией для К1, который надеется получить прямой ответ, что соответственно производит эффект нарушенного ожидания. Дальнейшие действия К1 также зависят от его индивидуального опыта, намерений, убеждений, физического и психического состояния. Можно предположить два пути последующего развития сюжета сценария. Во-первых, щадящего для К2, т.е. К1 несмотря на некоторое разочарование от недостигнутой цели (требуемый 252 ответ не получен) принимает уклончивость собеседника как правомерную и прекращает общение на провокативную тему, что позволяет остаться в рамках так называемой кооперативной коммуникации. Во-вторых, нежелательного для К2: в этом случае К1 может упрекнуть К2 или произвести настойчивый запрос конкретизации, т.е. с помощью серии вопросов снять неопределенность и добиться информативной конкретности. При этом К1 должен отдавать себе отчет в том, что подобные речевые действия способны вызвать противодействие, так что уклончивое поведение К2 может перерасти в конфликт. Нельзя не согласиться с тем, что мы часто прибегаем к уклончивым ответам, например, в этикетном общении: на вопрос «Как дела?» нередко отвечают «Ничего», «Все по-прежнему». Подобные уклончивые ответы можно назвать «самодостаточными» [Матвеева 2011], они носят универсальный характер и не требуют специального обдумывания, что отчасти связано с традициями русского общения: на этикетные вопросы не принято отвечать в слишком «розовых» тонах, распространяться о своих успехах или высказывать жалобы на свои житейские трудности всем знакомым. Заметим, что такие уклонения можно вводить в процесс обучения на начальных стадиях изучения русского языка. Однако, как было сказано ранее, уклончивые ответы как реплики-реакции не могут возникнуть спонтанно. В связи с этим больший интерес представляют случаи, в основе которых лежит та или иная причина маскировки намерений. При этом уклончивость может создаваться разнообразными способами [Матвеева 2011]. Рассмотрим следующие случаи: 1. Уклончивость как неосведомленность коммуниканта в каком-либо вопросе / нежелание продемонстрировать свою неосведомленность зачастую создается за счет расширения зоны неопределенности или завышения значимости запрашиваемой информации. Например: бат. – Что там, в самом деле невозможно пройти? – спросил ком- – Вода там, товарищ капитан. Не замерзла. Мы попробовали, провалились, насилу вылезли. – А те как же прошли? – А кто их знает. Может, где и есть проход. А ночью как найдешь? [Быков]. Комментарий. Перед нами разговор между комбатом Волошиным и вернувшимися разведчиками, которые доложили, что на «Малой» высоте 253 свои. Разведчикам не удалось войти в контакт с бойцами на высоте, они лишь слышали разговор на русском языке. Волошину не понравилась такая приблизительная разведка. Однако желая «защитить» себя, разведчики утверждают, что подойти ближе невозможно из-за глубины и отсутствия льда. На последующий вопрос комбата, в котором завуалирован упрек: «Вы не смогли, а другие это сделали» – они отвечают уклончиво, поскольку не знают о местонахождении возможного прохода. 2. Уклончивый ответ может быть мотивирован нежеланием коммуниканта поддаваться словесному воздействию, т.е. нежеланием что-либо сделать, объяснить или поступить так, как хочет собеседник. Такой ответ часто связан с созданием эффекта всеобщности, с попыткой переключить внимание собеседника на другой объект, со снижением значимости запрашиваемой информации, может сопровождаться упреком в адрес собеседника; кроме того говорящий может прибегать к приему откладывания ответа. Рассмотрим следующий эпизод речевого общения: А между тем Марья Тимофеевна <...> нимало не конфузясь рассматривала прекрасную гостиную Варвары Петровны <...> – Так и ты тут, Шатушка! – воскликнула она вдруг <...> и весело рассмеялась. – Вы знаете эту женщину? – тотчас обернулась к нему Варвара Петровна. – Знаю-с, – пробормотал Шатов, тронулся было на стуле, но остался сидеть. – Что же вы знаете? Пожалуйста, поскорей! – Да что... – ухмыльнулся он ненужной улыбкой и запнулся, – сами видите. – Что вижу? Да ну же, говорите что-нибудь! – Живет в том доме, где я... с братом... офицер один. – Ну? Шатов запнулся опять. – Говорить не стоит... – промычал он и решительно смолк. Даже покраснел от своей решимости. – Конечно, от вас нечего больше ждать! – с негодованием оборвала Варвара Петровна. Ей ясно было теперь, что все чтото знают и между тем все чего-то трусят и уклоняются пред ее вопросами, хотят что-то скрыть от нее [Достоевский 2005, с. 146–147]. Комментарий. Варвара Петровна пригласила к себе в дом Марью Тимофеевну Лебядкину. Поняв, что Шатов знает гостью, Варвара Петровна пытается разузнать как можно больше информации о ней. Однако Шатов 254 пытается уклониться от расспросов («Да что... сами видите»), не желая исполнять волеизъявление собеседника – рассказывать то, что ему известно: разглашать историю, в которой оказался замешан сын Варвары Петровны, – это может задеть ее чувства. Поэтому он снова прибегает к уклончивому ответу («Говорить не стоит...»). Ставрогина понимает интенцию Шатова и прекращает «допрос», хотя очевидно, что она осталась разочарована поведением Шатова. 3. Уклончивость, в основе которой лежит желание говорящего замаскировать истинные чувства, переживания, как правило, создается за счет перевода разговора в эмоционально-оценочную сферу или за счет критики вопроса партнера по общению. Например: Галя. Тебе нравится Андрей? Алексей. Да. Галя. А Вадим? Алексей. Умный. Галя. А я? Алексей. Слушай, что ты все время ломаешься? [Розов 2008, с. 42]. Комментарий. Галина понравилась Алексею с первого взгляда, хотя он не показывает своих чувств. Наедине с ней он ведет себя достаточно вспыльчиво, недружелюбно, что, как свидетельствует пример, является «маской». На вопросы девушки Алексей отвечает либо утвердительно, либо высказывает «общее» мнение через характеристику лица («Умный»). Однако когда Галя спрашивает о себе, он дает уклончивый ответ, прибегая к критике вопроса собеседника и тем самым скрывая свое личное отношение. 4. Уклончивый ответ, мотивированный неприятной темой или нежелательным / неподобающим вопросом, также, как правило, связан с переводом разговора в эмоционально-оценочную сферу или с его переключением на другую тему. Обратимся к следующему примеру: Потоцкий выдумал новый трюк: за деньги предлагал экскурсантам указать истинную могилу Пушкина. Уводил группу в лес и показывал невзрачный холмик. Иногда какой-нибудь дотошный турист спрашивал: − А зачем скрывают настоящую могилу? − Зачем? – сардонически усмехался Потоцкий. – Вас интересует – зачем? Товарищи, гражданина интересует – зачем? − Ах, да, я понимаю, понимаю, – лепетал турист... [Довлатов]. 255 Комментарий. Потоцкий любит украшать свои экскурсии «фантастическими деталями». Описанный выше трюк Потоцкого, несомненно, вызывает у туристов любопытство – и, конечно же, вопросы. Но он смог уклоняться от нежелательного вопроса, прибегая к «зачем»-реплике, которая в функции интеррогатива зачастую используется адресатом в диалоге, если он возмущен, недоволен или удивлен. Важно отметить то, как он произносит свои слова, а именно язвительно, «сардонически». Тем самым адресат на глазах у других присутствующих дает понять адресанту, что его вопрос неприемлем. Адресант, в свою очередь, осознает нелепость своего положения и, не желая окончательно упасть в глазах окружающих, делает вид, что догадывается об истинном ответе. 5. Уклончивость как способ эмоционального воздействия на собеседника позволяет коммуниканту, с одной стороны, уберечь собеседника от неприятных сведений, т.е. «не навредить» ему. В этом случае говорящий занижает значимость запрашиваемой информации или меняет тему разговора. С другой стороны, с помощью уклончивого ответа он может упрекнуть партнера по общению, например, за бестактное поведение. Следующий эпизод демонстрирует уклончивый ответ альтруистического толка: Федор. Ну ничего! Вот засяду за свою «заветную» – я еще покажу им себя! Я докажу... Клавдия Васильевна (с грустью). Ничего и никому ты уже не докажешь, Федя. Федя. Почему это? Клавдия Васильевна. Потому что все меняется на свете. Федор. Что? Клавдия Васильевна. Все. Федор. Нет, ты договаривай. Клавдия Васильевна. Так я постараюсь, чтобы дети ничем не досаждали Леночке. Федор. Я знаю, что ты подразумеваешь: я переменился? Да? Клавдия Васильевна. Вы будете ужинать? [Розов 2008(а), с. 224]. Комментарий. Выше приведен разговор между Клавдией Васильевной и ее старшим сыном Федором, который недавно женился и, в определенной степени попав под влияние супруги, немного изменился. Из-за того что теперь ему приходится много работать, Федор перестал писать свою диссертацию, однако надеется, что обязательно ее завершит и докажет всем в первую очередь то, что он не «слабый». Клавдия Васильевна, будучи мудрой женщиной, понимает, что этому не суждено сбыться, что Федя уже не будет прежним – «все меняется на свете». Уклончивость в данном случае создает256 ся за счет информационной всеобщности. Обратим внимание на то, что ответ Клавдии Васильевны содержит в себе также намек, о котором догадывается ее сын. Однако мать продолжает уходить от ответа. Такое поведение объясняется ее стремлением не задеть, не обидеть сына. В противном случае возможен конфликт, что понимает Клавдия Васильевна. Однако ей как матери важно не испортить отношения с сыном, несмотря на произошедшие с ним изменения, важно, чтобы он не отдалился от нее. Итак, мы рассмотрели основные причины, по которым коммуникант прибегает к тактике сопротивления словесному воздействию. Тем не менее зачастую довольно трудно однозначно определить причину уклончивости, поскольку встречаются ситуации, когда в основе уклончивого ответа лежит совокупность причин. Заметим, что экспланирование причин уклонений – это первый шаг к изучению их скрытых смыслов (их намного больше). Для создания целостной картины необходимо, например, учитывать проблему эмотивности, которую мы лишь затронули. Перейдем к модели упражнений. Заметим, что в ней отражены основные этапы работы со сценариями речевого взаимодействия [Шляхов 2010]: опознание сценария и его номинация; выявление схемы сценария; наполнение данной схемы речевым материалом. Что касается уровня владения языком, то в связи с осложненностью семантики уклончивых ответов имплицитным содержанием, они должны изучаться в первую очередь «продвинутыми» пользователями русского языка. Тем не менее, как было сказано ранее, не исключается знакомство иностранных учащихся с уклончивыми ответами на первых стадиях изучения русского языка. Мы склонны считать, что целесообразно начать формирование умения идентифицировать уклончивые ответы, опираясь на речевые стереотипы, и постепенно переходить к таким уклончивым ответам, лингвистическая реализация которых обеспечивается возможностью креативных речевых конструкций. Представляется, что наглядным образцом подобных ответов служит художественная литература, являющаяся «слепком реальной коммуникации, реального языка Homo loquens и его реального поведения» [Шаховский 2008, с. 173]. Мы предлагаем модель упражнений и заданий на основе эпизода речевого общения из пьесы В.С. Розова «В поисках радости». Цель этих упражнений – научить учащихся «выпрямлять» уклонения, выявлять причину, по которой коммуникант использует данную тактику маскировки своих намерений, а также в зависимости от выявленных параметров общения определять дальнейшее развитие диалога. 257 Задание 1. Прочитайте фрагмент из пьесы В.С. Розова. Примечание. Вероятно, иностранные учащиеся не знакомы с данным произведением. По этой причине можно предложить им догадаться, в каких отношениях находятся действующие лица и в чем заключается конфликт. Таня. Я позанимаюсь за этим столом, Федор? Федор. Только не испачкай. Таня. Ты говори прямо – можно или нет? Федор. Можно. Таня (ставя на стол пузырек с чернилами, раскладывает тетради). Да, за таким столом и мысли в голову должны приходить благородные. Федор, у тебя для этого стола останутся мысли? Федор. Что вы все ко мне цепляетесь? Что вас не устраивает? Я, кажется, как проклятый, преподаю, пишу, выступаю – без выходных дней! Я знаю – это из-за Леночки. Обычное явление. Сначала она вам всем понравилась, она органично вошла в нашу семью <...> Меня утешает мысль – в августе мы будем на разных квартирах.(Ушел.) Таня. Мама, неужели он из-за Елены так меняется? Клавдия Васильевна. У него слабая воля. К тому же влюблен без памяти. Таня. Муж-тряпка – это, по-моему, и для жены должно быть противно. Клавдия Васильевна. Разные женщины бывают, Таня. Кстати, если не секрет, тебе нравится Леонид Павлович? Таня. А тебе? [Розов 2008(а), с. 200]. Примерный ответ. Из текста очевидно, что разговор ведется между членами семьи: Клавдия Васильевна – мать, Таня – дочь, Федор – сын, Елена – жена Федора. Вероятно, конфликт заключается в том, что Федор сильно изменился после женитьбы. Эти перемены заметили его родные. Примечание. После того как учащиеся высказали свои догадки, желательно объяснить поведение персонажей, показать параметры ситуации общения. А. Как вы можете описать состояние героев? Почему вы так считаете? Примерный ответ. Федор, с одной стороны, раздражен («Что вы ко мне все цепляетесь? Что вас не устраивает?»), с другой – пытается «защитить» себя («Я, кажется, как проклятый, преподаю, пишу, выступаю – без выходных дней!»). Вероятно, он осознает, что в семье складывается неблагоприятная обстановка и во многом из-за того, что родные недолюбливают Елену. Она умеет 258 манипулировать Федором, который, по словам матери, отличается слабохарактерностью. Таня не может понять, почему Елена оказывает на него такое влияние. Она не приемлет поведение брата и то, что он оставил свою диссертацию, ради того чтобы угодить жене («Муж-тряпка – это, по-моему, и для жены должно быть противно»). Клавдия Васильевна, будучи матерью четырех детей, безусловно, желает им только лучшего. Она пытается найти объективные причины такому поведению старшего сына, но за ее словами скрываются переживания, неуверенность в том, что Федор будет прежним. Желание скрыть свои чувства доказывает ее попытка сменить тему разговора. Б. В каких случаях герои прибегают к тактике уклончивого ответа? Чем мотивирована уклончивость? За счет чего она создается? Примерный ответ. Как только Таня намекает брату о его диссертации («Федор, у тебя для этого стола останутся мысли?»), Федор уклоняется от ответа, осознавая, что причиной возникшей неблагоприятной семейной атмосферы является разочарование родных в Леночке. Он упрекает их за то, что они не могут понять его положение («Что вы все ко мне цепляетесь?»). После ухода Федора разговор продолжается между матерью и дочерью. Клавдия Васильевна не отвечает прямо на вопрос Тани, с чем связаны произошедшие с братом изменения, а приводит объективные причины (слабая воля, влюбленность), пытаясь тем самым «оправдать» сына, поскольку как мать она, несомненно, за него переживает. Ответ Тани указывает на невозможность / нежелание принять названные причины как повод для брата резко изменить свое отношение и поведение. Особенно Таня не приемлет слабоволие брата («Муж-тряпка – это, по-моему, и для жены должно быть противно»). Однако реакцией Клавдии Васильевны на данное утверждение также является уклончивый ответ, связанный с созданием эффекта расширительности, всеобщности («Разные женщины бывают»). Очевидно, что разговор о старшем сыне для нее неприятен, так как воспитание детей – ее заслуга и, следовательно, она отчасти чувствует вину за бесхарактерность Федора и его потворство всем прихотям, желаниям, взглядам Леночки. По этой причине Клавдия Васильевна меняет тему и заводит разговор о Леониде Павловиче, который довольно часто бывает у них в гостях. Кроме того, именно он помог Федору с устройством на работу. В связи с этим можно предположить, что Леонид Павлович, будучи аспирантом, перспективным молодым человеком, 259 может составить хорошую партию для Тани, что прекрасно понимает Клавдия Васильевна. Уклончивый ответ Тани представляет собой «возвращение вопроса» («А тебе?»). Вероятно, переадресация вопроса свидетельствует о том, что Татьяна сомневается в своих чувствах. Возможно, она боится, что ее жизнь может оказаться похожей на жизнь старшего брата. Можно также предположить, что, возвращая вопрос, девушка ожидает услышать мнение матери, которое для нее является немаловажным. В. Запишите / расскажите, что произошло во время приведенного выше разговора. Сверьте свои записи / свое мнение с предложенным ниже комментарием. Примерный ответ. Таня просит разрешения у Федора поработать за новым столом, за которым, по ее мнению, в голову должны приходить только благородные мысли, тем самым намекая брату о диссертации. Он в ответ пытается «защитить» себя, ссылаясь на то, что он работает «как проклятый». Но на самом деле он понимает, что все намеки и упреки в его адрес вызваны тем, что в семье складывается неблагоприятная атмосфера, в частности, из-за его жены. Действительно, перемены в Федоре после свадьбы заметили все родные. Клавдия Васильевна приводит объективные причины произошедших с сыном изменений, тем самым пытаясь его «оправдать». Ответ Тани свидетельствует о ее нежелании / невозможности принять эти причины как повод для брата резко изменить свое поведение и отношение к близким людям. Для Клавдии Васильевны данная тема неприятна, так как Федор ее сын, а значит его воспитание – это ее заслуга. По этой причине она переключается на другую тему – отношение Тани к Леониду Павловичу, который довольно часто бывает у них в гостях. Как мы видим, в разговоре между матерью и дочерью устанавливается неопределенность: Таня уклоняется от ответа, «возвращая вопрос». Такой шаг свидетельствует о ее сомнениях в своих чувствах, о боязни, что ее жизнь может оказаться похожей на жизнь старшего брата. В то же время такой шаг можно расценивать как желание услышать мнение матери. Г. Как вы думаете, является ли уклончивый ответ Тани ожидаемой реакцией для Клавдии Васильевны? Почему? Примерный ответ. По-видимому, нет. Клавдия Васильевна ожидала от дочери разъяснений или признаний. Об этом свидетельствует ее вопрос: «Кстати, если не секрет, тебе нравится Леонид Павлович?». 260 Д. Предположите возможное развитие сюжетной линии данного сценария. Примерный ответ. а) Клавдия Васильевна, ожидавшая от дочери признаний, может попытаться добиться информативной конкретности с помощью ряда вопросов. Таня отвечает прямо, что соответственно приводит к остановке речевых событий. б) Клавдия Васильевна может высказать собственную точку зрения или призвать дочь к откровенности (например, Мне кажется, он положительный молодой человек). в) Клавдия Васильевна может упрекнуть Таню в нежелании сказать правду. г) Клавдия Васильевна также может прибегнуть к уклончивости (например, Не хочешь ответить?). При этом и Таня может продолжать придерживаться тактики уклончивого ответа. В данном случае либо один из коммуникантов примет уклончивость собеседника правомерной, либо будет продолжать оказывать словесное / эмоциональное давление, следствием чего может стать коммуникативный конфликт. Примечание. После этапа идентификации и редуцирования сценария следует один из самых важных этапов – этап наполнения сценарной модели различным речевым материалом. Необходимо помнить о том, что одна матрица сценария может иметь несколько вербализаций. Для формирования навыка и умения вербально реализовать сценарную модель желательно предложить учащимся определенные параметры ситуации. Задание 2. Используя известные вам средства выражения уклончивых ответов, предложите ваши варианты развития следующей ситуации: Представьте, что К1 разговаривает с К2 (мамой, сестрой, подругой...). К2 хочет узнать, как относится К1 к кому-либо. В свою очередь, К1 уклоняется от ответа, поскольку... (считает вопрос неприемлемым, не желает рассказывать об истинных чувствах / переживаниях...). Примерные ответы. К примеру, рассмотрим разговор между двумя подругами: а) – Он тебе нравится? – А тебе? – Вопросом на вопрос не отвечают. – А ты больше ничего не придумала спросить? Комментарий. К1 хочет узнать у К2 отношение к кое-кому. К2 прибегает к уклончивому ответу, в основе которого лежит интенция «Я не хочу говорить о своих чувствах», и возвращает вопрос. К1 пытается «преодолеть» 261 уклончивость. Однако К2 применяет критику вопроса, возлагая тем самым вину на собеседника, задающего неподобающий вопрос. б) – Он тебе нравится? – Вечное твое любопытство! – Так да или нет? – Давай в другой раз об этом. Комментарий. К1 хочет выяснить у К2 отношение к определенному лицу. Однако К2 вместо прямого ответа прибегает к критике вопроса, что свидетельствует о нежелании говорить о своих чувствах (вероятно, эта тема для коммуниканта неприятна). К1 продолжает «наступательную» тактику, усиливает воздействие на собеседника (ставит перед выбором), но К2 попрежнему придерживается линии уклончивости, применяя прием откладывания ответа. После знакомства учащихся с разнообразными вербальными реализациями рассматриваемой нами тактики, можно предложить им задание, цель которого заключается в том, чтобы обеспечить формирование умений самостоятельного использования уклончивых ответов1. Подведем итоги. Нельзя не согласиться с тем, что развитие методики преподавания РКИ зависит от того, насколько полно и точно новые знания, полученные в когнитивно-коммуникативной парадигме, найдут место в технологии обучения, в ее экспланаторных практиках. К уклончивому ответу как тактике сопротивления словесному воздействию коммуникант может прибегать по ряду причин, например: неосведомленность, неприятная тема, желание завуалировать переживания, истинные чувства, желание «не навредить» собеседнику или, наоборот, упрекнуть его. Предложенная выше модель упражнений и заданий, безусловно, не отличается законченностью, поскольку в наши задачи не входило описание работы с лексико-грамматическим материалом, наполняющим уклончивые ответы. Однако очевидно, что для создания целостного представления данная работа должна иметь место, тем более что лингвистическая реализация уклончивых ответов обеспечивается как большим количеством речевых стереотипов, так и возможностью креативных речевых конструкций. 1 Подобное задание, например, предлагается в следующем пособии: [Попова, Юрков 2000, с. 117–121]. 262 Литература Быков В.В. Его батальон // Электронный ресурс: Книгосайт: http:// knigosite.ru/library/read/15959. Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. – Благовещенск, 2000. Довлатов С.Д. Заповедник // Электронный ресурс: Книгосайт: http:// knigosite.ru/library/read/17637. Достоевский Ф.М. Бесы. – М., 2005. Матвеева Т.В. Уклончивый ответ // Речевое общение: специализированный выпуск / Под ред. А.П. Сковородникова. – Красноярск, 2011. – Вып. 12 (20). – С. 51–61. Орлов Г.А. Современная английская речь. – М., 1991. Плотникова С.Н. Непрямое общение в беседе // Прямая и непрямая коммуникация: Сборник научных статей. – Саратов, 2003. – С. 263–273. Попова Т.И., Юрков Е.Е. Поговорим? Пособие по разговорной практике. Продвинутый этап. – СПб., 2000. Розов В.С. В добрый час! // В.С. Розов. Вечно живые: Пьесы. – М., 2008. – С. 5–96. Розов В.С. В поисках радости // В.С. Розов. Вечно живые: Пьесы. – М., 2008(а). – С. 175–258. Рябцева Н.К. Язык и естественный интеллект. – М., 2005. Хомский Н. Язык и мышление. – М., 1972. Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций: Монография. – М., 2008. Шаховский В.И. Эмоции как объект исследования в лингвистике // Вопросы психолингвистики. – М., 2009. – Вып. 9. – С. 29–43. Шляхов В.И. Сценарная основа речевого общения: Технология обучения. – М., 2010. Экман П. Психология лжи / Под науч. ред. В.В. Знакова. – СПб., 2009. Bradac J. The language of lovers, flowers and friends: Communicating in social and personal relationships // Journal of language and social Psychology. – 1983. – Vol. 2. – № 3–4. – P. 141–162. 263 Ясинская Милена Борисовна (Россия, Москва; к.ф.н., проф. кафедры философии, культурологии и политологии Московского гуманитарного университета) [email protected] Лексический повтор как средство передачи имплицитного намерения автора «...и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет...» А.П. Чехов. «Дама с собачкой» Традиционно смысл / смыслы рассказа А.П. Чехова «Дама с собачкой» декодируется как: «...рассказ в действительности не кончается» [Набоков 2001, с. 330–338]; «...пошлый банковский служащий под влиянием глубокой любви к женщине становится подлинно человечным» [Белкин 1973, с. 190–192]; «Чехов рисует драму обездоленности и бесприютности человека, сбросившего с себя обывательское забытье. Но, утратив свою безмятежность, Гуров стал не беднее, а богаче. Большая любовь очеловечила его» [Бердников 1984, с. 413–414.]; Любовь, поднявшая их высоко над миром, подобном сумасшедшему дому, дает им нравственную силу поставить вопрос об освобождении. Чехов показывает, что «жизнь начинает требовать от людей каких-то решительных действий, разрыва с привычным существованием» [Бялый 1981, с. 68–69]. Представляется, что смысл / смыслы чеховского рассказа можно расшифровать иначе, используя метод декодирования подтекстового смысла при помощи выделения значений ключевых лексем / частиц и определения лексико-семантических групп (ЛСГ) в соотношении с интенциональной направленностью авторского художественного текста1 и восприятия его реципиентом. 1 Художественный текст – это «объективный» мир, общезначимый для двух субъектов (говорящего и слушающего). Каждый из них конструирует личность другого субъекта и моделирует взаимоотношения себя и другого (Э. Гуссерль). 264 Объектом исследования послужили элементы речевой структуры несобственно-прямой речи (интегрированное слово персонажа и повествователя), которые являются ядром коммуникативной экспрессивности. В процессе исследования были выделены ЛСГ, определяющие скрытый, психологически обусловленный подтекстовый смысл, отраженный через импликацию1. Отметим также, что в результате выявления импликации возможно выяснение смысловых соответствий / несоответствий читательских проекций. Импликативная лексика текста отражена через экспрессивные лингвистические единицы, репрезентирующие компоненты значения слова, позволяющие не только конденсировать смыслы текста, но и определять подтекст. В чеховском тексте импликативные лексические единицы реализуются через лексемы / частицы, характеризующиеся приемом лексического повтора как средства имплицитного информационного воздействия на реципиента. Так, например, лексема уже воспроизводится в тексте 31 раз, еще – 21 раз, казаться – 17 раз, хотеться – 14, говорить – 47 и т.д. В процессе анализа текста были выделены следующие ЛСГ: 1) ‘иллюзорности’ / ‘неуверенности’ / ‘неопределенности’ / ‘предположительности’ / ‘сомнения’ / ‘вероятности’ / ‘возможности’ / ‘ощущения потребности восстановления в памяти’ / ‘конечности чего-л., протекающего во времени’ / ‘отсутствия состояния удовлетворенности в жизни’ / ‘повторяемости’ (далее – ЛСГ ‘иллюзорности’ / ‘неуверенности’); 2) ‘свершенности’; 3) ‘возможности’ / ‘предположительности’ / ‘дополнительности’; 4) ‘говорения’2. Рассмотрим ЛСГ ‘иллюзорности’ / ‘неуверенности’, представленную лексическим повтором, отражающим, на наш взгляд, авторскую интенцию. ЛСГ включает в себя следующие лексемы: казаться, хотеться, мечтать / воображать, неизвестно, непонятно, никто, 1 Под импликацией мы понимаем сложное лингвистическое образование, отражающее: номинативную сущность языка; структурно-семантическую организацию высказывания; формирование логико-смысловых отношений внутри фразы (при взаимодействии содержательного центра и периферии); создание дополнительных семантических значений фрагмента текста, способствующих раскрытию скрытой информации как процесса построения имплицитного пространства того или иного эпизода / текста. 2 В задачи статьи не входил анализ всех ЛСГ чеховского текста, характеризующихся лексическим повтором. 265 нельзя, туман, какой-то / какая-то / как-то / кто-то, вспоминать, возможно / вероятно / должно быть / быть может, будто / точно / словно / как-бы, случай / случайный, никто / никогда, конец, (не)счастье, (не)любовь и др., повторяющиеся во всех 4 главах текста свыше 315 раз. Например, лексема казаться повторяется 18 раз, лексема хотеться – 15: «Но при всякой новой встрече с интересною женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно» [Чехов 1977, I, с. 129]1; «Все время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным; очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле, значит, невольно обманывал ее... [Там же, II, с. 135]; Хотелось пожить! [Там же, II, с. 132]; «Закрывши глаза, он видел ее, как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была; и сам он казался себе лучше, чем был тогда, в Ялте» [Там же, III, с. 136]; «Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, если можно» [Там же, III, с. 137]; «Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках» [Там же, IV, с. 143]; «Прежде, в грустные минуты, он успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову, теперь же ему было не до рассуждений, он чувствовал глубокое сострадание, хотелось быть искренним, нежным...» [Там же, IV, с. 143] и мн. др. Лексическое значение казаться определяется в Толковом словаре: «1. Иметь какой-л. вид, производить впечатление; 2. безл. кому. Представляться воображению, мысли. // безл. Чудиться, мерещиться» [Большой толковый словарь... 1998, с. 409]. В коммуникативном пространстве текста лексема казаться реализована во втором значении, что позволяет предположить воображаемые, иллюзорные и неуверенные представления персонажей о своих отношениях. Безличная словоформа казаться семантически указывает на страдательное значение, что также указывает на некую пассивность персонажей рассказа. Лексема хотеться – «нсв. безл. Ощущается как желание, потребность, стремление» [Там же, с. 1409]. В тексте лексема хотеться реализуется в представленном словарем значении, что 1 Римская цифра, в соответствии с композицией чеховского рассказа, обозначает его части. 266 также определяет характер отношений героев как невнятный, неопределенный, безличный. Лексемы, представленные ЛСГ ‘иллюзорности’ / ‘неуверенности’, структурно / композиционно распределены по частотности повторяемости следующим образом (см. схему 1): Схема 1 Из схемы 1 видно, что через весь текст проходят композиционно рассредоточенные посредством лексического повтора лексемы ЛСГ ‘иллюзорности’ / ‘неуверенности’ (более 315 раз), которые, отражая имплицитный смысл авторской интенции, по сути являются концептуальным коммуникативным ядром единого целого текстового пространства, актуализируя иные смыслы: отношения между персонажами скорее представляются им в воображении, они «живут» лишь в мечтах и воспоминаниях; герои сомневаются в истинности своих чувств; «любить» для персонажей значит ощущать и желать любовь; постоянное самоповторение внутренней речи героев направлено на подтверждение того, что любовь еще живет в их памяти, в прошлом; им свойственно состояние неудовлетворенности жизнью и ощущение конечности их отношений. Проанализируем ЛСГ ‘свершенности’, представленную лексемой / частицей уже, и ЛСГ ‘возможности’ / ‘предположительности’ / ‘дополнительности’, представленную лексемой / частицей еще. Для уточнения лексических значений обратимся к словарю: уже – «I. нареч. Случилось наступило, свершилось (какое-л. действие, состояние). II. частица. 1. Усиливает значимость 267 сообщаемого о продолжительности какого-л. отрезка времени, подчеркивает его длительность. 2. Усиливает значимость сообщаемого о количестве чего-л., подчеркивает значительность сообщаемого. 3. Усиливает значимость слов и словосочетаний, с которыми связано по смыслу» [Большой толковый словарь... 1998, с. 1377]. В чеховском тексте наречие / частица уже функционирует в значении: ‘случилось, наступило, свершилось’ и в значениях: усиления значимости и значительности сообщаемого, усиления значимости слов и словосочетаний, с которыми связано по смыслу. Например: «Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадцати лет и два сына-гимназиста» [Чехов 1977, I, с. 128]; «Еще одно похождение или приключение, и оно тоже уже кончилось, и осталось теперь воспоминание... [Там же, II, c. 135]; И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что все кончилось и они уже никогда не увидятся» [Там же, III, c. 140]; «Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь» [Там же, IV, c. 142] и др. Лексема / частица еще имеет значение: «I. нареч. 1. Дополнительно, вдобавок к тому же. / Снова, опять. 2. До сих пор. Пока что. 3. (при обозначении времени, места). Уже. 4. Указывает на наличие возможности, достаточных оснований для совершения, осуществления чего-л. 5. (при сравнит. ст. прил. и нареч.). Более, в большей степени. 6. Указывает на предположительность условия или на его соотносительность с чем-л.; в какой-то мере, хоть. III. частица. 1. Употр. при местоимениях и наречиях для подчеркивания какого-л. признака, факта, для придания выразительности высказываемому. 2. Употр. для уточнения, подчеркивания какого-л. признака, факта» [Большой толковый словарь... 1998, с. 298]. Лексема / частица еще функционирует в коммуникативном пространстве текста в значениях: ‘дополнительно, вдобавок к тому же’ / ‘снова, опять’; указывает на наличие возможности, достаточных оснований для совершения, осуществления чего-л.; указывает на предположительность условия или на его соотносительность с чем-л.; ‘в какой-то мере, хоть’; употребляется при местоимениях и наречиях для подчеркивания какого-л. признака, факта, для придания выразительности высказываемому; употребляется для уточнения, подчеркивания какого-л. признака, факта. Например: «И узнал еще Гуров, что ее зовут Анной Сергеевной» [Чехов 1977, I, с. 130]; «Нарядная толпа расходилась, уже не 268 было видно лиц, ветер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли, точно ожидая, не сойдет ли еще кто с парохода» [Чехов 1977, II, с. 131]; «Но как еще далеко было до конца!» [Там же, III, с. 140]; «Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда» [Там же, IV, с. 142] и др. Лексический повтор ЛСГ ‘свершенности’ и ЛСГ ‘возможности’ / ‘предположительности’ / ‘дополнительности’ композиционно представлен следующим образом (см. схему 2): Схема 2 ЛСГ ‘свершенности’ уже – 6 раз I глава ЛСГ ‘возможности’ / ‘предположительности’ / ‘дополнительности’ еще – 7 раз ЛСГ ‘свершенности’ уже – 12 раз II глава ЛСГ ‘свершенности’ уже – 12 раз III глава ЛСГ ‘возможности’ / ‘предположительности’ / ‘дополнительности’ еще – 12раз ЛСГ ‘возможности’ / ‘предположительности’ / ‘дополнительности’ еще – 6 раз ЛСГ ‘свершенности’ уже – 5 раз IV глава ЛСГ ‘возможности’ / ‘предположительности’ / ‘дополнительности’ еще – 5 раз На основании композиционного строения текста можно заключить, что ЛСГ ‘свершенности’ и ЛСГ ‘возможности’ / ‘предположительности’ / ‘дополнительности’ являются оппозиционными и в то же время амбивалентными, равноположенными по отношению как к композиционной модели текста, так и к имплицитному смыслу текста, сконденсированному в коммуникативных приядерных центрах уже и еще. Лексема / частица уже и лексема / частица еще ЛСГ ‘свершенности’ и ЛСГ ‘возможности’ / ‘предположительности’ / ‘дополнительности’ формирует экспрессивные коммуникативные блоки на уровне подтекста. Кроме того, они способны вызывать в сознании реципиента определенные ассоциации с контекстом. По сути, они «перебрасывают крючки когезии» [Гальперин 1981] как компоненты экспрессивной актуализации, сообщают дополнительные смыслы на уровне подтекста: еще – уводит повествование в план 269 будущего, а уже – прошедшего. Еще и уже вызывают у реципиента несчитываемое ощущение имплицитного намерения автора: прошлое свершилось, а будущего нет. Коммуникативное ядро ЛСГ ‘иллюзорности’ / ‘неуверенности’ / и приядерные зоны ЛСГ ‘свершенности’ и ЛСГ ‘возможности’ / ‘предположительности’ / ‘дополнительности’ погружены в обширную ЛСГ ‘говорения’, которая, на наш взгляд, является периферийным компонентом текста. Отметим, что свыше 80% репрезентации ЛСГ ‘говорения’ относится к несобственно-прямой речи и лишь 20% – к речевой партии персонажей. Собственно лексема говорить встречается в тексте 45 раз; остальные лексемы ЛСГ ‘говорения’ 53 раза. Лексема говорить является актуализатором текста и выявляет имплицитные смыслы: все происходящее в тексте находится в некоем отстраненном, нереальном пространстве; действительность персонажей окружена неопределенностью, размытостью, отстраненностью каких-то лиц, которые скрытно воздействуют на героев; персонажи не живут, не любят, не действуют, а говорят, советуются, объясняют, задают вопросы и отвечают и т.п.: «Она никак не могла объяснить, где служит ее муж, – в губернском правлении или в губернской земской управе, и это ей самой было смешно» [Чехов 1977, I, с. 128]; «Она жаловалась, что дурно спит и что у нее тревожно бьется сердце, задавала все одни и те же вопросы, волнуемая то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает» [Там же, II, с. 134]; «Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, если можно» [Там же, III, с. 137]; «Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание и ни одна живая душа не знает об этом и, вероятно, никогда не будет знать» [Там же, IV, с. 141] и др. ЛСГ ‘говорения’, но не действия отражена в композиционном размещении актуализаторов смысла: первое предложение рассказа и заключительное связано имплицитным подтекстом, пересекающимся с идеей ‘иллюзорности’, ‘неуверенности’, ‘неопределенности’, ‘предположительности’, ‘сомнения’ / ‘вероятности’ / ‘возможности’ / ‘ощущения потребности восстановления в памяти / ‘конечности чего-л., протекающего во времени’ / ‘отсутствия состояния удовлетворенности в жизни’ / ‘повторяемости’ ‘свершенности’; ‘возможности’ / ‘предположительности’ / ‘дополнительности’, существующей лишь в разговорах персонажей, в желании, в воображении, помещенных в безвременное пространство (смена планов времени – настоящего нет, отношения существуют или только в прошлом или только в будущем, которого нет): «Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собач270 кой» [Чехов 1977, I, с. 128] и «Потом они долго советовались, говорили о том, как избавить себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу. Как освободиться от этих невыносимых пут? – Как? Как? – спрашивал он, хватая себя за голову. – Как? И казалось, что еще немного – и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается [Там же, IV, с. 143]. Отметим, что форма прошедшего времени несовершенного вида не устанавливает продолжительности этого времени; прошедшее время абсолютно, категорично по отношению к настоящему; прошедшее время несовершенного вида при обозначении будущих действий выражает действие в сфере прошлого, не связанное с настоящим. В тексте представлена высокая частотность употребления сложных предложений со сменой плана времени по модели: прошедшее время несовершенного вида + настоящее / будущее время: «Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но все же без «низшей расы» он не мог бы прожить и двух дней» [Там же, I, с. 128]; «Гурову было уже скучно слушать, его раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное; если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль» [Там же, II, с. 133]; «Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие» [Там же, II, с. 136]; «Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание и ни одна живая душа не знает об этом и, вероятно, никогда не будет знать» [Там же, IV, с. 143] – прошедшее время несовершенного вида (незавершенность действия в прошлом) доминирует и «отрицает» будущие действия, дискредитирует их, что создает имплицитное пространство невозможности будущих отношений персонажей, их отношения остаются в прошлом, и они никак не связаны с будущим. В результате проведенного анализа можно построить схему взаимодействия имплицитных компонентов ЛСГ ядерной и периферийной зоны, функционирующих в едином целом текста (см. схему 3): 271 Схема 3 ЛСГ ‘говорения’ ЛСГ ‘возможности’ / ‘предположительности’ / ‘дополнительност и’ еще ЛСГ ‘иллюзорности’/ ‘неуверенности’ ЛСГ ‘свершенности’ уже Таким образом, импликативные лексические единицы, представленные ЛСГ, могут быть реализованы как актуализаторы определенного контекста, которые «перебрасывают крючки когезии», направлены на декодирование подтекста; импликативные лексические единицы являются аттракторами тех смыслов, которые не поддаются мгновенной дешифровке реципиентом; предложенный анализ ЛСГ позволяет вычленить экспрессивные лексические единицы текста и описать коммуникативно-прагматические интенции автора, манифестирующие иллюзорность отношений персонажей, кажущуюся им любовь, которая существует лишь в разговорах, в желаниях, в воображении, любовь, которая «живет» в безвременном пространстве. Литература Белкин А.А. Художественное мастерство Чехова-новеллиста. – М., 1973. Бердников Г.П. Проблема человеческого счастья // А.П. Чехов. Идейные и творческие искания. – М., 1984. Большой толковый словарь современного русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб., 1998. Бялый Г.А. «Пути, мною проложенные...» А.П. Чехов // Чехов и русский реализм. – Л., 1981. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 1981. Набоков В.В. Антон Чехов. – М., 2001. Чехов А.П. Дама с собачкой // А.П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. – М., 1974–1982. – Т. 10: Рассказы, повести, 1898–1903. – М., 1977. – С. 128–143. 272 Секция 3. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В МИРОВОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ 273 274 Богданова Ольга Алимовна (Россия, Москва; д.ф.н., проф. кафедры русской литературы Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] Роман В.О. Пелевина «Чапаев и Пустота» в контексте русского постмодернизма Постмодернистская культурная ситуация конца XX – начала XXI века предполагает превращение всех индивидуальных литературных стилей в дискурсы, сливающиеся в единый интертекст. В результате, по Р. Барту, наступает т.н. «смерть субъекта», через которого «говорит язык». Целостной личности, пусть и невротической, как это было в модернистском психоанализе (З. Фрейд, К.Г. Юнг и др.), больше нет – и на смену уже привычному психоанализу приходит шизоанализ; пассивного невротика заменяет активный «прогуливающийся шизофреник» (Ж. Делез, Ф. Гваттари). Шизоанализ основан на представлении о множественности сознаний внутри одного субъекта, на принципиальном расщеплении культурной личности на множество личностей, к которым неприменимы критерии истинности и ложности. Именно такой взгляд на человека – в основе романа Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» [1996]. Сказанное обусловливает и такую черту постмодернистских текстов (и названного романа в частности), как смысловая неразрешимость. Действительно, постмодернистское произведение не предлагает нам никакого вывода, никакого итога, никакой истины не то что в конечной инстанции, но даже относительного характера. Никакого смыслового приращения мы не получаем, прочитав постмодернистский роман. Это в полном смысле слова игра – игра разными культурными моделями, смыслами, ни один из которых не признается приоритетным. Если что-то и предлагается автором-постмодернистом, то это, как в романе Пелевина, – пустота: пустота как площадка для бесконечной игры, безграничное, 275 бездонное, бесконечное поле для смысловых переплетений. Интересно, что такой пустотой оказывается у Пелевина человек, литературный герой Петр Пустота, становящийся вместилищем множества сознаний, стремящийся и не могущий обрести свою личностную идентичность (т.е. понять, кто же он такой на самом деле). Буддийский мистик Чапаев убеждает героя в том, что такая идентичность просто не нужна, ее поиск тщетен, и предлагает герою субстанциальную аннигиляцию в УРАЛе (Условной реке абсолютной любви). Таким образом, человеческая личность, «человечность» как субстанция – главная опора и ценность европейской христианско-гуманистической культуры – ставится под сомнение, чуть ли не отрицается в этом романе. Но и восточная, буддийская в данном случае, система ценностей тоже не принимается в романном дискурсе: Петька Пустота не может согласиться с тем, что его нет, он до конца романа хочет быть, и не просто быть, а быть собой. Но что это такое – собой, при девальвации понятия о личностной идентичности? Может быть, основа себя – это «вечное невозвращение» из «Внутренней Монголии»? (Таковы категории, которые вводит Пелевин в своем романе). Но если «Внутренняя Монголия» – перифраз буддийской нирваны, то субъективная идентичность с ней несовместима. Итак, налицо та самая смысловая неразрешимость постмодернистского произведения, о которой говорилось выше. Главной особенностью русского постмодернизма, по сравнению с западным, стал соц-арт – концептуализм, работающий с образами советской идеологии и мифологии, пародирующий тоталитарную эстетику соцреализма. Элементы соц-арта в «Чапаеве и Пустоте» – сами культовые образы героев гражданской войны: Чапаева, Петьки, Анки, Котовского. Они подверглись постмодернистской деконструкции, из концептов превратившись в симулякры. Чапаев теперь – эзотерический философ-мистик, Петька – поэт-модернист эпохи Серебряного века, Анка – воплощение Вечной Женственности в духе Вл. Соловьева и А. Блока, Котовский – порочный денди, раздвигающий границы человеческой психофизической чувствительности до опасного предела, т.е. в полном смысле слова декадент. Где смысловая связь с персонажами романа Д. Фурманова, культового советского фильма с артистом Бабочкиным в роли Чапаева или даже анекдотов брежневской поры? Ее нет, этой связи. Остались только имена и ряд сюжетных соответствий, как бой на станции Лозовая и исчезновение Чапаева в волнах реки Урал. Мистик Чапаев демонстрирует пустоту с помощью глиняного пулемета, что показывает иллюзорность, кажимость всех явлений, вещей, даже людей: «Все, что 276 может появиться или исчезнуть – это набор пустых форм, которых не существует...» [Пелевин 1999, с. 353]. Если на Западе постмодернизм рождался из процесса деконструкции культуры модернизма и авангарда, признанных, официальных, авторитетных к концу XX века культурных явлений, то в России эквивалентом такого культурного монолита стал соцреализм. Однако на деле культура советской эпохи не была монолитной – все советские десятилетия не прерывалась подпольная, гонимая, неофициальная линия традиции Серебряного века, высокого модернизма (в первую очередь символизма) и авангарда (футуризма, конструктивизма). Увлеченный соц-артом русский постмодернизм вступил в диалог с этой культурой, подвергая ее при этом не только беспощадной деконструкции, как советскую, но пытаясь встроить в свою постмодернистскую парадигму. Более того, культура Серебряного века нередко стала восприниматься как ближайший родственный контекст, с которым не только ведутся культурологические игры, но который сам в себе содержит постмодернистский импульс. Недаром в современной прозе так часты имплицитные, подчас бессознательные отсылки к В. Розанову – писателю Серебряного века, во многом предвосхитившему эстетику постмодернизма своими «Опавшими листьями», «Уединенным» и др. Так, Т. Толстая в «Кыси» играет с розановской антилитературностью, а Л. Улицкая в «Казусе Кукоцкого» – с розановской идеей о «религии смерти» (христианстве) и «религиях жизни» (иудаизме и язычестве). В романе Пелевина «Чапаев и Пустота» Серебряный век – один из главных героев, Петр Пустота – его культурный продукт, звучат имена Вл. Соловьева, А. Блока, В. Брюсова, Алексея Толстого и мн.др. В этом романе Серебряный век как бы непосредственно встречается с Россией 1990-х, через выпадение советской эпохи из сознания героя. Петр живет в 1918–1919-м гг. и одновременно – в 1990-х. Как и западный, русский вариант постмодернизма создает поле, на котором встречаются ценностные контексты различных культурных систем, но особенность этой встречи, по сравнению с постмодернизмом зарубежным, состоит в том, что в возникающем полилоге у художника нет своего слова – все слова чужие. Действительно, в отличие от У. Эко, Дж. Фаулза, Х. Кортасара, у Пелевина отсутствует выраженный авторский дискурс – тот самый авторский комментарий, который на фоне относительности разных культурных «правд» создает в зарубежном постмодернистском романе какой-никакой смысловой центр. Культуролог и литературовед М. Эпштейн связывает эту особенность русского постмодернизма с ситуацией авторской 277 «вненаходимости» (термин М. Бахтина), из которой будто бы открывается то, что объединяет все культуры в их глубине [Эпштейн 2005, с. 454] – некий «внутрикультурный миф» [Липовецкий 1997, с. 304]. Как показывает художественная практика русского постмодернизма, тем общим знаменателем, который рождался в диалоге культурных кодов, той точкой «вненаходимости», в которой обретаются автор, герой и читатель, – неизменно оказывалась «смерть как миромоделирующий метаобраз» [Липовецкий 1997, с. 305]. У Вен. Ерофеева, Саши Соколова, В. Пьецуха, В. Шарова именно смерть, потоп, всеобщая катастрофа рисуются как точки, где мир, развалившийся на куски, собирается заново. Так смерть становится интегральным символом русского постмодернизма. Здесь можно усмотреть архаико-мифологическую модель временной смерти, через которую нужно пройти, чтобы родиться заново или обрести новое качество. В романе «Чапаев и Пустота» также происходит обращение к катастрофе, социальной и индивидуальной смерти: во-первых, в центре внимания автора – две революционные эпохи: 1918– 1919 гг. и год 1992, время гайдаровской «шоковой терапии»; вовторых, на психологическом уровне исследуется сильный танатоидальный1 комплекс в виде жертвенного идеализма, присущий русскому национальному характеру. Происходит десакрализация как коммунистической, так и белогвардейской идеологий, основанных на идее жертвенной смерти. Волю к смерти, самоуничтожению олицетворяют и центральные герои романа: Чапаев (стремление к нирване), Котовский (наркотическое саморазрушение), Анна (бесплотная и бесплодная красота). Только Петр Пустота, с помощью своих многочисленных раздвоений, частично преодолевает страх перед жизнью и тягу к смерти. В нем усиливается Эрос. Так, в лице Сердюка он отказывается от харакири. Танатос как бы ослабевает в русском характере. Восточные религиозно-философские учения (буддизм, индуизм), отрицающие ценность земной жизни, подвергаются, таким образом, в романе Пелевина экзистенциальной критике. Смерть, по Пелевину, это «вечное невозвращение», а не восточноязыческое «вечное возвращение», наводящее на мысль о буддийском «круге Сансары» и индуистских реинкарнациях. Единственность, окончательность смерти, избираемая Петром Пустотой, как бы возвращает героя в лоно христианской культурной парадигмы. 1 Прилагательное произведено от имени древнегреческого бога смерти Танатоса; З. Фрейд использовал его как символ стремления к смерти и разрушению, противопоставляя Эросу, символу жизни и созидания. 278 Последняя, кстати, в традиционном своем понимании ставилась под сомнение и в Серебряном веке, с его культом Ф. Ницше, с приверженностью ряда его деятелей ницшеанскому учению о «вечном возвращении», по своей сути языческому. Векторное понимание истории присуще только библейскому сознанию (необратимость истории, конец света, эсхатология). Таким образом, пелевинская культурная «вненаходимость» распространяется и на Серебряный век. Никакой канонизации, никакой идеализации этой эпохи в его романе нет. Более того, один из последних романов Пелевина – «t» – образец деконструкции уже «золотого века» русской культуры – эпохи классики XIX века. Здесь речь идет о Льве Толстом, Оптиной Пустыни и других знаковых символах классической русской культуры. Пелевинский постмодернизм демонстрирует свою культурную «вненаходимость» и по отношению к ней. Рождается ли что-то из постмодернистского хаоса, виден ли какой-либо выход из состояния «временной смерти» культуры в России? Уверенно ответить на эти вопросы можно лишь с большей исторической дистанции. Однако само возвращение пелевинского героя в христианскую культурную парадигму свидетельствует о саморазрушении постмодернистской эстетики в самом сердце постмодернизма. Пелевин не отрицает некоей позитивной сущности человека, но как бы проверяет ее на прочность. Похоже, в «Чапаеве и Пустоте» Пелевин не столько постмодернист, сколько русский классический писатель – идеолог, проповедник и моралист, глубоко интересующийся «вечными» вопросами бытия (см.: [Богданова 2001]). Он ищет и ставит вопросы, играя со смыслами прежде всего русской культуры и тех культур, которые влияли и влияют на русскую ментальность. В «Чапаеве и Пустоте» мы видим попытку найти новые ресурсы русского национального характера путем исследования его основных архетипов, заложенных в «коллективном бессознательном» народа, которое вскрывается с помощью шизоанализа. Так, все герои романа воплощают какие-либо паттерны русского «коллективного бессознательного»: Чапаев – мистицизм и идеализм буддийского толка, тяготеющие к смерти; Петр Пустота – страх перед подлинной жизнью, экзистенциалистской подлинностью, определенностью собственного «я», выбором судьбы (пустота – это сама Россия с ее огромными пространствами и редким населением: действие романа происходит от Петербурга до Монголии); Анна воплощает собой «Мировую Душу» в понимании Серебряного века, с ее спиритуалистической красотой; насельники России 1990-х гг., пациенты и врач психиатрической лечебницы, 279 также несут в себе архетипические черты, тем более значимые, что в рамках групповой психиатрической терапии они перетекают из одного сознания в другое, а самое главное – поселяются в сознании Петра, т.е. причастны российской пустоте. Итак, Сердюк – воплощение моды на все восточное: телевизоры, единоборства, этикет и философию, ведущую к уничтожению личности. Однако российская пустота отвергает японское самоубийство – харакири. Такой персонаж, как Просто Мария1 – воплощение обыденного, массового сознания эпохи потребления, восходящего к древним языческим мифам об ожидании культурного героя, который в 1990-е гг. принимает облик А. Шварценеггера. Оккультный брак России с таким «культурным героем» – один из возможных выборов русского национального характера. Володин – воплощение традиционного для всегда «пограничной» России (из-за огромности осваиваемых территорий, постоянной территориальной экспансии населения) разбойничьего, криминального сознания. Тоже точка культурной бифуркации: возникают не только многочисленные ассоциации с русской историей и фольклором (Соловей Разбойник, Стенька Разин), но и аллюзии на «благоразумного разбойника» из Нового Завета. Наконец, Тимур Тимурович – явный соц-артовский симулякр, отсылающий к творцу «шоковой терапии» 1992 г. Е. Гайдару. Это воплощение архетипа бездушного экспериментаторства над Россией, включающего в себя Петра I, В. Ленина и др. Таким образом, «Чапаев и Пустота» – роман о странствиях русской души. Одновременно «Чапаев и Пустота» не без оснований считается «первым русским дзэн-буддистским романом» и даже «дзэнбуддистским боевиком» [Генис 1997; Генис 1999, с. 90]. Не случайно в ерническом предисловии, поданном от Председателя Буддийского Фронта... Урган Джамбона Тулку VII, предлагается версия нахождения рукописи романа в буддийском монастыре. Этот текст – действительно попытка автора нащупать в русле буддийских путей новое видение, сдвинуть обыденные стереотипы относительно личности, времени, причин и следствий, жизненных целей – не только имитацией химически расширенных состояний психики с помощью наркотиков, но и призывом к переживанию бытия через актуализацию внутреннего потенциала «здесь и сейчас». Чапаев оказывается Гуру, оставившим народу притчи о пустоте. И красные, и белые, среди которых он ведет 1 В 1990-е гг. популярный латиноамериканский телесериал, шедший по российскому телевидению в течение нескольких месяцев. 280 битвы, – для него так же относительны, как разных цветов слои одной луковицы. Чапаев учит Петра тому, что жизнь нельзя принимать всерьез, что мир видимый, чувственный – сумасшедший дом, а мир истинный и желанный – некая «внутренняя Монголия», пустота, нирвана. При имеющемся в романе художественном прочтении буддизма, его программа – это спасение из мира безумия путем признания последнего за иллюзию. Элементы дзен-буддизма, действительно характерные для Китая и Японии, присутствует в тексте на уровне попытки воссоздать восточный образ мысли в форме коанов – афористических высказываний, основанных на жесте, алогичности, десемантизации (т.е. лишении привычного смысла), и направленных на обретение с их помощью искомого озарения (сатори). Коаны часто построены в форме вопросов и ответов. Так, коанами являются символические жесты Чапаева и Петра, когда выстрелом из пистолета вдребезги разбивается глицериновая лампа и зеркальный шар, символизирующие относительность феноменального мира, т.е. мира явлений, вещей, предметов, а также относительность мирского рационального ума, обычной логики. В главе, посвященной японской корпорации «Тайра», Кавабата и Сердюк, декламирующие друг другу танка, японские трехстишия, тоже используют коан, привязывая к дереву несуществующего коня. Роман как будто должен стать текстом-проводником во «Внутреннюю Монголию» (см. подр.: [Генис 1997]). На деле же получается, что буддийская философско-мифологическая основа романа, опрокинутая в современность, выполняет неоднозначные и противоречивые художественные функции: 1. Это, во-первых, демифологизация советской концепции истории и любых идеологических штампов. 2. Во-вторых, высветление традиционной христианской парадигмы русской культуры благодаря наличию взгляда со стороны, путем создания ей альтернативы, некоего метакультурного пространства. 3. В-третьих, продолжение традиционной в русской культуре Серебряного века темы «монголизма», начатой еще Вл. Соловьевым (есть прямые упоминания его стихотворения «Панмонголизм»). Более того, буддийская мировоззренческая тенденция была ощутимой и в русской классике XIX века, хотя бы через А. Шопенгауэра, чьему заметному воздействию подверглись, к примеру, И. Тургенев и Л. Толстой. Художественный вывод у Пелевина по сути тот же, что у его предшественников из Серебряного века (Вл. Соловьева, А. Блока, А. Белого), – опасность уничтожения человеческой личности. Общественность, по Пелевину, не 281 должна сводиться буддийской сансаре – т.е. кругу бесконечных превращений-перевоплощений. 4. И наконец, констатация того факта, что большевизм, советская эпоха опасно перекосили качели русского национального характера, веками балансирующие между Востоком (с его буддийским идеалом безличной нирваны) и Западом Нового времени (уже не христианским, а секулярно-гуманистическим, с его онтологически, т.е. бытийно, в Боге, неукорененным понятием о человеческой личности) в сторону Востока. Сам современный Запад уже соскальзывает в эту завораживающую пустоту. Однако герой пелевинского романа не только Пустота, но и Петр. А Петр, как известно, это камень, на котором Христос воздвиг свою Церковь Нового Завета. И в конце романа Петр – сам по себе, а пустота – сама по себе, не поглощает все же чапаевская пустота Петра. Итак, в романе «Чапаев и Пустота» – одном из лучших образцов русского постмодернизма – находим соотношение христианских архетипов русского национального характера и буддийской религиозной философии. Здесь в обилии представлены симулякры советской эпохи. Но самое главное – дано шизоаналитическое (вместо психоаналитического) исследование русского национального характера. И одновременно этот роман выходит за границы постмодернизма как такового и вписывается в высокую религиозно-философскую традицию русской классической литературы. Литература Богданова О.В. Современный литературный процесс (К вопросу о постмодернизме в русской литературе 70–90-х годов XX века). – СПб., 2001. Генис А. Поле чудес: Виктор Пелевин // Звезда. – 1997. – № 12. Генис А. Иван Петрович умер: Статьи и расследования. – М., 1999. Липовецкий М. Русский постмодернизм. – Екатеринбург, 1997. Пелевин В.О. Чапаев и Пустота: Роман. – М., 1999. Эпштейн М.Н. Постмодерн в русской литературе. – М., 2005. 282 Герасимова Светлана Валентиновна (Россия, Москва; к.ф.н., доц. кафедры истории литературы Московского государственного университета печати им. И. Федорова) [email protected] Генезис сюжета отсроченной мести Между пушкинским «Выстрелом» и стихотворным позднесредневековым романом «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» (XIV в.) существует типологическое сходство. – Это сходство основано на том, что оба произведения варьируют сюжет отсроченной мести. Сюжет ожидания Страшного Суда. Аналогичного сюжета нет среди тридцати шести драматических ситуаций, или вечных сюжетов, выделенных – вслед за Гоцци, чей список утрачен – Жоржем Польти, – впрочем, анализируемый сюжет и не относится к числу драматических. Заимствование сюжета исключено. Размышляя о типологических сходствах, Виктор Шкловский пишет: «Можно странствующие сюжеты даже не записывать. Все равно новая эпоха нащупает тот же сюжет» [Шкловский 1983, с. 321], ибо «писатель сюжетом своего произведения как бы протирает мир, который все время запутывается или, если хотите, пылится. И вот разные писатели, живя в разное время, нащупывают один и тот же узор, одно и то же сцепление обстоятельств, которые каждый раз поразному конкретно проявляются. Так сюжет перемещается во времени» [Там же, с. 493]. Веселовский же объясняет «обновление сюжетов» поиском новых форм для выражения «полноты новых ощущений и чаяний», которые оказывается легче влить в старые мехи, ибо популярные сюжеты уже «слишком плотно срослись с определенным содержанием» [Веселовский 1989, с. 303]. В самом же сюжете ученый видит не только жизненный и бытовой уровень, но и психологический. 283 Ю.М. Лотман развил эту мысль в статье «Происхождение сюжета в типологическом освещении», которую он посвящает разграничению и выделению в литературе мифологического и окказионального (дискретного) типа сюжетов, а заканчивает следующим выводом: «Возникшие в архаическую эпоху модели отделены от конкретных сообщений, но могут служить материалом для их текстового построения. При этом следует помнить, что в искусстве язык и текст постоянно меняются местами и функциями. Создавая сюжетные тексты, человек научился различать сюжеты в жизни и, таким образом, истолковывать себе эту жизнь» [Лотман]. Архетипическое, подсознательное и мифологическое выкристаллизовывается в сюжетах, предлагаемых повседневностью. Обратимся к только что упомянутой статье Ю.М. Лотмана: «Происхождение сюжета – вопрос, который касается отнюдь не только искусства, хотя именно сюжетные тексты в искусстве представляют собой одно из наиболее нуждающихся в объяснении явлений человеческой цивилизации. Вероятно, для наблюдателя, внешнего по отношению ко всем земным культурам, наибольшую трудность представило бы уяснение смысла существования огромного количества текстов, повествующих о событиях, заведомо не имевших места. Число произведений этого рода находится в очевидном противоречии с любой необходимой социальной функцией, которую мы можем им приписать. Исследовательская осторожность подсказывает здесь, что разумнее усомниться не в необходимости сюжетно-художественных текстов, а в нашем умении ее определить» [Там же]. Видимо, для понимания причин устойчивости сюжетов нам потребуется термин «эго-документ», предложенный голландским историком Жаком Прессером, ибо сюжет дает систему устойчивых формул для перевода субъективного личного жизненного опыта, часто в наибольшей полноте существующего в сфере бессознательного, на язык общепонятных и общепринятых семантических единиц, образующих сюжет. Но разве может бессознательное иметь структуру? – Естественно предположить, что, в противовес сознательному, оно аморфно, неопределенно и текуче. В этой связи хочется вспомнить следующее высказывание Клода Леви-Стросса: «Модели могут быть осознанными или неосознанными в зависимости от уровня, на котором они функционируют. Боас, которому принадлежит заслуга установления этого различия, показал, что группа явлений лучше поддается структурному анализу в том случае, когда общество не располагает сознательной моделью для их истолкования 284 или обоснования» [Клод Леви-Стросс 2011, с. 323]. Это бессознательное, в терминах Юнга, звучит в нас как внутренний голос, и «наша реакция на этот внутренний голос колеблется между двумя противоположностями: мы или относимся к нему как к невероятной бессмыслице, или считаем его голом Бога» [Юнг 2005, с. 269]. Голос Бога, или пророческое и абсурдное бессознательное, – это и есть наша интуитивная Библия, наша архетипическая память об этапах и смысле странствования души в мире. А все сюжеты можно разделить на два массива, на два пучка или блока – это сюжеты, повествующие о личном опыте и бессознательном знании, связанном с нашим изгнанничеством и с нашей утратой Рая, с нашей обреченностью на гибель, сюжеты рока, исполнения дурных предчувствий, катастроф – и сюжеты обретения нами счастья, жизни, обретения отца, жениха, любви, потерянных родственников, наконец, сюжеты нашего спасения, воскресения, чудесного избавления от смерти, катастрофы, несчастья, – словом, сюжеты обретения Рая, сюжеты Благой Вести. Не случайно драматические сюжеты, выросшие из комической или трагической перипетии, отличаются особой отточенностью и ясностью, – ведь в этих сюжетах наиболее полно говорит наша бессознательная память и наш опыт богооставленности, наша потребность, вера, чаяние и предчувствие опыта обретения Рая. «Зеленый рыцарь» появился в русском переводе лишь десять лет назад. Перед нами не заимствование, а сходство, определяемое мифологическими и архетипическими корнями творческого сознания. Не упоминает о сходстве между средневековым романом и повестью А. Пушкина и В.Э. Вацуро, собравший обширный материал на эту тему: «Среди литературных мотивов лермонтовской драмы особую роль играет мотив «отсроченной мести». Ждет своего часа Неизвестный (в поздней редакции драмы); откладывает расплату с князем Арбенин; в вынужденном ожидании лелеет планы отмщения и князь Звездич. Еще в 1820-е годы мотив этот обозначился в русской литературе одной из своих частных модификаций – мотивом «отложенного выстрела». Он наметился еще в «Вечере на бивуаке» А.А. Бестужева в «Полярной звезде на 1823 год»; герой рассказа, тяжело раненный на дуэли, не успевает сделать свой выстрел и намерен использовать его в следующем поединке. Четырьмя годами позднее «отложенный выстрел» становится центральным сюжетным мотивом в новелле Ореста Сомова «Странный поединок», напечатанной в несколько измененном виде вторично в 1830 году. Около 15 августа 1831 года Пушкин просил 285 Плетнева выписать из Бестужева эпиграф для «Выстрела»: «У меня оставался один выстрел, я поклялся etc.», Пушкин цитировал по памяти; у Бестужева было сказано: «Я поклялся застрелить его по праву дуэли (за ним остался еще мой выстрел)». Итак, сюжет попал в поле зрения Пушкина; он помнился ему еще (по старой повести Бестужева, хотя автор «Вечера на бивуаке» не развил его, а лишь обозначил. Не исключено, что интерес этот поддерживался и реальными впечатлениями: как и всему Петербургу, Пушкину была известна отложенная дуэль Якубовича и Грибоедова, в которой, впрочем, оба противника сохраняли право на выстрел; через год дуэль состоялась в Тифлисе, и Пушкин был осведомлен о ее обстоятельствах. Упоминаем здесь об этом потому, что в планах нереализованного «Романа на Кавказских водах», где Якубович был прототипом одного из главных действующих лиц, в его авантюрной биографии есть загадочное место: «...встреча – изъяснение – поединок – Якуб<ович> [ранен] не дерется – условие. Он скрывается» [Пушкин 1956–1962, т. 8, с. 964–965]. Трудно сказать, имеем ли мы здесь дело с мотивом «отложенного поединка»; во всяком случае, отказ от него – полный или временный – связан с каким-то «условием», которое должно было, повидимому, увеличивать сюжетное напряжение. В дальнейшем от этого мотива Пушкин отказывается» [Вацуро 1987]. В рыцарском романе выстрел невозможен, поэтому сюжет можно назвать более универсальным термином – «отложенное продолжение поединка». Мотив отсроченной мести известен со времен Античности, – например, он становится центральным и сюжетообразующим в «Фиесте» Сенеки, где Атрей мстит Фиесту: Фиеста любит брат? Скорей Медведицу Омоет море, у берегов Сицилии Прибой утихнет хищный, урожай взойдет Из Ионийских волн, и непроглядная Ночь землю осветит, скорей смешаются Вода и пламя, смерть и жизнь, союз моря И ветры заключат. [Сенека 1983, с. 215]. Привожу именно эту цитату, ибо в ней содержится параллель к пушкинской характеристике Онегина и Ленского: «лед и пламень не столь различны меж собой». Она особенно актуальна и потому, что мнимое примирение противоположностей разрешается как в варианте Сенеки, так и в пушкинском варианте – местью. 286 Мотив отложенного возмездия часто встречается и в исландских сагах, разрабатывающих тему кровной вражды и мести. Особенно психологично и парадоксально этот мотив звучит в «Саге о Гисли», заглавный герой которой берет вину своего брата Вестейна на себя и тринадцать лет несет крест изгоя. Пласт исторического и архетипического есть в каждом вечном сюжете, причем архетипически сюжет отложенной мести связан не только с ситуацией справедливого возмездия за вину, но и с ситуацией блудного сына, ожидающего суда отца. Этот пласт сюжета обычно рассматривается как бытовое воспроизведение обряда инициации, с гибелью и воскресением героя. Ставшую символом первородного греха вину – первый выстрел или удар во время дуэли – можно рассматривать как потенциальную смерть, – то есть смерть духовную, ведь вина и первородный грех убивают именно душу. Но в анализируемой паре произведений на сюжет отложенной мести важно не воскресение героя, а как бы его воскрешение, то есть в тексте представлен герой, способный даровать воскресение, – этот герой предлагает испытание, чтобы удостовериться, что этого испытания достаточно, что испытание само является наказанием, а затем отказывается от физической расправы. Не герой воскресает, но есть воскрешающий, точнее, имеющий право отказаться от казни, ибо ответный выстрел приближает героев к ситуации казни одного героя другим. Ответ за свою провинность развивается в контексте ситуации Страшного суда или в контексте Библейской притчи о блудном сыне. Мифологема, архетип, переживание (как хотите – так и назовите) испорченности самых основ бытия есть в душе каждого человека. В подобных ситуациях находятся все, – что обусловливает спонтанное возобновление сюжета в разные эпохи. Исторически сюжет связан с мотивом чести, который окрашивает архетипический пласт повествования конкретными бытовыми деталями дуэли или поединка. Литература перестанет быть литературой, если не будет говорить о смысле жизни человека, поэтому в фабульной литературе есть основополагающее сходство с «эго-текстом» – это стремление описать самые сокровенные чаяния и опасения человека. Но субъективные и сугубо индивидуальные переживания и стремления обрести смысл бытия в себе и себя в мире – переведены на общечеловеческий, интернациональный язык сюжетных ходов и ключевых сюжетных ситуаций, – иные темы сделали бы литературу сиюминутной, вульгарной. Смысл жизни кодифицируется в архетипических ситуациях, соотносящих человека с Богом, смертью, раем и адом, возлюбленным или врагом. В наиболее чистом, 287 рафинированном виде эти ситуации представлены в Священном Писании. Литература в этом смысле – профанный вариант Библии, – там, где беллетристика отходит от архетипических сюжетов, – она умирает, деградирует, вырождается. Устойчивость и возобновляемость сюжета отложенной мести связана с архетипической системой персонажей, или актантов. Сама природа, само бессознательное ведение, в которое «повивальными» вопросами вторгался Сократ, содержит понимание того, что человек в этом мире мыслящий тростник – тростинка, колеблемая ветром, беззащитный странник, что над ним нависает должный свершиться вскоре Страшный Суд. Важнейшими актантами сюжета отложенной мести является герой, обладающей властью казнить и миловать, и герой, предчувствующий роковую кару. Обозначим их через оппозицию Властного и Подсудного. Сами законы природы порождают миф, дающий сюжет литературе. Чередование весен и осеней порождает миф о воскресающем и умирающем божестве. Бессознательная память об исходе из материнской утробы – сюжет об изгнании из рая. Таким бесприютным изгоем чувствует себя и Гавейн – герой, вступивший в поединок с Зеленым рыцарем. Властный актант в подобных сюжетах может быть представлен как Мстителем (дуэлянтом, участником рыцарского поединка), так и Отцом, в котором Подсудный может видеть Мстителя до тех пор, пока не будет помилован. Властный актант может нести на себе отсвет нечистой силы, ибо Суд здесь ассоциируется с чем-то противоестественным, судья – воплощение зла и насилия. В тексте Пушкина об этом говорится прямо [Пушкин 1956–1962, т. 6, с. 90]. В «Зеленом рыцаре» опосредованно, ибо: И всем стало страшно оттого, Что, губами пошевеливая едва-едва, Заговорила у руках у него Отрубленная голова! [Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь 2003, с. 22]. В развязке, в сцене мести, голова рыцаря красуется на его плечах. Аналогичные представление встречается и в таких главах «Народной книги»: «Как доктор Фауст занял у одного еврея деньги и дал ему в залог свою ногу, которую он сам отпилил себе на глазах у еврея» [Легенда о докторе Фаусте 1978, с. 78] или «О четырех волшебниках, которые рубили друг другу головы и снова насаживали, причем и доктор Фауст то же самое сделал» [Там же]. Отрубание и приращение частей тела в народной культуре связывается с чарами нечистой силы. 288 Исцеления святых в житиях не включают мотива приросших членов. Этот мотив есть только в житии св. Иоанна Дамаскина и в иконографии иконы Божией Матери Троеручица. В житиях усечение главы – итог земных страданий святого. Так казнили колдунов и подвижников, чья святость не вмещалась в «эвклидов» ум язычников, которые осмысляли неведомое через понятное, то есть видели в Благодати, исцеляющей святых, – колдовство. Именно этот темный источник использует и народный Фауст, ибо умению вводить людей в заблуждение, чтобы те принимали живую ногу за отрубленную, он научился у падшего духа. Кстати, тема еврея-ростовщика, берущего плату частью человеческого тела (сердцем), есть и в «Венецианском купце» У. Шекспира. Об этой пьесе обычно говорят, что купец, как ни странно, грустен с самого начала – еще до известия о гибели своих богатств, – и это не случайно, ибо данный тип сюжета погружает нас в атмосферу закона, а не благодати, суда и ожидания расплаты. Из сюжета отложенной мести развивается сюжет кровной мести. Месть за первопредка. Интересно, что в пушкинском тексте путешествие ради ответного выстрела совершает Мститель, а в романе XIV века – Подсудимый. То есть в старинном сюжете активным героем, ищущим смысл бытия, идущим навстречу судьбе, является герой, архетипически восходящий к образу Блудного сына. В центре внимания средневекового сюжета оказывается душа невольного преступника, судьба Ветхого Адама, провинившегося перед надличным началом, по сюжету – Зеленым Рыцарем, и ищущего Высшего суда и Высшей справедливости, – и, к удивлению своему, обретающему в Судию Милостивого, не секущего – голову за голову. В пушкинском сюжете в центре внимания оказывается демонический мститель, который гибнет в конце повести и сам. На место Естественного закона, символически связанного с миром растительности – не случайно рыцарь Зеленый, и даже шире – с миром живой природы, в которой раны зарастают, обиды со временем забываются и то, что казалось непростительным, чудесным образом прощается, – приходит мир цивилизации, культивирующий идеал мести за свою честь. Этот мир, оторванный от естественных ритмов бытия, пронизан противоестественными – относительно мира Зеленого рыцаря – архетипами. Вместо милующего Судии мы встречается со злопамятным, для которого месть стала смыслом и центральным переживанием всей его жизни. В этом мире не ничего не может измениться. Интересно, что в святоотеческой литературе выделяются три комплекса переживаний или движений природы – по природе 289 Христа, или Нового Адама, – против природы Христа, но по природе Ветхого Адама, – наконец, против природы даже и Ветхого Адама. Эти христианские, язычески-естественные и цивилизованно-противоестественные, даже демонические переживания описываются в частности в творениях Преподобного Аввы Исаии: «4. Сказал опять: если, давши кому что взаймы, простишь ему, то будешь подражатель природе Иисуса; а если взыщешь, то – природе Адама; если же возьмешь рост, то (это будет) не по естеству даже и Адама (разумеется – ниже или против него). 5. Когда кто обвинит тебя по какому-либо делу, которое ты сделал, или не сделал; то если ты смолчишь, это будет по природе Иисуса, – если скажешь в ответ: что я сделал? То это будет не по Его природе, – если же противоречишь слово за слово, то это будет против природы Его» [Исаия, Преподобный Авва 1993, с. 323]. Словом, универсальная общечеловеческая память, подобно белому лучу, разлагается на целый спектр цветов, преломляясь через различные доминантные (или архетипически важные и ключевые) состояния души человека. Ветхий Адам благодаря своей естественно-падшей памяти ведает о личной вине и подобно средневековому Гавейну (Блудному Сыну) со страхом и трепетом идет на поиски Судии – и обретает помилование. Адам же демонизированный в своей противоестественной злопамятности выдвигает на первый план судию, который мстит, даже отказываясь от выстрела, ибо получает удовлетворение, наблюдая беспомощное мужество отчаянного человека, готового принести и жизнь, и будущее счастье на плаху чести. Эти беспомощность и отчаяние оценившего сладость бытия человека свидетельствуют о предельной уязвимости души, действующей согласно с природой Ветхого Адама, в цивилизации, живущей против его природы. Мы видим, как один архетипический актант реализуется в различных характерах или масках. Видим, как единый конгломерат событий, преломившись через разные доминантные состояния памяти, реализуется в сюжетах, сходство которых лишь подчеркивает различие в истолковании событий, зафиксированных в глубинах нашей памяти, в интуитивной Библии нашего подсознания. Литература Вацуро В.Э. «Моцарт и Сальери» в «Маскараде» Лермонтова. Русская литература. – 1987. – № 1 // Электронный ресурс: http://lib.pushkinskijdom. ru/LinkClick.aspx?fileticket=CqqHXBQLCLU%3D&tabid=10358. Веселовский В.А. Историческая поэтика. – М., 1989. Исаия, Преподобный Авва. Слово осьмое // Добротолюбие. – СвятоТроицкая Сергиева Лавра, 1993. – Т. 1. 290 Леви-Стросс Клод. Структурная Антропология. – М., 2011. Легенда о докторе Фаусте. – М., 1978. Лотман М.Ю. Происхождение сюжета в типологическом освещении // Электронный ресурс: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Lotm/ 23.php. Пушкин А.С. Выстрел // А.С. Пушкин. Полное собрание сочинений: В 10 т. – М., 1956–1962. Сенека Луций Анней. Фиест // Трагедии. – М., 1983. Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь. – М., 2003. Шкловский В. Энергия заблуждения. Книга о сюжете // Избранное: В 2 т. – М., 1983. – Т. 2. Юнг К.Г. Душа и миф. Шесть архетипов. – М., 2005. 291 Голубева Ольга Владимировна (Россия, Москва; к.ф.н., доц. кафедры русского языка Московского государственного горного университета) [email protected] Французская Муза русских поэтов (Ш.-О. Сент-Бёв – участник творческого диалога между Пушкиным и Баратынским) Исследователями творчества А.С. Пушкина и Е.А. Баратынского уже предпринималась плодотворная попытка сопоставления Музы Баратынского с пушкинским описанием Музы-Татьяны в седьмой и восьмой главах «Евгения Онегина» [Гельфонд 2003, с. 240]. Тексты Пушкина и Баратынского действительно очень близки, «структурно» и «по центральной мысли»: Баратынский Не ослеплен я музою моею: Красавицей ее не назовут И юноши, узрев ее, за нею Влюбленною толпой не побегут. Приманивать изысканным убором, Игрою глаз, блестящим разговором, Ни склонности у ней, ни дара нет; Но поражен бывает мельком свет Ея лица необщим выраженьем, (поздняя ред.: Ея речей спокойной простотой <...>) Пушкин Никто б не мог ее прекрасной Назвать; но с головы до ног Никто бы в ней найти не мог Того, что модой самовластной В высоком лондонском кругу Зовется vulgar. <...> (8, XV) Архивны юноши толпою На Таню чопорно глядят И про нее между собою Неблагосклонно говорят (7, XLIX) Она была нетороплива, Не холодна, не говорлива, Без взора наглого для всех, Без притязаний на успех, Без этих маленьких ужимок, Без подражательных затей... Все тихо, просто было в ней <...> (8, XIV) 292 Баратынский (ранняя ред.: Достоинством обдуманных речей) [Баратынский 1982, с. 121; Баратынский 2002, с. 244–245]. Пушкин Был так же тих ее поклон. <...> (8, XVIII) <...> она Сидит покойна и вольна <...> (8, XXII) Кокетства в ней ни капли нет <...> (8, XXXI) Подобные текстуальные «сближенья», безусловно, делают актуальным вопрос о влиянии поэтов друг на друга, их творческом диалоге1. Первым вступает в диалог с Пушкиным Баратынский, сближая свою Музу с пушкинской Татьяной Лариной (в 7 главе она дебютирует в московском свете) и имея в виду вполне конкретное не(вос)приятие собственной поэзии «архивными юношами» (любомудрами), в частности С.П. Шевыревым, критически отозвавшемся об издании стихотворений Баратынского 1827 года [Шевырев, 1828]: Архивны юноши толпою На Таню чопорно глядят И про нее между собою Неблагосклонно говорят (7, XLIX) И юноши, узрев ее, за нею Влюбленною толпой не побегут Все другие «сближенья» Муз Пушкина и Баратынского связаны с 8 главой «Онегина». И в данном случае равно возможно, что: Текст ранней редакции стихотворения Баратынского мог послужить Пушкину одним из источников для создания образа его Музы. «Северные Цветы» на 1830 год вышли в свет к 1 января 1830 г., всего через несколько дней после того, как Пушкин при- 1 Баратынский написал первую редакцию Музы в 1829 г., но не позднее 22 ноября 1829 г., когда стихотворения для «Северных Цветов» на 1830 год были отправлены цензору К.С. Сербиновичу [Летопись жизни и творчества Е.А. Баратынского 1998, с. 233]; Пушкин писал 7 главу «Евгения Онегина» с осени 1827 г. по 4 ноября 1828 г. (в свет вышла в марте 1830 г.); 8 главу – с 24 декабря 1829 г. по 25 сентября 1830 г. (в течение 1831 г. Пушкин ее пере рабатывал, и в свет 8 глава вышла в январе 1832 г.). 293 ступил к созданию 8 главы «Онегина»1. Поэтому, даже если Пушкин не познакомился с Музой Баратынского до ее опубликования, он прочитал о ней в «Северных Цветах» на 1830 год. Описание Музы в 8 главе «Евгения Онегина» могло быть одним из поводов для переработки Баратынским заключительных строк (ст. 10–12) стихотворения2. Но есть еще одно объяснение. Диалог поэтов осуществлялся в общем культурном контексте эпохи, для которой влияние французской литературы было одним из определяющих факторов в создании новой русской словесности. И совпадение характеристик Музы-Татьяны и Музы Баратынского может быть также следствием обращения Пушкина и Баратынского к одному и тому же поэтическому источнику. Такой источник действительно существует. Это два стихотворения Шарля-Огюстена Сент-Бёва (C.-A. Sainte-Beuve): «Ma Muse» («Non, ma Muse n’est pas l’odalisque brillante...») и «Toujours je la connus pensive et sérieuse...», вошедшие в состав его книги «Vie, Poésie et Pensée de Joseph Delorme» (Paris. 1829)3: 1 24 декабря 1829 г. Поздняя редакция «Музы» была осуществлена Баратынским в конце 1832 – начале 1833 года, когда он готовил к изданию очередное собрание своих стихотворений. 3 В «Мыслях» Жозефа Делорма также есть характеристика Музы Ламартина, напоминающая по своей «отрицательной характеристике» Музы Пушкина и Баратынского: La Muse de Lamartine ne se soucie pas même de cette parure agreste et naïve qui charme singulièrement dans l’autre Muse, sa soeur <Музы Андре Шенье>; il semble qu’elle n’ait jamais pensé, elle, à se mirer, à se regarder rêver ou marcher, à tourner la tête pour voir flotter ses cheveux au vent ou sa robe aux buisssons. Et pourtant que de charme aussi dans ce laisser-aller sans corbeille et sans ceinture! Quelle simplicité irréfléchie, sans retour sur ellemême, si parfaite qu’elle ne va pas jusqu’ à paraitre naïve! Que de noblesse dans cet abandon, et souvent et à la fois quelle grâce suprême! (Перевод: «Муза Ламартина не заботится даже о таких нехитрых деревенских украшениях, столь необычайно привлекательных у другой Музы, ее сестры <Музы Андре Шенье>; кажется, что ламартиновской Музе даже и в голову не приходит взглянуть на свое отражение, посмотреть, как она выглядит, когда сидит и мечтает или когда бежит, повернуть голову, чтобы взглянуть, как ее волосы развеваются по ветру или платье зацепляется за кусты. И, однако, до чего же она прелестна, когда движется небрежным легким шагом и нет у нее ни тугого пояса, ни корзины с плодами, ни цветов в волосах! Какое беззаботное, безоглядное простодушие: оно столь искренне, что даже не кажется наивным; сколько благородства в этой небрежности, и одновременно какая совершенная грация!» – пер. И.Я. Шафаренко [СентБёв 1986, с. 202–203]). 2 294 Ma Muse Non, ma Muse n’est pas l’odalisque brillante Qui danse les seins nus à la voix sémillante, Aux noirs cheveux luisants, aux long yeux de houri; Elle n’est ni la jeune et vermeille Péri, Dont l’ail radieuse éclipserait la queue D’un beau paon, ni la fée à l’aile blanche et bleue, Ces deux rivales soeurs, qui, dès qu’il a dit oui, Ouvrent mondes et cieux à l’enfant ébloui. Elle n’est pas non plus, ô ma Muse adorée! <...> Non; – mais; quand seule au bois votre douleur chemine, Avez-vous vu, là-bas, dans un fond, la chaumine Sous l’arbre mort? Auprès; un ravin est creusé; Une fille en tout temps y lave un linge usé. Peut-être à votre vue elle a baissé la tête; Car, bien pauvre qu’elle est, sa naissance et honnête. Elle eût pu, comme une autre, en de plus heureux jours S’épanouir au monde et fleurir aux amours; Voler en char, passer aux bals, aux promenades; Respirer au balcon parfums et sérénades; Ou, de sa harpe d’or éveillant cent rivaux, Ne voir rien qu’un sourire entre tant de bravos. Mais le ciel dès l’abord s’est obscurci sur elle, Et l’arbuste en naissant fut atteint de la grêle <...> [Sainte-Beuve 2004, p. 131–132]. (Перевод: «Нет, моя Муза не блестящая одалиска, / Танцующая с обнаженной грудью, с живым (веселым) голосом, / С черными сверкающими волосами, с продолговатыми глазами гурии; / Она и не юная и румяная Пери, / Чье лучезарное (сияющее, светлое, великолепное) крыло затмило бы хвост / Прекрасного павлина, и не фея с белым и голубым крылом, не эти две сестры-соперницы, которые, как только он сказал да (Стоило ему только сказать да), / Открывают землю и небо ослепленному (обольщенному, восхищенному) ребенку. / Это не она, о моя обожаемая Муза! <...> Нет, но когда ваше горе одиноко бредет по лесу, / Вы видели, там, в глубине, убогую хижину / Под мертвым деревом? рядом прорыт глубокий овраг; / Какая-то девушка все время стирает там изношенное белье. / Может быть, под вашим взглядом она опустила голову; / Ибо, при всей своей бедности, она из хорошей семьи. / Она могла, как всякая другая, в более счастливые дни / Блистать (сиять, расцветать) в свете и цвести для любви; / Кататься в коляске (Мчаться в экипаже), ходить на балы и гулянья; / Вдыхать на балконе ароматы и серенады; / Или своей золотой арфой пробуждая сотни соперников, / 295 Не замечать ничего, кроме одной улыбки, среди стольких одобрительных возгласов. / Но небеса с самого начала сгустились (померкли) над ней, / И деревце, едва родившись, было побито градом. <...>»; курсив мой – О. Г.); «Toujours je la connus pensive et sérieuse...» Toujours je la connus pensive et sérieuse; Enfant, dans les ébats de l’enfance joueuse Elle se mêlait peu, parlait déjà raison <...> <...> Bientôt elle eut quinze ans, Et sa raison brilla d’attraits plus séduisnts: Sein voilé, front serein où le calme repose, Sous de beaux cheveux bruns une figure rose, Une bouche discrète au sourire prudent, Un parler sobre et froid, et qui plaît cependant; Une voix douce et ferme, et qui jamais ne tremble, Et deux longs sourcils noirs qui se fondent ensemble. Le devoir l’animait d’une grande ferveur: Elle avait l’air posé, réfléchi, non rêveur; Elle ne rêvait pas comme la jeune fille, Qui de ses doigts distraits laisse tomber l’aigulle, Et du bal de la veille au bal du lendemain Pense au bel inconnu qui lui pressa la main. <...> Ce coeur jeune et sévère ignorait la puissance Des ennuis dont soupire et s’émeut l’innocence. <...> Les galantes fadeurs, les propos pleins de zèle Des jeune gens oisifs étaient perdus chez elle; Mais qu’un coeur éprouvé lui contât un chagrin, A l’instant se voilait son visage serein; Elle savait parler de maux, de vie amère, Et donnait des conseils comme une jeune mère. Aujourd’hui la voilà mère épouse, à son tour; Mais c’est chez elle encor raison plutôt qu’amour. Son paisible bonheur de respect se tempère; Son époux déjà mûr serait pour elle en père <...> Heureuse comme avant, à son nouveau devoir Elle a réglé sa vie... <...> 296 Et moi qui vois couler cette humble destinée Au penchant du devoir doucement etraînée, Ces jours purs, transparents, calmes, silencieux, Qui consolent du bruit et reposent les yeux, Sans le vouloir, hélas! je retombe en tristesse; Je songe à mes longs jours passé avec vitesse, Turbulents, sans bonheur, perdus pour le devoir, Et je panse, ô mon Dieu! qu’il sera bientôt soir! [Sainte-Beuve 2004, p. 143–145]. (Перевод: «Я всегда знал ее задумчивой и серьезной; / Ребенком в забавы веселого детства / Она вмешивалась редко, рассуждала уже разумно <...> / Скоро ей исполнилось пятнадцать лет, / И ее разум заблистал прелестями более обворожительными: / Прикрытая грудь, ясное чело, на котором почиет спокойствие, / Розовое лицо под прекрасными темными волосами, / Скромные губы со сдержанной улыбкой, / Строгая (скромная, умеренная, трезвая) и холодная речь, которая, однако, нравится; / Нежный и твердый голос, никогда не дрожащий, / И черные, сходящиеся брови. / Чувство долга внушало ей благородное усердие: / Она выглядела спокойной, рассудительной, не мечтательной; / Она не мечтала, как молодая девушка, / Рассеянно роняющая из рук иглу / И думающая со вчерашнего до завтрашнего бала / О прекрасном незнакомце, пожавшем ей руку <...> / Это юное и строгое сердце не знало власти / Тоски, от которой вздыхает и волнуется невинность. <...> / Приторные комплименты и пылкие фразы / Праздных молодых людей для нее тратились попусту; / Но когда измученное сердце рассказывало ей свое горе, / ее ясное чело тотчас омрачалось; / Она умела говорить о страданиях, о горькой жизни, / И давала советы как молодая мать. / Теперь она в свою очередь мать и жена; / Но это скорее по рассудку, чем по любви. / ее мирное счастье умиряется уважением; / ее муж, уже не молодой, мог бы быть для нее отцом <...> Счастливая, как прежде, со своими новыми обязанностями / Она сообразует свою жизнь <...> / И при виде того, как тихо течет эта скромная доля, / Кротко уступая влечению долга, / Эти чистые, прозрачные, спокойные, молчаливые дни, / Которые успокаивают от шума и на которых отдыхают глаза, / Невольно, увы, я вновь впадаю в грусть; / Я думаю о моих быстро ушедших долгих днях, / Бурных, несчастливых, потерянных для долга, / И, о Боже! я думаю о том, что скоро настанет вечер!» В подстрочном переводе использован прозаический перевод стихотворения в Полном собрании сочинений А.С. Пушкина – [Пушкин 1949, т. 11, с. 570–571]; курсив мой. – О.Г.) Книга Сент-Бёва «Жизнь, стихотворения и мысли Жозефа Делорма» вышла в свет в апреле 1829. И поскольку известно, что 297 Баратынский закончил работу над «Музой» не позднее 22 ноября 1829, вполне можно предположить, что она была написана в апреле–ноябре 1829, под непосредственным впечатлением от книги Сент-Бёва. Синтезировав в первой строке своей «Музы» («Не ослеплен я музою моею») все ослепляющие (и читателя, и «толпу») эпитеты «Музы» Сент-Бёва («l’odalisque brillante», «Aux noirs cheveux luisants», «l’ail radieuse», «l’enfant ébloui», «s’épanouir au monde»), Баратынский не только обыгрывает изобразительные средства французского источника, но и опирается на его композиционную структуру. Противопоставление блестящей одалиски и скромной девушки из хорошей семьи, исполненной спокойного достоинства, заложенное в стихотворениях Сент-Бёва, сохраняется в «Музе» Баратынского, отлившись в афористическую форму, свойственную его поэзии в целом. Вслед за французским поэтом он последовательно отвергает все уловки кокетливых красавиц (ст. 5–7): Приманивать изысканным убором, / Игрою глаз, блестящим разговором, / Ни склонности у ней, ни дара нет (ср. у Сент-Бёва: Non, ma Muse n’est pas l’odalisque brillante / Qui danse les seins nus à la voix sémillante, / Aux noirs cheveux luisants, aux long yeux de houri). А одним из главных достоинств называет (в ст. 10) «достоинство обдуманных речей»; в поздней редакции – «спокойную простоту речей» (ср. в стихотворении Сент-Бёва «Toujours je la connus pensive et sérieuse»: «Un parler sobre et froid, et qui plaît cependant»). Пушкин, как уже было упомянуто выше, мог ознакомиться с «Музой» Баратынского самое позднее в начале января 1830 (время выхода «Северных Цветов на 1830 год»). До 25 сентября 1830 он работал над 8 главой «Евгения Онегина»; в декабре 1830 интенсивно общался с Баратынским в Москве; а в апреле 1831 (в течение 1831 Пушкин перерабатывал 8 главу по цензурным соображениям) именно об этих двух стихотворениях Сент-Бëва отозвался с одобрением в рецензии в «Литературной газете» (1831, № 32): «Между сими болезненными признаниями, сими мечтами печальных слабостей и безвкусными подражаниями давно осмеянной поэзии старого Ронсара, мы с изумлением находим стихотворения, исполненные свежести и чистоты. С какой меланхолической прелестию описывает он, например, свою Музу! <далее цитируется отрывок из стихотворения «Ma Muse» <...> Совершеннейшим стихотворением изо всего собрания, по нашему мнению, можно почесть следующую элегию, достойную стать на ряду с лучшими 298 произведениями Андрея Шенье. <Далее приведен полный текст стихотворения «Toujours je la connus pensive et sérieuse...» [Пушкин 1949, т. 11, с. 197–200] 1. Пушкин, приняв игру Баратынского, сравнившего свою Музу с Музой-Татьяной (см. строки о неблагосклонных «юношах» в 7 главе «Евгения Онегина» и «Музе» Баратынского), видимо, внимательно отнесся и к Музе Баратынского и к ее источникам. Внимание к стихотворениям Сент-Бёва (в первую очередь к «Toujours je la connus pensive et sérieuse...»), помимо желания вступить в литературную игру с Баратынским и одобрить его художественный вкус, видимо, было вызвано созвучием идей французского поэта (в первую очередь относительно идеала женской красоты) с собственными творческими идеями Пушкина. Поэтому в чертах Татьяны, представшей перед читателем в 8 главе, угадываются характеристики героинь стихотворений Сент-Бёва. С тем различием, что Пушкин соединил черты чувствительной, непосредственной юной девушки (<...> la jeune fille, / Qui de ses doigts distraits laisse tomber l’aigulle, / Et du bal de la veille au bal du lendemain / Pense au bel inconnu qui lui pressa la main) и прекрасной и строгой молодой женщины, осознающей свой долг (Le devoir l’animait d’une grande ferveur: / Elle avait l’air posé, réfléchi, non rêveur <...> / Aujourd’hui la voilà mère épouse, à son tour; / Mais c’est chez elle encor raison plutôt qu’amour / Son paisible bonheur de respect se tempère <...> / Heureuse comme avant, à son nouveau devoir / Elle a réglé sa vie...), противопоставленные у Сент-Бёва, в одной героине. Татьяна, сохранив в душе черты «прежней Тани», «с мечтами, сердцем прежних дней» (8, XLI), внешне преобразилась в благородную княгиню (Она была нетороплива, / Не холодна, не говорлива, / Без взора наглого для всех 1 Внимание к творчеству Шенье и Баратынского и Сент-Бëва; сравнение Пушкиным стихотворения Сент-Бëва «Toujours je la connus pensive et sérieuse...» с лучшими произведениями Шенье позволяет говорить еще об одном источнике «Музы» Баратынского – послании А. Шенье шевалье де Панжу (Au chevalier de Pange, 1819): <...> J’ai choisi parmi vous ma Muse jeune et chère; Et, bien qu’entre ses soeurs elle soit la dernière, Elle plaît. Mes amis, vos yeux en sont témoins. Et puis une plus belle eût voulu plus de soins <...> (<...> Я нашел среди вас <лес, эхо, свежий ветер, сельские божества> мою юную и дорогую Музу; / И хотя среди своих сестер она была бы последней, / Она нравится. Мои друзья, ваши глаза тому свидетели. / И потом, более красивая требовала бы и большей заботы <...> [Chénier 1994, p. 153]). 299 <...>, etc. – 8, XIV), «сообразовавшую свою жизнь с новыми обязанностями» (<...> à son nouveau devoir / Elle a réglé sa vie...): «Я вышла замуж <...> Но я другому отдана; / Я буду век ему верна» (8, XLVII). Баратынскому Пушкин ответил в 8 главе, противопоставив ослепительную красоту Нины Воронской, героини поэмы Баратынского «Бал», «беспечной прелести» своей Музы – Татьяны Лариной (переведя таким образом антитезу блестящей светской красавицы и красавицы тихой, простой и строгой, исполненной красоты внутренней, в плоскость литературной игры). Подчеркнут в его ответе Баратынскому и мотив ослепительности блестящей красоты, не способной затмить истинную прелесть, – мотив, определяющий композиционное построение и подбор эпитетов и в Музе Сент-Бёва, и в Музе Баратынского. Беспечной прелестью мила, Она сидела у стола С блестящей Ниной Воронскою, Сей Клеопатрою Невы, И, верно б, согласились вы, Что Нина мраморной красою Затмить соседку не могла, Хоть ослепительна была. <...> (8, XVI; курсив мой. – О.Г.) Комплимент, с одной стороны, выражающий согласие с оценкой Баратынским своего таланта, и одновременно тонкое указание на превосходство собственного творческого дара (в этом отношении «беспечная прелесть» и «мраморная краса» вполне могут быть рассмотрены как характеристики поэзии соответственно Пушкина и Баратынского). И в эту литературную дуэль-игру русские поэты вовлекли поэта французского, повлиявшего и на композиционное решение, и на поэтический язык их сочинений. Литература Баратынский Е.А. Стихотворения; Поэмы / Изд. подг. Л.Г. Фризман. – М., 1982. Баратынский Е.А. Полное собрание сочинений и писем / Рук. проекта А.М. Песков. – М., 2002. – Т. 2. – Ч. 1. Гельфонд М.М. Апофатическое описание музы в творчестве Пушкина и Боратынского // Новые страницы боратыноведения. – Тамбов, 2003. Летопись жизни и творчества Е.А. Баратынского / Сост. А.М. Песков. – М., 1998. 300 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 16 т. – М.–Л., 1949. – Т. 11. Сент-Бёв Ш. Жизнь, Стихотворения и Мысли Жозефа Делорма. – Л., 1986. Шевырев С.П. Обозрение русской словесности за 1827 год // Московский Вестник. – 1828. – Ч. 7. – № 1. – С. 59–84. Chénier A. Poésies. – Paris, 1994 (fac-similé de l’édition critique de 1872 / Becq de Fouquières). Sainte-Beuve C.-A. Vie, Poésie et Pensée de Joseph Delorme. – Paris, 2004. 301 Еремин Александр Николаевич (Россия, Калуга; д.ф.н., декан филологического факультета Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского) [email protected] Языковые формы духовного недоверия в прозе А. Платонова В начале было слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... Все через него начало быть... От Иоанна Святое благовествование. Цель нашей работы – типология и иллюстрация языковых форм, в которых осмыслены и выражены сомнения А. Платонова в итогах и принципиальных возможностях позитивных социальных преобразований в Советской России. За основу наблюдений взяты такие его произведения, как «Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море», некоторые рассказы. В своей статье мы опираемся на работы философов, литературоведов и лингвистов: Р. Барта, И. Ильина, А. Коваленко, Р. Рорти, М. Хайдеггера, Н. Weinrich и др.]. Язык А. Платонова не столько отражает социальную практику, сколько созидает ее как духовный симулякр. Среди основных языковых форм выражения итогов и принципиальной невозможности позитивных социальных преобразований в Советской России нами выделены и проиллюстрированы следующие: 1. Лексемы, текст, воплощающие мир как случайность, как хаос Мир персонажей А. Платонова соткан во многом из непредсказуемых, стихийно развивающихся событий, над которыми человек не властен. 302 – Через четыре года в пятый село наполовину уходило в шахты и города, а наполовину в леса... дети сами заранее умерли... (Чевенгур). – Ну, прекрасно, – сказал тогда Чиклин. – А кто ж их убил? – Нам, товарищ Чиклин, неизвестно, мы сами живем нечаянно (Котлован). – За год до недорода Мавра Фетисовна забеременела семнадцатый раз. ее мужик, Прохор Абрамович Дванов, обрадовался меньше, чем полагается. Хотя жена родила шестнадцать человек, но уцелело семеро (Чевенгур). В «Родительских Двориках» умерло восемнадцать коров, и бык тоже умер. Кроме того, семь коров были убиты в драке животных у дальнего водопоя, когда бык не сумел установить правильной очереди: старые коровы начали стервенеть и бодаться и семерых трехлеток кончили на месте (Ювенильное море). 2. Отрицание или замещение универсальной истины набором отдельных истин-симулякров, порожденных социальными и индивидуальными дискурсами Эти дискурсы-тексты (обычно интертекстуальные, аллюзивные) создают коллаж нередко противоречащих друг другу знанийсимулякров, которые дополняются некими загадочными внерациональными символами-симулякрами. 2а. Прямое отрицание истины. – Взял его в свидетели, что истины нет, – произнес Вощев (Котлован). – А истина полагается пролетариату? – спросил Вощев. – Когда Захар Павлович был молодым, он думал, что когда вырастет, то поумнеет (Чевенгур). 2б. Амбивалентность в восприятии мира. – Снежный ветер утих; неясная луна выявилась на дальнем небе, опорожненном от вихрей и туч, на небе, которое было так пустынно, что допускало вечную свободу, и так жутко, что для свободы нужна была дружба. 2в. Коллаж несовпадающих или противоречащих друг другу словарей, а, стало быть, и знаний-симулякров. – Захар Павлович хотел было сказать Саше: не томись за книгами – если б там было что серьезное, давно бы люди обнялись друг с другом (Чевенгур). Другие большевики тоже никогда не спорили с Прокофием: для них все слова были бредом одного человека, а не массовым делом (Чевенгур). – А другие говорили, что счастье состоит в сплошной борьбе, которая будет длиться вечно (Чевенгур). – Ах, чума вас (анархистов) возьми: все будут без власти, а они с винтовками (Чевенгур). 303 – Преставился, тихий: лучше живого лежит, сейчас в раю ветры серебряные слушает (Чевенгур). – Рука его так и не поднялась ни на женский брак и ни на какое общеполезное деяние (Чевенгур). – Телок ведь и тот думает, а рыба нет – она все уже знает (Чевенгур). – После смерти последнего мастера оживут последние сволочи, чтобы пожирать растения солнца и портить изделия мастеров (Чевенгур). – Все мы хамы и негодяи! – правильно определил себя Прохор Абрамович, и от этой правильности ему полегчало (Чевенгур). – Русские странники и богомольцы потому и брели постоянно, что они рассеивали на своем ходу тяжесть горюющей души народа. – Есть в далекой стране, на другом берегу, что нам снится во сне, но досталось врагу (Чевенгур). – Чувство же, товарищ Чепурный, – это массовая стихия, а мысль – организация. – Там сидит Ленин при лампе, думает, не спит и пишет (Чевенгур). – Умней пролетариата быть не привыкнешь (Чевенгур). – Кто отопрет мне двери, чужие птицы, звери?.. И где ты мой родитель, Увы – не знаю я! (Чевенгур). – Где есть масса людей, там сейчас же является вождь (Чевенгур). 2г. Отклонения в семантике слова за счет необычного его синтаксического употребления, реанимация этимологии слова. – А ты спи, – советовал Захар Павлович. – Закрой глаза кожей и спи (Чевенгур). – Никита сидел в кухне волошинской школы и ел тело курицы (Чевенгур). – Опустив лапы в ведро с водой, чтоб отмыть на них чистоту, он затем вышел вон для получения еды (Чевенгур). – Все мастеровые молчали против Вощева (Котлован). – Такого-то месяца и числа: без даты времени ревизия опорочит документ (Котлован). – Пролетарии и прочие окончательно скрылись в чевенгурских домах и стали продолжать свою прошлую жизнь (Чевенгур). – Ликвидировав кулаков вдаль, Жачев не успокоился, ему стало даже труднее, хотя неизвестно отчего (Котлован). – Прощай, Егор Семеныч! – Не в чем Никанор Петрович: ты меня тоже прости (Котлован). – Мы не братья, мы товарищи, ведь мы товар и цена друг другу (Чевенгур). 2д. Семантическое выветривание лексики дискурсовлозунгов. – Печь более вкусный хлеб. – Серьезно продумать все формы и недостатки. – Усилить трудовую дисциплину (Чевенгур). 2е. Использование символов-симулякров. Наиболее ярким символом-симулякром в «Чевенгуре» выступает имя Розы Люксембург. Ради этого магического, лишенного рационального содержания, слова Копенкин со своей Пролетарской Силой готов пожертвовать всем, в том числе и Чевенгуром: 304 – Товарищ Копенкин, – спросил Дванов, кто тебе дороже, Чевенгур или Роза Люксембург? – Роза, товарищ Дванов, – с испугом ответил Копенкин. – В ней коммунизма было побольше, чем в Чевенгуре, оттого ее и убила буржуазия... (Чевенгур). – Пожалуй, не без мистического совпадения теоретик и практик постмодернизма Эко Умберто называет свой роман «Имя Розы». В этом имени, по мнению автора, столько смыслов и оттенков, что теряется смысл. 2ж. Инстинктивное постижение мира не только животным, но и человеком. Часто персонажи А. Платонова больше чуют, чувствуют, нежели понимают: – Сторож... от старости начал чуять время так остро и точно, как горе и счастье (Чевенгур). – Вместо ума он жил чувством доверчивого уважения (Чевенгур). – Все живет и терпит на свете, ничего не сознавая, – сказал Вощев близ дороги и встал, чтоб идти, окруженный всеобщим терпеливым существованием (Котлован). – Соня не могла думать, она была еще полна ощущений жизни, мешавших ей правильно думать (Чевенгур). 3. Ироническое отношение к бытующим истинам. – У нас ума много, а хлеба нету (Чевегур). – Дядь, отчего ты самый умный, а картуза у тебя (активиста) нету? (Чевенгур). – Ты, наверно, интеллигенция – той лишь посидеть да подумать (Котлован). – Это же интернациональные пролетарии: видишь, они не русские, не армяне, не татары, а – никто! (Чевенгур). – Он всем мастеровым говорил, что у власти опять умнейшие люди дежурят – добра не будет (Чевенгур). – Саша, ты не спишь? – волновался Захар Павлович. – Там дураки власть берут, может, хоть жизнь поумнеет. – Скоро конец всему наступит? – Социализм, что ль – не понял человек. Через год. Сегодня только учреждения занимаем (Чевенгур). – А в Москве уже вторую неделю у власти стоят рабочие и беднейшие крестьяне... В Москве нет беднейших крестьян, – усомнился Захар Павлович (Чевенгур). – В то время Россия тратилась на освещение пути всем народам, а для себя в хатах света не держала (Чевенгур). – Вы (большевики) боитесь быть в хвосте: он – конечность, и сели на шею (Котлован). Таким образом, в прозе А. Платонова мы обнаруживаем разнообразные языковые формы выражения духовных сомнений в итогах социальных революционных преобразований в Советской России, нередко это формы выражения принципиальной невозможности установить социальную гармонию. 305 Литература Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Пер. с фр. – М., 1996. Коваленко А.Г. Литература и постмодернизм: Учебное пособие. – М., 2004. Ильин И.П. Постмодернизм // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. – М., 2003. Рорти Р. Случайность, ирония, солидарность / Пер. с англ. – М., 1996. Хайдеггер М. Учение Платона об истине // Историко-философский ежегодник. – М., 1986. – С. 255–275. Weinrich H. Linguistik der Lügt. Verlag Lambert Schneider. – Heidelberg, 1966. 306 Корчикова Софья Леонидовна (Россия, Москва; к.ф.н., доц. Московского государственного горного университета) [email protected] Тихий Амстердам От Бальмонта – к Пушкину В последние годы наступление на гуманитарное образование в школе дало свои плоды: большинство студентов технических вузов проявляют полное отсутствие интереса к художественной литературе, особенно к поэзии. Классика в их представлении – Пушкин, Лермонтов, поэты Серебряного века – это что-то устарелое, старомодное, ненужное, не имеющее отношения к современности, к актуальным проблемам жизни. Таким образом отбрасывается целый пласт в формировании личности, в развитии души, в развитии интеллекта. Поэтому мной сделана попытка хоть в малой степени компенсировать этот пробел. Зная, что из художественной (а иногда антихудожественной) литературы студенты читают только детективы и фантастику, а читать стихи им неинтересно, потому что в них большей частью отсутствует сюжет, я решила начать с эмоции удовольствия. Удовольствие, наслаждение красотой – необходимые эмоции, которые получает человек от соприкосновения с настоящим искусством. Музыка воспринимается органом слуха, живопись – органом зрения. А поэзия – такой вид искусства, который воспринимается и зрением (чтение), и непременно слухом (слушанием). Последнее чаще всего отсутствует – и в этом причина того, что читающий, не слыша, как стихотворение звучит, не чувствуя музыки стиха, теряет половину его ценности и не может во всей полноте насладиться его красотой. В программу курса «Культура речи», который в течение одного семестра проводится для русскоговорящих студентов в Московском государственном горном университете, я включила 307 подготовку к чтению стихотворного текста. Воспользовавшись тем, что студенты больше любят музыку, чем поэзию, я решила начать со стихов выдающегося мастера музыки стиха – поэта Серебряного века Константина Дмитриевича Бальмонта (1867– 1942). Сначала рассказала немного о поэте и привела его слова о самом себе: Я не знаю мудрости, годной для других, Только мимолетности я влагаю в стих. Только в мимолетности вижу я миры, Полные изменчивой, радужной игры. Не кляните, мудрые, что вам до меня? Я ведь только облачко, полное огня. Я ведь только облачко. Видите: плыву. И зову мечтателей. Вас я не зову. Таким облачком, плывущим, играющим, порхающим, то золотистым, то серебристым, то голубовато-серым, меняющим свои оттенки, можно представить поэзию Бальмонта. Да и сам поэт, быстро загорающийся, полный разносторонних интересов, всегда жаждавший новых знаний и впечатлений, был таким же подвижным, легким, как такое облачко: неутомимый путешественник, питавший серьезный интерес к культурам разных народов, он побывал во многих странах, изучил 15 языков, через свои очерки и стихотворные переводы познакомил Россию с древней культурой народов Египта, Индии, Японии, Мексики, Армении, с поэзией западноевропейских и восточных стран. «Мимолетность», о которой говорит поэт, была главной чертой нового для того времени направления – импрессионизма, пришедшего в Россию из Европы в конце Х1Х века. Стремление запечатлеть неуловимый миг, вместить в мгновенное впечатление полноту жизни, изобразить предмет в разных его состояниях, особенно на пленэре (на природе, в воздушной среде), часто в неясных, размытых очертаниях, таинственность, загадочность, недосказанность, гармонирующие с состоянием души, – характерные черты импрессионизма, которые нашли выражение в стихотворениях Бальмонта, например: Английский пейзаж В отдаленной дымке утопая, Привиденьями деревья стали в ряд. Чуть заметна дымка голубая, Чуть заметные огни за ней горят. 308 Воздух полон тающей печалью, Все предчувствием неясным смущено. Что там тонет? Что за этой далью? Там – как в сердце отуманенном – темно! Точно шепот ночи раздается, Точно небо наклонилось над землей И над ней, беззвучное, смеется, Все, как саваном, окутанное мглой. Константин Бальмонт наряду с Иннокентием Анненским был одним из первых русских импрессионистов и одним из зачинателей символизма в русской поэзии. И самым знаменитым поэтом конца XIX – начала XX вв. Музыка и образность его стиха завораживали. Поэт пользовался разными художественными средствами, в частности, повторами. Пример – стихотворение, в котором при помощи повторов (начало четной строки повторяет окончание нечетной), создается ощущение мерного шага и возрастания напряжения при восхождении на башню по ступенькам: Я мечтою ловил уходящие тени, Уходящие тени погасавшего дня, Я на башню всходил, и дрожали ступени, И дрожали ступени под ногой у меня. И чем выше я шел, тем ясней рисовались, Тем ясней рисовались очертанья вдали, И какие-то звуки вокруг раздавались, Вкруг меня раздавались от Небес и Земли. Чем я выше всходил, там светлее сверкали, Тем светлее сверкали выси дремлющих гор, И сияньем прощальным как будто ласкали, Словно нежно ласкали отуманенный взор. А внизу подо мною уж ночь наступила, Уже ночь наступила для уснувшей Земли, Для меня же блистало дневное светило, Огневое светило догорало вдали. Я узнал, как ловить уходящие тени, Уходящие тени потускневшего дня, И все выше я шел, и дрожали ступени, И дрожали ступени под ногой у меня. Этими повторами, а также подбором слов с ударным и протяженным звуком а, особенно в глаголах, создается музыка стиха. 309 Музыкальное, красивое звучание стиха создается также специальным подбором слов с нужными звуками и внутренней рифмой: Ожиданьем утомленный, одинокий, оскорбленный, Над пустыней полусонной умирающих морей, Не похож на человека, я блуждаю век от века, Век от века вижу волны, вижу брызги янтарей. Ускользающая пена... Поминутная измена... Жажда вырваться из плена, вновь изведать гнет оков. И в туманности далекой, оскорбленный, одинокий, Ищет гений светлоокий неизвестных берегов. Слышит крики: «Светлый гений!.. Возвратись на стон мучений... Для прозрачных сновидений... К мирным храмам... К очагу...» Но за далью небосклона гаснет звук родного звона, Человеческого стона полюбить я не могу. Это стихотворение нужно прочитать так, чтобы четко прозвучали сонорные л, л΄, м, м΄, н, н΄, особенно удвоенное нн; чтобы не ускользнула внутренняя рифма; чтобы, благодаря изменению силы и громкости звучания (то по возрастанию, то по убыванию), сложилось ощущение набегающей и ускользающей, откатывающейся волны; чтобы можно было услышать и почувствовать музыку стиха. Нужно иметь в виду, что чтение текста должно быть грамотным, в меру эмоциональным, но без лишней аффектации, к которой, к сожалению, склонны многие актеры при чтении стихов. Бальмонт – непревзойденный мастер аллитерации (звукоподражания). В его стихах можно услышать шелест листьев и плеск волны, дуновение ветра и раскаты грома, топот копыт и колокольный звон. Вот одно из самых известных его стихотворений с аллитерацией: Камыши Полночной порою в болотной глуши Чуть слышно, бесшумно шуршат камыши. О чем они шепчут? О чем говорят? Зачем огоньки между ними горят? Мелькают, мигают – и снова их нет. И снова забрезжил мерцающий свет. 310 Полночной порой камыши шелестят. В них жабы гнездятся, в них змеи свистят. В болоте дрожит умирающий лик. То месяц багровый печально поник. И тиной запахло. И сырость ползет. Трясина заманит, сожжет, засосет. «Кого? Для чего? – камыши говорят. – Зачем огоньки между нами горят?» Но месяц печальный безмолвно поник. Не знает. Склоняет все ниже свой лик. И, вздох повторяя погибшей души, Тоскливо, бесшумно шуршат камыши. Как правило, студенты улавливают присутствие в тексте шипящих и свистящих согласных и догадываются, для чего они (если перед чтением текста поставить вопрос о том, что изображается и какими средствами). Но нужно обратить их внимание на тонкость вкуса поэта, сконцентрировавшего эти звуки только в начале и в конце стихотворения: если бы это было на протяжении всего текста, такой перебор давил бы на слух своим шипением и свистом, и русский язык, особенно для иностранца, не знающего русского языка, показался бы некрасивым. А так, создав из этих звуков изящное обрамление, напоминающее рамку картины, поэт сберег красоту языка. Само собой разумеется, что для снятия трудностей в понимании смысла преподавателю приходится объяснять значение непонятных современным студентам слов (забрезжил, багровый, лик) и обращает их внимание на эпитеты и другие художественные средства, создающие ощущение тревоги и надвигающейся опасности. Для Бальмонта сочинение стихов с аллитерацией было игрой, забавой, жонглированием словом. У некоторых его современников, лишенных чувства юмора и поэтического слуха, такие стихи, как «Челн томленья», «Влага», «Воспоминание о вечере в Амстердаме», вызывали град насмешек. Тем не менее такое, например, стихотворение, как «Влага», при его незатейливом содержании, дает представление о виртуозном мастерстве автора и может служить хорошим упражнением для выработки лингвистического чутья и поэтического слуха. Для таких упражнений подойдут «Как испанец» (топот коня и раскатистое испанское р учащиеся услышат) и более сложное – «Я вольный ветер, я вечно вею»: 311 гром услышат, труднее почувствовать легкое веяние ветра, здесь нужно обратить внимание на й и йотированные я, ю в словах вею, млею, лелею, волную, ласкаю, вздыхаю, немею, фея и др. Хорошо воспринимается учащимися стихотворение «Воспоминание о вечере в Амстердаме»: если прочитать его с выделением последнего слога (где-то двух последних слогов), и менять, где нужно, темп и громкость то по возрастающей, то по убывающей, – будет слышен колокольный звон: Воспоминание о вечере в Амстердаме О тихий Амстердам С певучим перезвоном Старинных колоколен! Зачем я здесь – не там, Зачем уйти не волен, О тихий Амстердам, К твоим церковным звонам, К твоим, как бы усталым, К твоим, как бы затонам, Загрезившим каналам С безжиненным их лоном, С закатом запоздалым, И ласковым и алым, Горящим здесь и там По этим сонным водам, По сумрачным мостам, По окнам и по сводам Домов и колоколен, Где, преданный мечтам, Какой-то призрак болен, Упрек сдержать не волен, Тоскует с долгим стоном И вечным перезвоном Поет и здесь и там... О тихий Амстердам! О тихий Амстердам! Знакомясь с таким поэтом, как Бальмонт, не нужно придавать большого значения идейной стороне его творчества, его политическим взглядам и отношению к революции, как это до сих пор принято в школе. Человек очень увлекающийся, одно время он был увлечен и революцией, но это не оказало влияния на его поэзию. Стихи революционного содержания 1905–1906 гг., посвя312 щенные рабочему, гневные стихи, обращенные к царю, не представляют большой художественной ценности, так же, как и многие другие стихи, написанные во втором периоде творчества. Поэтому, если учащиеся заинтересуются поэзией Бальмонта и захотят читать его самостоятельно, чтобы из-за неокрепшего поэтического чутья они не утонули в море стихов и у них не возникло разочарования, следует порекомендовать им наиболее ценные, к которым относятся «Лебедь», «Безглагольность», «Морской разбойник», «Альбатрос», «Завет бытия», «Погоня», «Затон», «Дождь», «Среди камней», «Мы шли в золотистом тумане», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце», цикл стихов для детей «Фейные сказки», а также прекрасные переводы многих зарубежных поэтов. Как перейти от Бальмонта к классике? Помня о том, что занимательность повествования, сюжетность, событийность, психологизм образов, захватывающие сцены – это то, что привлекает молодежь в детективах, я выбрала произведение, в котором все эти компоненты есть, но, с той разницей, что здесь все подлинное – бурный период в истории Украины и России, подлинные исторические лица, хитрые интриги и борьба за власть, коварство и предательство, сцена казни и сцена битвы, любовь, отчаяние и трагедия – все это есть в произведении, которое написано стихами и вызывает у молодежи живейший интерес не только благодаря содержанию, но и в какой-то степени приобретенному умению читать и слышать стихи: после «Камышей» и «Воспоминания о вечере в Амстердаме» особенное удовольствие чувствуют студенты при узнавании грохочущих звуков яростного сражения. Я имею в виду поэму Пушкина «Полтава». Но вследствие того, что об истории своей страны большинство студентов, к сожалению, имеют весьма смутное представление, и из-за различий в современном русском языке и языке Пушкина, это чтение требует серьезной лингвострановедческой работы, которая даст свои плоды: пробуждение интереса к истории, интереса к творчеству Пушкина (именно к творчеству, не только к дуэли), после чего можно совершить плавный плавный переход к другим произведениям – к «Борису Годунову», к прозе – «Повестям Белкина» и «Пиковой даме», к лирике, которую можно начать с двух стихотворений «Желание славы» и «Я вас любил...» (по контрасту), а дальше – выбор большой. Желаемый результат – получение удовольствия от полноценного чтения стихов и прозы, от Пушкина – к классике, к художественной литературе. Такой результат при основательной работе над текстом может быть достигнут. 313 Пузырёва Ольга Григорьевна (Россия, Москва; доц. кафедры русской литературы Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] Семантика зеркала в произведениях И.А. Бунина Есть в бунинском образном мире интереснейшая художественная субстанция – граница пересечения внешнего и внутреннего, вещественного и невещественного, счастья и страдания, знания и неведения, прекрасного и уродливого. Это – зеркало. Французский психоаналитик, психолингвист и философ Жак Лакан (1901–1981) [Бачинин 2005, с. 111–112] считал, что взаимодействие ребенка со своим зеркальным отражением необычайно важно для формирования механизма самоидентификации личности, ощущения целостности души и тела. С другой стороны, вместе с зеркалом в жизнь человека входит раздвоенность, расколотость сознания, трагическое сосуществование реальной и воображаемой ипостасей бытия. Поэтому в начале нашего доклада мы хотели бы коснуться тех произведений, где тема зеркала связана с темой детства. В рассказе «Зеркало» («Из давних набросков “Жизни Арсеньева”») зафиксировано архетипическое переживание и первые проблески духа в ребенке, вызванные зеркалом: восприятие светлого, блестящего, красивого и непонятного «чего-то», чудесного стекла, намазанного ртутью, вдруг озарилось ярким проблеском сознания. Психоаналитик, философ и культуролог К.Г. Юнг [1996, с. 73] напоминает нам, что А. Шопенгауэр часто сравнивает интеллект человека с зеркалом – инструментом наземного вождения, поясняет Юнг, а философ Б.П. Вышеславцев [1994, с. 314] вспоминает сравнение Лейбница, где душа человека уподобляется туманному и таинственному зеркалу, в котором отражается всю полнота бытия, но не со всею полнотой ясности. 314 Увидев отраженную комнату, герой бунинского рассказа испытывает сладкое мечтательное чувство, задавая себе вопрос: а существует ли она, такая притягательная, когда не смотришь на нее? В этот период жизни он переживает и первое возвышенное моральное испытание – внезапную смерть младшей сестренки (эпизод имеет автобиографическую основу), впервые заставившее его задуматься над тайной рождения и ухода, красоты и тления, в которой проявляется направляющая рука внеличного Промысла: «Зачем росла, прыгала, радовалась она вплоть до того рокового вечера, в который точно какой-то злой дух дохнул на нее своим пламенным дыханием? И куда ушло все то живое, прекрасное, что было в ней?» [Бунин 1994, т. 2, с. 291]. Эмоциональное ощущение интеллектуального и нравственного пробуждения усиливают световые контрасты, психологически тоже связанные с чемто осознаваемым: темно-серый страшный паук и то светлое, блестящее, что слегка наклонно висело меж колонок туалета (т.е. зеркало); светлый августовский день, солнечный свет, светлые пятна, закружившиеся в темноте, когда ребенок открывает и закрывает глаза; радостный, светлый, очаровывающий блеск зеркала, похожий на вспыхнувший свет серебристого зерна первой звезды, и – кусок черной материи на зеркале. В поэзии Бунина зеркало и зеркальная гладь воды тоже становятся точкой пересечения воздушной и душевной светотени, соотносятся с мотивом детства и загадочной, чарующей бездной детского воображения: <...> И снова плавни спят, сияя зеркалами. Над тонким их стеклом, где тонет небосвод, Нередко облако восходит и глядится Блистающим столбом в зеркальный сон болот – И как светло тогда в бездонной чаще вод! Как детски верится, что в бездне их таится Какой-то дивный мир, что только в детстве снится! («Там, на припеке спят рыбацкие ковши» [Бунин 1990, с. 116]). Или: Темнеет зимний день, спокойствие и мрак Нисходят на душу – и все, что отражалось, Что было в зеркале, померкло, потерялось... Вот так и смерть, да, может быть, вот так. <...> («Зеркало» [Бунин 1987, т. 1, с. 313]). Или: 315 <...> Ах, темен, темен мир, и чувствуют лишь дети, Какая тишина и радость в белом свете! («Белый свет» [Бунин 1987, т. 1, с. 291]). Зеркало примыкает к белому цвету – одному из основных цветов универсального цветового кода, которым писатель пользуется постоянно – как в поэзии, так и в прозе, и тот, и другой образ художественно амбивалентны. Особенно наглядно, философски обобщенно позитивная семантика белого цвета проявляется в рассказе «Сны Чанга». Это повествование о двух типах человеческого круга жизни, о двух правдах бытия, которые связаны с двойственным авторским восприятием пространства и времени, с разграничением понятий цивилизации и духовности, с переосмыслением общепринятого понимания разума и разумного существования; противостояние выражает архетипическая пара «берег – море». Берег – рационально-биологическая, социальнобытовая сфера, пространство душевной ограниченности, оторванности от первоистоков сознания и от поиска человеком своей внутренней связи с божественным; место духовной неподвижности и безвыходности. И только душа собаки, которую зовут Чанг и которая родственна детской душе, еще не утратившей и не загнавшей в рациональный абсурд всю яркость и эмоциональность первообразного мышления, способная увидеть и расслышать среди грохочущего и задымленного ада городов краски и звуки иного мира. Белый цвет становится в рассказе олицетворением прекрасного образа бытия, наивного и истинного приятия жизни, внутренним островом нетронутой надежды, благостного покоя, счастливого утешения-пристанища. Загадочный сфинкс из рассказа «Снежный бык» по своему психологическому значению близок семантике зеркала, однако здесь белый цвет ассоциируется уже с иным душевным рисунком. Это повествование-наблюдение взрослого героя над миром и над своими чувствами, пробужденное странной скульптурой. Здесь тончайше передана какая-то таинственная связь, существующая между спящим ребенком и снегуром – человекоподобным обрубком с бычьей рогатой головой и короткими растопыренными руками. Его, пугавшего даже взрослых, слепили дети, и теперь он стоит во дворе прямо напротив окна детской. Днем ребенок боязливо радуется на него, а ночью, «...чувствуя сквозь сон его страшное присутствие, вдруг, даже не проснувшись, заливается горькими слезами» [Бунин 1987, т. 3, с. 177]. Наблюдая все это, герой-рассказчик Хрущев приходит к выводу, что в жизни все трогательно и значительно, все полно смысла – и огни свечей, и 316 лунный свет, стоящий тончайшим дымом в детской, и тихо мерцающие в глубокой прозрачной синеве звезды, и старые, косматые белые лошади, кажущиеся зелеными в синем свете звездного неба. Весь предметно-вещественный мир окутан здесь символической установкой сознания человека, на мгновение вернувшегося в страну детства, которому все видимое вокруг говорит намного больше своего непосредственного реального статуса. Так, несуразный снежный бык пробуждает в герое острое ощущение прекрасного, полноты и гармонии вещественно-природной среды, где все находится на своем месте. В романе «Жизнь Арсеньева» восприятие героем своего отражения в зеркале и зрительно-эмоциональное созерцание водной, зеркальной поверхности также имеют важное значение. Первое сильное впечатление относится к детским годам Алеши. Вбежав как-то раз в спальню матери, он случайно увидел себя в трюмо, стоявшем напротив двери, и внезапно почувствовал страх, хотя до этого момента много раз видел себя в зеркале. Затем он констатировал свою внешнюю привлекательность и осмысленное выражение лица. И последнее: он понял, что уже не ребенок и в его жизни «наступил какой-то перелом и, может быть, к худшему» [Бунин 1987, т. 5, с. 26]. Предчувствие не обмануло: совсем скоро Алеше пришлось пережит первые физические, интеллектуальные и моральные испытания – тяжелую болезнь, знакомство с учителем Баскаковым и начало учения, смерть младшей сестры Нади, смерть бабушки. Зеркало вызывает в герое ощущение того, что «я» – это уже не «я», а кто-то другой. Глядя в зеркало, он чувствует себя старше, взрослее своего изображения, и ему так не хочется расставаться с чем-то очень привычным и милым в себе. В его сознании начинается сложная работа по осмыслению внешнего и внутреннего опыта бытия, внешней и внутренней речи, происходит активизация воображения, с одной стороны, а с другой – приходит способность формировать поведенческую линию своей жизни, принимать самостоятельные решения, активно заявлять о своей личности в социальной среде. В дальнейшем Арсеньев будет подходить к зеркалу, находящемуся в комнате, лишь когда ему будет необходимо убедиться, что его имидж соответствует ожиданиям окружающих, – особенно если ему надо ехать в город, быть на публике, где-нибудь в общественном месте. Но в момент самопознания или находясь под сильным впечатлением чье-нибудь смерти, герой будет навещать деревенский пруд, пристально вглядываться в его зеркально-белую, светло-серебристую и в то же время глубокую и бездонную воду и спрашивать себя: «...где теперь 317 этот человек, что с ним сталось, что такое та вечная жизнь, где он будто бы пребывает? Но безответные вопросы не повергали больше в тревожное недоумение, в них было даже что-то утешающее: где он – ведомо одному Богу, которого я не понимаю, но в которого должен верить и верю, чтобы жить и быть счастливым» [Бунин 1987, т. 5, с. 104–105]. Итак: белый, зеркальный, серебристый, ртутный, лунный, снежный, зимний мир в творчестве Бунина – философское олицетворение амбивалентной стихии души, тайны бытия, незримого божественного присутствия, счастья и горя (в одном из стихотворений Бунин так и говорит, что счастье есть в самой утрате, т.е. в смерти, реальности и миражности одновременно). Бунинская концепция культурного и духовного развития человечества, а также понимание писателем богоподобия человека философски соотносимы с зеркалом. Писатель считал отражением божественного, вечного начала в людях их нравственную потребность и способность создавать и сохранять в веках, в памяти поколений только доброе и прекрасное. В рассказе «Богиня Разума» читаем: «Все злое, подлое и низкое, глупое в конце концов не оставляет следа: его нет, не видно. А что осталось, что есть? Лучшие страницы лучших книг, предания о чести, о совести, о самопожертвовании, о благородных подвигах, чудесные песни и статуи, великие и святые могилы, греческие храмы, готические соборы, их райски-дивные цветные стекла, органные громы и жалобы. «Dies irae» и «Смертью смерть поправ...» Остался, есть и вовеки пребудет Тот, Кто со креста любви и сострадания, простирает своим убийцам объятья, осталась Она, единая богиня богинь – милосердная Богоматерь» [Там же, т. 4, с. 286–287]. И еще одна «зеркальная» тема в произведениях Бунина, о которой нельзя не сказать, – это нарциссизм в искусстве. Талантливый живописец из рассказа «Безумный художник» ужасно боится церквей и часовен, однако в канун Рождества его внезапно охватывает творческая потребность «написать вифлеемскую пещеру, написать Рождество и залить всю картину, и эти ясли, и Младенца, и Мадонну, и льва, и ягненка, возлежащих рядом..., таким ликованием ангелов, таким светом, чтобы это было воистину рождением нового человека» [Там же, с. 200]. Художник совсем недавно пережил личную трагедию – смерть любимой жены и едва успевшего появиться на свет младенца – и живет лишь воспоминаниями об Испании, стране своего первого брачного путешествия. Поэтому краски являются для него сейчас вопросом жизни и смерти. Он творил всю ночь, охваченный горячечным вдохновением. И под утро на его картине, словно на полотне Сальвадора 318 Дали (наше сравнение. – О.П.), вместо радостного рождественского золотого света и эдемской лазури, неожиданно оказывается, в зловещей черно-красной гамме, чудовищное нагромождение, беспорядочное смешение небесного и преисподнего пространств, жизни и смерти, людей и скотов – нарушение всей божественной иерархичности бытия. И над всем морем огня и дыма высился Спаситель, распятый на «демоническом», т.е. на языческом кресте, широко и покорно раскинувший длани по обеим его перекладинам, раненый трезубцем. Рассказ заставляет нас задуматься над сложной эмоционально-духовной субстанцией творческого процесса, над тем, как подчас причудливо и неожиданно отражаются в художественном создании личное и всеобщее; над тем, почему в данном случае сознательная установка живописца привела к совершенно противоположному идейно-эстетическому результату. Бунин часто задавал себе подобные вопросы. В порыве крайнего отчаяния и одиночества его герой пытается обрести новый путь личностного развития через акт творчества, через образноэстетическое воплощение чуда Рождества, несущего всем людям радость и спасение. Но мрак и скорбь, которыми охвачена его душа из-за личного горя, становятся причиной того, что из глубин коллективного подсознания оказывается извлеченным на эстетическую поверхность не архетип божественного младенца как свидетельство психической целостности личности, а архетип раненого Спасителя, в глубинном психологическом смысле указывающий на то, что данный человек ранен, подавлен какой-то моральной проблемой; распятие также указывает на возвышенное моральное страдание, означает мучительную связанность и подвешенность сознания. В рассказе Бунину удалось пронзительно передать дух эпохи: синкретичный образ Спасителя на картине живописца так же, как то ли предводительствующий красноармейцев, то ли гонимый ими Христос из поэмы А.А. Блока «Двенадцать», выражает особый драматизм религиозного сознания человека ХХ века. В заключение можно сделать вывод о том, что зеркало в образном мире Бунина – это ключевой философской символ, отражающий сознательную и подсознательную потребность автора в «гармонии противоположностей» [Вышеславцев 1994, с. 229], в познании высшего единства бытия. Литература Бачинин В.А. Психология. Энциклопедический словарь. – СПб., 2005. Бунин И.А. Собрание сочинений: В 6 т. – М., 1987. Бунин И.А. Стихотворения. – М., 1990. 319 Бунин И.А. Собрание сочинений: В 8 т. – М., 1994. Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. – М., 1994. Юнг К.Г. Подход к бессознательному // Человек и его символы / Под ред. К.Г. Юнга; пер. С. Зеленского. – СПб., 1996. – С. 15–117. 320 Савченко Татьяна Константновна (Россия, Москва; д.ф.н., зав. кафедрой русской литературы Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] «Необычайность простоты»: С.А. Есенин в литературно-критических эссе Владимира Корнилова Имя С.А. Есенина встречается во многих литературнокритических статьях и эссе, принадлежащих перу В.Н. Корнилова. В эссе «О поэтах, стихах и мемуарах» наряду с письмами, мемуарами и автобиографическими заметками Пушкина, Блока, Ахматовой, Цветаевой и Мандельштама он рассматривает автобиографическую заметку Есенина «О себе» (октябрь 1925). В некрологе «Бесстрашная», посвященном памяти Л.К. Чуковской, вместе с которой при ее жизни подписывал «много писемпротестов против разного рода несправедливостей» (в защиту А.Д. Синявского, Ю.М. Даниэля, И.А. Бродского, А.А. Сахарова, А.И. Солженицына и мн. др.), он вновь обращается к имени Есенина. Отметив, что любимыми поэтами ушедшей являлись Некрасов и Фет, он признается, вспоминая свою юность: «...А я Некрасова разлюбил, как только раздобыл однотомник Есенина...» [Корнилов 2009, с. 31]. Итак, для Корнилова близость Есенина Н.А. Некрасову несомненна. Отметим, что на связь отдельных есенинских образов с некрасовскими указывали многие критики еще при жизни поэта. Звучащие «кое-где некрасовские нотки» В.П. Друзин, например, выявлял в книге «Русь советская», справедливо указывая на то, что и в «Анне Снегиной» «некрасовское влияние неоспоримо» [Красная газета 1925]. Влияние Некрасова С.Ф. Буданцев усматривал в «милой простоте» есенинских строк из адресованного Клюеву стихотворения «Теперь любовь моя не та...» (сборник «Конница бурь», 1920). 321 «Само строение метафоры (в финале произведения. – Т.С.) происходит именно от этого поэта (Некрасова. – Т.С.)», – говорит Буданцев [Художественное слово 1920, с. 63], имея в виду есенинское «Так мельница, крылом махая, / С земли не может улететь» [Есенин 1995, т. I, с. 149]. Однако называть приведенный образ «очевидным заимствованием» Есенина у Некрасова, как это сделал критик Д.И. Шепеленко, [Пролетарий связи 1925, с. 205–206], – на наш взгляд, явное преувеличение: Есенин не подражает Некрасову, не сравнивает человека с мельницей, как это делает тот в своей поэме («Лука похож на мельницу: / Одним не птица мельница, / Что, как ни машет крыльями, / Небось, не полетит»), – с помощью сравнительного оборота он показывает тщету, бесплодность творческих усилий Клюева, как это ему представлялось в 1918 г. В есенинских строках – скорее влияние Сервантеса: со времен «Дон-Кихота» сражаться (воевать) с ветряными мельницами – широко известная метафора высоких и в то же время тщетных устремлений; в дальнейшем сам образ ветряной мельницы становится символом тщеты, бесплодности усилий. Имя Н.А. Некрасова нередко встречается в произведениях и письмах Есенина. В своих ранних письмах (1913) из Москвы Грише Панфилову, проникнутых юношеским максимализмом и стремлением «обличать пороки», семнадцатилетний Есенин с негодованием говорит о «цинизме» Пушкина, «грубости и невежестве» Лермонтова, «лжи и хитрости» Кольцова. В ряду некрасовских «пороков» он перечисляет «лицемерие, азарт и карты, и притеснение дворовых» [Есенин 1999, т. VI, с. 34]. Между тем о творчестве названных авторов, в том числе Некрасова, Есенин отзывался всегда неизменно высоко. Примером для Есенина всегда была работа Некрасова в качестве издателя и редактора журнала «Современник» (1847–1866). У Некрасова печатали свои произведения писатели, ставшие затем гордостью русской литературы: Тургенев, Гончаров, Салтыков-Щедрин, Островский, Толстой. По свидетельству И.В. Грузинова, в 1923 г. Есенин, планируя издавать свой журнал и занимаясь «просмотром новейшей литературы», обещал: «Буду работать, как Некрасов» [С.А. Есенин в воспоминаниях... 1986, т. 1, с. 373]. О том, что он хочет «редактировать журнал, как Некрасов», Есенин признавался Эрлиху в Ленинграде в декабре 1925 г. [Там же, т. 2, с. 349]. «Наш Некрасов» [Есенин 1997, т. II, с. 100], – говорит Есенин в своей «Руси бесприютной», называя имя поэта вслед за именами Пушкина, Лермонтова и Кольцова. Не однажды в зрелые годы 322 Есенин включал Некрасова в ряд своих учителей. «– Я <....> Кольцова, Некрасова и Блока люблю. У них и у Пушкина только и учусь», – говорил он В.А. Мануйлову [С.А. Есенин в воспоминаниях... т. 2, с. 174]. Есенин хорошо знал некрасовскую поэзию, о чем свидетельствует обращение в его творчестве к таким произведениям его предшественника, как «Железная дорога», «Тройка», «Внимая ужасам войны...», «Коробейники» (у Есенина – «Коробочка»), поэмам «Саша» и «Кому на Руси жить хорошо». Отметим, что как читателю поэзия Есенина Корнилову ближе некрасовской: «У Есенина не встретишь некрасовской заунывности, некрасовского страдания; есенинский стих всегда энергичен, нигде не затянут», – отмечает он [Корнилов 2009, с. 450]. В стихотворении «Два поэта», которому спустя годы он дает другое название («Есенин») и которое открывается неким «слухом» («Слух прошел: второй Некрасов!»), преимущество рязанского поэта («Барина из Ярославля / Победил по всем статьям») автор видит в том, что тот «для статей и для рассказов <...> / ...Не впрягал стиха»: Душу радовали кони И свиданья за селом, И лукавые гармони И гармония во всем. <...> Жизнь отдавши за удачу, Миру, городу, селу Загодя шепнул: «Не плачу, Не жалею, не зову...» [Там же, с. 528]. Поэты, по Корнилову, носители «первоосновы сущего», если они обладают умением «сказать <...> нечто новое, доселе не сказанное, и при этом сказать по-своему» (курсив автора. – Т.С.). Свою мысль он иллюстрирует примером из есенинского «Я обманывать себя не стану...» и продолжает: о Москве написаны сотни тысяч стихов, но лишь в немногих из них «проявилась человеческая душа». Когда Есенин написал свое: «Я московский озорной гуляка. / По всему тверскому околотку / В переулках каждая собака / Знает мою легкую походку» [Есенин 1995, т. I, с. 165], – он «по-своему <...> прославил свободного человека в несвободном уже городе». Итак, творчество «настоящих» поэтов – «...не призыв к насильственному переустройству мира, а приглашение пристальнее вглядеться в человека, обратиться к отдельной 323 личности». «В этом, собственно, и назначение поэзии», – был убежден писатель [Корнилов 2009, с. 187]. Поэт, по Корнилову, «провозвестник и <...> хранитель свободы». «Есенин, Пушкин и Ахматова <...> победили ленинскосталинскую эпоху и пространство, еще раз доказав, что поэты появляются в одном времени, а умирают <...> в другом». Хотя, как говорит А. Кушнер, «времена не выбирают, / В них живут и умирают», «но для нас, – продолжает Корнилов, – важно понять главное: хотя времена нельзя выбрать, их возможно преодолеть и победить (курсив автора. – Т.С.). Но для этого следует прежде всего стать человеком, в нашем случае – поэтом» [Корнилов 2003, с. 104]. Для Корнилова настоящий писатель тот, кто и в творчестве и в жизни сохраняет нравственный стержень. Это качество самого писателя как основное подчеркивают многие из тех, кто был знаком с ним. Борис Евсеев в беседе с Афанасием Мамедовым (под названием «Надо дать нашему времени осознать Корнилова») говорит о самом главном в его творчестве. На вопрос, какую роль в его жизни сыграла встреча с Корниловым, Евсеев отвечает: «...Для меня облик поэта неотделим от его стихов. Так же как неотделимы его нравственность, поступки и манера творческого поведения в жизни <...> Владимир Корнилов – пожалуй, единственный встреченный мною в жизни поэт, стихи которого полностью совпали с его образом и жизненным поведением <...> Стихи Владимира Корнилова, вкупе с его нравственностью и творческим поведением, очень сильно повлияли на мнение, сформировавшееся у меня в последующие годы: есть нравственность – есть настоящий писатель. Нет нравственности – и писатель не настоящий» ([Евсеев 2009, с. 15]; курсив наш. – Т.С.). Через понятие нравственности Корнилов рассматривает и творчество Есенина, который всегда говорил «честно и просто». Справедливо считая «основой всякой лирики» личность, в своих эссе он сопоставляет Есенина и Маяковского. Находя немало точек соприкосновения в поэтике обоих (так, он утверждал, в частности, что своего «Пугачева» – единственно возможный в то время для Есенина способ сочувственно откликнуться на тамбовское крестьянское восстание – тот писал «под формальным влиянием Маяковского»), Корнилов видел главное отличие Маяковского от Есенина в отсутствии у первого «нравственного стержня». Уже в ранних стихах периода «Облака в штанах», хотя они и были «неправдоподобно новы, самобытны по форме», «не ощущалось нравственной основы». «Вся его мощь, – говорит Корнилов о Маяковском в литературно-критическом эссе «Не мир, но миф 324 (Маяковский)», – ушла на новаторство, а нравственной силы противостоять большевистской тирании у него не оказалось». В отличие от его соперника, «...в Есенине, несмотря на богему и пьянство, сохранилась нравственная основа» ([Корнилов 2004, т. 2, с. 211]; курсив наш. – Т.С.). Ту же мысль он продолжит в стихотворении «Два поэта» (затем «Есенин»), говоря о Есенине и его творчестве: Правда, пил средь обормотов, Но зато в работе всей Нету стертых оборотов, Тягомотин и соплей. [Корнилов 1991, с. 184]. «Великое возрождение» русской литературы в ХХ веке и далее Корнилов связывает с именами Анненского, Блока, Хлебникова, Есенина, Ахматовой, Пастернака, Цветаевой, Мандельштама, Маяковского [Корнилов 2009, с. 48]. Есенина при этом – наряду с Маяковским, Ахматовой, Цветаевой, Пастернаком, Мандельштамом – он включает в число «шестерых наиболее крупных после Блока поэтов ХХ века» [Там же, с. 54]. В 1990-е годы он советует начинающему тюменскому поэту Владимиру Крюкову учиться у великих предшественников и перечисляет «наиболее ярких», без влияния которых «стих скуден»: «Читая Вас, не ощущаешь, что до Вас в поэзии работали Державин, Анненский, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Маяковский и Есенин» [Крюков 2008, с. 164]. «Честный и искренний, он и не пытался выглядеть лучше, чем был; естественный и простой, он не вставал на котурны и не скрывал своих страстей и слабостей, – говорит о Есенине Корнилов. – Может быть, поэтому за три четверти века его слава не уменьшилась и не поблекла, и он остался не только почти что единственным народным русским поэтом, а стал как бы самой Россией, ее тоской и печалью, ее историей и природой и даже ее воздухом (курсив автора. – Т.С.)». И заключает: «Выше этого ничего быть не может» [Корнилов 2009, с. 448]. Литература Евсеев Б. «Надо дать нашему времени осознать Корнилова» / Беседа с Афанасием Мамедовым // Лехаим. – 2009. – Декабрь. Есенин С. ПСС: В 7 т., 9 кн. – М., 1995–2002. Корнилов В. «Поэзия – предмет капризный...» / Публ. Л. Беспаловой // Вопросы литературы. – 2003. – № 2. Корнилов В. Собр. соч.: В 2 т. – М., 2004. 325 Корнилов В. «Покуда над стихами плачут...». – М., 2009. Красная газета. – Л., 1925. – № 160. – Веч. вып. – 30 июня. Крюков В. Письма Владимира Корнилова // Знамя. – 2008. – № 4. Пролетарий связи. – М., 1925. – № 4. – 5 марта. С.А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. – М., 1986. Художественное слово. – М., 1920. – № 2. 326 Тусичишный Андрей Петрович (Россия, Москва; к.ф.н., доц. кафедры русской литературы Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] Русские, восточные и западные мотивы в повести Ф.М. Достоевского «Двойник» Во втором произведении Достоевского, повести «Двойник», более изощренное изображение петербургского общества, чем в первом произведении «Бедные люди». Противоречивость петербургской жизни можно показать посредством мотивного анализа. Русские, восточные и западные мотивы особым образом переплетаются и взаимодействуют в повести «Двойник». Главный русский мотив – самозванство. Голядкин-старший самозванцем явился на званый вечер в доме Олсуфия Ивановича, тем самым он создал прецедент для своего двойника. Голядкин называет двойника самозванцем [Достоевский 1972, с. 167–168]. Двойник – самозванец, он действует не от себя лично, а от имени его превосходительства, Олсуфия Ивановича, Андрея Филипповича. Самозванец считает себя вправе навязывать свою волю другим. Самозванство – это русское явление. Автор доказывает, что оно разрушительно для общества и страны. Главный конфликт «Двойника», безусловно, между личностью и обществом. Он выделен в черновых набросках к предполагавшейся переработке повести: «NB “Когда ты (в 1-й главе) пригласил Клару Олсуфьевну на польку, ты восстал против общества”, – говорит младший старшему, патетически утешая его» ([Там же, с. 434]; курсив автора. – А.Т.). Конфликт личности и государства, личности и общества является центральным в книге Макса Штирнера «Единственный и его собственность» (1844), которая оказала большое влияние на творчество Достоевского [Тусичишный 2009]. 327 Других интересует не индивидуальное «я» Голядкина, а только Голядкин как чиновник. Штирнер в этой связи рассуждает: «Что я для тебя? Быть может, телесное “я”, как я хожу и стою? Ничуть. Это телесное “я” со всеми своими мыслями, решениями и страстями в твоих глазах «частное дело», тебя не касающееся, “предмет в себе”. “Предметом для тебя” является лишь “я” как понятие, как родовое понятие, лишь человек как таковой, который так же, как он, зовется Иваном, мог бы называться Петром или Михаилом. Ты видишь во мне не меня во плоти, а нечто недействительное, призрак, то есть “человека”» ([Штирнер 1994, с. 161]; курсив автора. – А.Т.). Никто из сослуживцев, в том числе и непосредственный начальник Голядкина Сеточкин, даже не заметили, что новопоступивший чиновник очень похож на Голядкина. Голядкин отстаивает именно свое индивидуальное, «частное», «я». Голядкин, как он косноязычно объясняет доктору Крестьяну Ивановичу, относится к тем немногим исключениям, «которые не слишком-то держатся общего мнения, чтоб иногда правду сказать. <...> умеют этак иногда поднести коку с соком» [Достоевский 1972, с. 119]. Но на самом деле в глубине души Голядкин сознает, что он – «ветошка». «Ветошку» можно подменить, а личность нельзя. Двойник Голядкина – его зеркальное отражение, показывает, что у героя нет личности, нет ничего своего: «Что-то униженное, забитое и запуганное выражалось во всех жестах его, так что он, если позволят сравнение, довольно походил в эту минуту на того человека, который, за неимением своего платья, оделся в чужое: рукава лезут наверх, талия почти на затылке, а он то поминутно оправляет на себе короткий жилетишко, то виляет бочком и сторонится, то норовит куда-то спрятаться, то заглядывает всем в глаза и прислушивается, не говорят ли чего люди о его обстоятельствах, не смеются ли над ним, не стыдятся ли его, – и краснеет человек, и теряется человек, и страдает амбиция...» [Там же, с. 153]. Голядкин относится к тем обывателям, которые регулярно читают патриотические газетки и считают свои неудачи результатом происка врагов. Двойник стал возможен вследствие того, что у Голядкина нет личности. Он – продукт общества, в котором живет. По словам его столоначальника Антона Антоновича Сеточкина: «<...>личности в хорошем обществе не совсем позволительны-с <...>» [Там же, с. 163]. Поэтому и возможно русское самозванство. Когда Голядкин приходит на службу и узнает, что появился чиновник, его двойник, он очень встревожился, как отнесутся к 328 этому начальство и другие чиновники, но, узнав, что это никого не удивляет, он быстро самоуспокаивается. Автор подчеркивает, что это именно русская черта: «Вышед на улицу, он почувствовал себя точно в раю, так что даже ощутил желание хоть и крюку дать, а пройтись по Невскому. Ведь вот судьба! – говорил наш герой, – неожиданный переворот всего дела, И погодка-то разгулялась, и морозец, и саночки. А мороз-то годится русскому человеку, славно уживается с морозом русский человек! Я люблю русского человека. И снежочек и первая пороша, как сказал бы охотник, вот бы тут зайца по первой пороше! Эхма! да ну, ничего!» [Достоевский 1972, с. 151–152]. Русскую доброту, гостеприимство Голядкин проявляет в сцене, когда принимает дома своего двойника. «Бедный человек, – думал он, – да и на месте-то всего один день; в свое время пострадал, вероятно; может быть, только и добра-то, что приличное платьишко, а самому и пообедать-то нечем» [Там же, с. 154]. Точно так же в первом произведении Достоевского Макар жалел Горшкова. «Двойник» – это дальнейшее, более глубокое, исследование проблемы русского национального характера. В повторяющемся вопросе: «...хорошо ли вы почивали?» [Там же, с. 162, 166, 169], который неоднократно задает младший старшему и который вызывает столь бурную реакцию протеста со стороны подлинного Голядкина, издевательство над последним: намек на выпитый пунш, на такие русские проблемы, как пьянство, распущенность. Русские беспечность и доверчивость проявляются в том, что при первой же встрече доверился двойнику, открыл ему свои тайны. Голядкин-младший – доносчик. Узнав всю подноготную Голядкина-старшего, он донес на него в департаменте, что сразу возвысило его: из мелкого, смиренного чиновника он стал чиновником по особым поручениям, доверенным лицом «его превосходительства». Перерабатывая журнальный вариант повести, Достоевский, судя по черновикам, собирался усилить этот мотив доносительства. Донос в русском обществе – это кратчайший путь к карьере. Доносительство, лесть, обман, лизоблюдство, чинопочитание, угодничество – вот основные качества, помогающие сделать карьеру. Русский вопрос: самозванцы, которые, по словам Голядкина, приносят вред отечеству, легко делают карьеру. Встреча Голядкина с двойником у него дома показывает, что Яков Петрович – «маленький человек» только потому, что он занимает столь незначительное место на службе и в обществе, но стань он начальником, и он будет нисколько не лучше, чем Андрей Филиппович или «его превосходительство». 329 «Я отрицаю мое своеобразие, когда отрекаюсь от себя перед лицом другого, то есть когда я уступаю, отказываюсь от чеголибо, отхожу», – пишет автор книги «Единственный и его собственность» [Штирнер 1994, с. 155]. Голядкин отказывается от себя, встретившись с Андреем Филипповичем на Невском проспекте: «Поклониться или нет? Отозваться или нет? Признаться или нет? – думал в неописанной тоске наш герой, – или прикинуться, что не я, а что кто-то другой, разительно схожий со мною <...>» [Достоевский 1972, с. 113]. Личность Голядкина не является его «собственностью», он не умеет управлять собой. Много раз показано, как он действует вопреки своим желаниям. Это и приводит к потере его личности, к передаче ее другому лицу, как бы к похищению ее. Штирнер отмечает: «Все частное <...> не представляет никакого интереса для общества» [Штирнер 1994, с. 128]. Голядкин отстаивает свое право на частную жизнь: «Это моя частная жизнь Андрей Филиппович» [Достоевский 1972, с. 127]; «– Это более относится к домашним обстоятельствам и к частной жизни моей, Андрей Филиппович, – едва слышным голосом проговорил полумертвый господин Голядкин, – это не официальное приключение, Андрей Филиппович...» [Там же, с. 134]. Андрей Филиппович говорит своему подчиненному, что частная жизнь его не интересует: «Но Андрей Филиппович, услышав, что дело господина Голядкина было частное дело, отказался слушать, решительно замечая, что у него нет ни минуты свободной и для собственных надобностей» [Там же, с. 165]. Восточный мотив – раболепство. «Двойник» о восточном порабощении человека в чиновничьем мире Петербурга. Человек, который отважился не быть таким «как все», обречен. Голядкин раздвоен, потому что, с одной стороны, он хочет идти своим путем, а с другой, он боится окончательно порвать с чиновничьим миром. Ему приходится постоянно «стушевываться». В доме Берендеевых, как и во всей российской империи, царит восточное раболепие. Источником фамилии Берендеевых, как и других фамилий у Достоевского, послужила «История государства Российского» Н.М. Карамзина, где говорится о тюркском племени берендеев, отличавшимся особой жестокостью. У Голядкина нигде нет своего места: ни в царстве Берендеев, ни на службе, ни у себя дома. Вспомним Чаадаева (прототип Чацкого), который писал, что у нас нет своего места в мире, мы везде странники. Русское отношение к начальству: принимаю за отца. Восточное отношение – полное раболепие, фанатизм в отношении веры. 330 Олсуфий Иванович, подобно восточным сатрапам, не встает с кресел и все время молчит. С помощью восточных деталей Достоевский подчеркивает повосточному раболепный дух, который царит в доме Олсуфия Ивановича. Парик на одном из гостей напоминает Голядкину арабских эмиров, «у которых, если снять с головы зеленую чалму, которую они носят в знак родства своего с пророком Мухаммедом, то останется тоже голая, безволосая голова. Потом, и, вероятно, по особенному столкновению идей относительно турков в голове своей, господин Голядкин дошел и до туфлей турецких и тут же кстати вспомнил, что Андрей Филиппович носит сапоги, похожие больше на туфли, чем на сапоги» [Достоевский 1972, с. 135]. С Западом связан в восприятии Достоевского образ Чацкого. Неслучайно в «Двойнике» немало сюжетных совпадений с комедией Грибоедова. Голядкин воспитывался в доме Олсуфия Ивановича, как Чацкий в доме Фамусова. Оба героя влюблены в дочек своих воспитателей, хотели бы жениться на них вопреки воле родителей. Поведение Голядкина на балу напоминает поведение Чацкого. Когда Голядкина с позором выгоняют из дома Олсуфия Ивановича, струи холодного дождя «кололи и секли лицо несчастного господина Голядкина, как тысячи булавок и шпилек» [Там же, с. 138]. Достоевский писал о Чацком в «Зимних заметках о летних впечатлениях»: «Чацкий – это совершенно особый тип нашей русской Европы, это тип милый, восторженный, страдающий, взывающий и к России, и к почве, а между тем все-таки уехавший опять в Европу <...> одним словом, тип совершенно бесполезный теперь и бывший ужасно полезным когда-то. <...> Однако ж Чацкий очень хорошо сделал, что улизнул тогда опять за границу: промешкал бы маленько – и отправился бы на восток, а не на запад. Любят у нас Запад, любят, и в крайнем случае, как дойдет до точки, все туда едут. <...> Поколение Чацких обоего пола после бала у Фамусова, и вообще когда был кончен бал, размножилось там, подобно песку морскому, и даже не одних Чацких: ведь из Москвы туда они все поехали. Сколько там теперь Репетиловых, сколько Скалозубов, уже выслужившихся и отправленных к водам за негодностью» [Достоевский 1973, с. 61–62]. Идея Достоевского: в XVIII веке дворяне ездили учиться в Европу, а во второй половине XIX века, после реформ 60-х гг., пора возвращаться в Россию и работать на родной почве. Позднее он выразит эту мысль в Пушкинской речи. Если Голядкин-старший – пародия на Чацкого, то его двойник ведет свою родословную от Молчалина (которого напоминает и жених Клары Олсуфьевны 331 Владимир Семенович). Молчалин, по словам автора «Зимних заметок о летних впечатлениях», «распорядился иначе и остался дома, он один только и остался дома. Он посвятил себя отечеству, так сказать, родине... Теперь до него и рукой не достанешь; Фамусова он и в переднюю теперь к себе не пустит <...> Он даже и не молчит теперь, напротив, только он и говорит» [Достоевский 1972, с. 62–63]. Западный мотив – отстаивание своей личности, индивидуализм. «Я имею, конечно, известное сходство с другими, но это имеет значение только для сравнения или рассуждения; в действительности же я – несравним, я – единственный» [Штирнер 1994, с. 131]. Голядкин тоже отстаивает свою «единственность». Он поглощен борьбой за самоутверждение. По Максу Штирнеру, вся человеческая жизнь «становится неизбежной борьбой за самоутверждение» ([Штирнер 1994, с. 10]; курсив автора. – А.Т.). Штирнер доказывает, что общество, государство так или иначе использует личность, тем самым подавляя ее, нивелируя ее своеобразие. Человек становится, по слову Достоевского, «ветошкой». Голядкин был убежден в том, что он единственный. Самым большим несчастьем для него было узнать о существовании второго Голядкина. У него хотят отнять самое дорогое, драгоценное – его личность. Смириться перед двойником – это значит отказаться от своего своеобразия, своего «Я». Основная проблема в «Двойнике – это проблема личности и ее подмены, проблема самозванства. «Мы должны спуститься до самого нищенского, жалкого, чтобы достичь особенности, ибо мы должны сбросить с себя все чуждое. Нет, однако, ничего более нищенского, чем нагой – человек» ([Там же, с. 131–132]; курсив автора. – А.Т.). Голядкин в конце теряет работу, остается без имущества, жилья, он полностью оправдывает значение своей фамилии. «Но это уже не только нищенство: с последними лохмотьями спадает все чуждое и остается настоящая обнаженность. Нищий сам уничтожил свою нищету и перестал быть тем, чем он был, перестал быть нищим» [Там же, с. 132]. Голядкин понимает, что общество и государство (а он постепенно приходит к пониманию, что против него действуют не отдельные враги: Каролина Ивановна, Андрей Филиппович, Владимир Семенович и т.д., а все общество), чтобы извести и вытеснить его, соорудили двойника, который всем импонирует. И даже если каким-то чудом Голядкин победит своего двойника и уничтожит его, оно соорудит еще тысячу Голядкиных. Штирнер рассуждает аналогичным образом: «Так как государство – иначе и быть не может – заботится единственно о себе, то оно заботится 332 не о моих потребностях, а только о том, как бы извести меня, то есть сделать другое я из меня, превратить меня в доброго гражданина» [Штирнер 1994, с. 300]. Смысл «Двойника» в том, что общество стремится из нас сделать ту модель, которая ему нужна. Если мы этому сопротивляемся, оно стремится нас изолировать. Голядкин-младший – это фантом, призрак, созданный обществом, чтобы вытеснить Голядкина-старшего, поэтому он и остается вместе со всеми, когда Крестьян Иванович увозит Якова Петровича в сумасшедший дом. Голядкин мечтает о братстве людей. Но осуществлению его идеи препятствует он сам, его двойник. Если в «Бедных людях» поставлена проблема бедности, то в «Двойнике» проблема индивидуальности. Нельзя строить такое общество, в котором будет два Голядкина, в котором не будет индивидов. Эта идея потом будет разработана в «Записках из подполья». Это вообще главная идея всего творчества Достоевского, о чем он сам говорил. Если предложить людям сделать их счастливыми, но для этого нужно им отказаться от своей личности, согласятся ли они? Достоевский утверждает: нет. Литература Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. – Л. 1972. – Т. 1. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. – Л., 1973. – Т. 5. Тусичишный А.П. О конфликте в повести «Двойник» в контексте философии Макса Штирнера // Болгарская русистика. – 2009. – № 3–4. – София, 2009. – С. 111–122. Штирнер М. Единственный и его собственность. – Харьков, 1994. 333 Шарифов Мехти Шаматович (Россия, Москва, к.филос.н., докторант Литературного института им. А.М. Горького) [email protected] Этапы развития политического романа В теории литературы сформировались две позиции к вопросу о времени формирования романа как литературного жанра. Сторонники первой позиции приурочивают появление романа к конкретной исторической эпохе, опираясь на гегелевское определение романа как «die modern bürgerliche Epopae» (современной эпопеи гражданской жизни) [Гегель 1969, с. 540]. С гегелевской позицией солидарен А.Н. Веселовский, который появление романа связал с эпохой развала сословной системы и торжества личного принципа [Веселовский 1940, с. 400–401]. Отталкиваясь от принципа диалогичности романа, М.М. Бахтин не признает романную жанровую принадлежность античного романа, так как в нем диалогический принцип не является «творческим центром» [Бахтин 1975, с. 455]. В свою очередь, сторонники второй позиции говорят о транс исторической природе романа [Косиков 1994, с. 53–54]. Соответственно выделяются типы романа: санскритский роман, древнегреческий роман, римский роман, средневековый роман и роман современного типа. Использование жанрового определения «роман» в отношении произведений, созданных в античный и средневековый периоды, носит условный характер. В этом контексте интересна позиция В.В. Кожинова, который отмечал: «Необходимо строго и последовательно различать две вещи: вопрос о возникновении жанра романа и вопрос о воздействии предшествующих литературных форм на позднейшие» [Кожинов 1963, с. 41]. Произведения (поэтические или прозаические) с романным содержанием создавались как в античную, так и в средневековую эпоху. Однако появ334 ление романа как самостоятельного жанра связано с конкретным историческим временем, а в качестве первого романа в современном понимании следует признать произведение Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот». Отталкиваясь от вышесказанного, историю становления политического романа можно условно разделить на три периода: 1) создание произведений с романным началом, в которых доминирующим является политическая тематика; 2) создание романов, в которых среди поднимаемых проблем затрагивается и политическая тематика; 3) появление политического романа как самостоятельного типа жанра романа. Произведения с романным началом, в которых доминирующим является политическая тематика, чаще всего создавались либо при обращении к элементам документальной литературы, либо же в форме художественной утопии. Это касается как эпохи античности, так и Средневековья. Жанровой особенностью произведений античной греческой литературы с романным началом, в которых доминирующей является политическая тематика, является несоблюдение законов канонического греческого романа. Так, политическая тематика присутствует в древнегреческом «Дневнике Троянской войны» Диктиса несмотря на то, что произведение представляет собой мистификацированный рассказ о событиях, не подтверждаемых историческими фактами. Творение Диктиса создано без соблюдения требований канонического греческого романа. Прежде всего отрицается всякая заинтересованность богов в участии сражающихся сторон, и даже когда допускается такая возможность, она предполагается только как альтернатива случаю. Такой подход требовала сама проблематика, поднимаемая автором. Следует также отметить, что политическая направленность «Дневника Троянской войны» была связана не только с описанием мифической греко-троянской войны, но и с антиримской пропагандой [Ярхо 2002]. Древнегреческой литературе известны также произведения, затрагивающие политическую тематику, которые носят биографический характер. Псевдоисторический греческий роман «История Александра Великого» неизвестного автора соединяет в себе как реальную биографию и фактов из правления Александра Македонского, так и фольклорные предания. Роман включает в себя как подлинные письма, так и вариации легенд об Александре. Примечательно, что сюжетная линия произведения направлена на оправдание легитимности власти Александра. Так, побег последнего 335 египетского царя Нектанеба в Македонию, где он совращает жену царя Филиппа и как следствие рождается Александр, служит для обоснования наследственного права Александра на египетский трон. Политическое содержание имеет и переписка между Александром Македонским и персидским владыкой Дарием. «Жизнь Аполлония Тианского» представляет собой художественную биографию неопифагорейца Аполлония Тианского, описанную Филостратом Старшим. Сюжетная линия произведения выстроена вокруг путешествий в разные страны мира, а конфликт – на диспуте представителей различных философских концепций. Вместе с тем в произведении затрагиваются и политические процессы, в частности, приход к власти Тита Флавия Домициана, а также его борьба за усиление власти императорской администрации в противовес сенату, мятеж Марка Кокцея Нервы, который, наоборот был сторонником сильного сената. Примером произведения с романным началом, в котором доминирующим является политическая тематика, является также творение Синесия «Египтяне, или О провидении», в котором автор описывает политические интриги при византийском дворе под видом распрей между двумя египтянами – степенным Озирисом и разбитным Тифоном. В произведении поднимаются вопросы о сущности государственной власти, о причинах и последствиях установления тирании. Греческой художественной утопии также характерно отрицание божественной роли в свершающихся событиях. Античная художественная утопия опирается на разработанную Платоном модель идеального государства. В произведении Эвгемера из Мессены «Священная запись» («Священный список») автор уделяет особое внимание идеализации общественного строя острова Панхеи, на который автор якобы попал во время плавания по Индийскому океану. Автор упоминает о «священной записи» на золотой колонне на острове, которая была оставлена некогда царем острова Зевсом. По мнению Эвгемера, греческие боги были первоначально были царями и завоевателями, впоследствии обожествленными. Эвгемер «развертывает в повествовательной форме теорию о происхождении религии и мифологии» [Тронский 1946, с. 233], связывая этот процесс с историко-политическими событиями. В докторской работе А.Н. Воробьева перечисляет следующие признаки: «(1) Изображение коллектива, организации, общества как модели лучшего (утопия) или худшего (антиутопия) государственного строя; (2) Отказ от настоящего, который выражается в радикальных формах: разрыв с привычной средой, эскапистский уход в другое, закрытое пространство, переход в другое время; 336 (3) Коллективный характер утопической цели» [Воробьева 2009, с. 8]. Проблемы общественного, политического и государственного устройства являются центральными в художественной утопии, а также определяют жанровые особенности последней. При этом идеализированная политико-государственная конструкция представляет собой некую утопическую рефлексию на недостатки сложившихся социально-политических реалий, которые и подвергает критике писатель [Баталов 1989, с. 32]. Художественная утопия получает широкое развитие в эпоху Возрождения. Одной из наиболее известных литературных утопий является «Золотая книжечка, столь же полезная, сколь и забавная о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия» Т. Мора. В своем произведении Томас Мор касается проблем социальной справедливости, частной собственности, государственного устройства и административно-управленческого аппарата, легитимности и легальности государственной власти, избирательного процесса, войны и мира, международного порядка. Изданная в XVI веке «Утопия» Т. Мора сохранила свою актуальность и по настоящее время. Спустя век появляются такие значимые утопии, как «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы и «Новая Атлантида» Фрэнсиса Бэкона. Следует отметить, что эти произведения нельзя отнести к художественной литературе. Вместе с тем они оказали существенное влияние на становление романа-утопии. Один из основных выводов, сделанный Т. Кампанеллой, заключается в том, что существующий государственный строй несправедлив. В «Городе Солнца» автор, следуя традициям платоновского «Государства», рисует идеальное государство, в котором правит духовная аристократия. «Новая Атлантида» написана в характерном для утопии стиле: путешественник, побывав в никому не известной стране, рассказывает о жизни и нравах ее счастливых обитателей. Необычный сюжет присущ утопии французского писателя Дени Вераса «История севарамбов». Так, в произведении описываются действия короля Севариаса и его сподвижников по воссозданию на территории отдаленной колонии различных типов политического устройства, благодаря чему следует вывод, что наиболее справедливой системой является конституционная монархия. В противовес Д. Верасу его соотечественник Габриэль де Фуаньи в «Приключения Жака Садера, его путешествие и открытие Астральной (Южной) Земли» описывает общество без государства и законов. С момента своего появления роман уделяет повышенное внимание политической тематике. Это связано с особенностями 337 жанрового содержания и повествования в романе. Специфика жанрового содержания романа связана с тем, что роман, с одной стороны, «как большое эпическое произведение, как повествовательное изображение общественного целого» [Лукач 1935, с. 214] описывает общественную жизнь (общественное начало), а с другой стороны раскрывает внутренний мир, динамику становления и развития характеров и мировоззренческих установок художественных персонажей (индивидуальное начало). При этом жанровое содержание романа предполагает некую конфликтность между общественным и индивидуальным началом [Михайлов 1976, с. 68], противостояние социума и героя [Мелетинский 1983, с. 278]. В силу этого роман предрасположен к раскрытию политической проблематики как сферы конфликтов общественных и частных интересов. Степень проявления политической проблематики в романах может быть различной. Политическая тематика проявляется в романах различного типа. Во-первых, политическая тематика проявила себя в романе на фоне влияния традиций ранее существовавшей приключенческой и утопической прозы, во-вторых, политическая тематика поднималась в социальном романе. Политическая тематика четко очерчена в приключенческом романе Дж. Свифта «Путешествия в некоторые удаленные страны мира в четырех частях: сочинение Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а затем капитана нескольких кораблей». В романе описываются скитания Гулливера в четырех вымышленных странах, используемых как фон для критики существующих социальнополитических порядков. Политическая тематика в социальных романах может проявляться, как открыто, так и опосредованно. Ж.-Ж. Руссо в эпистолярном романе «Юлия, или Новая Элоиза» не затрагивает напрямую политические проблемы, однако произведение не лишено политической подоплеки. Политические идеи Ж.-Ж. Руссо составляют основу утопического романа Луи Себастьена Мерсье «Год две тысячи четыреста сороковой. Сон, которого, возможно, и не было». Сюжетная линия произведения выстроена вокруг экскурсии по Парижу далекого будущего. Политический роман – сравнительно молодая жанровая конструкция. Появление политического романа как отдельного типа романа следует относить к середине ХIХ столетия [Гончаров 1977, с. 106–133]. Следует отметить, что политический роман обращается к тем жанровым конструкциям романа, в которых на протяжении XVIII–XIX веков писатели традиционно поднимали политические проблемы: роман утопия и социальный роман. 338 Утопия воссоздана в романе Этьена Кабе «Путешествие в Икарию» (1840). В произведении рассматривается процесс перехода к коммунизму, основные принципы коммунистического общества. Роман «Путешествие в Икарию» описывал страну без полиции, армии и судей, с демократической системой выборов, уравнительным распределением материальных благ при отсутствии частной собственности. Утопическая доктрина Кабе Этьена получила название «икарийского коммунизма». Установление коммунистического строя – одна из основных тематик художественных утопий, созданных на рубеже XIX–XX веков. Если утопии более ранних периодов отражали аристократические и либеральные модели идеального общества и государства, то в этот период социализм и коммунизм занимают основное внимание писателей-утопистов. Например, романы «Взгляд назад» Белами Эдварда, «Вести ниоткуда, или Эпоха спокойствия» Уильяма Морриса, «Красная звезда» и «Инженер Мэнни» Александра Богданова и т.д. Примечательно, что пропаганда коммунистических идей в западной романистике не была связана только с жанровой формой утопического романа. В начале ХХ века выходит роман Э. Синклера «Джунгли». Это социальный роман о буднях рабочей иммигрантской семьи, глава которой проходит путь от безработного люмпена-бродяги до узника и штрейкбрехера. Социально-политический характер носят произведения таких русских писателей, как И. Тургенев, Н. Чернышевский, Ф. Достоевский. В своих романах авторы на фоне художественного осмысления социальных проблем ведут политические дебаты о проблемах, характерных для царской России. Так, в тургеневском романе «Отцы и дети» затрагивается не только социальная проблема конфликта поколений, но и распространение нигилизма и революционных взглядов среди российской молодежи. Революционная молодежь описывается и в романе Н. Чернышевского «Что делать?». В романе молодые революционеры идеализируются. «Преступление и наказание» Ф. Достоевского раскрывает пагубность влияния нигилистических взглядов среди молодежи. В западной литературе в первой половине ХХ века возрождение интереса к политической тематике было связано с творчеством реалистов, сменивших представителей романтизма и символизма. Реализм оказал влияние на творчество писателей, увлекающихся созданием политической художественной прозы (романов, повестей, рассказов). Например, к реализму относится творчество таких авторов, как Э. Синклер, Д. Трамбо, Э.М. Ремарк и т.д. 339 Характер ведения боевых действий и количество жертв Первой мировой войны подтолкнули общественность к пересмотру отношения к войне. Традиционно война описывалась в литературе как место реализации благородных порывов и качеств персонажей. Это было характерно как для американской, так и для европейской романистики. В 30-ые годы ХХ столетия литература отходит от пропаганды войны, наращивая критику милитаризма. Появляются романы о «потерянном поколении», то есть о поколении, призванном на Первую мировую войну в юношеском возрасте, которое не смогло адаптироваться к мирной жизни после окончания войны. «Потерянному поколению» посвящали свои работы такие известные писатели, как Э. Хемингуэй, Э.М. Ремарк, А. Барбюс, Р. Олдингтон, Э. Паунд, Дж.Д. Пассос, Ф.С. Фицджеральд, Ш. Андерсон, Т. Вулф, Н. Уэст, Дж. О'Хара. В своих романах Д. Трамбо и Э.М. Ремарк одни из первых преподносят читателю реалистическое описание войны. Роман Д. Трамбо «Джонни взял ружье» повествует о молодом американском солдате Джо Бонэме, который лишился конечностей в результате травмы на фронте Первой мировой войны. Отверженный людьми, Дж. Бонэме не в состоянии даже совершить акт суицида и тем самым прервать свое утомительное одиночество. Джо, понимающему, что он останется в запертой палате до самой смерти, остается лишь повторять в тишину и темноту: «S.O.S... Помогите... S.O.S... Помогите...». Примечательно, что роман «Джонни взял ружье» долгое время находился под запретом в Соединенных Штатах. Созданный в преддверии Второй мировой войны и экранизированный самим автором во время Вьетнамской войны, роман оказал значительное влияние на формирование антивоенного общественного сознания. Э.М. Ремарк создает несколько антивоенных романов о «потерянном поколении»: «На западном фронте без перемен», «Возвращение», «Три товарища» и т.д. «На западном фронте без перемен» повествует о пережитом и увиденном на фронте молодым солдатом Паулем Боймером и его фронтовыми товарищами в Первой мировой войне. Э.М. Ремарк описывает молодых людей, которые из-за полученных ими на войне душевных травм не в состоянии были найти себя и в послевоенной гражданской жизни. Ремарковский роман противостоял правоконсервативной военной литературе, превалировавшей в Германии в эпоху Веймарской республики. «Возвращение» не ограничивается описанием фронтовых ужасов. В этом романе Э.М. Ремарк показывает влияние на судьбы германских солдат политических процессов. Главным героям 340 романа, простым солдатам германской армии (Эрнст Биркхольц, Юпп, Фердинанд Козоле, Адольф Бетке и т.д.) политика является чуждой. Солдаты пытаются отмежеваться от политики, однако они все оказываются втянуты в водоворот событий, последовавших после революции в Берлине. Если «На западном фронте без перемен» и «Возвращение» отражают безысходность положения «потерянного поколения», то в романе «Три товарища» Э.М. Ремарк описывает пути преодоления мировоззренческого кризиса «потерянного поколения». Человеческие отношения, такие, как любовь, уважение, дружба, преданность и доверие позволяют главным героям романа – друзьям Роберту Локампу, Отто Кестеру и Готтфриду Ленцу, прошедшим Первую мировую войну, преодолеть мучающие их военные воспоминания. Взаимная поддержка друзей позволяет им из убийц военного времени трансформироваться в обычных граждан, способных на созидательную деятельность. Середина и конец ХХ века сопряжены с интересом к политической тематике со стороны литературы модернизма и постмодернизма. Е. Замятин, О. Хаскли, Дж. Оруэлл, Р. Брэдбери обращались к антиутопии с целью критики тоталитарных режимов. Например, подобная критика имеет место в таких произведениях, как «Мы», «1984», «О дивный новый мир», «451 градус по Фаренгейту». Повествование в перечисленных произведениях включает в себя сатирические отрывки и мотивы. Наряду с этим продолжают создаваться политические романы в русле реализма. «Холодная война» не осталась незамеченной писателями. В странах как капиталистического, так и социалистического лагеря создаются произведения, в которых содержится критика капиталистической или же социалистической системы. Жесткая критика капиталистического способа производства содержится в произведении Дж. Стейнбека «Гроздья гнева». Действие романа происходит во времена Великой депрессии. Бедная семья фермеров-арендаторов, Джоуды, вынуждена покинуть свой дом в Оклахоме из-за засухи, экономических трудностей и изменений в принципах ведения сельского хозяйства. В практически безвыходной ситуации они направляются в Калифорнию. Сюжетная линия романа построена на противостоянии обычных американцев, обманом заманенных в Калифорнию, крупным землевладельцам и банкам. Используя «американскую мечту», землевладельцы заманивают людей посулами хорошо оплачиваемой работы, создавая на уровне региона переизбыток рабочей силы. В реальности трудовым мигрантам предлагается тяжкий труд за гроши. Попытки же обманутых американцев защитить свои 341 права, в том числе путем объединения под социалистическими лозунгами, пресекаются органами власти и правоохранительными органами, купленными землевладельцами и банками. К числу политических романов, которые связаны с постмодернизмом, следует отнести часть произведений, фабула которых основана на альтернативном видении истории. Среди читателей широкой популярностью пользовался роман «Человек в высоком замке» Филипа Дика, сюжетная линия которого выстроена по принципу альтернативной истории. В романе описывается тот послевоенный мир, который сложился бы в случае победы во Второй мировой войне стран Оси «Берлин-Рим-Токио». Особенностью жанровой конструкции «Человека в высоком замке» является наличие романа в романе. В произведении имеется вставной роман «Когда наестся саранча», авторство которой принадлежит герою романа Готорну Абендсену. Примечательно, что фабула романа «Когда наестся саранча» представляет собой альтернатив фабуле «Человека в высоком замке». Во вставном романе «Когда наестся саранча» описывается мир, в котором из Второй мировой войны победителями вышла антифашистская коалиция. Вставной роман мастерски используется автором для художественной рефлексии, что характерно для постмодерна. Следует отметить, что самой заметной темой «Человека в высоком замке» является взаимопроникновение настоящей реальности и вымышленной (поддельной), что характерно для литературы постмодернизма. Не случайно роман заканчивается словами из древней китайской «Книги Перемен» («Ицзин») об иллюзорности мира, окружающего героев романа. Проблеме альтернативной истории после Второй мировой войны посвящен и альтернативно-исторический политико-философский роман Ф. Стивена «Как творить историю», опубликованный в конце 90-ых годов прошлого столетия. Сюжетная линия романа выстроена вокруг действий главного героя Майкла Янга по недопущению появления на свет Адольфа Гитлера. Ф. Стивен обрисовывает альтернативную историю без фактора влияния А. Гитлера. Автор отталкивается от политической повседневности и переходит в сферу размышления о предопределении истории и о природе абсолютного зла. В американской литературе существует целый пласт романов, основанных на альтернативном видении американской истории. Например, роман Г. Гаррисона «Да здравствует трансатлантический туннель! Ура!» описывает историю Америки, которая не была открыта Христофором Колумбом, в которой американцы проиграли Войну за независимость, а «изменник» Джордж Вашинг342 тон был казнен. Американскому читателю широко известен цикл романов Г. Тертлдава «Великая война», рассказывающего о Гражданской войне в США, в ходе которой южные штаты сумели отстоять свою независимость. В русской литературе романом альтернативной истории является «Остров Крым» В. Аксенова. Изданное в эмиграции в США в 1981 году произведение «Остров Крым» воссоздает политическую систему России, которая бы сложилась, если бы в Гражданской войне победу одержали белогвардейцы. На территории Крыма, представленного в романе в качестве отдельного острова, белогвардейцы сохраняют свою власть, что позволяет им сформировать русское государство с демократической государственностью. В романе В. Рыбакова «Гравилет “Цесаревич”» рисуется чудесный мир Российской Империи, какой она стала бы в 1992 году. Не было революции, а коммунизм стал религией, права которой защищены мудрыми и гуманными законами огромной и величественной Империи. В романе «Гравилет “Цесаревич”» затрагивается и проблема парада суверенитетов, прокатившегося после развала СССР. Хотелось бы отметить роман П.Р. Амнуэля «Люди Кода», в котором художественный мир уносит нас в Израиль XXI века. Сюжет романа связан с эсхатологическим толкованием политических процессов и перспектив. Главный герой, увлекающийся изучением Торы, обнаруживает некий код, познание которого приводит к генетической трансформации. На протяжении всего произведения разворачивается жесткая политическая борьба между теми, кто принял код и соответственно трансформировался, и теми, кто отверг код. На рубеже ХХ–ХХI веков в русской литературе усиливается интерес к проблеме государственной власти, нашедший отражение в целом ряде общественно-политических романов, что позволяет говорить об актуализации традиций художественного анализа социальных и политических противоречий. Можно привести примеры из творчества таких писателей, как А. Проханов, Д. Быков, В. Сорокин, В. Пелевин и т.д. Проблема распада советской государственной машины поднимается в романе А. Проханова «Последний солдат империи», вышедшем в свет в 2003 году. Политический путч со стороны спецслужб А. Проханов описывает в романе «Господин Гексоген». Сюжетная линия в романе выстроена вокруг заговора, целью которого является смена власти в стране путем ее передачи от дряхлого Истукана молодому Избраннику. Критики, дав высокую оценку художественному содержанию романа, особо отметили 343 политическую актуальность произведения [Пирогов 2002]. Острая политическая полемика содержится в романе В. Пелевина «Generation “П”». Автор разоблачает мнимую свободу личности в постсоветском обществе, ориентированном на чуждые идеалы и ценности американизированного общественного устройства [Жаринова 2004, с. 7]. Проблема терроризма не оставила равнодушным и писателей. Среди российских романов можно отметить такие произведения как «Эвакуатор» Д. Быкова и «Аниматор» А. Волоса. Проблема терроризма поднимается и зарубежными авторами. В качестве примера можно обратиться к роману Аля Аль-Асуани «Дом Якобяна». Литература Баталов Э.Я. В мире утопии: Пять диалогов об утопии, утопическом сознании и утопических экспериментах. – М., 1989. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – Л., 1940. Воробьева А.Н. Русская антиутопия ХХ – начала ХХI веков в контексте мировой антиутопии: Автореф. дис. док. фил. наук. – Саратов, 2009. Гегель. Эстетика. – М., 1969. – Т. 3. Гончаров Ю. Сквозь призму «политического романа» // Американская литература и общественно-политическая борьба 60-х начала 70х годов XX века. – М., 1977. Жаринова О.В. Поэтико-философский аспект произведений Виктора Пелевина «Омон Ра» и «Generation “П”»: Автореф. дис. ... канд. фил. наук. – Тамбов, 2004. Кожинов В.В. Происхождение романа. Теоретико-исторический очерк. – М., 1963. – С. 41. Косиков Г.К. К теории романа (роман средневековый и роман Нового времени) // Проблемы жанра в литературе средневековья. Литература Средних веков, Ренессанса и Барокко. – М., 1994. – Вып. I. Лукач Г. Проблемы теории романа // Литературный критик. – 1935. – № 2. Мелетинский Е.М. Средневековый роман. Происхождение и классические формы. – М., 1983. Михайлов А.Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. – М., 1976. Пирогов Л. Русский бестселлер? // НГ-Ex libris. – 11 марта 2002. Тронский И.М. История античной литературы. – Л., 1946. Ярхо В.Н. Вступительная статья. Диктис Критский. Дневник Троянской войны // Вестник древней истории. – 2002. – № 1. 344 Шарифова Салида Шаммед кызы (Азербайджан, Баку; к.ф.н., ст. научный сотрудник Института литературы имени Низами Национальный Академии наук Азербайджана) [email protected] Теоретические вопросы «чистоты» жанра романа Для теории жанров категория «чистота жанра» носит условный характер, так как идеально «чистых» жанров не бывает. Каждый этап «жизни» жанр вбирает в себя приметы эпохи и какие-то уже сложившиеся элементы прежних жанров» [Громов 2004, с. 42]. Схожую принципиальную позицию занимал М.М. Бахтин, отмечавший, что «ни одна конкретная историческая разновидность не выдерживает принципа в чистом виде, но характеризуется преобладанием того или иного принципа оформления героя» [Бахтин 1979, с. 188]. Отсутствие идеально «жанрово – чистых» произведений связано, в первую очередь, с жанровым смешением, характеризующим творческий процесс. Современная литература зиждется не только на «чистоте, но и на взаимовключаемости, или «обогащении» (то есть, не только на расщеплении, но и соединяемости, срастании)» [Уэллек, Уоррен 1978, с. 252]. Вместе с тем для теории романа проблема «жанровой чистоты» стоит более остро, чем для других жанров, что связано с особенностями данного жанра: с одной стороны, многосоставность (универсальность) жанрового содержания романа (объективный и субъективный уровни, на каждом из которых выделяется как романное, так и эпическое начало); с другой стороны, многоуровневость семантического ядра жанра романа, позволяющей осуществлять разноплановое вкрапление в роман элементов отдельных жанров. Универсальность жанрового содержания романа связана с эпической сущностью данного жанра, которая и определяет 345 повышенную предрасположенность к вкраплению элементов иных жанров. В литературоведении выделение синтетического свойства эпоса как литературного рода восходит к Платону, характеризовавшего эпос как «смешанный» способ повествования (то есть включающий и лирический и драматический способы). Аналогичный тезис озвучивает А.И. Белецкий: «Лирике свойственна форма монологическая, драматическими мы называем произведения, облеченные в форму диалога, то есть разговора между двумя или несколькими лицами; чередование монологов автора с диалогами действующих лиц образует срединную форму – эпоса» [Белецкий 1964, с. 170]. На «мощной эпической основе в романе осуществляется уже и синтезирование драматических и лирических тенденций с эпической структурой» [Рымарь 1978, с. 40]. Как пишет известный западный литературовед: «Роман – самый емкий из всех видов поэзии; он допускает возможность различнейших вариаций, ибо заключает или может заключать в себе... поэзию всех родов и видов» [Bausch 1964, с. 287]. В итоге роман предстает перед нами как синтетический жанр. Синтетизм присущ искусству в целом [Бурлина 1987, с. 23], в том числе и литературе. Синтетизм присущ и «высоким» жанрам, включая и лирические жанры. Анализируя историю поэзии, В.Д. Сквозников приходит к выводу, что в XIX веке в лирике начинает доминировать «универсальная», синтетическая стихотворная форма [Сквозников 1964, с. 209]. Синтетизм связан с самим процессом творчества, с его особенностями. Лессинг писал в «Гамбургской драматургии»: «В учебниках жанры разделяют так строго, как только можно; но если гений, во власти высоких помыслов соединяет несколько жанров в одном и том же произведении, то можно забыть про учебник и постараться выяснить, достигнуты ли те высокие цели, которые преследовал автор» [Lessing 1972, S. 287]. Но среди множества литературных жанров именно в романе удельная доля «примеси» зашкаливает за общепринятые показатели, характерные для иных жанров: «Ни один роман не покрывается только одним термином. О чистом соблюдении вида говорить не приходится» [Грифцов 1927, с. 143]. Например, А.В. Чичерин в структуре романа выделял трагедийность, драматизированные диалоги, лирические излияния, философско-научные опусы и т.д.: «Трагедийность в романе имеет невиданную в трагедии обоснованность и историчность в этом ее эпический характер. Диалог в романе не самодовлеющий и движущий фактор, а толь346 ко одно из средств образной конкретизации повествования. Лиризм пронизан сюжетными движением, он историчен и как частица в истории личности, и как страница из истории народа» [Чичерин 1975, с. 43]. Развитие многочисленных подтипов романов спровоцировало распространение представлений о «смерти романа». Западный литературовед Л. Фидлер предрекал: «Традиционный роман... мертв, нет, он не лежит на смертном одре, он просто мертв» [Fidler 1968, S. 10]. Пессимистические настроения встречаются в работах многих литературоведов: «Сегодня после четверти столетия социальных и политических изменений имеются доказательства того, что роман... стоит перед опасностью исчезновения» – пишет Г. Кабли [Kubly 1964, p. 14]. Подобные пессимистические оценки обусловлены: а) как усложнением критериев принадлежности отдельных современных произведений крупной прозы к жанру романа (в том числе и к его подтипам) вследствие присутствия «многих и разных жанровых установок» [Бурлина 1987, с. 100], б) так и широким распространением «жанрового критицизма» на фоне превращения романа в ведущий жанр [Бахтин 2000, с. 97]. Следует также отметить, что истории развития жанра романа известны попытки «очистить» роман, создать «чистый роман». В 1925 году публикуется роман Андре Жида «Фальшивомонетчики», представляющий собой модернистский роман, в котором автор пытается отказаться от интриги, характера, внешних элементов как чуждых роману [Кирьянова 2007, с. 182]. По иронии литературного процесса, «чистые романы» стали всего лишь одним из подтипов того множества романов, которые известны современному литературоведению. На наш взгляд, жанр романа еще не исчерпал всех своих возможностей и адекватен существующим эстетическим потребностям эпического отражения объективного мира. Жанровый синтетизм нельзя рассматривать ни как игнорирование «жанровых признаков», ни как противопоставление жанров друг другу [Бурлина 1987, с. 32]. Для жанра характерна «последовательная реализация его потенциала, использование содержательных ресурсов жанровой формы, вызываемое потребностями движущегося художественного сознания, осваивающего новые горизонты «человеческого мира» [Лейдерман 1982, с. 83]. Реализация этого потенциала осуществляется в том числе и за счет использования синтетизма романа, так как «в ходе развития литературы синтетические возможности романа, действительно, возрастают, однако это не 347 умаляет, а напротив, укрепляет жанроопределяющую роль его эпических основ» [Лейтес 1985, с. 62]. Синтетичность романа резко выделяет его на фоне других жанров, «являвшихся «специализированными» и действовавших на неких локальных «участках» художественного постижения мира» [Долгенко 2005, с. 210]. Смешение элементов, присущих разным жанрам, К.Г. Ханмурзаев связывал со стремлением романистов «к универсальному, целостному охвату жизни человечества» [Ханмурзаев 1998, с. 131]. Таким образом, вокруг жанра складывается несколько парадоксальная ситуация: «жанр начинает складываться лишь с нарушением первичной общественной целостности, он движим явлениями социальной атомизации, а цель жанра – в создании художественного синтеза» [Затонский 1973, с. 53]. Углубление процессов синтеза должно было бы привести к «стиранию» границ как между подтипами романа, так и между некоторыми жанрами в целом [Жанровые разновидности романа в зарубежной литературе XVIII–ХХ веков 1985, с. 61]. От этого отталкивались и сторонники «смерти» жанра. Но жанровое смешение определенным образом ограничено. Вкрапление элементов иных жанров может осуществляться лишь частично и не должно приводить: – к трансформации семантического ядра жанра; – к изменению «признаков жанра». В противном случае мы столкнулись бы с появлением нового жанра. Синтетичность романа наиболее ярко проявляет себя в период зрелости рассматриваемого жанра. Переход к стадии зрелости предполагает освоение потенциала: – многосоставного (универсального) жанрового содержания романа как на объективном, так и на субъективном уровнях; – многоуровневого семантического ядра жанра романа. При этом данный процесс характеризуется статичностью семантического ядра жанра романа. Развитие жанра «основано на противостоянии стабильного изменчивому» [Поляков 1983, с. 16]. В силу этого в период «созревания» и дальнейшего развития роман сохраняет «жанровые признаки». Несмотря на то, что создается громадное количество самых разнообразных произведений этого жанра, в них сохраняются какие-то повторяющиеся особенности содержания и формы, которые и оказываются признаками жанра. Одним из последствий процессов «созревания» является смена подтипов жанра романа: «традиционный псевдоисторический роман послужил началом роману подлинно историческому, идиллический – психологическому и семейному, аллегориче348 ский – философскому, пародийный – сатирическому» [Гринцер 1980, с. 42]. Еще одно следствие «созревания» жанра романа – это появление художественных образцов с «повышенной» степенью синтетичности. В качестве примера можно привести роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». До сих пор в литературных кругах продолжаются дискуссии о жанровой природе этого произведения. Кто-то определяет его как роман-миф, кто-то – как философский роман, третьи – как роман-мистерию и т.д. Уникальность романа «Мастер и Маргарита» в органичном переплетении элементов множества литературных жанров, что оказало влияние на композицию и сюжетную линию. Из-за особенностей композиции «Мастер и Маргарита» обозначается некоторыми исследователями как двойной роман, роман в романе. В сюжете оригинально сплетены два пласта времени (библейское и современное М.А. Булгакову время), а сам сюжет представлен тремя сюжетными линиями: философская линия (Иешуа и Понтий Пилат), любовная линия (Мастер и Маргарита), мистико-сатирическая линия (Воланд и его свита). При этом все три сюжетные «двух» романов смыкаются в одной пространственно-временной точке. Закономерностью «созревания» жанра романа является различный период времени, затрачиваемый на это в национальных литературах. Так, если в европейской литературе этот период растянулся на два столетия, то для литературы восточных народов – на век. Характерно также сохранение и определенного отставания в сюжетосложении. Например, стадия зрелости азербайджанского романа приходится на вторую четверть ХХ века, когда первые попытки создания романов были предприняты еще в середине XIX века. Зрелость жанра наступает в тот период, «когда устанавливается соответствие, некая гармония между художественным сознанием и адекватной ему формой, раскрывшей свой семантический потенциал» [Лейдерман 1982, с. 83]. Полное раскрытие потенциала семантического ядра жанра романа в азербайджанской литературе происходит на фоне отказа от «маленького романа» и ознаменовано такими романами, как – «Тебриз туманный», «Сражающийся город» и «Подпольный Баку» М.С. Ордубади, «Мир рушится» Абульгасана, «Воскресший человек», «Манифест молодого человека» и «Открытая книга» М.Дж. Пашаева, «Половодье» и «Апшерон» Мехти Гусейна, «В крови» Ю.В. Чеменземенли, «Шамо» и «Сачлы» С. Рагимова и т.д. Именно на вторую четверть ХХ века приходится расширение подтипов азербайджанского романа. Для азербайджанской 349 прозы ХIХ век характеризовался в основном романами – «хекаятами», а начало ХХ века «маленькими» романа. Но уже во второй четверти прошлого столетия азербайджанская романистика рождает модификации психологического, социального и философского романа, в том числе и романы-эпопеи. В произведениях, созданных в период «зрелости», наблюдается установка на сходства или различия с ранее созданными произведениями данного жанра. Жанр обогащается новыми произведениями, примыкающими к уже наличествующим произведениям данного жанра. «Зрелость» жанра не предполагает, что прекращается (или тормозится) развитие жанра [Лейдерман 1982, с. 83]. Сторонники «смерти» романа не учитывают особенности процессов замещения одних жанров другими после того, как первые полностью истратили потенциал. На сегодняшний же день потенциал жанра романа не исчерпан. В этой связи вспоминается работа Хосе Ортеги-и-Гассета «Мысли о романе», в котором автор пишет: «Глубоко ошибочно представлять себе роман (я говорю, прежде всего, о современном романе) наподобие бездонного колодца, откуда можно постоянно черпать все новые и новые формы. Гораздо лучше вообразить себе каменоломню, запасы которой огромны, но все же конечны. Роман предполагает вполне определенное число возможных тем. Рудокопы, пришедшие раньше всех, без труда добыли новые блоки, фигуры, сюжеты. Нынешние рудокопы обнаружили только тонкие, уходящие далеко вглубь каменные жилы». Хосе Ортега-и-Гассета пессимистически оценивает перспективы романа как жанра. «Пессимисты» допускают методологическую ошибку, когда смешивают понимание жанра как реальной идеалистической конструкции и как реального фактора литературного процесса. Дело в том, что «жанр в пределах, данной эпохи или школы – сложная система, которая может не осуществляться целиком (вернее – никогда не осуществляется целиком в отдельных произведениях, но присутствует в литературном сознании как особая нормативная «идея» жанра. Она не всегда совпадает с определением, которое дает классическая поэтика, и всегда богаче его» [Виндт 1927, с. 87]. При этом еще надо учитывать то, что жанру присуща постоянная динамичность, характеризуемая подвижностью, постоянной эволюцией и усложнением конструкции [Громов 2004, с. 42]. Не случайно Л.Н. Толстой называл роман «свободной формой» [Толстой 1951, с. 359]. Развивая тезис, можно было бы подчеркнуть, что «роман, жанр наиболее свободный, гибкий из всех 350 прочих жанров европейской литературы. Как раз в его достаточно гетерогенную ткань, вмещающую в себя элементы любых других жанров, в том числе и не художественных, могли легко вписываться теоретические пассажы метатексты типа «размышлений о романе». Именно в это время «рождается» жанр современного романа, опирающегося на предшествующие ему жанры и смело экспериментирующего со всевозможными типами нарратива» [Аникеева 2004, с. 32]. Особенности жанра романа делают условным применение в отношение него такой категории, как художественный канон. Жанровый канон образован системой определенных правил, придающих жанру нормативность, которая проявляется на содержательном и формальном уровнях художественных произведений. На условность жанрового канона для романа обращает внимание Н.Д. Тамарченко в «Типологии реалистического романа», предлагая в отношении романа использовать понятие «внутренняя мера» [Тамарченко 1988, с. 10–11]. По мнению Н.Д. Тамарченко, понятия «внутренней меры» соответствует понятию «канона» для жанров традициональных или «готовых». Под каноном (в переводе с греческого – руководящий принцип, масштаб) традиционно понимается система устоявшейся художественной символики и семантики, используемая в рамках данного жанра. Позиция Н.Д. Тамарченко входит в рамки теории М.М. Бахтина, который отмечал условность применения термина «художественный канон» в отношении романа. Однако это не говорит об отсутствии правил и закономерностей художественного изложения в нем. Существует устойчивая связь событийной канвы с сюжетом и фабулой романа. Понятие событийности предполагает, что нечто, именуемое событием, должно резко менять внутреннюю или внешнюю жизнь человека или социума. В литературоведении событийность можно понимать двояко: во-первых, событийность художественного произведения для читателя и социума, во-вторых, «внутренняя» событийность художественного произведения, сопряженная с фабулой и сюжетом. Событийность художественного произведения для читателя и социума проявляет себя в степени идейно-политического влияния, которое оказывается на реальность содержанием произведения. История литературы знает немало примеров, когда художественные произведения выступали катализаторами тех или иных общественно-политических тенденций. «Внутренняя» событийность в литературе наиболее большую значимость приобретает для драматических и прозаических жанров. Если событийность 351 художественного произведения для читателя и социума феномен в большей степени социально-философский, то «внутренняя событийность» художественного произведения является фактором литературоведческим, в том числе в некотором смысле и жанрообразующим. Особый характер «внутренней» событийности для прозы обусловливается спецификой художественного изложения: писатель стремится к тому, чтобы описание событий, развертывающихся в художественном пространстве и в художественном времени произведения носило отстраненный характер. Событийный дискурс проявляет себя в том, что прозаическое произведение ориентировано не только на репрезентацию тех или иных событий, но и на художественное воспроизводство события сначала в фабуле и сюжете, а затем в воображении читателя. Событийность прозаических произведений направлена на раскрытие характеров героев и суть изображаемых явлений в соответствии с авторским замыслом. Поэтому «внутренняя» событийность художественного произведения тесно связана с его сюжетом и фабулой. «Внутреннюю» событийность можно условно характеризовать как «фабульно-сюжетную». Фабула в художественном произведении представляет собой аналог реальной событийности, а сюжет отражает в себе динамику развития этого аналога. Соотношение этих трех категорий в художественном произведении может выражаться двояко: – произведение с содержательно противоречивой фабулой (произведения с сюжетом с фабульной завязкой); – произведение с содержательно непротиворечивой фабулой. В произведениях о сюжете с содержательно противоречивой фабулой событийность раскрывается через коллизию, тогда как в произведениях второго типа – события в фабулах не связаны единством взаимного содержательного противоположения. В подавляющем большинстве романы представляют собой произведения с содержательно противоречивой фабулой (произведения с сюжетом с фабульной завязкой). Рост значения символов и неомифологизация культурного пространства подстегнули процессы дереализации событийной основы современных романов, что в свою очередь спровоцировало изменения связей в триаде событийность – сюжет – фабула: – усиление расхождения сюжета и собственно фабульной основы романа; – обращение к нереалистичным событиям в фабуле романов, в том числе и написанных в духе реализма; 352 – смещение содержательного ядра сюжета с последовательного изложения событий на совокупность определенных мотивов, тем, мировоззренческих взглядов главных героев; – отход от принципа хронологической последовательности изложения, что приводит к появлению многообразных модификаций хронотопа романа; – выход «несобытийности» за рамки «внефабулярных элементов»; – полимодальность повествования в романе, когда авторы все чаще обращаются к изложению одних и тех же событий с разных точек зрения, и т.д. В конце ХХ века синтетические возможности романа возрастают и эта тенденция носит устойчивый характер. Поэтому при анализе романов ошибочно применять «жанровые признаки» как трафарет для оценки художественной ценности произведения, пытаясь обосновать оценку на «жанровую» чистоту. Теория жанров и теоретическая поэтика не ставит перед авторами задач по созданию «правильных» произведений искусства [Косиков 1998, с. 83], хотя и не снимает требования в отношении «фабульносюжетной событийности». К сожалению, в истории литературоведения не раз предпринимались попытки сформировать как жанровые (композиционноструктурные), так и идеологические (идейно-содержательные) требования к писателям (например, таким недостатком периодически страдало советское литературоведение). Такая позиция игнорирует роль отдельных авторов в литературном процессе. Предание забвению или трансформация существующих и формирующихся жанров – все это связано с художественным сознанием автора. Именно автор выбирает определенный тип повествования и совокупность художественных приемов для раскрытия авторского замысла. Само появление романа в современном понимании связано с отходом Мигеля Сервантеса де Сааведра от существующих канонов повествования, смешение в «Дон Кихоте» и «Северной повести» элементов новеллы, плутовского романа, «обрамленной повести», «exempla» и т.д. Аналогичный механизм можно зафиксировать и в процессе «смещения жанра», когда с истечением времени имеет место трансформация жанровых признаков и формирование внутрижанровых типов. Классическим примером могут служить исторические романы В.Скотта, который, сочетая элементы художественных и документальных жанров, стал основоположником новой разновидности романа. Движущий фактор при создании В. Скоттом исторического романа – это необходимость использования 353 особенностей художественного и документального повествования для полного раскрытия авторского замысла. Мигель Сервантес де Сааведра и Вальтер Скотт выступили в роли критиков существующей жанровой системы. Роль автора не ограничивается выбором – стать последователем жанра или создателем нового жанра, но и предполагает возложение на творца функции критика. Игнорируя существующие жанровые каноны и нарушая требования жанровых признаков, автор в открытой или завуалированной форме их порицает. В результате автор подвергает обструкции существующие жанры, неся на себе в некоторой степени бремя разрушителя «чистоты» существующих жанров. Обращение автора к жанрам и их признакам не является абсолютно произвольным актом: содержание авторского замысла и используемый метод художественного познания подталкивают автора к использованию конкретного жанра и художественного приема. При этом если разнообразие авторских замыслов предопределяет также разнообразие идейно-жанровых качеств произведений (в том числе и в повествовании, стилистике, сюжете, фабуле, хронотопе и т.д.), то частичное совпадение авторского замысла придает произведениям некие «родственные» черты, что и служит основанием для соотнесения с различными родами и жанрами. Жанровая конструкция художественного произведения во многом корректируется степенью развернутости и последовательности использования метода (методов) художественного познания, глубиной проникновения с его помощью в предмет отображения. Таким образом, функция авторской критики жанра интегрирована в творческий процесс и может проявлять себя более активно: – в периоды трансформации общественных отношений; – под влиянием развития научной мысли. Если трансформация общественных отношений предоставляет автору материал для формирования вариаций авторского замысла, то развитие научной мысли предполагает также изменение методов художественного познания. На мой взгляд, функция авторской критики жанровой конструкции может проявлять себя в нескольких формах: – отказ автора от жанра в целом (как форма «пассивной» критики); – обращение к «смещению жанра» в случаях, когда автор не считает, что жанр исчерпал возможности для раскрытия его замысла, но критически относится к существующим вариациям того или иного жанра; 354 – допущение жанрового смешения, когда автор предполагает, что его творческий замысел может быть раскрыт лишь при одновременном обращении к различным жанровым конструкциям; – создание нового жанра в случаях, когда автор уверен, что существующие жанры не способны раскрыть его творческий замысел; – художественно-жанровая рефлексия, когда посредством текста художественного произведения передается познание жанровой системы и отдельных жанров. Отказ авторов от жанра или группы жанров в целом связано с процессами замещения в литературе. Например, в русской литературе обновление жанровой системы приходится на рубеж XVII–XVIII веков, когда специфические жанры русской литературы (летопись, жития и т.д.) уступили место жанрам литературы Западной Европы. В азербайджанской литературе этот процесс приходится на XVIII–XIX века. Это период отказа в азербайджанской литературе от традиционных жанровых конструкций, период трансформации жанровой системы в целом. На смену жанровым формам классической восточной литературы постепенно пришли жанры, созданные в рамках западной литературы (роман, новелла, драма и т.д.). Следует также подчеркнуть, что отказ автора от жанра в целом как форма «пассивной» критики наиболее часто встречается в отношении жанров, имеющих жесткую конструкцию. Неслучайно наибольшее количество жанров, не используемых современными авторами, являются поэтическими жанрами. Если при трансформации жанровой системы азербайджанской литературы в XVIII–XIX века средневековые прозаические жанры были инкорпорированы в создаваемые произведения проевропейской прозы, то средневековые лирические жанры не были востребованы обновленной литературой. Именно на этот период приходится становление в азербайджанской литературе «романа – хекаята». Это жанровая конструкция инкорпорировала в романную структуру элементы восточных философских и дидактических трактатов, «хекаят»’ов и «саргузашт»’ов, письменных дастанов и т.д. Следующие три формы проявления функции авторской критики жанровой конструкции были продемонстрированы в творчестве Мигеля Сервантеса де Сааведра и Вальтера Скотта. В романе Сервантеса «Дон Кихот» мы сталкиваемся с такими формами, как: – допущение жанрового смешения, когда автор предполагает, что его авторский замысел может быть раскрыт лишь при одновременном обращении к различным жанровым конструкциям; 355 – создание нового жанра в случаях, когда автор уверен, что существующие жанры не способны раскрыть его авторский замысел. В исторических романах В. Скотта проявляют себя следующие формы авторской критики: – обращение к «смещению жанра», в случаях, когда автор не считает, что жанр исчерпал возможности для раскрытия его авторского замысла, но критически относится к существующим вариациям того или иного жанра; – допущение жанрового смешения, когда автор предполагает, что его авторский замысел может быть раскрыт лишь при одновременном обращении к различным жанровым конструкциям. Художественно-жанровая рефлексия – форма проявления авторской критики жанровой конструкции, которая имеет свои особенности. Художественно-жанровая рефлексия предполагает включение в авторский замысел вопросов познания жанра, переосмысления и переоценки его содержания и признаков. Художественно-жанровая рефлексия обращается к художественной интроспекции как методу художественного анализа. Художественно-жанровую рефлексию следует отличать от жанровой рефлексии и от художественной рефлексии, используемой для целей мистификации. Жанровая рефлексия предусматривает, что при создании художественного произведения автор соотносит свой авторский замысел, особенности его изложения в тексте с требованиями того или иного жанра (или нескольких жанров). Первые четыре формы авторской критики жанровой конструкции отражают противоположные по сущности с жанровой рефлексией явления. Художественная рефлексия проявляет себя в форме этическипознавательной рефлексии или же в форме творческой рефлексии. Этически-познавательная рефлексия предполагает: – создание и чтение текста как акт, как форма поведения; – лирическое и риторическое высказывание по поводу содержания отдельных частей текста. Творческая рефлексия предполагает собой наличие комментариев, анализа вводных текстов (именно как текстов), анализа принципов создания вводных текстов и художественного произведения. Художественно-жанровая рефлексия представляет собой разновидность творческой рефлексии. На практике, в «чистом» виде художественно-жанровую рефлексию трудно вычленить: в художественном произведении она проявляется как составная часть творческой рефлексии. Вместе с тем присутствие в художественном произведении творческой рефлексии не предопределяет 356 обязательное наличие и художественно-жанровой рефлексии. Если говорить о разных типах романа, то наиболее полно творческая рефлексия проявляет себя в «романах о творчестве» (традиционно используется словосочетание – «роман о художнике»). «Роман о художнике» служит саморефлексии художника и творчества, отражает эстетическую программу творца. Отличительной особенностью художественно-жанровой рефлексии является то, что автор раскрывает свое видение и понимание сущности, роли и значения того или иного жанра, тогда как в других формах авторской критики жанра диспут о сущности жанра носит «подстрочный» характер. Художественно-жанровая рефлексия может проявлять себя как эпизодически, так и по всему тексту произведения. В качестве примера художественного произведения, в котором художественно-жанровая рефлексия имеет место на протяжении всего текста, можно привести метароман В.Б. Шкловского «ZOO, или Письма не о любви». В этом произведении моделируется ситуация самоописания литературы. В романе «ZOO, или Письма не о любви» такие категории, как жанр, сюжет, фабула и т.д., раскрываются непосредственно в художественном тексте. Художественный текст несет в себе и функции теоретического описания. Литература Аникеева Н.А. Начало европейского романа как «саморефлектирующего» жанра (Филдинг и его предшественники) // О жанрах и жанровых системах: Сборник статей. Весы: Альманах гуманитарных кафедр Балашовского филиала Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. – Балашов, 2004. – № 29. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. Бахтин М.М. Эпос и роман. – СПб., 2000. Белецкий А.И. Избранные труды по теории литературы. – М., 1964. Бурлина Е.Я. Культура и жанр. Методологические проблемы жанрообразования и жанрового синтеза. – Саратов, 1987. Виндт Л. Басня как литературный жанр // Поэтика. Временник отдела словесных искусств ГИИИ. – Л., 1927. – Вып. 3. Гринцер П.А. Две эпохи романа (вводная статья) // Генезис романа в литературах Азии и Африки. Национальные истоки жанра. – М., 1980. Грифцов Б.А. Теория романа. – М., 1927. Громов П.Т. К вопросу о становлении жанра повести в древнерусской литературе // О жанрах и жанровых системах: Сборник статей. Весы: Альманах гуманитарных кафедр Балашовского филиала Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. – Балашов, 2004. – № 29. Долгенко А.Н. Русский декадентский роман. – Волгоград, 2005. 357 Жанровые разновидности романа в зарубежной литературе XVIII–ХХ веков. – К.–Одесса, 1985. Затонский Д.В. Искусство романа и ХХ век. – М., 1973. Кирьянова Н.В. История мировой литературы и искусства: Учебное пособие. – М., 2007. Косиков Г.К. Структурная поэтика сюжетосложения во Франции // Г.К. Косиков. От структурализма к постструктурализму (проблемы методологии). – М., 1998. Лейдерман Н.Л. Движение времени и законы жанра. Жанровые закономерности развития советской прозы в 60–70-е годы. – Свердловск, 1982. Лейтес Н.С. Роман как художественная система: Учебное пособие по спецкурсу. – Пермь, 1985. Поляков М.Я. В мире идей и образ. Историческая поэтика и теория жанра. – М., 1983. Рымарь Н.Т. Современный западный роман. Проблемы эпической и лирической формы. – Воронеж, 1978. Сквозников В.Д. Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры. – М., 1964. Тамарченко Н.Д. Типология реалистического романа: На материале классических образцов жанра в русской литературе XIX в. – Красноярск, 1988. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. – М.–Л., 1951. – Т. 30. Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. – М., 1978. Ханмурзаев К.Г. Немецкий романтический роман. – Махачкала, 1998. Чичерин А.В. Возникновение романа-эпопеи. – М., 1975. Bausch V. Theorien des epischen Ürzöhlens. – Bonn, 1964. Fidler L. Das Zeitalter der neuen Literatur // Christ und Welt. – 13.XI.1968. Kubly H. The Vanishing Novel // Saturday Review. – 1964. – № 2. Lessing G.E. Hamburgische Dramaturgie. – Leipzig, 1972. 358 Секция 4. СОВРЕМЕННОЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ, СТРАНОВЕДЕНИЕ, МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ 359 360 Бубнова Нина Викторовна (Россия, Смоленск; к.ф.н., преп. Военной академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ им. А.М. Василевского) [email protected] Особенности отражения антропонимической лексики в учебном лингвокраеведческом словаре Имя собственное – это «парадоксальнейшая часть языка, где причина и следствие неразличимы, где «последний» смысл преформирует «первые»; имя – импульс культуры, поскольку оно вводит человека в знаковый космос, но оно и результат ее, поскольку его смыслы возрастают в пространстве культуры, ею держатся и ею же контролируются» [Топоров 2004, с. 382]. Интерес к изучению имени как культурного знака в современной лингвистике в значительной мере обусловлен усилением общего интереса к национальной культуре, одним из хранителей которой является оним в силу своей природы уникального именования единичного объекта. Еще Л.А. Булаховский указывал, что главная задача онимов – «останавливать внимание на индивидуальном, извлекать его из множественного, противопоставлять множественному» [Булаховский 1953, с. 17]. По замечанию Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, ономастические единицы обладают яркой национально-культурной семантикой вследствие того, что их групповое и индивидуальное значения прямо производны от истории и культуры народа – носителя языка [Верещагин, Костомаров 1990, с. 101]. Проблема изучения культурной семантики, заключенной в имени собственном, активно разрабатывалась в конце XX века создателями лингвострановедческой теории слова (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Ю.Е. Прохоров, Г.Д. Томахин и др.). В современной лингвистике вопрос о национально-культурном компоненте содержания имени собственного рассматривается в работах многих исследователей, при этом для наименования такого 361 компонента используются различные термины: ономастическая коннотация [Буштян 1984, с. 119], ономастическая информация [Васильева 2005, с. 9], денотативный и коннотативный макро- и микрокомпоненты значения [Супрун 2000, с. 20] и др. Г.Д. Томахин отмечает: «Ономастическая лексика в целом обладает высокой национально-культурной маркированностью. Любой топоним и антропоним в сфере языка и культуры воспринимаются на фоне определенных ассоциаций, основанных на некоторых признаках обозначаемого ими объекта, причем фоновые знания, которыми обладают носители данного языка и культуры, существенно отличаются не только объемом, но и формой их существования. Следовательно, при лингвострановедческом изучении лексики необходимо учитывать не только все значения слова, зарегистрированные в словарях, но и его ассоциации в фоновых знаниях народа-носителя» [Томахин 1986, с. 115]. В данной работе для описания национально-культурной семантики имени собственного используется термин ассоциативнокультурный фон (АКФ), предложенный Н.А. Максимчук. АКФ – это вся сопутствующая информация, не входящая в непосредственное содержание онима, при этом «компонент культурный указывает на то, что фоновые знания, сопровождающие имя собственное, носят прежде всего культурологический характер (культура в данном случае понимается максимально широко). Компонент ассоциативный называет основной путь формирования, расширения и затем выявления фоновых знаний» [Максимчук 2002, с. 166–167]. Существенной характеристикой данного термина, на наш взгляд, является то, что он отражает не только культурологический характер сопряженных с онимом фоновых знаний, но и основной путь их формирования и выявления – ассоциативный эксперимент. Результаты исследований имени собственного как источника информации об особенностях мировосприятия народа все чаще получают лексикографическое воплощение, что открывает доступ читателю к их содержанию и способствует реализации культурнопросветительского потенциала ономастики. По замечанию В.Д. Бондалетова, «овладеть ономастикой того или иного языка (народа) – значит не только усвоить употребительные в нем собственные имена, но и одновременно воспринять сопровождающие их страноведческие ассоциации, т.е. овладеть закрепленным в них национально-культурным богатством. Изучение лингвострановедческого компонента русских имен собственных имеет не только теоретическую, но и практическую ценность: хорошо зная объем, содержание и структуру страноведческих ассоциаций 362 ономастической лексики, можно избрать наиболее эффективные лингводидактические методы и приемы для ее презентации учащимся, особенно при обучении русскому языку как неродному, в частности иностранному» [Бондалетов 1985, с. 95]. В работе «История русской лексикографии» (под редакцией Ф.П. Сороколетова) представлен подробный анализ русских лексикографических источников, начиная с глоссариев Х–XVII веков и заканчивая лексикографией ХХ века (Большой и Малый академические словари). В результате анализа авторы приходят к выводу о том, что собственные имена были лишь единично представлены в некоторых источниках, а в целом они «остались за пределами словарей» [История русской лексикографии 2001, с. 370]. По замечанию Л.П. Калакуцкой, в этом немаловажную роль сыграла нерешенность в лингвистике вопроса – обладает ли имя собственное понятием. «Неоднократные попытки решения этого сакраментального вопроса напоминали известный средневековый спор – сколько чертей помещается на кончике иглы. Каждый философ имел на него собственный ответ. Нерешенность этого теоретического вопроса привела русских лексикографов к чисто практическому выводу: имена собственные были оставлены на откуп энциклопедиям» [Калакуцкая 1993, с. 59]. Между тем наличие у онима богатого АКФ делает его носителем разноплановой информации, овладение которой можно рассматривать как продуктивный способ приобретения знаний. Из этого следует признать необходимым лексикографическое отражение ономастической лексики, особенно при описаниях языка, ориентированного на учебные цели. Это обусловлено тем, что «во-первых, имя собственное является одним из основных, наряду с термином, языковым носителем информации; во-вторых, полноценное усвоение информации, сопряженной с данным именем собственным, несомненно, предполагает усвоение АКФ имени», языковое представление которого является одной из задач ономастических словарей [Максимчук 2000, с. 200–201]. Как указывает В.Д. Бондалетов, идея создания лингвострановедческого словаря, в котором бы толковались (изъяснялись) не нарицательные слова, а имена собственные, зародилась в России почти одновременно с лингвострановедением. Наиболее четко она была сформулирована Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым в докладе «Об учебном лингвострановедческом словаре собственных имен» на конференции «Научно-методические основы составления учебных словарей русского языка для нерусских и проблемы обучения нерусских» (Москва, 1976 год) [Бондалетов 1993, с. 79]. По замечанию В.В. Молчановского, необходимость 363 создания лингвострановедческого ономастикона в виде специального учебного пособия по страноведению, содержащего лингвистические комментарии к отобранным в учебных целях единицам была обозначена в том же 1976 году на III Конгрессе МАПРЯЛ в Варшаве [Молчановский 1984, с. 2]. В современной лингвистике в состав лингвострановедческих изданий традиционно включаются прецедентные имена собственные общечеловеческого и общенационального уровней. При этом общенациональное ономастическое пространство, представленное в таких изданиях, состоит из фрагментов, формируемых региональными (краеведческими) онимами, перешедшими на более высокий уровень лингвокультурологической ценности. Для того чтобы содержание таких фрагментов было достоверным и объективным, исследование и лексикографическое описание региональных онимов должно быть изначально проведено на краеведческом уровне. Данная работа посвящена описанию учебного лингвокраеведческого словаря онимов, разрабатываемого нами в русле исследования имен собственных в структуре региональных фоновых знаний смолян [Бубнова 2011]. В основу определения состава словника положены две группы принципов: I. Объективные показатели значимости имени собственного: включенность онима в состав региональных фоновых знаний смолян и показатели частотности выявленных онимов, позволяющие определить ядро и периферию наполнения словаря. Способом выявления региональных ономастических фоновых знаний смолян был избран ассоциативный эксперимент, в котором приняли участие 1650 респондентов. В начале эксперимента участники заполняли анкету, которая включала следующие характеристики: пол, возраст, место рождения, уровень образования, сфера профессиональной деятельности, время проживания на Смоленщине и место жительства (город Смоленск или один из районов области). В качестве участников эксперимента были выбраны разновозрастные и разносоциальные группы испытуемых для обеспечения максимальной достоверности и общезначимости полученных результатов. Собственно эксперимент состоял в том, что испытуемым было предложено в течение одной минуты записать имена собственные, с которыми у них ассоциируется стимул Смоленщина. Полученный материал был обработан нами посредством создания электронной базы данных, в которую вошло 1212 онимов-реакций (13471 употребление). Анализ материала показал, что в ономастической составляющей АКФ топонима Смоленщина достаточно полно и точно отражаются культурные, истори364 ческие, географические, общественно-политические, бытовые и другие стороны рассматриваемого социокультурного пространства. В результате обработки материала в составе региональных фоновых знаний смолян было выявлено два типа ономастических единиц: 1) онимы-носители духовной культуры, формирующие, по терминологии Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, «фоновые знания культурного наследия»; в качестве примеров, прежде всего, приведем ядерные смоленские онимы, названные представителями всех групп респондентов: Днепр, Успенский собор, Крепостная стена, Ю.А. Гагарин, М.И. Глинка, А.Т. Твардовский, Смоленск, М.В. Исаковский, Ф.С. Конь, М.К. Тенишева, Н.И. Рыленков, Василий Теркин; 2) онимы-носители материальной культуры, составляющие «актуальные фоновые знания»: названия магазинов, производственных предприятий, ресторанов и кафе, домов культуры и т.п. На этом основании в предлагаемый нами словарь были включены не только имена культурно-исторического плана (часть которых принадлежит общенациональному уровню фоновых знаний и, следовательно, может быть описана в общих словарях), но и обычно остающиеся за рамками учебных словарей и пособий общей адресации онимы бытовой и узколокальной сферы, выполняющие роль пространственных «ориентиров» при «вхождении» языковой личности в конкретную языковую среду. Это, как и описанный способ выявления ономастической информации, определяет новизну рассматриваемого словаря. II. Экспертная оценка и ассоциативно-тематическое выравнивание: установление достаточности списка исходных онимов и уточнение ядерно-периферийных границ в структуре словаря. Такая процедура, с одной стороны, способствует более четкому разграничению ядра и периферии в структуре общеобязательного знания, а с другой – дает возможность включать в словник содержательно значимые онимы, по каким-то причинам имеющие низкий индекс частотности в составе выявленных фоновых знаний. Наиболее значимые онимы (как по индексу частотности, так и по наличию в списках реакций респондентов разных групп) сформировали три условных раздела словаря: 1) «Административные территории» (описание всех 25 современных административнотерриториальных центров Смоленской области и их наиболее значимых географических и культурных объектов); 2) «Персоналии. Часть I» (имена великих людей, родившихся на Смоленщине); 3) «Персоналии. Часть II» (имена исторических личностей, так или иначе связанных со Смоленским краем). При этом, учитывая адресатов словаря (прежде всего, школьники и студенты, в том числе изучающие русский язык как иностранный), границы 365 разделов в окончательном варианте было решено не обозначать, а руководствоваться алфавитным принципом расположения материала. Таким образом, с определенной (и неизбежной) долей субъективности большинство рассматриваемых онимов может быть отнесено к одному из двух разрядов (топонимы и антропонимы), которым соответствуют два типа базовых словарных статей, различающихся степенью полноты предлагаемой характеристики заголовочных единиц. Данная работа посвящена описанию особенностей представления антропонимов в предлагаемом нами словаре. По замечанию академика А.Н. Сахарова, «история человечества, как известно, слагается из истории отдельных людей <...>. Именно они цивилизованно окрашивают эту историю и делают ее историей стран, регионов, континентов. <...> И все они в той или иной степени вкладывают свою лепту в строительство этого грандиозного здания, которое называется историей Человечества» [Сахаров 2008, с. 3]. Следовательно, описание определенной совокупности антропонимов можно рассматривать, прежде всего, как способ обнаружения и систематизации общеобязательного (на разных уровнях) ономастического знания в структуре национальной языковой личности. Общее количество имен людей, родившихся и живших на Смоленщине, в словаре составляет 34 единицы; к их числу относятся следующие имена (в скобках указаны места рождения носителей имен, расположенные на территории современной Смоленской области): – писателей и поэтов (8): А. Азимов (м. Петровичи), А.Р. Беляев (г. Смоленск), Б.Л. Васильев (г. Смоленск), Ф.Н. Глинка (д. Сутоки), О.Н. Ермаков (г. Смоленск), М.В. Исаковский (д. Глотовка), Н.И. Рыленков (д. Алексеевка), А.Т. Твардовский (хут. Загорье); – военнослужащих (6): М.А. Егоров (д. Ермошенки), П.А. Курочкин (д. Горнево), П.С. Нахимов (с. Городок), Г.А. Потемкин (с. Чижево), И.Н. Руссиянов (д. Щуплы), М.Н. Тухачевский (д. Следнево); – исследователей различных предметных областей (6): В.Н. Добровольский (с. Красносвятское), В.В. Докучаев (д. Милюково), П.К. Козлов (г. Духовщина), С.А. Лавочкин (м. Петровичи), Е.Д. Поливанов (г. Смоленск), Н.М. Пржевальский (д. Кимборово); – актеров театра и кино (5): Л.И. Касаткина (с. Володарское), М.А. Ладынина (д. Скотинино), Ю.В. Никулин (г. Демидов), А.Д. Папанов (г. Вязьма), Н.В. Румянцева (с. Потапово); – государственных деятелей (4): П.Г. Каховский (с. Преображенское), Н.В. Крыленко (д. Бехтеево), А.П. Энгельгардт (с. Климово), И.Д. Якушкин (с. Жуково); 366 – скульпторов (2): С.Т. Коненков (д. Караковичи), М.О. Микешин (д. Максимково) и зодчего Ф.С. Конь (Дорогобужский р-он); – космонавта: Ю.А. Гагарин (с. Клушино); – композитора: М.И. Глинка (с. Новоспасское); – эстрадного исполнителя: Э.А. Хиль (г. Смоленск). Количество имен людей, жизнь или деятельность которых связана со Смоленским краем, в словаре составляет 23 единицы; к их числу относятся имена: – участников военных действий на территории Смоленщины (15): М.Б. Шейн (возглавлял оборону Смоленска в 1609–1611 годы во время русско-польской войны); П.И. Багратион, М.Б. Барклайде-Толли, Д.В. Давыдов, Д.С. Дохтуров, М.И. Кутузов, Д.П. Неверовский, Н.Н. Раевский (Отечественная война 1812 года); М.Г. Ефремов, Г.К. Жуков, К.С. Заслонов, И.С. Конев, М.Ф. Лукин, К.К. Рокоссовский, И.А. Флеров (Великая Отечественная война 1941–1945 годов); – поэтов и писателей (4): М.А. Булгаков (с. Никольское, г. Вязьма), А.С. Грибоедов (с. Хмелита), В.К. Кюхельбекер (д. Закуп), И.С. Соколов-Микитов (с. Кислово); – деятелей культуры (2): Н.К. Рерих (с. Талашкино), М.К. Тенишева (с. Талашкино, хут. Фленово); – великого князя: В.В. Мономах (правил в Смоленске в 1073– 1078 гг.); – Святейшего Патриарха Московского и всея Руси: Кирилл (с 1984 по 2009 год имел различные духовные саны на Смоленской земле). Особенностью структуры словарной статьи является выделение в ней трех словарных зон: зоны предметных сведений (ПС), зоны языковых сведений (ЯС) и зоны дополнительных сведений (ДС). По замечанию М.А. Денисовой, различие между энциклопедией и словарем заключается в том, что «в энциклопедии представлена информация о предметах (фактах, явлениях, событиях, персоналиях) и понятиях, в словаре – о словах. И поскольку предметы обозначаются словами, а понятия словами выражаются, и те, и другие справочники, имея дело со словами, рассматривают их с разных позиций. Такое разграничение вытекает из самой природы слова, которое, с одной стороны, служит для обозначения чего-либо, относящегося к внеязыковой реальности, а с другой, является элементом системы языка» [Денисова 1999, с. 83]. При этом следует заметить, что двойственная природа онимов определяет потребность совмещения понятийно-системной и системно-языковой интерпретации заголовочных единиц словаря, что формирует его лингво-энциклопедический характер. 367 В структуру ПС об антропонимах входят: время и место рождения (если они связаны со Смоленщиной); род деятельности носителя имени; мировоззрение; основные события, сопутствующие биографии; произведения; связь со Смоленским краем (если такой связью не является место рождения). К числу ЯС об антропонимах относятся: акцентологическая норма; форма родительного падежа; образуемое отантропонимное имя прилагательное и возможное имя существительное (например, гагаринцы); АКФ и этимология фамилии. Зону ДС составляет перечисление заголовочных онимов статей словаря, которые тематически непосредственно связаны с данной статьей. Помимо перечисленных словарных зон в структуру статьи, где это возможно, нами включены поэтические тексты смоленских поэтов и рубрика «Где об этом можно прочитать?» (обозначена раскрытой книгой), включающая преимущественно художественную и публицистическую литературу. Кроме того, в тексте каждой статьи курсивом выделены онимы, выступающие в качестве заголовочных единиц в макроструктуре словаря. В качестве примера приведем образец словарной статьи с заголовочной единицей Твардовский А.Т.1: ТВАРДО ВСКИЙ Александр Трифонович (1910–1971) ПС: Поэт, родился на хуторе Загорье ныне Починковского района Смоленской области, в семье крестьянина-кузнеца. Печататься начал в 1924 году. Совместно с поэтами М.И. Исаковским и Н.И. Рыленковым основал Смоленскую поэтическую школу. В 1936 году написал поэму «Страна Муравия», в годы Великой Отечественной войны – поэму «Василий Теркин», в 1960 году – поэму «За далью – даль». В 1987 году опубликовано итоговое произведение – поэма-исповедь «По праву памяти». Твардовский – поэт эпического склада. Его отличает прекрасное знание народной жизни, народного характера, родной природы; его стихи характеризует необыкновенная гибкость, близость живой разговорной речи, достоверность интонации: «Про Данилу» (1937), «Я убит подо Ржевом...» (1946), «Памяти матери» (1965), «Я знаю, никакой моей вины...» (1966), «Июль – макушка лета» (1965– 1967), «На дне моей жизни...» (1967) и др. С именем Твардовского как редактора связан период расцвета журнала «Новый мир» (1950–1954, 1958–1970). ЯС: род. Твардовск|ого Александр|а Трифонович|а, м. ♦ Что нужно, чтобы жить с умом? Понять свою планиду: Найти себя в 1 Здесь и далее нами не приведены цветные иллюстрации, сопровождающие текст практически каждой статьи. 368 себе самом и не терять из виду; ...Нет героев от рожденья, Они рождаются в боях; Беспутная земля Не то что хлеба, травки не уродит; Как в двадцать лет Силенки нет, – Не будет, и не жди. Как в тридцать лет Рассудка нет, – Не будет, так ходи. Как в сорок лет Зажитка нет. Так дальше не гляди...; Кто прячет прошлое ревниво, С грядущим явно не в ладу!; Назначен срок всему: Здоровью – срок, удаче – срок. Богатству и уму; Напрасно думают, что память, Смолчав, пройдет сама собой, Что ряской времени затянет Любую быль, Любую боль; Не до ордена – Была бы Родина; Не та беда, что без вреда Для совести и чести, А та, нещадная, когда Позор и горе вместе; Смерть – она всегда в запасе, Жизнь – она всегда в обрез; Хорошо тому живется, Кто хороший человек!; Я жил, я был, за все на свете Я отвечаю головой. Этим. Фамилия возникла в Польше или Белоруссии от топонимов Твардово, Твардовски, Твардовское (польск. twardy – ‘твердый, крепкий’). Пан Твардовский – герой польской народной легенды, которая была хорошо известна на Смоленщине. Биографы А.Т. Твардовского полагают, что прозвище Твардовский заслужил дед поэта, чем-то напоминавший окружающим героя польской легенды; затем прозвище стало наследственной фамилией (Ю.А. Федосюк). ДС: См. ткж. Музей-квартира А.Т. Твардовского, Музейусадьба А.Т. Твардовского, Памятник А.Т. Твардовскому, Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского, Улица Твардовского Тексты ... Жизнь его – словно книга – Словно свитки святых; Где как проза – трагична, Где – классический стих. За недолгие годы – Столь всего на роду, – Было сладко и горько, Был в раю и в аду. Славой был он увенчан И народом любим, И заложником чести Путь земной завершил. (В. Родченков. «В гостях у Твардовского») В.В. Ильин. Не пряча глаз: Александр Твардовский. Литературное окружение. Творческие связи (Смоленск, 2000). 369 Музей-квартира А.Т. Твардовского Открыт в Смоленске в квартире № 26 дома № 4 в Запольном переулке в сентябре 1990 года. Музей-квартира освещает жизнь А.Т. Твардовского во время пребывания в Смоленске в качестве военного корреспондента газеты «Красноармейская правда» Западного фронта. Поэт жил здесь с сентября 1943 по март 1944 года, в самый разгар войны, пока редакция газеты находилась недалеко от города. В этой квартире создавалась поэма «Дом у дороги», рождались новые главы «Василия Теркина» и «За далью – даль», сюда к Твардовскому приезжали фронтовые друзья – художник Орест Верейский, писатель Евгений Воробьев. Музей-усадьба А.Т. Твардовского Открыт в 1988 году на хуторе Загорье Починковского района, где родился А.Т. Твардовский. По воспоминаниям братьев поэта, восстановлен ансамбль хуторских построек (дом со скотным двором, сенной сарай, кузница, банька), по разработанным ими эскизам изготовлена мебель, оборудована кузница. В экспозиции представлены вещи, характеризующие период 1920–1930-х годов, материалы, рассказывающие о Загорье, где прошли детство и юность А.Т. Твардовского, где он написал свои первые стихотворения. Тексты ...Здравствуй, здравствуй, родная Сторона! Сколько раз Пережил я заране Этот день, Этот час... Не с нужды, как бывало – Мир нам не был чужим, – Не с котомкой по шпалам В отчий край мы спешим Издалека. А все же – Вдруг меняется речь, Голос твой, и не можешь Папиросу зажечь... (А.Т. Твардовский. «Поездка в Загорье») Памятник А.Т. Твардовскому Памятник А.Т. Твардовскому и его литературному герою Василию Теркину открыт в Смоленске на центральной площади (ны370 нешнее название – площадь Победы) 2 мая 1995 года. Скульптор – Народный художник РСФСР (1986) А.Г. Сергеев. Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского До августа 1994 года – Областная научная библиотека имени В.И. Ленина. Основана в 1831 году Н.И. Хмельницким, губернатором города, известным драматургом, переводчиком Мольера, одним из приятелей А.С. Пушкина, активным участником Отечественной войны 1812 года. В довоенные 30-е годы ХХ века при библиотеке работал литературный кабинет, который часто посещали поэты А.Т. Твардовский, М.В. Исаковский, Н.И. Рыленков. Читателями библиотеки были скульптор С.Т. Коненков, актер А.Д. Папанов, писатель А.Р. Беляев и др. В годы Великой Отечественной войны здание библиотеки было разрушено. Через три месяца после освобождения Смоленска в 1943 году библиотека начала функционировать во временном помещении на Соборном дворе, а в 1946 году вернулась в свое восстановленное здание. Это один из красивейших особняков в центре Смоленска (до октября 1917 года – Купеческое собрание) на улице Большая Советская, дом 25/19. Постановлением Смоленской областной Думы № 98 от 30 марта 2006 года библиотеке присвоено имя великого поэта А.Т. Твардовского, родившегося на Смоленской земле. В.И. Тазов. Ларец книжных ценностей (Смоленск, 2001). У́лица Твардовского Первоначально улица в Смоленске называлась Запольной, поскольку недалеко от нее находилось поле, которое было дополнительным укреплением города: оно отлично просматривалось со всех сторон, вследствие чего врага замечали сразу. В 1974 году улица переименована в улицу Твардовского. В доме № 4 размещается Музей-квартира родителей Твардовского. На улицу Твардовского выходит дом, где жил поэт Н.И. Рыленков. Приведенные примеры показывают, что помимо выделения специализированных зон в микроструктуре словарных статей, макроструктура словаря дает представление о разграничении ядра и периферии фоновых ономастических знаний, что усиливает учебную направленность словаря. Построенные таким образом ономастические словари, совмещающие справочные и обучающие функции, могут быть весьма полезны для языковой личности (как носителя языка, так и инофона), вступающей в результате современных активных миграционных процессов в новый региональный социум. Кроме того, 371 подобный словарь может стать частью серии лингвокраеведческих словарей, предоставляющих объективный материал для достоверного описания общенационального ономастического пространства. Литература Бондалетов В.Д. Семантическая специфика антропонимов и ее отражение в лингвострановедческом словаре «Русские имена» // Семантическая специфика национальных языковых систем. – Воронеж, 1985. – С. 94–99. Бондалетов В.Д. К обоснованию лингвострановедческого словаря «Русские имена» // Ономастика. – М., 1993. – Вып. 25. – С. 78–89. Бубнова Н.В. Имена собственные в структуре региональных фоновых знаний смолян: Дис. ... канд. филол. наук. – Смоленск, 2011. Булаховский Л.А. Введение в языкознание: В 2 ч. – М., 1953. – Ч. 2. Буштян Л.М. К проблеме фонетической коннотации собственных имен в поэзии // Русская ономастика. – Одесса, 1984. – С. 118–124. Васильева Н.В. Собственное имя в тексте: интегративный подход: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. – М., 2005. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – М., 1990. Денисова М.А. Словарь как связь слов с жизнью // Русский язык в школе. – 1999. – № 5. – С. 82–87. История русской лексикографии / Под ред. Ф.П. Сороколетова. – СПб., 2001. Калакуцкая Л.П. Имена собственные в орфографическом словаре русского языка и других лингвистических словарях // Вопросы языкознания. – 1993. – № 3. – С. 59–75. Максимчук Н.А. Ассоциативно-культурный фон личных имен и его лексикографическое отражение // Идеи христианской культуры в истории славянской письменности. – Смоленск, 2000. – С. 200–205. Максимчук Н.А. Нормативно-научная картина мира русской языковой личности в комплексном лингвистическом рассмотрении: В 2 ч. – Смоленск, 2002. – Ч. 1. Молчановский В.В. Лингвострановедческий потенциал топонимической лексики русского языка и его учебно-лексикографическая интерпретация: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 1984. Сахаров А.Н. Предисловие // Имя Россия. Исторический выбор 2008. – М., 2008. – С. 3–4. Супрун В.И. Ономастическое поле русского языка и его художественноэстетический потенциал. – Волгоград, 2000. Томахин Г.Д. Лингвистические аспекты лингвострановедения // Вопросы языкознания. – 1986. – № 6. – С. 113–118. Топоров В.Н. Имя как фактор культуры // В.Н. Топоров. Исследования по этимологии и семантике: В 3 т. – М., 2004. – Т. 1. – С. 380–383. 372 Воробьев Владимир Васильевич (Россия, Москва; д.ф.н., проф. Российского университета дружбы народов) [email protected] Теоретическая и прикладная лингвокультурология: «два в одном» или расходящееся единство? 1. Тридцатилетнее утверждение лингвокультурологии как новой филологической парадигмы научного знания связано с непрекращающимся сложным и противоречивым процессом становления ее структуры и типологии, формирования терминосистемы и, следовательно, различием теоретического и прикладного аспектов, что, в свою очередь, ценностно нагружено и задает новую лингвометодическую реальность. Для лингвокультурологии практика построения самих этих направлений, теоретического и прикладного, входит в сферу применения соответствующих аспектов: это первый исходный опыт такого применения. Здесь складываются две области использования научных знаний и исследований: во-первых, ориентированные на решение теоретических проблем и задач данной научной дисциплины (соответственно – «внутренне-дисциплинарные») и, во-вторых, ориентированные на практические задачи преподавания русского языка как иностранного – «внешние прикладные исследования». Если внутренне-дисци-плинарные потому, что при их решении использовались уже полученные в науке о взаимодействии языка и культуры, к коей относится и лингвокультурология, представления, то внешние прикладные исследования ориентированы на решение практических задач обучения иностранным языкам, то чем занимается лингвострановедение. Здесь решение теоретической и прикладной задач совпадают. Когда одним из важнейших и при этом дискуссионных вопросов в системе лингвокультурологического знания продолжает оставаться вопрос о соотношении теоретического и прикладного знания, а также ситуация все более 373 расширяющегося спектра прикладных исследований при весьма ограниченной проработке их теоретико-методологической базы, то это снижает эффективность прикладной лингвокультурологии как важнейшего инструмента методологической базы преподавания иностранных языков. 2. В центре внимания является положение о том, что, наряду с внутренними, собственно научными факторами становления самостоятельного лингвокультурологического направления в языкознании, связанными с осознанием потребности в формировании единой «системы координат» для разновекторных исследований лингвокультурных феноменов (что предопределило постепенное конституирование лингвокультурологии как фундаментального, теоретико-методологического знания), мощным стимулом для становления этой отрасли в качестве прикладной науки стало все более явное расширение «социального заказа» на практически ориентированное знание о развитии и функционировании языка и культуры в различных их проявлениях, о культурных процессах, закономерностях их протекания и механизмах регулирования. Современное состояние методики преподавания иностранных языков и, особенно русского как иностранного, насыщенное проблемными, а нередко и явно кризисными зонами, делает чрезвычайно актуальным развитие лингвокультурологического знания в его прикладном звучании, в стремлении теоретически «выстроить» лингвометодическое состояние той или иной проблемы при обучении русскому языку как иностранному и обозначить стратегию ее разрешения с учетом этого лингвокультурного контекста. Исследования, связанные с разработкой лингвокультурологических научных оснований для практического решения методически значимых проблем, коими богата российская методическая школа русистики, не могли уйти в небытие – они стимулированы самой реальностью многих нерешенных еще проблем при обучении иностранных студентов. Однако теперь, если это не просто научные исследования, а те, которые должны быть еще представлены и как диссертационные, их приходится втискивать в «прокрустово ложе» специальности «Методика преподавания и воспитания...» (отличающееся при этом – вот парадокс – невероятной широтой, всеобъемлемостью, но, увы, – несовпадением по «жанру»). 3. В докладе мы попытаемся структурно выделить некоторые общие маркеры-разграничители теоретического и прикладного в лингвокультурологическом знании, сведя их суть к следующим позициям. В отличие от фундаментально-теоретического уровня лингвокультурологического познания, направленного на форми374 рование и развитие собственно теории взаимодействия языка и культуры, объяснительных моделей и концепций языковой личности, языковой картины мира, на получение обобщенного знания о лингвокультурных явлениях и процессах, т.е. на приращение, получение нового знания о языке и культуре как целом и о ее отдельных составляющих, задачей лингвокультурологического познания прикладного характера является научное обеспечение решения практических проблем преподавания русского языка как иностранного на основе максимально эффективного использования теоретического знания о языке-культуре-личности. Если запрос на теоретическое знание формируется, прежде всего, в рамках внутренней логики движения самого этого знания, выявляющей потребность в построении недостающих объяснительных схем, концептуальных обобщений, то развитие прикладного, практически ориентированного знания обусловлено, прежде всего, «социальным заказом преподавания русского языка как иностранного» на научную разработку решения той или иной реально существующей проблемы. Резюмируя, еще раз подчеркнем, что основным результатом прикладного лингвокультурологического исследования является построение теоретико-методологического обоснования, принципов и моделей преподавательской деятельности, обеспечивающей возможность решения реальных методических проблем, существующих в практике обучения иностранным языкам. Таким образом, несмотря на прагматическую ориентированность прикладной лингвокультурологии, она отнюдь не тождественна собственно практической и даже методической по характеру лингвострановедческой деятельности по разрешению реально сложившихся проблем, а лишь обеспечивает научную базу для практических действий преподавателей-русистов. 4. Значительный интерес вызывает сегодня парадоксальная проблема развития отечественной прикладной лингвокультурологии. Подчеркнем, что появление фундаментальной лингвокультурологии, казалось, вводит прикладную лингвокультурологию в нужное русло, все расставляет по своим местам. Но не все так просто. Прикладная лингвокультурология – не просто приложение общих идей к практическим ситуациям. Тут следует разобраться в оппозиции между разными научными традициями или парадигмами: лингвострановедении, лингвокультуроведении, межкультурной коммуникации и пр. Становление лингвокультурологии в тех формах, в каких она в последние годы имеет место, как нам представляется, – это продолжение лингвострановедения, но не сопротивление ему, не его преодоление. Лингвострановедческие 375 исследования, конечно, можно назвать прикладной лингвокультурологией, хотя не исключено, что могут существовать и какие-то другие точки зрения. Как может быть, что наука о взаимодействии языка-культуры-личности еще не успела сложиться, лингвокультурологии в полном смысле как науки еще нет, а прикладная лингвокультурология уже развивается? Как в таком случае назвать развертывание конкретно-лингвокультурологических исследований в сфере языка и культуры, если не прикладной лингвокультурологией? Прикладная лингвокультурология имеет практическую нацеленность. Но именно такую цель и имели эмпирические исследования языка и культуры. В данном случае мы имеем дело с «социальным заказом». Развертывание таких исследований, как уже отмечалось, имело место по инициативе не столько самих ученых (В.Г. Костомаров, Е.М. Верещагин, М.Д. Зиновьева, Ю.Е. Прохоров, Т.Н. Чернявская, В.В. Молчановский и др.) или научных учреждений (Институт русского языка им. А.С. Пушкина), сколько подинститутов, занимающихся организацией и управлением сферы образования и культуры, т.е. министерств и ведомств. Однако, как нам представляется, этот парадокс – появление прикладной лингвокультурологии раньше лингвокультурологии теоретической легко устраняется тем, что и лингвистику в ее теоретических постулатах, и культурологию в ее зрелом варианте роднит одно важное обстоятельство. И та, и другая наука основывалась на установках классического функционализма, а он является реальным не только для одной науки. 5. До появления культурологии, лингвокультурология была просто обречена на то, чтобы оставаться лишь теорией «среднего ряда». Может быть, лишь культурология представит новую, более высокую ступень обобщений. Может быть, фундаментальная лингвокультурология как раз и оказывается теорией высшего уровня для языка и культуры. О том, что функционализм с 60-х годов многое определял во многих гуманитарных науках, свидетельствует одна из центральных тем науки о языке с 60-х годов. Эта проблематика не перестает быть актуальной и сейчас, в период бурного развития культурологии. Собственно, будущее лингвокультурологии во многом зависит от понимания тех функций – явных и латентных, которые язык и культура в новой ситуации призваны осуществить. В какой-то степени это функции универсальные, т.е. одинаково присущие всем мировым теориям о языке и культуре, в какой-то степени в России они будут специфическими. Подчас возникающая наука слишком занята собой, это мы наблюдаем по защищаемым докторским диссертациям особенно, она замыкается в себе, забывая о том, ради чего когда-то была 376 вызвана к жизни, т.е. для более точного разрешения постоянно возникающих в лингвистике и методике противоречий. Кстати, печатью этого недуга было отмечено и бурно развивающееся во второй половине ХХ века лингвострановедение. Будем надеяться, что это не будет присуще лингвокультурологии: в ней самой какие-то проблемы со временем выдвигаются на первый план и не сразу осознаются, а какие-то становятся второстепенными или вообще неактуальными. В этом и проявляется лингвокультурная динамика. В осознании латентных функций языка и культуры наука о них должна делать систематический вклад. Но с этим связана и прикладная лингвокультурология. Без разгадки меняющихся и предстающих в латентных формах общих ориентиров, прикладная лингвокультурология оказывается бессильной, а полученные в ходе эмпирических опытов результаты накапливаются, оставаясь неосмысленными, что в реальности и происходит. Таким образом, делаем некоторые выводы: 1. Развитие прикладного направления в структуре современной лингвокультурологии все более получает поддержку и распространение как в собственно научно-исследовательской практике, так и в системе высшего профессионального образования при обучении иностранных студентов. 2. Указанные тенденции продвижения данного научного направления обусловлены как логикой развития научного методикогуманитарного знания, так и все более возрастающим уровнем востребованности прикладных лингвокультурологических исследований в различных видах педагогических практик (методике обучения русского языка как иностранного и как неродного), очевидно расширяющимся «социальным заказом». 3. Современное языковое пространство, насыщенное проблемными, а нередко и явно кризисными зонами, делает чрезвычайно актуальным развитие лингвокультурологического знания в его прикладном звучании, в стремлении теоретически «выстроить» лингвокультурное измерение той или иной проблемы и обозначить стратегию ее разрешения с учетом этого культурного контекста. 4. Необходима более интенсивная работа над теоретикометодологическими основаниями прикладной лингвокультурологии, что является важным условием укрепления статуса данного научного направления. Развитие прикладной лингвокультурологии требует разрешения многих сложных вопросов, возникающих в процессе ее становления и развития. В частности, одним из значимых вопросов продолжает оставаться избыточная «разножанровость» проблемных блоков, которые включаются в данное 377 направление, что приводит к значительной размытости границ прикладной лингвокультурологии и, вследствие этого, к определенному скепсису в ее отношении. Данная ситуация требует серьезной дальнейшей методологической работы специалистов-русистов. 5. Учитывая относительную молодость прикладной лингвокультурологии, представляется целесообразным продолжить работу над развитием междисциплинарных связей в данной области. 378 Горбич Ольга Ивановна (Россия, Москва; к.п.н., доц. кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] Философия и генезис познавательного диалога Дидактический диалог возник в период зарождения и становления риторической мысли в классической Греции в IV в. до н.э. Его совершенствование и видоизменение продолжалось на протяжении всех последующих веков. Сначала это был сократический диалог с приведением к противоречию тезиса оппонента; потом рационализированный диалектический диалог Платона; следом появились преимущественно письменные раннехристианский и средневековаый диалог; диалогические поиски гармонических отношений человека с внешним миром продолжались в эпоху Возрождения; диалог в немецкой классической философии существовал как позитивная форма творческого постижения внутреннего опыта. В дальнейшем настоящему метафизическому диалогу помешали основательно закрепиться в человеческом сознании материалистические идеи с их приоритетом чувственного восприятия явлений действительности. В этот период утвердилась эпоха монологических отношений человека с миром. Настоящий расцвет диалог переживал в XX веке, начиная с 20-х гг. Концепции диалогового мышления, разработанные М. Бубером и М.М. Бахтиным, в 60-е гг. XX века становятся основополагающими при обращении к целостным культурным процессам, творчеству, образованию и общению. В традиционной русской философии к диалогическому пониманию и изложению идей тяготели Н.А. Бердяев, Вл. Соловьев, В.В. Розанов, С.Л. Франк. Последовательное развитие диалогических идей было дано в работах отечественных исследователей культуры С.С. Аверинцева и В.С. Библера. Важно заметить, что на протяжении всего этого 379 времени диалог как метод и как средство общения исследовался и в образовательном пространстве. Очень интересен в философии XX века взгляд на диалог, связанный с проблемой отчуждения (Х. Ортега-и-Гассет), суть которого состоит в том, что якобы возникает разрыв между субъектом и результатами его деятельности или происходит осмысление этого отчуждения. Эта теория делает двусмысленными большинство подходов к диалогу в философии XX века. С одной стороны, диалогизм является альтернативой монологизму, манипулированию в субъект-объектных отношениях. С другой стороны, именно отчуждение становится основой зарождения диалогических отношений и условием его существования. Феноменология Э. Гуссерля с его радикальными попытками исследования сознания стала методологической основой для многих концепций диалога XX века. Была поставлена цель: выяснить, что такое сознание помимо познания. На пути к достижению этой цели Гуссерль создал концепции диалога, подхваченные философами последующего времени. М. Хайдеггер определял бытие человека через совместность приобщения к бытию. Позже он связал свои взгляды на природу человека с постулатом И.Х. Гельдерлина «Мы – разговор» и развил концепцию разговора, который зависим от события, человека и бытия. В теории поведения Ю. Хабермаса выделяется два типа поведения: коммуникативное приводит к зарождению социальных структур, способных разворачиваться и самоосуществляться; стратегическое преследует утилитарный интерес и ведет к обману партнера. Поиском смыслов диалогового понимания мира традиционно характеризовалась и философия Востока. Характерной в этом отношении выступает китайская философия, все школы и направления которой вырастают из общей основы – культуры Дао. В ее представлениях диалогичность предстает как взаимодействие природных субстратов, составляющих основу мира, что в теоретико-познавательном плане соотносимо с соответствующими идеями античной философской традиции. Западная и восточная традиции имеют различия в существенных подходах к диалогу. Так в буддистской литературе диалог включен в повествовательный текст, и дискурс разворачивается как авторитарное изложение учителем истины, а ученик лишь соглашается с ней и усваивает ее. В то время как в классической греческой философии диалог становится особым способом разъяснения философской мысли. Но более важным является не обнаружение различий в глобальных философских традициях, а 380 наоборот, выявление того теоретически значимого содержания, которое предстает как положительный результат диалога западноевропейской и восточноазиатской культур. В этой связи целесообразно подчеркнуть то существенно общее, что характерно для понимания природы диалога в обеих рассматриваемых традициях. Этим общим является выявление особых диалогических отношений между субъектами. М.М. Бахтин считал диалогические отношения почти универсальным явлением, «пронизывающим всю человеческую речь и все отношения и проявления человеческой жизни вообще, все, что имеет смысл и значение», он указывал, что «там, где начинается сознание, ...там и начинается диалог». В связи с этим мы разделяем точку зрения Э.В. Сайко на генезис диалога. Исследователь отмечает, что диалог, будучи особой формой общения, имеет свою самостоятельную природу, определяющую соответствующую специфическую роль в его культурноисторическом процессе: диалог-общение не равен общению. Однако диалог, имея свою историю существования, функционирования и развития в обществе, обладает собственным социальным пространством [Сайко 1999]. Теория и философия диалога тесно связаны с различными формами общественной жизни, в этом аспекте мы выделяем две позиции: 1) безоговорочное стремление следовать за монологическим пониманием действительности, что очень часто связано с идеологией и представляется бесперспективным; 2) исключительная множественность мнений, что также в конечном счете нерезультативно. Диалог позволяет уравновесить и удерживать в поле конструктивной соотнесенности и самобытности каждую культурную позицию, тем более что в последние полвека вопрос о диалогичности как свойстве исторического и культурного развития общества широко обсуждается и трактуется в научном мире и жизни социума (В.В. Воробьев, Б.М. Лотман, Б.А. Успенский и др.). Диалогические отношения проникают во все области взаимоотношений человека с миром, во всем разнообразии их форм и проявлений. Самыми значимыми явлениями в диалогических отношениях стали: культурный диалог, познавательный диалог, общественно-политический диалог, обучающий диалог и далее, вплоть до диалога человеческого сознания с самим собой по основополагающим проблемам бытия. Познавательная направленность является характерной чертой любой формы диалога. Именно она есть та самая основа диалога, 381 от которой зависят его цели и средства их реализации. Поэтому мы считаем необходимым обратить особенное внимание на познавательную сторону диалога, независимо от его форм и проявлений. Наличие в познавательном диалоге предмета обсуждения, а значит, альтернативных точек зрения делают возможным продвижение к истине. Участник диалога, узнавая аргументированную точку зрения своего партнера, ищет контраргументы, совершенствует собственное мнение в соответствии с приведенными доказательствами. Таким образом, первоначальная структура диалога может сложиться из точек зрений двух субъектов, которые в ходе общения могут оперировать неограниченным количеством мнений, включенных в ценностную парадигму каждого из них. Однако уникальная диалогическая ситуация может сложиться и в сфере общения людей, и в сфере познания, так как диалогические отношения возникают всегда, когда обнаруживается потребность людей друг в друге. Самобытность таких отношений определяется конкретикой целей, форм и способов субъектной деятельности. Познавательный аспект любого диалога основан на специфических приемах определения, вычленения, осмысления, обоснования, подачи и опровержения информации. В результате эта информация превращается в знания, полученные в ходе диалога. Гносеологическая составляющая диалога состоит из методов изучения, осмысления и оценки информации, содержащейся в выдвигаемых мнениях. Основными из них являются: формулирование тезиса, аргументация, опровержение, осмысление в собственном сознании, оценка и т.п. Таким образом, в гносеологическом плане наиболее значимы при ведении диалога объяснение и понимание. Именно их реализация осуществляется путем оценки, доказательства, опровержения и т.д. При этом диалог всегда является неделимым пространством актуальных культурных смыслов. Он всегда развивается по законам конкретного временного отрезка, имеющего четкие границы. Социально-культурное пространство, в котором происходит диалог, должно иметь четко обозначенные границы. Соблюдение именно этого условия делает возможным понимание, совмещение различных, или в чем-то схожих, точек зрения. Затрагивая события предшествующие и последующие, сам диалог по сути является событием дня сегодняшнего. Педагогический диалог, создателем которого обоснованно считается Сократ, основан на идеях предшественников и преемников. 382 Идеи диалога в педагогике, будучи представлены во всей истории науки и культуры, наиболее четко начинают формулироваться в неклассической философской традиции, в том числе в русской философии. Однако идеи академического педагогического идеала и классических образовательных стратегий в русской философии не могут быть уточнены без четко сформулированных оснований, принципов и методов классической педагогики. Ориентация на диалог изначально заложена в отечественное философское мировоззрение. В России само понятие образования не может быть отделено от конкретных историко-культурных смыслов. Русская традиция вносит свое понимание в творчество и поиск истины, часто персонифицируя их. В связи с этим образование в русской философской традиции предстает как свободное жизненное творчество индивида, которое в то же время основано на незыблемых истинах бытия духовного. Самореализация человека как личности происходит путем взаимопроникновения в иные позиции в диалоге и осмысления их. Мы можем заметить сегодня, что в своем развитии диалог прошел сложный и интересный путь: от диалога-общения к диалогу-методу и далее к диалогу-методологии (диалогика). Гуманитарная парадигма диалога долго выстраивалась в системе: перцепция, коммуникация, интеракция, что вполне укладывается в рамки современной полипарадигмальной концепции диалога. Однако гуманитарная система диалогически направленного образования очень зависима от конкретной социально-исторической ситуации, поэтому в поликультурной среде диалог необходимо выстраивать с учетом различных жизненных позиций, опыта, в том числе гносеологического. Проблема диалога и традиции, несомненно, связана и с языковым опытом, поскольку язык в концентрированном виде отображает историю и самобытность народа. Развитие диалога в разных культурах имеет разные социальные основания: в одних культурах она определяется незыблемой исторической системой ценностей, в других – рационально сформулированной социальной целью. К сожалению, в советское время в нашей стране диалогу большее место отводилось не в гуманитарных науках, а в науках технических. В Российской государственной библиотеке в каталоге под именем «диалоговый» и «диалоговая» даются ссылки более чем на сто работ за тот период. Среди них нет ни одной гуманитарной. В течение почти двадцати лет (1970–1990) проблему исследования диалога связывали с усовершенствованием интеллектуальных возможностей информационных систем с точки зрения того, как обеспечить общение человека с ЭВМ. Вопрос 383 ставился в это время так: как построить эффективный и полноценный диалог с машиной, имитирующей человеческое общение? [Ветошкин 2003, с. 24]. Но такие науки, как философия, психология и лингвистика даже в советский период занимались диалогом. Философия хотела видеть бытие во всей его полноте (идея А.В. Лосева «диалектика как живая логика бытия»), психологи писали о диалогической сути человеческой природы (Л. Выготский, А. Леонтьев), лингвистика занималась соотношением речи и мышления, а потому размышляла о диалоге (М.М. Бахтин, В.С. Библер). На Западе в последнюю четверть XX века интерес к диалогу проходил под знаменем ренессанса «философии диалогизма» М. Бахтина. Исследователи отмечают, что только за период 1980–1990-х годов «индустрия Бахтина» выросла за рубежом в двадцать раз [Махлин 1996, с. 206]. При этом и в том, и в другом случае познавательный диалог ведет к установлению истины. Участник диалога, встречаясь с альтернативной точкой зрения, ищет контраргументы и выстраивает собственные доказательства. Таким образом, точки зрения двух оппонентов-участников диалога то удаляются друг от друга, то сближаются, что указывает на его дихотомический характер (Старожилова) и познавательную ценность. Гносеологическую основу диалога составляют способы восприятия, понимания и оценки информации, содержащейся в мнениях оппонентов. Самыми важными из них являются: вычленение тезиса, доказательство, контраргументация, собственная интерпретация и вывод. Именно они формируют особую диалоговую форму познания действительности. Краткий экскурс в историю развития философского и дидактического диалога показал, что теория диалога неразрывно связана с развитием различных сфер общественной жизни. Школьный (философский) диалог возник в IV веке до н.э. в классической Греции. Очевидно, что развитие познавательного диалога в том числе и как метода обучения происходит до наших дней. Диалог в дидактике совершенствуется, опираясь на достижения философской мысли. Происходит взаимообогащение педагогического и философского содержания в диалоге. Литература Ветошкин А.Г. Диалог как социокультурная основа организации гражданского общества: Автореф. дис. ... канд. социол. наук. – М., 2003. Махлин В.Л. Наследие М.М. Бахтина в контексте западного постмодернизма // М.М. Бахтин как философ. – М., 1996. Сайко Э.В. Социокультурное пространство диалога. – М., 1999. 384 Данелян Елизавета Григорьевна (Россия, Тверь; к.п.н., доц. кафедры русского языка с методикой начального образования Тверского государственного университета) [email protected] Роль русских народных сказок и малых фольклорных жанров при развитии устной речи детей-инофонов Сегодня в школах России целый круг вопросов, связанных с проблемой развития русской устной речи учащихся, остается нерешенным. Требуют специального исследования вопросы развития русской речи в школах с многонациональным составом учащихся, где преподавание ведется с I класса на русском языке, а в одном классе могут учиться представители 4–6 (и более) национальностей. Такие школы сегодня условно называются «полиэтническими (поликультурными) школами». Как показывают наблюдения, словарь большинства учащихсявыпускников этих школ беден. Они допускают произносительные, грамматические, речевые ошибки и главное – недостаточно свободно владеют русской речью. Мы обратились к первому году обучения в школе детей, носителей армянского, грузинского, азербайджанского языков, и выяснили, что многие из этих ошибок ведут свое начало именно отсюда. Все это, безусловно, свидетельствует о недостаточном уровне развития коммуникативно-речевых умений. Следует отметить, что речевая деятельность на русском языке у детей-инофонов может быть успешно сформирована, если будет учитываться специфика их родного языка. Учитель в начале своей работы в первую очередь должен выделить те особенности родных языков детей-инофонов, которые являются причиной появления ошибок интерференционного характера. 385 Особенности родных языков детей-инофонов (грузинского, армянского, азербайджанского) следующие: 1) расхождение в звуках, отсутствие некоторых звуков, что ведет в русском языке к нарушениям в звукопроизношении; 2) неподвижное ударение; отсутствие расхождения между написанным и его устным воспроизведением (прочтением), что ведет к нарушениям орфоэпических норм русского языка; 3) отсутствие категории рода, что ведет к нарушению норм согласования в русском языке; 4) частичное отсутствие категории одушевленности, что ведет к ошибкам в падежных окончаниях русских слов; 5) отсутствие предлогов, некоторых падежей, что ведет к ошибкам в предложном и беспредложном управлении в русском языке; 6) другие частные (разные) признаки. Сегодня психофизиологические возможности детей дошкольного возраста, а также младших школьников «гораздо значительнее, чем это предполагалось до сих пор, и что при соответствующей организации педагогического процесса они могут усваивать такие знания, овладевать такими умственными операциями, приобретать такие нравственно-волевые качества, которые ранее считались доступными лишь для детей значительно более старшего возраста» [Запорожец 1972, с. 48]. Однако возможности детей-инофонов в овладении русской речью, к сожалению, учителями используются далеко не в полной мере. Поэтому совершенствование содержания и методов обучения детей-инофонов русской устной речи в полиэтнических школах сегодня выступает как очень важная, актуальная задача. Нужен мощный фактор, постоянно поддерживающий в детях желание и стремление развивать русскую речь. «Такое желание можно вызвать лишь условиями, способными удовлетворить актуальную потребность ребенка. Это, прежде всего, игры и игровая деятельность, от которых младший школьник пока что не может отказаться, так как они удовлетворяют его функциональные тенденции; кроме этого, впечатлительность ребенка, находящая выход в богатой эмоциями действительности; сама учебная деятельность, исключающая сухую передачу знаний учителем ребенку, где последний выступает в роли пассивного собирателя знаний, а где всякая деятельность направлена на активизацию познавательных, интеллектуальных, творческих возможностей в самих действиях младших школьников» [Ниорадзе 1980, с. 21]. В процессе игры взаимоотношения между учителем и учениками приближаются к естественным условиям общения и у детей 386 преодолевается страх языкового барьера. Именно поэтому в своей системе работы по развитию русской устной речи учитель большое внимание должен уделить литературным текстам, приближающим детей к ситуации игры и благотворно влияющим на их мысли и чувства. При этом важную роль здесь играют произведения фольклора: как малые формы – пословицы, поговорки, загадки, считалки, дразнилки, чистоговорки, скороговорки, потешки, игровые и колыбельные песни, так и более крупные – сказки. Если поговорки, пословицы, загадки используются преимущественно как средство развития мышления, то чистоговорки, скороговорки – как средство закрепления правильного звукопроизношения. С первых дней обучения детей-инофонов русской устной речи учитель может широко использовать потешки. Их содержание позволяет наглядно воспроизводить сценки с несколько последовательно сменяющимися действиями. Ценность их в том и состоит, что слово можно соединить с действием детей. Содержание многих потешек богато глаголами. Их легко можно инсценировать даже тогда, когда дети еще не владеют активной речью. Дети вместе с учителем произносят потешки, сопровождая их движениями по содержанию текста. Потешки построены на множестве повторов. Повторяются отдельные слова, словосочетания, предложения и даже четверостишия. А это способствует запоминанию слов, а затем их активному употреблению. В потешках часто встречаются уменьшительно-ласкательные слова. Их неоднократное прослушивание помогает детям-инофонам на начальном этапе обучения постепенно усваивать новые формы слов: «пальчик, ручки, ножки, глазки, личико, зубок; дорожка, речка, реченька, солнышко, тучка и др.». «В произведениях устного народного творчества часто употребляются постоянные эпитеты. Они как бы «переходят» из одного произведения в другое, характеризуя внешние признаки предметов. Многократно прослушивая их, дети непроизвольно запоминают словосочетания и одновременно усваивают не только их смысловое значение, но и правила согласования» [Миронова 1991, с. 79]. Например: «коза рогатая, коза бодатая, золотой гребешок, масляна головушка, шелкова бородушка, зайка серенький, серенький волчок и др.». На уроках учитель также может использовать игровые песенки: «Гуси, гуси!», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Жил-был у бабушки...», «Жили у бабуси...», «Заинька, походи...», «Как на Колины именины...» и др. 387 Эти песенки обогащают словарь детей, развивают грамматический строй предложения, диалогическую и монологическую речь, а также произносительную сторону речи. Особое внимание на уроках должно быть уделено русским народным сказкам как средству, приближающему детей к ситуации игры и благотворно влияющему на их мысли и чувства. Использование сказок в работе с детьми-инофонами позволяет в большей степени формировать такие разновидности речевой деятельности, как слушание (аудирование) и говорение (диалогическая и монологическая речь). Специфика сказок, наличие в них определенных смысловых элементов и повторяемость некоторых языковых средств дает возможность детям успешно усваивать определенный лексический материал и типовые модели синтаксических конструкций. Создаваемые на основе сказок речевые ситуации, дидактические игры различного рода способствуют эффективному усвоению норм русского литературного языка. Сказки учат детей обращать внимание на свойства устной речи: тон, интонации, тембр, громкость, темп, логическое ударение, паузы; использование жестов и мимики. На начальном этапе следует начинать работу со сказок о животных и некоторых бытовых сказок. Они по форме просты и ясны. Четкость фабулы, быстрое развертывание действий, малое количество персонажей, простота композиции, образность языка – все это делает эти сказки очень привлекательными для детей. В работе с этими сказками при отборе лексического минимума для словаря учитель руководствуется принципами, разработанными в методике. Он пользуется следующими критериями: а) частотность слов; б) их коммуникативная значимость; в) фонетическая, лексическая, грамматическая трудность слова; г) учет специфики сферы интересов детей-инофонов. В словарь можно включить: 1) существительные, обозначающие названия животных и птиц: волк, лиса, медведь, лев, заяц, бык, корова, лошадь, козел, петух, курица, ворона и др.; 2) глаголы говорения (т.к. в сказках есть диалоги): сказал – спросил – ответил и т.д.; 3) глаголы движения: идет – ходит, летит – летает; несет – везет – ведет; шел – подошел – перешел... и др.; 4) глаголы и прилагательные, характеризующие животных: лает, рычит, воет, кукарекает и др.; 5) наречия: громко, тихо, быстро, медленно, вперед, назад, высоко, низко, вдвоем, втроем и др.; 388 6) существительные, обозначающие предметы домашнего обихода (мебель, посуда): стол, стул, кровать, кувшин, чашка и др.; 7) существительные, обозначающие местность: лес, овраг, поляна, речка, горы и др.; 8) прилагательные, характеризующие местность: густой, дремучий, глубокий, высокий и др.; 9) числительные: первый, второй, третий и др.; 10) фразеологизмы: «слезы льет», «сломя голову» и др. Современные грузинские методисты ссылаются на высказывания Я.С. Гогебашвили о том, что «главнейшую трудность при обучении русскому языку представляет не лексикон, который сравнительно легко усваивается и детьми, и взрослыми, а грамматические формы русской речи, которые, резко расходясь с грузинскими формами, требуют для прочного усвоения наибольшего внимания и сосредоточенных усилий детского ума» [Гогебашвили 1898, с. 14]. Такая же трудность представляется и для детей других национальностей: армян, азербайджанцев и т.д. Учителю следует всегда помнить, что только тогда дети обратят особое внимание на эти грамматические формы и прочно усвоят их, когда они станут предметом их активных речевых действий. Согласование и управление – это самые сложные разделы, требующие длительного времени для изучения их учащимисяинофонами. На начальной ступени языковой материал требует такой организации, которая сразу же, вслед за его осознанием (без обращения к грамматическим правилам), могла бы включиться в речевые действия детей-инофонов. На материале сказок учитель может дать разнообразные грамматические модели, которые находятся в прямом соотношении с трудностями в усвоении русского языка и обуславливаются расхождением с родным языком. Сказки также являются благодатным материалом для развития диалогической и монологической речи инофонов. Учитель с детьми могут разыгрывать диалоги из сказок, строить новые диалоги по данному образцу, заданной ситуации. Широко должны быть использованы вопросы для развития глобального, детального, критического восприятия сказки. Необходимо использовать разнообразные методические приемы и виды работ по развитию монологической речи детейинофонов (разные виды пересказов, составление собственных сказок и т.д.). 389 В результате такой работы дети-инофоны знакомятся с большим количеством русских народных сказок. Они замечают, что некоторые из этих сказок похожи по сюжету на сказки своего народа. Например, русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко» похожа на грузинскую народную сказку «Блоха и муравей», а русская народная сказка «Волк и семеро козлят» – на узбекскую народную сказку «Коза с кудрявыми ножками» и др. Сказка нужна детям для общения друг с другом. Сам факт общности переживаний при слушании сказки сближает детей. Думая об одном, волнуясь вместе за одного и того же героя сказки, дети становятся друг другу ближе. Все это ведет к единению и согласию в межэтнической среде. А это очень важно. Литература Гогебашвили Я.С. Руководство для учителей и учительниц. – Тбилиси, 1898. Запорожец А.В. Педагогические и психологические проблемы всестороннего развития и подготовки к школе старших дошкольников // Дошкольное воспитание. – 1972. – № 4. – С. 37-42. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М., 1991. Ниорадзе В.Г. Проблема развития русской устной речи. – Тбилиси, 1980. 390 Жигалова Мария Петровна (Беларусь, Брест; д.п.н., директор ИПК и П УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина») [email protected] Школьный литературный музей А.С. Пушкина в белорусском этногенезе как объект постижения русской культуры Все больше ученых склоняются к тому, что говорить сегодня о значении и роли этнической культуры в формировании личности белоруса в отрыве от культуры русской, значит обеднять свою национальную культуру, так как русская литература и культура уже многие годы «живет» в судьбах не одного поколения и для многих давно стала родной. Такая целостность и взаимопроникновение культур, межэтнический ее аспект отмечается и при анализе духовных ценностей, сохраненных белорусами, традиций натуральной местной жизни и быта, а также при анализе моральной атмосферы, культуры и духовности. Может быть, поэтому мы, белорусы, можем тоже с гордостью сегодня говорить: «Наш Пушкин». Вполне закономерен отсюда и такой высокий интерес белорусских ученых, педагогов-исследователей к творчеству Пушкина. И как свидетельство этому – создание школьных литературных музеев в Беларуси в его честь, как желание постичь поэтический и духовный мир поэта. Таких музеев в Беларуси создано два: один в г.п. Уезда Минской области, второй был создан автором этой статьи в 1984 году в Ореховской СШ Малоритского района Брестской области. На эту работу ушло более семи лет. Все начиналось с краеведческого кружка, который и ставил целью познакомить школьников с родным краем и славянской культурой мультикультурного пространства [Жигалова 1991]. То, что малоритская земля благодарно приняла величественный дух Пушкина, на это есть свои исторические причины, 391 которые связаны с именем Николая Ланского, имеющего отношение к семье поэта. Как засвидетельствовано в архивных материалах, «20.11.1795 года Екатерина II подарила в пожизненное пользование генераллейтенанту Николаю Ланскому за военные заслуги Малориту» [Гарады і вескі Беларусі... 2007, с. 325]. Позже «Олтушский ключ, которым управлял помещик Сергей Прошин, переселил своих крестьян в деревню и назвал ее в честь своего деда по линии матери Николая Ланского – Ланская» [Там же, с. 343]. Эта деревенька находится на границе трех государств: Беларуси, Польши, Украины, на западном берегу Олтушского озера в 16 километрах от г. Малориты по дороге в ореховский школьный литературный музей Пушкина. Идея о том, что краеведение способствует изучению, сохранению и пропаганде культурных ценностей, стала особенно актуальной сегодня. Хотя надо признать, что в условиях постиндустриального общества и глобализации его функции значительно расширились. Во-первых, во многих европейских странах эта сфера деятельности стала одной из самых прибыльных отраслей бизнеса, источником формирования и пополнения местного бюджета, что вызывает к ней повышенный интерес как со стороны центральных властей, так и со стороны местного управления. Во-вторых, традиционно на краеведение возлагались и задачи в области образования, патриотического, гражданственного и нравственного воспитания населения, потому что оно дает не просто сумму знаний о культуре края, но и содействует воспитанию чувства патриотизма, является важным стимулом к содружеству народов. Актуализация и реализация этих задач в современных условиях путем активной популяризации, развития и расширения различных форм краеведения, являются особенно важными, если учесть, что жизнь людей везде должна быть полноценной и насыщенной, способствующей самореализации личности и развитию творческого потенциала. Поэтому школьный литературный музей А.С. Пушкина вполне можно назвать и туристическим объектом, который помогает понять роль русской культуры в жизни белорусов. Так как музей находится в мультикультурном пространстве, где проживают русские, белорусы, украинцы, поляки, евреи и др., то роль его значительно повышается, так как его содержание еще раз напоминает славянам об их единстве. Музей открывается словами Н. Чернышова (см. рис. 1): 392 Кто сказал, что родина поэта далека от нашенских полей, Правда, тут Михайловского нету и его заснеженных полей. Чуть попозже листья облетают, чуть пораньше яблони цветут, Впрочем, это дела не меняет: к Пушкину тропа не зарастает: Люди в сердце с Пушкиным живут. Рис. 1 И, действительно, это так. Сегодня школьный литературный музей А.С. Пушкина – центр воспитательной работы, которая направлена на формирование духовных ценностей учащихся. В музее все проникнуто духом А. Пушкина, миром его сказок (их фрагменты нарисованы на витражах музея), миром его любимых цветов, которые растут на аллее Пушкина, миром его лирики и прозы, запечатленной в книгах, собранных в музее (а они составляют настоящую творческую лабораторию, где ученику, студенту и учителю можно выполнить любую исследовательскую работу!), миром его находок и открытий, представленных в музейных фондах и экспозициях. Они насчитывают более 980 экспонатов основного и вспомогательного фондов и отражают разные стороны личности и творчества поэта (см. рис. 2), содержат уникальные издания и документы, в том числе и материалы поисковой деятельности школьников. 393 Рис. 2 Думается, особый интерес у посетителей может вызвать раздел «А.С. Пушкин и Беларусь» (см. рис. 3), рассказывающий о пребывании А.Пушкина в Беларуси, об отношении белорусов к творчеству и личности Пушкина. Материалы книги С. Букчина «Народ издревле нам родной» свидетельствуют о том, что впервые А.С. Пушкин побывал на белорусской земле весной 1820 года, когда направлялся на службу в южные губернии России. Второй раз он ехал через белорусские города (Чечерск, Могилев, Оршу, Витебск, Полоцк), деревни и села к матери, в Михайловское Псковской губернии под внимательным жандармским надзором. Но тем не менее он встречался с местными жителями, которые уже давно знали и ценили свободолюбивые произведения поэта, присматривался к местности, сельской жизни. И, кто знает, может быть, уже тогда у него и появилось представление о том, что эту землю населяет «народ издревле нам родной», выразительно сказанное позже, в 1836 году, в рецензии на Сборник произведений архиепископа Белорусского Георгия Конисского. Рецензия в «Современнике» свидетельствует о значительной осведомленности Пушкина в истории Беларуси. Внимательный читатель пушкинских текстов обнаружит много белорусских реалий в его произведениях. Например, подготовленные тексты к 394 «Истории Петра» пестрят названиями белорусских городов и деревень. С документальной точностью фиксирует Пушкин происходящие на нашей земле события войны со шведами: «А.С.Пушкин и Беларусь» Рис. 3 «Петр приказал всем начальникам спешить в Минск. И сам... отправился в Минск же, пробыв неделю в Орше»; «4 августа получил он известие о переходе Карла, под Могилевом, через Днепр и о походе его к Пропойску. Войско наше пошло к Могилеву, а Петр с половиною пехоты прибыл в Мстиславль». Подробно описывает Пушкин битву под могилевской деревушкой Лесной и гордо заключает: «Победу под Лесным Петр назвал потом матерью полтавской победы, последовавшей через 9 месяцев..». А в «Исторических записях» Пушкин упоминает знаменитый «домашний театр» графа Зорича, владельца Шклова» [Год Пушкина... 1999]. Все эти факты еще раз подтверждают, что пушкинский мир, где есть место и белорусам, основан на внимательном изучении научных трудов своих современников, документов, кропотливой архивной работе. Именно поэтому слова поэта о белорусах («народ, издревле нам родной») следует воспринимать не только как эмоциональную характеристику, но, прежде всего, как свидетельство глубокой исторической убежденности. В них, безусловно, 395 отразились и личные наблюдения, непосредственные впечатления от встреч с Белоруссией, с ее народом. Известно, что творчество Пушкина оказало большое влияние и на развитие всей белорусской литературы – разных ее течений и направлений. Наиболее выразительно это видно на примере творчества Я. Колоса, М. Богдановича, Я. Купалы, поэтов-современников. Пушкин приходил в сознание белорусских поэтов еще на школьной скамье как образец для подражания и наследования, как эталон, идеал. Неудивительно, что некоторые художники слова посвятили своему творческому наставнику восторженные и благодарные строки. Например, профессор В. Колесник пишет в своем письме ореховским пушкинистам: «Пераносячыся думкамі да Вас, я выразна адчуваю радасць, шчасце і гонар абраць А.С. Пушкіна сваім ідэалам, прызнаць настаўнікам, апекуном, ахоўнікам чысціні Вашых юных сэрцаў, правадніком па жыцці, компасам і паходняй, звернутымі на маякі простых надзенных і сусветных ідэалаў» [Жигалова 2000, с. 57]. У многих белорусских поэтов появилось реальное желание переводить Пушкина на белорусский (А. Кулешов, К. Чорный, М. Танк, А. Астрейко, В. Шаховец, В. Ковтун, Р. Бородулин и др.). Здесь находятся и переводы произведений поэта на украинский (П. Мах), немецкий, японский и другие языки. Произведения М. Танка, В. Ковтун, О. Лойко, И. Науменки и др., написанные о русском художнике слова, помогают понять белорусским школьникам истоки русского характера и одновременно обогатить свою национальную культуру. Выгодно дополняет представление посетителей музея о белорусских реалиях в творчестве поэта и раздел «Потомки А.С. Пушкина в Беларуси», в котором собран материал о белорусской ветви потомков поэта, об их увлечениях, деятельности, личной жизни. Уникальными фактами, полученными в результате многолетней поисковой работы ореховских школьников, являются материалы о потомках поэта, проживавших не только в Беларуси, но и в Брестской области (пос. Юголин Ивацевичского района), которые поселились на белорусской земле во второй половине XIX столетия. В музее хранятся записи материалов, полученных во время проведения ежегодной школьной краеведческой экспедиции в 1980–1983 годах, фотографии, материалы научных исследований Т.Б. Лиокумовича, опубликованные в государственных изданиях [Лиокумович 1991]. В 1870 г. в белорусском городе Новогрудке ребенком нашел вечный покой внук поэта Петр – сын А.А. Пушкина, генерал, му396 жественный участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. А его дочь Наталья, выйдя замуж за сослуживца отца ВоронцоваВельяминова, жила под Бобруйском, заботилась об образовании и здоровье белорусских крестьян. Георгий Владимирович Воронцов-Вельяминов родился в белорусском селе Юголин в 1926 году, а его дедушка, бывший полковник, в 1938 году умер и похоронен, по словам белорусского исследователя Викентия Мороза [Год Пушкина... 1999], в деревне Добромысль Ивацевичского района около церкви. Мать Георгия – Наталья Евгеньевна в начале 1921 года уехала из Бобруйска в гости к родственникам, жившим тогда в Западной Белоруссии. Но в марте этого же года Западная Белоруссия отошла к Польше и Наталья Евгеньевна, оторванная волею обстоятельств от семьи, прожила здесь долгие годы, вплоть до ее воссоединения. Здесь же она стала женой своего двоюродного дяди Владимира Ивановича Воронцова-Вельяминова и родила двоих детей – Георгия, о котором мы упоминали выше, и Веру. Есть у нее и внук Андрей. Интересна и такая подробность. «Когда мальчик был подростком, одна из грузинских газет писала, что в нем «заявляет о себе память генов – в абрисе лица, в светлых курчавых волосах, голубых глазах» заметно проступает портретное сходство с А.С. Пушкиным. Неслучайно, думается, народная художница Грузии К.К. Магалашвили написала в свое время портрет пятнадцатилетнего потомка поэта» [Год Пушкина... 1999, с. 101]. Эти и другие материалы составляют основу экспозиций музея и могут представлять интерес для белорусских и инонациональных туристов разных уровней. Успешно дополняют представление о духовном мире Пушкина и его роли в развитии мировой литературы такие материалы, как: «Полное собрание сочинений» 1889 года издания (издательство «Лавка Сытина»), переданное в дар музею из Эстонии пушкинисткой-учительницей Зоей Ивановной Булатник; книги поэта, переведенные на разные языки мира, в том числе и на японский, очень редкие иллюстрации к произведениям Пушкина, материалы переписки учащихся с праправнуком поэта С.Е. Клименко. Его личные вещи – солдатский вещмешок «Сидор», коробка для хранения махорки, магнитофонные записи его воспоминаний, стихи, фотографии. Отдельная экспозиция рассказывает о хранителе музеязаповедника в Михайловском С.С. Гейченко. Но особенно впечатляет экспозиция «Пушкин и Великая Отечественная война» (см. рис. 4). Тут собраны копии документов, записи воспоминаний бывших воинов Красной Армии – В.А. Сторчеуса, Д.М. Бойчарова, Ф.Н. Минеева, которые участво397 вали в разминировании могилы А.С. Пушкина в Святогорском монастыре. Музей имеет фотографию и архивные материалы, рассказывающие о самолете «Александр Пушкин», который был построен на средства писателя И.А. Новикова, о деятельности экипажа этого самолета, который возглавлял Ю.М Горохов. Есть в музее магнитофонные записи интересных встреч, праздников пушкинской поэзии, литературных чтений, конференций. В экспозиции и фондах – материалы краеведческих находок учащихся, фотографии, альбомы, лучшие сочинения школьников, книги поэта, переведенные на разные языки мира, книги современных писателей и поэтов с дарственными надписями музею. Пушкин и Великая Отечественная война Рис. 4 Все это свидетельствует о разнообразной поисковой работе школьников, об их интересе к творчеству русского поэта. Такие материалы приобщают учащихся к эпохе, к миру человеческих отношений, потому что экспозицию мы рассматриваем и как средство наглядности, основанное на поисковых материалах школьников, и как средство, рождающее живое восприятие учебно-наглядного материала, помогающее формировать представление о личности А.С. Пушкина, его эпохе и творчестве в инонациональной культуре. 398 За весь период работы музея здесь побывали более 20 тысяч посетителей из разных стран ближнего и дальнего зарубежья. Это школьники и студенты, работники сельского хозяйства и учителя, ученые и государственные служащие, просто любители пушкинского слова. По каждому разделу экспозиции школьники проводят экскурсии. Экскурсия для учащихся – это главным образом лекция о жизни и творчестве поэта с привлечением музейной экспозиции в качестве наглядного материала. В таком виде экскурсия приобретает важное образовательное значение и способствует углубленному изучению литературы, помогает учащимся развивать творческие способности. Пушкинское творчество и сегодня оказывает влияние на жизненную активность ореховских пушкинистов. К празднику пушкинской поэзии, к Неделе русского языка и литературы, ко Дню памяти А.С. Пушкина готовятся выставки рисунков, поделок, сочинений, связанных с пушкинской тематикой. В таких мероприятиях участвуют школьники и учителя из Беларуси, России, Украины, что свидетельствует о единстве культурных, эстетических и нравственных ценностей славянских народов. Пушкинский музей-клуб «стал центром просвещения и науки. Здесь царит дух творчества» [Жигалова 1994]. Разнонаправленная поисковая деятельность говорит о значительном влиянии музея на формирование духовных ценностей учащихся. Постоянная творческая работа в рамках факультатива «Пушкин и Беларусь» дает возможность школьникам углубить не только знания о жизни и творчестве поэта, но и заниматься исследовательской работой, связанной с переводческой, поисковой и творческой деятельностью. Студенты Брестского университета имени А.С. Пушкина имеют возможность тоже работать в музее при подготовке курсовых и дипломных работ, ведь школа уже многие годы поддерживает творческие связи с высшим учебным заведением и является хорошей базой для проведения педагогической и фольклорной практики студентов, для написания исследовательских работ. Все это свидетельствует о том, что музей А.С. Пушкина на Малоритчине является международным туристическим объектом постижения русской культуры в инонациональной белорусской среде. Ибо мир русской культуры, пробуждаемый лирой великого мыслителя и творца, здесь слился воедино с миром белорусского слова и стал тем центром, где формируется духовность, основанная на вечных и непреходящих человеческих ценностях: добра и красоты, любви к родине и ответственности за содеянное, уважении к инонациональным культурам и свободе творчества. 399 Литература Год Пушкина. А.С. Пушкин и Беларусь / Сост. Т. Мохнач. – Минск, 1999. Жигалова М.П. Пачыналі з гуртка // Народная асвета. – 1991. – № 3. – С. 16–19. Жигалова М.П. Школьный литературно-краеведческий музей-клуб А.С. Пушкина как одна из форм творческой деятельности школьников // Материалы и сообщения. Респ. научн. конференция «Пушкин и белорусская литература». – Брест, 1994. – С. 96–98. Жигалова М.П. Пушкинская формула счастья в понимании В. Колесника (по следам неопубликованного письма) // Матэрыялы навуковай канферэнцыі «Сучасныя праблемы беларусікі». – Брест, 2000. – С. 57. Лиокумович Т.Б. Потомки Пушкина в Беларуси. – Минск, 1991. Гарады і вескі Беларусі. Брэсцкая вобласць. – Мінск, 2007. – Кніга 2: Энцыклапедыя. 400 Кажигалиева Гульмира Абзалхановна (Казахстан, Алма-Ата; д.п.н., проф. кафедры практических языков Казахского национального педагогического университета им. Абая) [email protected] О текстовом лингвокультурологическом поле как единице обучения на занятиях по русскому языку в казахстанском вузе (на материале рассказа И. Бунина «Антоновские яблоки») Актуализация культурологического аспекта преподавания русского языка в Казахстане предопределяется фактом признания в качестве конечной цели языкового обучения осуществление диалога культур, а ее составляющими – полилингвальность и поликультурность. В целом в преподавании русского языка в Казахстане (во всех его трех ипостасях: родной, неродной, иностранный) его культурологическая составляющая является определяющей. Культурообразующая концепция оптимальна, так как: 1) освоение языка сегодня немыслимо без понимания и усвоения совокупности представлений, знаний и норм, составляющих национально-культурную традицию народа, носителя изучаемого языка. Немыслимо потому, что язык – первоэлемент и конечный элемент культуры, продукт и концентрат, а также инструмент и транслятор ее; 2) культура облегчает овладение языком: конструкции усваиваются лучше, если они применены к ситуации; 3) соизучение языка и культуры способно мотивировать обучаемых, пробуждая интерес к осваиваемому языку. В силу чего современное языковое обучение не может быть ограничено передачей учащемуся знаний, непосредственно необходимых для выражения его мыслей. В обучении языку сегодня важно опираться на принцип соизучения языка и культуры. Соизучение языка и культуры – это, помимо всего прочего, учет фактора поликультурного 401 социума, каковыми можно считать многие современные государства, включая и Казахстан. Учет фактора полифонизма реального языкового общения в языковом образовании позволяет воспитывать у обучающихся толерантность в отношении представителей других культур. Толерантность – ключевое понятие в европейской концепции образования: «Толерантность образованного человека понимается при этом не только как вынужденная терпимость, но и как признание другого мировоззрения как равноправного, осознание собственных границ, признание другой личности и культуры в качестве необходимого условия обогащения своего собственного существования в современном мире, в котором осуществляется постепенное сближение различных народов» [Бердичевский 2002, с. 60–61]. То есть культурообразующая концепция языкового обучения превращает процесс обучения языкам в межкультурное обучение, в «обучение пониманию чужого». Обучение русскому языку во всех указанных трех областях как обучение основам культурного диалога в Казахстане диктуется таким образом не только собственно педагогическими, но и политическими, экономическими, миротворческими задачами. Актуализируется в этом случае тезис о том, что личное знание учащихся формируется в том социокультурном и этническом контексте, в котором развивается личность, что через диалог с другими культурами, этносами происходит обогащение личного опыта обучаемого. Поэтому обучение русскому языку в Казахстане строится на четком осознании своеобразия родного языка и родной культуры через понимание самобытности изучаемой лингвокультурологической системы [Бердичевский 2002]. Оптимальной единицей соизучения языка и культуры, на наш взгляд, является художественный текст (далее – ХТ), поскольку последний представляет собой единораздельное культурологическое явление, неразрывное средоточие языка и культуры. Многолетний практический опыт подтверждает, что художественный текст являет собой уникальный материал при обучении языку в силу того, что в языке художественной литературы находит отражение одновременно и живая речь, и литературная норма. Кроме того, художественный текст воплощает собой реальную единицу связной речи, смысловое и формально-языковое единство, выполняющее коммуникативную функцию. Языковая структура художественного текста может быть представлена в виде функционально-смысловой подсистемы, состоящей из монологической речи (описание, повествование, рассуждение и комбинированные формы) и диалогической (вопрос, побуждение, 402 повествовательные реплики). Все это в итоге позволяет определить художественный текст в качестве оптимального средства обучения устной и письменной связной речи. Итак, лингвокультурологический аспект в работе над ХТ – это та многообещающая перспектива, тот потенциал в художественном тексте, который еще не раскрыт, и в этом направлении заключены огромные мотивационные возможности художественного текста. В целом весь художественный текст как лингвокультурологическая универсалия рождает интерес к его феноменологической природе, ибо ХТ – это образность языка и национально-культурная специфика, это эстетическая информация, это имплицитность, наличие коннотаций, это подтекст, это источник сведений о предметной действительности. Художественный текст – это языковое воплощение культуры, истории, опыта, традиций любого народа и нации: «в тексте реализуется культурофилологический феномен нации: ее менталитет, специфика ее эмоций, навыков, бытовых привычек, оценок восприятия мира и др. Континуум национальной духовной культуры в наиболее очевидной и эксплицитной форме осуществляется в текстах художественной литературы» [Диброва 1994, с. 98]. Итак, культурологический потенциал литературных произведений огромен. И в рамках лингвокультурологического подхода к преподаванию русского языка как неродного нами целенаправленно ставится вопрос об определяющем использовании методических возможностей художественного текста как универсального лингвокультурологического источника (транслятора системы лингвокультурологических единиц) при условии рассмотрения функционирующей в соответствующем ХТ системы текстовых лингвокультурем в качестве текстового лингвокультурологического поля (далее – ТЛКП). Характеристики ТЛКП рассматриваются нами в данной работе на материале рассказа И. Бунина «Антоновские яблоки», и моделируется нами текстовая лингвокультурологическая полевая структура на основе синтеза характеристик лингвокультурологического и текстового семантического полей. Текстовое семантическое поле (далее – ТСП), впервые представленное Л.А. Новиковым в качестве «системы реализации изобразительных средств текста с насыщенной, повышенной образностью как отражение особого поэтического видения мира» [Новиков 1990, с. 117], отражает «эстетически подчеркнутые лейтмотивы авторского потока сознания» [Там же, с. 117]. Каждое отдельное ТСП организуется вокруг соответствующего лейтмотива 403 авторской интенции в тех текстовых местах, которые характеризуются максимальной образностью. Текстовые семантические поля, «взаимодействуя друг с другом и иными составляющими текста... образуют орнаментальную структуру литературного произведения: они – образные компоненты его, наиболее яркие фрагменты, взаимодействующие в определенном «художественном пространстве» со своим окружением» [Новиков 1990, с. 117]. Структурно-содержательная организация ТСП следующая: «Ввод лейтмотива сопровождается обычно сгущенной образностью: это чаще всего значительный по объему фрагмент текста, в котором заданы основные семантические темы, воплощенные метафорически, символически; тема связывается здесь с изобразительным рядом. Это своеобразный центр орнаментального поля, характеризующийся «теснотой» изобразительных словесных рядов. От него на периферию поля, где образная насыщенность меньше, тянутся орнаментальные «нити и россыпи» слов, представляющие собой ощутимый образный каркас текста, поддерживающие заданный образ и развивающие его» [Там же, с. 117]. ТСП может «отчетливо проступать в литературном произведении как его яркое «пятно», то ослабевать, «превращаясь в ажурную образную «сетку»... Границы такого поля подвижны, а само его выделение в силу его природы достаточно условно: оно определяется обычно той или иной исследовательской задачей. Относителен и ранг орнаментальных полей (поле – микрополе – ряд и т.д.); он зависит от того, как задано исходное поле при анализе текста» [Там же, с. 118]. «Наконец, каждое орнаментальное поле характеризуется присущей ему системой языковых изобразительных средств: лексических, грамматических, словообразовательных, звуковых, интонационных, графических, ритмических и др., композиционно организованных и эмоционально нацеленных в структуре категории автора на выражаемый смысл» [Там же, с. 118]. Предлагаемое нами текстовое лингвокультурологическое поле представляет, как мы уже указывали, синтез характеристик лингвокультурологической и текстовой семантической полевых структур, то есть ТЛКП, являясь конкретным текстовым воплощением инвариантного обобщенного лингвокультурологического поля (в нашем случае) «Русская национальная личность» [Воробьев 2008] с функционированием лингвокультурем в качестве единиц данной полевой модели, одновременно в рамках конкретного художественного текста реализуется по принципу организации текстового семантического поля, базируясь на лейтмотивах авторских интенций, вводимых в места максимальной текстовой «лингвокультурологичности». 404 Приведем здесь пример лингвокультурологического анализа с применением метода ТЛКП из своей практики преподавания и рассмотрим структурно-содержательную организацию текстового лингвокультурологического поля на примере конкретного художественного текста: рассказа Ивана Бунина «Антоновские яблоки». Данное литературное произведение продуцирует ярко выраженную «русскость»: мастерское описание традиционного уклада «патриархальной» русской деревни дает ощущение живого присутствия в этой деревенской жизни: как бы физически ощущаешь вкус и запах «антоновских яблок»; на самом деле дотрагиваешься до паутины «бабьего лета», любуешься красотой бойких «девокоднодворок», видишь как «по-черному дымятся избы», ощущаешь настроение «престольных праздников» и слышишь «музыкальный благовест из села». Центральная тема рассказа И. Бунина «Антоновские яблоки» – стремление автора удержать в памяти потомков то из прошлого, из дворянской жизни, что достойно воспоминания, что достойно сохраниться в веках. В рассказе ощущается историческая неизбежность гибели старого патриархального уклада, дыхание новых процессов, разворачивающихся на пересечениях ХIХ и ХХ веков. Однако автор, пытаясь уловить, что несут они России и человеку, одновременно стремится сохранить истинные непреходящие ценности уходящего мира для будущего. Поэтому дворянская жизнь в рассказе «Антоновские яблоки» раскрыта преимущественно с ее поэтической стороны, негативные черты крепостничества обойдены, притушены. То есть своеобразие данного бунинского текста в том, что он не показывает здесь историю и современность русской деревни в их сложности, а, напротив, описывает вневременное, непреходящее в течение ее жизни. Именно тема вневременного, непреходящего и самобытного в укладе русской деревни и распадается на ряд эстетически подчеркнутых лейтмотивов авторских намерений (эстетическое качество достигается и посредством насыщенного использования лингвокультурем соответствующей направленности). Вокруг лейтмотивов организуется лингвокультурологические микрополя, совокупность которых и формирует в итоге конкретное текстовое лингвокультурологическое поле. В рассказе композиционно выделены четыре части, в трех из них отмечаются места ввода указанных лейтмотивов авторской коммуникативной стратегии, соответственно места максимальной сосредоточенности лингвокультурологических единиц, транслирующих основную тему ХТ, а значит и идею ТЛКП, разворачивающегося в рамках данного литературного произведения. 405 Повествование ведется от лица рассказчика, который вспоминает уходящее прошлое. Слова одного корня с этим словом (вспоминает) доминируют в его прямой и несобственно прямой речи: «вспоминается мне ранняя погожая осень», «вспоминается мне урожайный год», «помню весь золотой сад...», «и помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком» и т.д. То есть идея текстового лингвокультурологического поля находит свое главное воплощение в образе рассказчика, в его воспоминаниях о недавнем прошлом деревни. ТЛКП, введенное во второй части рассказа, живет на протяжении всего художественного произведения, пополняясь каждый раз соответствующим микрополем. Первое микрополе с именем-лейтмотивом «Осенняя ярмарка» функционирует в первой части рассказа в виде рядов лингвокультурем, густо насыщающих центр данного микрополя и редеющих к его периферии (лингвокультурологические единицы в примерах выделены): – «И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок»; – «Всюду сильно пахнет яблоками, тут – особенно»; – «Около шалаша валяются рогожи, ящики, ...вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар...»; – «В праздничные же дни около шалаша – целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся бойкие девки-однодворки в сарафанах, ...приходят «барские» в своих красивых и грубых костюмах, молодая старостиха... важная, как холмогорская корова. На голове ее «рога», – косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; ...безрукавка плисовая, занавеска длинная; а понева – черно-лиловая... – Хозяйственная бабочка! – говорит о ней мещанин, покачивая головою. – Переводятся теперь такие... А мальчишки в белых замашных рубашках и коротеньких порточках...» – «...чахоточный мещанин в длинном сюртуке и рыжих сапогах... торгует с шуточками, прибаутками и даже иногда «тронет» на тульской гармонике. И до вечера в саду толпится народ, слышится около шалаша смех и говор, а иногда и топот пляски...». Периферия данного микрополя не так насыщена лингвокультуремами: аршин, стожары, праздник святого Лаврентия и т.д. 406 Указанные лингвокультуремы рассыпаны по всему периметру первой части, но они оживляют создаваемый образ, поддерживая его устойчивость в тексте и вызывая каждый раз в фокус сознания тему, развитую в центре этого микрополя. Во второй части рассказа мы отмечаем два микрополя, которые разворачиваются вокруг лейтмотивов: «Старосветское благополучие» и «Старинная усадьба». Центр первого из названных микрополей составляют лингвокультуремы, выделенные в следующих контекстах: – «Под стать старикам были и дворы в Выселках: кирпичные, строенные еще дедами»; – «А у богатых мужиков... – избы были в две-три связи, потому что делиться в Выселках еще не было моды. В таких семьях водили пчел, гордились жеребцом-битюгом сиво-железного цвета и держали усадьбы в порядке. На гумнах темнели густые и тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые вприческу; в пуньках и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, меры, окованные медными обручами. На воротах и на санках были выжжены кресты. И помню, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком. Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед с горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой, – так больше и желать невозможно! Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти, – очень недавно, – имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию». Периферия этого микрополя представлена следующим образом: ядреная антоновка – к веселому году (пословица), почерному дымятся избы, престольные праздники, людская, барин, Петровки, рубаха с канифасовыми косяками и т.д. Второе микрополе второй части, которое мы обозначили под именем «Старинная усадьба», на наш взгляд, сосредоточивает в себе квинтэссенцию авторской коммуникативной установки, а 407 значит и главной темы художественного текста и также идеи функционирующего в нем ТЛКП: – «Усадьба небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами»; – «Стоял [дом] во главе двора... был невелик и приземист, но казалось, что ему и веку не будет, – так основательно глядел он... почерневший и затвердевший от времени. Мне его передний фасад представлялся всегда живым: точное старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз – окнами...»; – «...выходит тетка. Она небольшая, но тоже, как и все кругом, прочная». Олицетворением вневременного, вечного в течение жизни русской деревни становится эта усадьба, этот дом и его хозяйка, ибо вневременное, вечное – это тоже «старое», «затвердевшее от времени», но «прочное» и «основательное», это земля, дом и человек, живущий в этом доме и на этой земле. Центр данного микрополя составляют и такие еще лингвокультуремы, как: людская, дворовое сословие, Дон-Кихот, кучер, каретный сарай, форейтор, обедня, возок, поп, фронтон, запах яблок, сушеный липовый цвет с июня лежит на окнах, лакейская, столы с инструкциями, зеркала в узеньких и витых золотых рамах, большая персидская шаль, разговоры про старину и наследство, «дули» (вид булочек), яблоки – антоновские, «бельбарыня», боровинка, «плодовитка», розовая вареная ветчина с горошком, фаршированная курица, индюшка, маринады, красный квас и т.д. Периферия этого микрополя достаточно скудная: верста, ободниться (диалектизм), широкие косяки свежей пышно-зеленой озими, крепостное право и др. Микрополе третьей части организуется вокруг имени-лейтмотива, который мы условно назвали «Зимой в старинной усадьбе». Центр микрополя составляет следующая текстовая последовательность лингвокультурем: – «Впереди – целый день покоя в безмолвной уже по-зимнему усадьбе»; – «...побродишь по саду, найдешь в мокрой листве случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкусным...»; – «Потом примешься за книги...»; – «Славно пахнут эти, похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, толстой шершавой бумагой!»; 408 – «...наткнешься на «сатирические» и философские сочинения господина Вольтера...»; – «Потом от екатерининской старины перейдешь к романтическим временам, к альманахам, к сантиментальнонапыщенным и длинным романам...»; – «Вот «Тайны Алексиса», вот «Виктор, или Дитя в лесу»; – «И замелькают перед глазами любимые старинные слова; скалы и дубравы, бледная луна и одиночество, привидения и призраки, ...лилейная рука Людмилы и Алины... А вот журналы с именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И с грустью вспомнишь бабушку, ее полонезы на клавикордах, ее томное чтение стихов из «Евгения Онегина». И старинная мечтательная жизнь встанет перед тобою...». Периферию данного микрополя продуцируют следующие текстовые лингвокультурологические единицы: поместье, десятина, тройки, верховые «киргизы», дворня, поддевки, водка, трубит рог и завывают на разные голоса собаки (сигнал начала охоты), отрывок из народной песни: Пора, пора седлать проворного донца / И звонкий рог за плечи перекинуть, / шумная ватага охотников, старинная комната с образничкой и лампадой и др. В данном периферийном составе наше внимание привлекла лингвокультурема верховые «киргизы», встречающаяся в данном рассказе не один раз, к примеру, в таком контексте, как: «Прежде такие усадьбы, как усадьба Анны Герасимовны, были на редкость. ...сохранились некоторые из таких усадеб еще и до сего времени, но в них уже нет жизни. ...Нет троек, нет верховых «киргизов»; нет гончих и борзых собак, нет дворни и нет самого обладателя всего этого – помещика-охотника...». В словаре современного русского литературного языка [Словарь современного русского литературного языка... 1948–1965] читаем толкование этой языковой единицы («киргиз»): «киргизская лошадь степной породы, отличающаяся быстротой бега и выносливостью». Своим происхождением культурологический концепт данной языковой единицы обязан казахской культуре (долгое время казахов в России называли киргизами), но вполне логично и то, что эта лингвокультурема (в этой форме и с этим содержанием) стала «полноправной» составной частью русской лингвокультурологической системы. Свидетельством тому следующие примеры из произведений русских классиков: «Извозчик на сытой крупной «киргизке», запряженной в дребезжащую пролетку, подвез Нехлюдова к большому красивому зданию» (Л. Толстой. «Воскресенье»); «Бобров заметил даму в амазонке, спускавшуюся с горы на крупной гнедой лошади, и следом за нею всадника на маленьком 409 белом киргизе» (А. Куприн. «Молох»). Данная лингвокультурема является еще одним примером лингвокультурологических контактов двух народов. Четвертая часть рассказа «Антоновские яблоки» не отмечена вводом выраженного лейтмотива, сопровождающегося «насыщенным» рядом лингвокультурем. Поэтому встречающиеся в этой части лингвокультуремы становятся дополнением периферийного состава единого текстового лингвокультурологического поля. Содержание же данной последней части текста наполнено тревожным ожиданием неизбежно надвигающихся перемен. Симптоматично, что начинается эта часть с предложения: «Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб». Однако завершает рассказ Бунин описанием первого снега: «И вот опять, как в прежние времена, съезжаются мелкопоместные друг другу... шутят, подхватывают с грустной безнадежной удалью: / Широки мои ворота растворял, / Белым снегом путь-дорогу заметал...». Как мы уже отмечали, взаимодействие микрополей дает единое ТЛКП. Центры данных текстовых микрополей составляют сводный центр единого текстового лингвокультурологического поля. Соответственно микрополевые периферии образуют единую периферию ТЛКП. Лингвокультуремы как элементы-единицы текстового лингвокультурологического поля последовательно развертываются линейно (синтагматически), раскрывая содержание лейтмотивов, и в итоге – в целом ТЛКП, а также зримо противопоставляются как члены образной парадигмы, и таким образом в конечном итоге посредством системы текстовых лингвокультурем создается (в двух измерениях: синтагматическом и парадигматическом) смысловое и эмоциональное напряжение художественного текста. К примеру, противопоставление в качестве образной парадигмы образует одна и та же лингвокультурема антоновские яблоки в контексте тех предложений, членами которых она является: предложение из первой части рассказа: «Помню... запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести» – предложение из четвертой части рассказа: «Запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб». Лингвокультурема антоновские яблоки в целом в контексте данного произведения является символом русской деревни, воплощая собой движение и обновление, красоту и величие, своеобразие и самобытность бытия русской деревни. Также две парадигмы текстовых кулинарных лингвокультурем: а) горячая баранина – ситник – сотовый мед-брага и б) «дули» – вареная ветчина с горошком – фаршированная курица – 410 индюшка – маринады – красный квас – антоновка из двух соседствующих микрополей («Старосветское благополучие» и «Старинная усадьба»), взаимодействуя друг с другом уже в рамках ТЛКП, также могут быть противопоставлены в качестве образной парадигмы, так как первая парадигма «описывает» стол в богатом мужицком доме, другая – стол в среднем дворянском доме. Достаточная часть лингвокультурем рассматриваемого ТЛКП на сегодня входит в пассивный состав современного русского литературного языка, к ним необходимо подходить с точки зрения исторического измерения. Тематически и структурно состав текстовых лингвокультурем, представленных в описываемом ТЛКП, продуцирует собой широкий и разнообразный спектр: 1) названия природных явлений, отрезков времени: бабье лето, зазимок; 2) названия лиц: мещанин, мужик, девка-однодворка, барские, барчук, батюшка, подавальщик, поп, форейтор, дворня; 3) названия еды: кулеш, ситник, брага, антоновские яблоки, «бель-барыня», «боровинка», «плодовитка» (сорта яблок), красный квас; 4) названия одежды: понева, чуньки, рубаха с канифасовыми косяками, поддевка, рогожа; 5) названия строений: избы в две-три связи, пунька, людская, лакейская, земляная печка, по-черному дымятся избы; 6) названия лошадей: верховой «киргиз», тройка, донец, жеребец-битюг; 7) метрологические названия: аршин, верста, десятина; 8) религиозные названия: престольные праздники, Петровки, благовест, обедня, требник, образничка; 9) общественно-исторические названия: крепостное право, ярмарка, старосветское благополучие, приказ общественного призрения, екатерининская старина; 10) онимы (имена известных людей, литературных героев): Жуковский, Батюшков, Пушкин, Вольтер, Эразм (Роттердамский), Людмила и Алина; 11) факты народного словесно-художественного творчества: много тенетника на бабье лето – осень ядреная; ядреная антоновка – к веселому году (пословицы – народные приметы); 12) факты народной художественной культуры: отрывки из песен (см. выше) и др. Данный перечень лингвокультурем интересен тем, что культурологическая наполняемость у них, несмотря на тематическую неоднородность, одного исторического порядка: принадлежность к духовной и материальной культуре русской деревни середины и второй половины ХIХ века. По окончании работы над данным ХТ лингвокультурологический словарь студентов-филологов значительно пополнился. Таким образом, конкретное ТЛКП, развернутое в рассказе И. Бунина «Антоновские яблоки» с именем-идеей «Вневременное 411 и самобытное в укладе русской деревни», является конкретной реализацией инвариантного обобщенного ЛКП «Русская национальная личность» и транслирует лингвокультурологическую картину мира русской национальной личности, представляющей конкретный исторический период в жизни данного культурнонационального социума. То есть данное ТЛКП продуцирует систему национально-культурных ценностей, смыслов и артефактов, присущих жителю русской деревни именно этого исторического отрезка времени, поэтому указанное текстовое лингвокультурологическое поле необходимо рассматривать в историческом измерении. Как показывает практика преподавания, такой лингвокультурологический анализ художественного текста, когда используется метод текстового лингвокультурологического поля (подобный описанному выше), чрезвычайно продуктивен и эффективен в рамках преподавания русского языка как неродного, и в этом случае ХТ обладает большими методическими возможностями. Помимо этого, использование текстового лингвокультурологического поля в качестве метода языкового обучения на занятиях по русскому языку как неродному для будущих учителей русского языка и литературы в казахской школе позволяет успешно решать вопросы не только собственно лингвометодического, но и познавательно-гуманитарного характера; воспитывать толерантность в отношении представителей других культур, преодолевать ксенофобию, существующие стереотипы; через диалог культур, понимание чужого, обучение пониманию чужого решать проблемы, которые волнуют современное общество. Литература Бердичевский А.Л. Современные тенденции в обучении иностранному языку в Европе // Русский язык за рубежом. – 2002. – № 2. – С. 60–65. Воробьев В.В. Лингвокультурология (теория и методы). – М., 2008. Диброва Е.И. Культура осмысления художественного текста // Язык и культура. Вторая международная конференция «Язык и культура»: Доклады / Сост. С.Б. Бураго. – К., 1994. – Ч. I. – С. 159–166. Новиков Л.А. Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого. – М., 1990. Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. – М.–Л., 1948–1965. 412 Квон Сун Ман (Республика Корея, Сеул; к.п.н.) [email protected] Реклама как атрибут и как средство межкультурного диалога В современном мире, учитывая интеграцию мирового экономического, культурного, образовательного пространства, реклама является одним из самых подвижных, динамичных, открытых, распространенных средств информационного обмена. Это обусловлено не только повсеместным распространением товаров и услуг, производимых в одной стране, по всей планете, не только деятельностью межнациональных корпораций производителей товаров и услуг, но в значительной степени и универсальностью способов воздействия на потребителей. Рекламные тексты, безусловно, отражают и аккумулируют в себе особенности национальных культур и языков тех стран и регионов, в которых они распространяются. Но вместе с тем в них присутствует значительный потенциал универсальности, межкультурного взаимодействия. Для целей использования рекламных текстов при обучении русскому языку иностранных учащихся межкультурный потенциал, на котором мы предполагаем остановиться в данном разделе, играет существенную роль, так как он является наиболее прямым путем установления информационного контакта между содержанием учебного предмета и учащимися, для которых в предлагаемом средстве обучения будет обнаружено нечто из того, что соответствует их доучебному опыту. Первое основание характеристики рекламных текстов как единиц межкультурного диалога заключается в самих рекламируемых товарах и услугах. Некоторые из них имеют глобальную распространенность, которая часто передается в наименованиях товарных знаков. Как правило, презентация таких товаров даже не предусматривает их перевода на русский язык. Например: 413 Ariel color de luxe сохраняет цвета, а не пятна (стиральный порошок); Arko. Настояшему мужчине все по плечу (пена для бритья); Audi A6. Демонстрация индивидуальности; BergHOFF – если в сердце живет люБOFF (подарки со скидками, металлическая посуда); BMW – это качество на всю жизнь; Coca-Cola. Вместе вкуснее; Cooper – шины для любых дорог и погодных условий; Fanta – вливайся; Florena... и моя кожа нежнее шелка; Kodak. Вы нажимаете кнопку – мы делаем все остальное; Lingvo 11. Англо-русско-английский словарь. Электронный. Вначале был словарь; L’Oreal. Откройте метаморфозы; Moulinex. Надо жить играючи!; Nivea. Семейные радости; Orbit – сладкая мята. Самая вкусная защита от кариеса; Pantene Pro-V. Прекрасная прическа и здоровый вид волос; Rexona. Никогда не подведет; Rondo сближает. Экспансия товарных знаков, воспроизводимых на языке производителя, настолько велика, что как бы к ней ни относились в других странах, она постепенно приводит к тому, что даже люди, не владеющие этими языками, распознают, идентифицируют и адекватно реагируют на рекламные тексты, не испытывая особенных затруднений при их восприятии. Вторая особенность, которая была отмечена специалистами, создающими рекламу, заключается в ориентации на универсальные, общечеловеческие ценности и мотивы, эксплицитно или имплицитно присутствующие в подавляющем большинстве рекламных текстов. А.М. Пономарева в своем исследовании скрупулезно подсчитала ценностные и мотивационные приоритеты современной рекламы. При этом она определяет анализируемые понятия таким образом: «Мотив – это причина, представленная в слогане, которая может вызвать нужные действия потребителя; ценность – это нечто (понятие, явление, предмет), безусловно, положительно оцениваемое целевой аудиторией слогана» [Пономарева 2005, с. 160]. Убедительный анализ позволил исследователю сделать вывод о том, что к числу наиболее частотных ценностей, к которым апеллирует современная реклама, относятся такие утилитар414 ные, социальные ценности, как: качество (товара, услуги), здоровье, удобство, красота, жизнь, удовольствие, авторитетность, забота и помощь, безопасность, исключительность, новизна, прогресс, индивидуальность и оригинальность, надежность, лидерство, профессионализм, самосовершенствование. К числу наиболее популярных побудительных мотивов, представленных в слоганах, относятся такие, как забота (в том числе о здоровье), вкус, желание пользоваться новым, результатами прогресса, положительные эмоции, наслаждение, удовольствие, стремление к красоте, экономия времени, сил, денег, удобство, надежность, безопасность, престиж, аффилиация, расширение возможностей, самоутверждение. Названные смысловые компоненты рекламного текста относятся к сфере межкультурных универсалий. И в этом своем качестве они представляют интерес как для установления диалога культур, так и для обучения русскому языку иностранцев. Это могло бы стать темой отдельного исследования. Мы же в нашей диссертации только констатируем вслед за исследователем значимый для практики преподавания РКИ факт. Третья характеристика выведена нами самостоятельно на основе анализа собранной нами базы данных (более тысячи единиц печатных рекламных текстов). В свое время В.Г. Костомаров и Н.Д. Бурвикова в уже процитированной выше работе подметили: «В разное время источниками прецедентных высказываний становились то песни, то былины, то сказки, то религиозные произведения латинских авторов, то актуальные художественные произведения, а теперь фильмы, спектакли, реклама. Ведь культурная память разных народов содержит различный набор таких высказываний, хотя, несомненно, имеются высказывания «общечеловеческого достоинства» ([Костомаров, Бурвикова 1994, с. 76]; подчеркнуто нами. – К.С.М.). Среди культурно-исторически ориентированных текстов мы обнаружили категорию реклам, апеллирующих к переводным текстам, т.е. к прецедентным феноменам, принадлежащим по происхождению другим культурам. Будучи освоенными русской культурой, введенными в русский культурный обиход, усвоенными носителями русского языка и культуры, эти тексты распознаются и идентифицируются не хуже собственно русских. Этот факт позволяет ориентироваться на них как на явления межкультурного порядка. Возможно, это свидетельство открытости русской культуры к инокультурным заимствованиям. Во всяком случае, для уроков РКИ это явление служит хорошим аргументом в пользу привлечения анализируемых текстов в число учебных материалов. Ведь эти тексты могут быть известны учащимся еще до 415 начала изучения русского языка по своему предыдущему читательскому опыту: Плодите и размножайте! (ксероксы) / к библейскому тексту: «И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле» (Библия, книга Бытия, 1, 22); Свет вашему дому! Магазин «Светильники». Да будет свет! / восходит к пожеланию «Мир Вашему дому» и к библейскому тексту «Да будет свет» (Библия, книга Бытия, 1, 3). Приводившиеся выше многочисленные варианты использования латинского изречения «veni-vidi-vici»: Пришел, увидел, позвонил. Магазин удивительных вещей LEFUTUR; Пришел, увидел и купил. Мир кожи в Сокольниках и др. (см. раздел 1.2.2.); Мы в ответе за тех, кого подключаем (интернет-провайдер) / слова Лиса из книги А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»: «Мы в ответе за тех, кого приручаем»; Легче проникнуть в Зазеркалье. Дверь по прозвищу зверь (фирма по изготовлению металлических дверей) / «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролла; 7.40 (кафе еврейской кухни в Екатеринбурге) / название еврейского танца; Дионис (ресторан в Екатеринбурге) / греческий бог виноделия; Цербер (охранное агентство) / по имени пса, охраняющего вход в Аид, античная мифология. Интересной показалась нам апелляция даже не к конкретным переводным текстам, а к популярному в России жанру японской поэзии. Рекламные тексты выполнены в стиле японских стихов хокку: Роман со вкусом. Идея цвета вишни И глоток вина ...Играя чувствами Vogue. Слушая воду. Звуки уносит ветер – Музыка моря ...Играя чувствами Vogue. Теплые камни Прибой ласкает нежно. Прикосновенье ...Играя чувствами Vogue. Чувствую Париж В сладком аромате грез. Лилии бутон ...Играя чувствами Vogue. 416 Очевидно, что, в соответствии с современными эстетическими вкусами, такая стилизация обнаруживает ориентацию на определенного адресата, обладающего утонченными эстетическими предпочтениями, ценящего красоту, изящество, т.е. все, что ассоциируется в сознании современного русского человека с традиционным японским искусством. Строго говоря, невозможно утверждать, что мотивационноценностные комплексы в разных культурах полностью совпадают. И в этом смысле нельзя не согласиться с А.С. Мамонтовым, который утверждает: «Именно несовпадение “языковых картин мира” и наличие специфических особенностей сопоставляемых культур и является основным препятствием в достижении адекватного взаимопонимания между участниками любого коммуникативного акта, в том числе и рекламного» [Мамонтов 2002, с. 84]. И далее, размышляя над результатами исследований американских ученых, посвященных изучению влияния тех или иных ценностей на поведение человека в сфере рекламы и маркетинга внутри одной страны и при контакте двух различных национальных культур, А.С. Мамонтов подчеркивает: «Система культурных ценностей, характеризующих определенную национальную культуру, оказывает влияние на поведение покупателей при выборе и покупке какого-либо товара. <...> Анализируя особенности взаимоотношения людей в рамках единой лингвокультурной общности, американские антропологи выделяют две группы стран, ориентированных на индивидуализм или коллективизм. В индивидуалистических культурах в отличие от коллективистских, по мнению американских антропологов, члены общества обладают определенной независимостью. К индивидуалистическим культурам относятся: Великобритания, США, Австрия, Канада, Нидерланды, Италия и ряд других, к коллективистским – Россия, страны СНГ, Перу, Чили, Тайвань, Китай и др.» [Там же, с. 89]. Не возражая против сделанных выводов по существу, мы думаем, что, учитывая разницу в системе ценностей и мотивов в разных культурах, вместе с тем не следует эту разницу преувеличивать. Во-первых, потому что в современном мире интеграционные процессы, влияющие на массовое сознание в разных странах и динамика этого сознания настолько велики, что изменения в сторону универсализации и глобализации неизбежны и на самом деле происходят. Во-вторых, для целей установления межкультурного диалога (в том числе и при изучении русского языка как иностранного) можно в учебных целях сосредоточить свое внимание на тех мотивах и ценностях (и соответственно рекламных текстах, которые воплощают эти мотивы и ценности), которые 417 относятся к числу универсальных, общих для разных культур. И тогда межкультурный барьер окажется если и не преодоленным, то вполне прозрачным, и не послужит серьезным препятствием для установления межкультурного контакта. «В настоящее время, – утверждает Т.В. Каинова, – социальный и культурный мир все больше характеризуется размытостью границ, все более актуальным становится понятие “global village”. Межкультурное пространство представляет собой продукт человеческого воображения, в котором сообщения, дискурсы и смыслы различного происхождения изучаются, сопоставляются и сортируются <...> Несмотря на свою географическую локализацию, реклама передает нечто общее для всех людей, позволяя им интерпретировать ее тем или иным образом, генерируя смыслы. Общность опыта представляет собой совокупность полисемических символов, которая успешно используется людьми, остающимися представителями какой-либо одной культуры, в самых разнообразных жизненных ситуациях. <...> Транснациональная реклама заменяет культурные модели, обычаи и традиции общества на глобальные, свойственные в той или иной степени “всему человечеству” <...>» [Каинова 2002, с. 10]. Таким образом, наши наблюдения и результаты специально проведенных в рамках различных научных дисциплин исследований, показывают, что реклама, активно функционируя в современном информационном пространстве, реально включается в межкультурный диалог. Литература Каинова Т.В. Дискурсивно-семиотический подход к адаптации трансцаницональной рекламы: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Тверь, 2002. Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. Как тексты становятся прецедентными // Русский язык за рубежом. – 1994. – № 1. – С. 73–77. Мамонтов А.С. Кросс-культурный анализ (лингвострановедение в сфере рекламы). – М., 2002. Пономарева А.М. Репрезентация целевой аудитории рекламы в слоганах // Гуманитарное пространство современной культуры. – Ростов н/Д, 2005. – Ч. II. – С. 156–171. 418 Кудинова Елена Владиславовна (Россия, Москва; м.н.с. отдела культуроведения в обучении РКИ Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] Явление прецедентности в контексте постмодернистской философии Обо всем уже сказано. К счастью, не обо всем подумано. Станислав Ежи Лец Термин «постмодернизм» впервые появляется в работе философа Р. Панвица «Кризис европейской культуры» (1914), позже – в книге «Антология испанской и латиноамериканской поэзии» у литературоведа Ф. де Ониса (1934), который применяет его для обозначения реакции на модернизм. В 1947 году Арнольд Тойнби в книге «Постижение истории» придает термину «постмодернизм» культурологический смысл. Классическим текстом, положившим начало постмодернизму, признана статья Лесли Фидлера «Пересекайте границы, засыпайте рвы», опубликованная в декабре 1969 г. в журнале «Плейбой». Публикация в этом издании стала демонстрацией авторского призыва, заявленного в названии статьи: стереть границы между массовым и элитарным, между высоким и низким. Широко распространившись в Европе и Америке к середине 70-х гг. XX века как культурная ориентация, уже к началу 1980-х гг. постмодернизм занимает ведущее место в филоcофии и теории культуры, а со временем становится определяющим фактором общественной жизни («Ф. Джеймиссон и Ж.Ф. Лиотар назвали условия современной жизни постмодернистскими» [Орлова 2004, с. 239]. Основные признаки постмодернизма сложились на основе ряда работ теоретиков постмодернизма (Дж. Барт, Ж. Делез, Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко, У. Эко и др.), в часности русского (М.Н. Эпштейн, Н.Л. Лейдерман, М.Н. Липовецкий, 419 М.Н. Золотоносов, С.И. Чупринин, И.П. Ильин, В.Н. Курицын, А.К. Якимович). Теоретик русского постмодернизма В.Н. Курицын отмечает: «Корректнее говорить не о «постмодернизме», а о «ситуации постмодернизма», которая так или иначе отыгрывается-отражается в самых разных областях человеческой жестикуляции. В лингвистике (постструктурализм), в философии (деконструктивизм), в изобразительном искусстве (концептуализм), в литературе и кинематографе, в религии, в экономике (своего рода приоритет рекламы над товаром: важнее производство не товара, а спроса на товар)» [Курицын]. В 1971 году определение и классификацию основных категорий постмодернизма предложил американский ученый Ихаб Хассан, который, объединив характеристики из различных отраслей научного знания (логики, философии, культурологии, литературоведения, теологии и др.), сравнил постмодернизм с модернизмом и таким образом очертил более четко круг основополагающих категорий постмодерна. Отметим, что попытки категоризации постмодернистской философии носят дискуссионный характер. Основной и главной характеристикой постмодернизма является его динамичность и изменяемость, поэтому можно считать, что любое явление, структурированное и описанное с позиции его характерных признаков или категорий теряет свою «постмодернистичность», так как постмодернистское явление нестатично, некатегориально и неструктурировано (Дж. Барт, Ж. Деррида, В.Н. Курицын и др.). Правоту этой точки зрения подтверждает многообразие встречающихся определений и разнообразие предлагаемых критериев постмодернизма. Нас в первую очередь интересуют признаки постмодернизма, коррелирующие с явлением прецедентности, к которым, как представляется, относятся: 1) интертекстуальность; 2) пародирование (иногда самопародия), ироничность, ироническое переосмысление элементов культуры прошлого; 3) прием игры; 4) «смерть автора», прием «двойного кодирования», явление «авторской маски». Перечисленные характеристики постмодернизма интересны нам по нескольким причинам. Во-первых, мышлению современного человека, его ценностной системе и результатам его деятельности присущи черты постмодернистской философии. 420 Во-вторых, данные признаки касаются текста, который мыслится учеными-основоположниками философии постмодернизма как универсальное понятие, а предметом нашего исследования являются прецедентные феномены, то есть именно тексты в широком понимании этого термина. В-третьих, главным механизмом творчества становится создание новых комбинаций из бесконечного числа аллюзий и реминисценций на уже существующие факты культуры, многие из которых прецедентны («Пушкинский дом» А. Битова, «Страшный суд» Вик. Ерофеева, «Непорочное зачатие» М. Волохова, кинофильмы – «Палата № 6» К. Шахназарова по одноименному произведению А.П. Чехова и «Морфий» А. Балабанова по мотивам рассказов М.А. Булгакова и др.). Рассмотрим каждый из перечисленных выше признаков постмодернизма относительно избранного нами предмета исследования. 1. Интертекстуальность Этот термин был предложен Ю. Кристевой в 1967 г. для обозначения общего свойства текстов, которое выражается в существующих тесных связях между ними, благодаря которым тексты или их отдельные части могут различными способами ссылаться друг на друга. Таким образом, мир предстает как огромный текст, в котором все когда-то уже было сказано и изображено, а новое возможно только благодаря смешению определенных элементов в новые комбинации. Опираясь на работу М.М. Бахтина «Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве» (1924) в разработке теории интертекстуальности, Ю. Кристева перенесла проблему диалога в сферу непосредственно текста, говоря о взаимодействии различных текстовых произведений [Словарь терминов постмодернизма, с. 101]. Ведущим методом постмодернистской поэтики является цитатность. Создание из уже существующего материала новых смыслов и новых поводов для размышления / удивления / негодования читателя – основная задача автора-постмодерниста. Интертекстуальные и внутритекстовые связи наиболее многообразно представлены в жанре постмодернистского романа (В.О. Пелевин, В.Г. Сорокин и др.). Например, в романе В.О. Пелевина «Generation “П”» исследователи насчитывают большое количество прецедентных феноменов, связанных с различными пластами культуры: 1) литература и фольклор – 73 единицы; 2) кинематограф – 33; 3) мифология – 43 [Попова 2012]. В качестве примера также можно привести серию детективов Б. Акунина, 421 где на уровне действующих лиц и сюжета очевидно родство с произведениями русской классической литературы: Лизонька и Эраст из «Азазели» (Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»), штабскапитан Рыбников из «Алмазной колесницы» (А.И. Куприн «Штабс-капитан Рыбников»), колорит Хитровки и Сухаревки из «Любовника смерти» (В.А. Гиляровский «Москва и москвичи»). Интертекстуальные связи, устанавливаются не только посредством точных и видоизмененных цитат, но и через использование прецедентных феноменов. Показательно, что основной функцией прецедентных феноменов является именно смыслопорождающая, поскольку, по мнению некоторых исследователей, эти единицы используются для достижения единственной цели – создания нового смысла [Аникина 2004]. Составление самобытного произведения из уже существующих цитат (а также клише, штампов) актуально не только для языковых произведений, но и для изобразительного искусства. В 1970-х годах в СССР в рамках альтернативной культуры сложилось одно из направлений постмодернистского искусства – соц-арт, – которое органично влившись в современную действительность, сохранило свою жизнеспособность и после распада советской государственной идеологии, которой оно противостояло. Соц-арт, получивший свое название в результате иронического переосмысления понятий «соцреализм» и «поп-арт», стал пародией на официальное советское искусство и образы современной массовой культуры в целом. Главным инструментом творчества художников соц-арта (к которым в разное время принадлежали Виталий Комар, Александр Меламид, Александр Косолапов, Леонид Соков, Дмитрий Пригов, Борис Орлов и др.) стали клише, символы, образы советского искусства и расхожие мотивы советской политической агитации, а также ирония, гротеск, свободное цитирование и использование самых неожиданных форм воплощения (от живописи до пространственных композиций). Таким образом, художники соц-арта перенесли прецедентные тексты и прецедентные визуальные феномены в художествнное пространство изобразительного искусства. Соц-арт, находясь в тесной взаимосвязи с другими постмодернистскими течениями в изобразительном искусстве, тесно взаимодействовал с концептуализмом и имеет множество отголосков в современном искусстве, которое, в свою очередь, продолжает развиваться в духе концептуализма и активно использует прецедентные феномены как творческий инструмент. 422 2. Пародирование (иногда самопародия), ироничность, ироническое переосмысление элементов культуры прошлого Характеризуя скептический, иронический, переходящий в горькую сатиру пафос постмодернизма, литературовед М.Н. Липовецкий аппелирует к философии Петера Слотердайка и его теории «цинического сознания», называя постмодернизм «одним из ответов на катастрофическую травму истории прошлого века» [Липовецкий 2010. Разочарование в существующей реальности, невозможность ее изменить, вера в общество и человеческий разум, подорванная Второй мировой войной и фашистской идеологией в начале ХХ века, по мнению исследователей, обусловили беспощадно сатирический, доходящий до абсурдного цинизма дух постмодернистской культуры. Пародирование, граничащее с жестокой насмешкой и порой даже оскорблением, актуально для постмодернистских произведений на разных уровнях: на уровне сюжета, текста, высказывания и др. Среди произведений В. Сорокина встречаем рассказы «Сердца четырех» (пародия на одноименный фильм К.К. Юдина 1941 г.), «Роман» (пародию на классические тексты И.С. Тургенева). В романе «Голубое сало» встречаются герои: Толстой – 4, Чехов – 3, Набоков – 7, Пастернак – 1, Достоевский – 2 и Платонов – 3, по выражению М.Н. Липовецкого, «безжалостно деконструированы»; здесь же присутствуют Ахматова (ААА) и Мандельштам, изображенные в романе как любимые вождями отвратительные юродивые, а также «наследник» Иосиф, произносящий фразы из будущих стихов [Липовецкий 1999]. Инструментом для создания пародийного пафоса в аторском тексте выступают прецедентные феномены: тексты, имена, высказывания. Приведем несколько примеров. 1. «ААА прошла министерство Речного флота, свернула на Неглинную, дошла до Столешникова, поднялась по нему и оказалась на улице Горького. <...> На Пушкинской площади молодая дама в каракулевой шубе и шапке с песцовой оторочкой побежала за ней: – Благослови, непричастная! ААА серьезно плюнула ей в лицо. – Без «Реквиема» твоего спать не ложусь! – радостно растерла дама плевок по лицу» (В.Г. Сорокин. «Голубое сало»). Текст отсылает нас к прецедентной ситуации и прецедентному тексту А.А. Ахматовой, а именно к автоэпиграфу к поэме «Реквием». Несмотря на специально созданный Сорокиным резкий контраст в изображении жещины «в каракулевой шубе и шапке с песцовой оторочкой» с той, которая обратилась к Ахматовой в толпе людей у Крестов (у которой «что-то вроде улыбки 423 скользнуло по тому, что некогда было ее лицом»), первоисточник легко узнаваем читателем по отдельным фрагментам прецедентной ситуации (встреча с женщиной, лицо). Кроме того, автор прямо упоминает название поэмы. 2. «– Будить динозавра... – пробормотал Иосиф и пнул кусок льда. Лед отлетел на проезжую часть набережной. Иосиф побежал. – Будить динозавра... будить динозавра... – бормотал он, шмыгая носом. <...> Он остановился только наверху Воробьевых гор. За его спиной возвышалась громада МГУ, а перед ним простиралась Москва. – Пила свое вино... – задыхаясь, пробормотал он и прижал пылающую щеку к гранитному парапету смотровой площадки. <...> – Готовя дно... – прошептал Иосиф в гранит...» (В.Г. Сорокин. «Голубое сало»). Едкая узнаваемая карикатура на И. Бродского создается при помощи цитат из известных произведений поэта: стихотворений «Конец прекрасной эпохи» (1969) и «Второе Рождество на берегу незамерзающего Понта» (1971). Еще один пример из статьи А. Гениса «Бродский в НьюЙорке». Описывая Петербург, в котором вырос поэт, противоречивую сущность этого города, полного контрастов, критик иронично описывает атмосферу, которой был окружен И. Бродский в юности: «В их домах с обильной лепниной и многочисленными соседями не хватало многого необходимого, зато было и много лишнего. За убожество интерьера с лихвой расплачивалось окно, из которого можно было выглянуть не только в Европу, но и в ее прошлое» [Генис 1997]. 3. Прием игры Игра с текстом прочно вошла в современную действительность. Например, современную журналистику называют прецедентной (В.С. Елистратов, Э.Н. Шумская). Основанием к тому служит очевидная тенденция использования прецедентных феноменов в публицистических материалах периодических изданий, а также эксперименты по обыгрыванию фразеологизмов, паремий и прецедентных высказываний в газетных и журнальных заголовках.. Н.Д. Бурвикова и В.Г. Костомаров в книге «Старые мехи и молодое вино» говорят о карнавализации языка, который отражает процессы, происходящие в обществе. «Карнавализация очевидна в сфере политики, охватывая публицистические, вообще массмедийные тексты. Но ряженые захватывают в той или иной мере весь дискурс сегодняшего общества. Карнавальные маски нетрудно обнаружить даже в научных сочинениях» [Костомаров, 424 Бурвикова 2006, с. 13]. В рамки «языкового карнавала» органично вписываются и прецедентные феномены, которые зачастую и являются «карнавальной маской», за которой скрыт ряд новых смыслов. Наряду с карнавалом в языке, на арену в изобразительном искусстве выходят травестия и бурлеск, продолжая тенденцию игрового переосмысления реальности, абсурдного сочетания несочетаемого. В этом отношении интересна деятельность художника В. Мамышева (известного также под псевдонимом Мамышев-Монро), который одним из первых перешел из традиционной жанровой системы в постмодернистскую, работая в жанре перформанса, представил зрителю работы, героем которых стал он сам, перевоплотившийся в деятелей мировой и отечественной культуры и политики: В.И. Ленина, Элизабет Тейлор, Адольфа Гитлера, Чарли Чаплина, Мерилин Монро, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, С.А. Есенина и др. Очевидно, что главным в таком искусстве является вовсе не сходство с оригиналом, а апелляция к атрибутам прецедентного имени, а также к той среде и эпохе, к тому культурно-историческому контексту, к которому принадлежит пародируемый персонаж. К творческим находкам этого художника относится также работа с прецедентными явлениями отечественного кинематографа: в 2006 г. вышел фильм П. Лабазова и А. Сильвестрова «Волга-Волга», полностью сохранивший версию фильма 30-х годов Г. Александрова за тем исключением, что главную роль, перевоплотившись в Любовь Орлову, играет В. Мамышев-Монро. 4. «Смерть автора», прием «двойного кодирования», явление «авторской маски» Благодаря переосмыслению уже существующих фактов культуры художественный текст меняет свою сущность, он уже не представляет собой целостное, завершенное авторское произведение, а напротив, представляется процессом порождения бесчисленного количества новых смыслов, многолинейным и принципиально «вторичным» произведением, не имеющим автора в привычном для нас смысле. Личность автора (каждый читатель становится соавтором) и созидательная составляющая творчества уходят в тень, вся множественность значений и сущностей текста фокусируется в читателе. «Читатель это то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает единство не в происхождении своем, а в предназначении, только 425 предназначение это не личный адрес; читатель – это человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст» [Курицын]. Таким образом, функция читателя становится неизмеримо выше функции писателя по отношению к сохранению текста. Писатель жив и активен лишь в момент создания текста, в момент повествования (эту идею витальности разрабатывал М. Фуко, приводя пример с Шехерезадой из арабской сказки, которая жива лишь пока говорит, но когда она замолчит, ее казнят). В результате разрушения традиционной системы координат и, как следствия, смешения и взаимодействия разных дискурсов, пересечения разнородных отдельных систем, складывается ситуация, в которой сталкиваются несколько культурных кодов, принадлежащих разным системам, и личность (как героя художественного произведения, так и автора), стоящая на стыке двух различных систем, двух миров, становится носителем двойного культурного кода. Возникает понятие так называемого двойного субъекта. Так, например, герой поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки» является ярчайшим примером такого «пограничного субъкта»: он пытается объединить в себе Есенина, Иисуса Христа, гражданина советской эпохи и др. Герой романа Саши Соколова «Школа Дураков» время от времени делится пополам, также стоя на стыке различных культурных кодов. Двойственность кодов, демонстрируемых в постмодернизме, связана также с тем, что, как уже говорилось ранее, постмодернизм призван был стереть грани между массовым и элитарным, следовательно, постмодернистское произведение обращено к потребителям двух типов: к элитарному и к массовому. Здесь важно обозначить принципиально отличие сущности прецедентов: согласно определению прецедентных текстов, данному еще Ю.Н. Карауловым, такие тексты известны всем представителям лингвокультурного сообщества, то есть более адресованы массе, чем элите. Принимая во внимание все сказанное выше, можно предположить, что стремительное внедрение прецедентности в различные сферы жизни человека (реклама, научные и публицистические тексты, масс-медиа и др.) связано с переходом культуры и общества в период постмодернизма. Наше время философы назвали эпохой постмодернизма, так как постмодернизм, выйдя за рамки культурологии и литературоведения, где он функционирует как художественный метод, занял все культурное и социальное пространство современного человека. Прецедентность органично 426 вписывается в философию постмодернизма, которая, в свою очередь, является определяющей для современного общества. В постмодернистской системе координат прецедентные феномены становятся не только отражением очевидных процессов и перемен в сознании общества, но также и неотъемлемым атрибутом и незаменимым инструментом организации постмодернистского пространства. Литература Аникина Э.М. Лингвокультурная специфика реализации интертекстуальности в дискурсе СМИ (на материале англо-американской прессы): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Уфа, 2004. Генис А. Бродский в Нью-Йорке // Иностранная литература. – 1997. – № 5. Электронный ресурс: http://magazines.russ.ru/inostran/1997/5/genispr.html. Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. Старые мехи, молодое вино. – СПб., 2006. Курицын В. Русский литературный постмодернизм // Электронный ресурс: http://www.guelman.ru/slava/postmod. Липовецкий М.Н. Голубое сало поколения, или Два мифа об одном кризисе // Знамя. – 1999. – № 11. Электронный ресурс: http://magazines.russ.ru/ znamia/1999/11/lipovec.html. Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология. – М., 2004. Попова Е.Ю. Прецедентные феномены в современном художественном дискурсе (на материале романов В. Пелевина «Generation “П”» и «Числа»): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Саратов, 2012. Словарь терминов постмодернизма // Электронный ресурс: http:// www.pandia.ru/129010/ 427 Кушнир Ольга Николаевна (Россия, Сыктывкар; к.ф.н., зав. кафедрой документоведения, архивоведения и прикладной лингвистики Коми республиканской академии государственной службы и управления) [email protected] Прикладные задачи лингвоконцептологии в контексте разработки компетентностноориентированных образовательных программ Прикладная лингвоконцептология – новая междисциплинарная область филологического знания и практики, продолжающая традиции прикладной лингвистики на обновленной методологической базе, связанной с понятием «прикладная филология» и одноименным образовательным профилем студентов-филологов [Примерная основная образовательная программа], который предусматривает подготовку выпускников для работы в области коммуникации, рекламы, связей с общественностью, издательской деятельности, в СМИ, в учреждениях культуры и управления, обеспечивает приобретение профессиональных навыков многоаспектной работы с различными типами текстов (создание, интерпретация, экспертиза, трансформация, распространение художественных, публицистических, официально-деловых, научных и т.п. текстов) и осуществления языковой, межличностной и межнациональной письменной и устной коммуникации. Помимо давних «традиционных» областей прикладной филологии (журналистика, преподавание, теория и практика перевода) в последние годы появились или обрели новое содержание такие основывающиеся на практическом приложении, в том числе филологического знания, направления подготовки (специальности) высшего профессионального образования, как реклама, связи с общественностью, издательское и книжное дело, международные отношения, библиография и автоматизированные информационные ресурсы, межкультурная коммуникация и многие другие. Все 428 большее значение приобретает филологическая составляющая в самых разных областях знания и практической деятельности: например, в политике и праве, в военном деле и экономике, в психологии и медицине. Прикладная ценность лингвоконцептологии также обусловлена необходимостью ясной методологии интерпретации огромного массива данных, накопленных в гуманитаристике. По справедливому замечанию Л. Уайта, американского этнолога и культуролога, «скудность собранных социальной наукой данных объясняется не отсутствием лабораторий, но незнанием того, как пользоваться находящимися в распоряжении ресурсами» [Уайт 2004, с. 257]. Концепты – «невидимое тело» народа, которое находит выражение в его языке и потому оказывается доступным изучению. Разрушение концептосферы как «невидимого» духовного тела неизбежно ведет и к физической гибели народа. Прикладная филология – пока не устоявшийся в филологической науке термин (поэтому в кавычках), отражающий новое понимание возможностей филологии для решения социальнопсихологических, а наряду с ними – управленческих, политических, экологических, медицинских и иных проблем. Поскольку филология как область знания складывается из двух фундаментальных наук – языкознания и литературоведения, которые в последние годы, ветвясь на множество отдельных дисциплин, соприкасаются все более тесно, то целесообразно говорить о прикладной лингвистике и о «прикладном литературоведении», а затем и в целом о прикладной филологии. Прикладная лингвистика – разветвленная междисциплинарная наука, цель которой – разработать методы решения практических задач, связанных с оптимизацией использования языка как средства мышления и общения, хранения, переработки и передачи информации (см., например: [Андрющенко 1998, с. 397]). Специфика прикладной лингвистики четко выявляется на фоне двух других глобальных исследовательских парадигм – теоретической и описательной, ср.: «Все три приводят к получению знаний об одном и том же объекте (языковых системах и процессах), но создаваемые при этом модели имеют различный статус. Теоретическое моделирование направлено на объяснение языковых систем и процессов, описательное – на их конкретное описание, прикладное – на их совершенствование» [Городецкий 1983, с. 5]. Важно, что это «совершенствование» призвано способствовать решению конкретно-практических задач в самых различных областях человеческой деятельности, поскольку ни одна из них не обходится без использования естественного языка. 429 Прикладное литературоведение решает две основные задачи: 1) управление формирующимся сознанием подрастающего поколения на основе нравственно и идеологически выверенной интерпретации тех канонизированных в педагогической практике произведений художественной литературы, которые вошли в программы различных учебных заведений, прежде всего в программы школьные; 2) влияние на общественное и индивидуальное сознание через культурно-просветительскую работу среди населения (прежде всего через книгоиздательское дело, библиотечноинформационную деятельность, в том числе в сети Интернет). Осмысление социальной востребованности и конкретнопрактических возможностей прикладной филологии в ее цельности – науки и лингвистической, и литературоведческой (в необходимой связи с другими гуманитарными дисциплинами, что особенно характерно для лингвокультурологии и лингвоконцептологии как ее центральной части) необходимо как с теоретической, так и с практической точек зрения. Заметим, что применительно к задачам общеобразовательной школы эта задача подробно рассмотрена в совместной работе Зарифьян, Рождественского, Щербакова [1987]. С точки зрения социальной экологии, филологическая составляющая среды человеческого существования вызывает все большую озабоченность уже в силу того, что язык, речь и тексты, выступая в роли универсальных информационных «скреп», обеспечивают связность всех элементов человеческого Космоса – социального, экономического, религиозного и иного. И если в этих скрепах появляются «вирусы», если язык как важнейшее средство информационного взаимодействия начинает использоваться в узкокорыстных, эгоистических целях, не как средство взаимодействия, но как средство только воздействия (манипулирования, подчинения или прямого диктата), то необходим «антивирусник», функции которого может и должно выполнять лингвокультурологическое знание о концептосфере русского языка и ее динамике. По мысли Д.С. Лихачева, нравственное здоровье неотделимо от активного бытования слов, вербализующих ключевые концепты культуры (см., например: [Лихачев 1996, с. 5]). Процесс возрождения, ресакрализации ключевых концептов всей нашей душевно-духовной культуры, процесс их ресемантизации в русском литературном языке тесно связан со «спасением России» (ср.: [Кульчицкая 2007]) – с религиозным и социально-культурным возрождением, с возрастающей ролью Православия и филологического знания, с осмыслением динамики русской концептоферы, с осознанием специфики нашего менталитета и нашей «нацио430 нальной идеи», с созданием «науки быть Россией» [Третьякова 2007]. Лингвокультурология – это обширная пограничная зона между лингвистикой и культурологией, психологией, философией и другими науками (см. об этом, например: [Маслова 2001, с. 32; Карасик 2004, с. 87; Воробьев 2008, с. 4]); ее основная задача, как явствует из внутренней формы самого термина (особенно если написать его через дефис – лингво-культурология) – рассмотреть, как отображаются в языке феномены духовной и материальной культуры (путь «от культуры к языку»), и языковые средства как основания и инструмент культуры (путь «от языка к культуре»). Тем самым лингвокультурология, с одной стороны, рассматривает язык как результат «жизнетворчества» культуры, языковые единицы – как средство опредмечивания культуры, как наделенные лингвистической вещностью «предметы», отображающие феномены культуры; с другой стороны – рассматривает язык как культуросозидающее средство, обладающее самостоятельной «творящей силой», как Логос, который, в соответствии с древнегреческим семантическим этимоном, не только «слово, речь, изречение», но и «разум, разумное основание; причина» [Вейсман 1991. Стлб. 766–768] – та сила, которая преобразует неосмысленный Хаос в гармоничный Космос. Концепт в лингвокультурологическом понимании – феномен не только и не столько логически упорядоченного мышления; концепт – явление холистическое (от гр. holos ‘весь, целый > целое’ [Вейсман 1991, Стлб. 879]), в концептах фиксируются образно-понятийно-эмоциональные структуры сознания, составляющие основу картины мира, выступающие в роли мировоззренческого фундамента и регуляторов человеческого поведения. В этом качестве концепт органично входит в понятийно-терминологический ряд архетип – концепт – миф – образ – символ, который тесно связан с понятием «языковые значения»: общекатегориальные и частнокатегориальные, лексические, словообразовательные и др. Концепт – сгусток самых разных значений и смыслов – вроде макромолекулы белка, включающей самые различные элементы. И не только смыслов, но и опирающихся на эти смыслы социальных и индивидуальных стереотипов поведения, одежды, питания – в конечном счете всего, что составляет образ жизни, стиль мышления, своеобразие эмоциональных реакций и состояний. Слова – лишь средство вербализации, языкового опредмечивания концептов, наряду с одеждой и макияжем, интерьером и музыкой, архитектурой и танцем. Любая семиотическая система – это система средств опредмечивания концептов как «черных ящиков» 431 сознания, о содержании которых мы можем судить лишь по косвенным данным, по результатам культурно-семиотического опредмечивания, поскольку напрямую в содержание сознания не заглянешь. Таким образом, по онтологическому статусу концепты – феномены не столько языкового сознания, сколько «сознания в целом», поскольку «культура – это огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное пространство, из просто населения – народом, нацией. В понятие культуры должны входить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства» [Лихачев 2000, с. 9]; природа языковых концептов холистична, а следовательно, их развитие определяется «фактором целостности»: эволюция отдельных концептов неотделима от эволюции концептосферы в целом. Концептосфера национального языка, по характеристике Д.С. Лихачева, – это «концентрат культуры», «является сам по себе сжатым, если хотите, алгебраическим выражением всей культуры нации», «язык в потенциальной форме его концептов – воплощение всей культуры народа» [Лихачев 1993, с. 9]. Как и любая другая национальная концептосфера, концептосфера русского языка – явление многоуровневое и многомерное, ее свойства определяются особенностями как «левополушарного», так и «правополушарного» типов сознания и мышления (при всей психофизиологической условности, деление на «левое» и «правое» для гуманитарного знания – одно из эпистемологически необходимых эвристических оснований), то есть концептосфера организуется на «биполушарном», целостном фундаменте. Лингвоконцептология, в соответствии с внутренней формой этого термина, понимается как учение об опредмечивании концептов средствами естественного языка и о концептосфере как языковом отображении культурного богатства нации. Лингвоконцептология – одна из новейших филологических дисциплин, объектом которой являются концепты как такие феномены индивидуального и коллективного сознательного и бессознательного, которые обусловливают человеческие эмоции, мышление и поведение, которые, находя выражение в средствах естественного языка, оказываются доступны филологическому исследованию. Динамическая лингвоконцептология (от гр. dynamikos ‘обладающий силой; могучий’ < dynamis ‘сила’) основывается на представлении о наблюдаемой здесь-и-сейчас эволюции, развитии концептосферы в ее «сиютекущей» истории (в отличие от исторического ее развития на протяжении веков). Представле432 ние о «динамической синхронии» позволяет преодолеть антиномию синхронии и диахронии языка (как частный лингвистический и лингвокультурный феномен общей философской антиномии логического и исторического [Кукарцева 2009, с. 335]), суть которой в том, что язык существует, изменяясь во времени, а функционировать может, только оставаясь неизменным; ср. ставшую уже классической характеристику Ш. Балли: «Человек, спонтанно говорящий на родном языке, всегда ощущает язык как состояние, у него нет ощущения развития языка или перспективы во времени... Рассуждая теоретически, всякое состояние языка есть абстракция, ибо развитие непрерывно; но практически состояние – все же реальность, обусловленная медленностью развития языка и субъективным ощущением его носителей» [Балли 1961, с. 234]. Язык, как и человек, «погружен во время», но вектор времени в случае динамического подхода понимается как обращенный не только от прошлого к настоящему, но и от настоящего к будущему, что и позволяет говорить именно о живых «сиютекущих» процессах как в системе языка, так и в концептосфере. По удачной характеристике голландского ученого Й. Ван Баака, такое понимание концептосферы «соединяет стабильность многовекового опыта с исторической динамикой культурного языкового развития. В этом процессе концепты могут обогащаться и развиваться, но они могут также полностью или частично меняться содержательно или вообще исчезать. Такой подход к концептосфере дает возможность изучать исторические феномены языка и культуры на фоне архетипического и антропологически инвариантного» [Баак 2001]. В рамках динамической лингвоконцептологии важно различать относительно неизменное архетипическое «ядро», «протооснову» концептосферы как полевой структуры, и склонную к относительно быстрой эволюции «периферию». Архетипическое «ядро» может менять ключевые именования, в нем по-новому акцентируется содержание базовых концептов, но их национально-специфическое и/или общечеловеческое своеобразие при этом сохраняется. Два характерных примера. Первый: в рамках текущей «неоидеологизации», попытках сформулировать «национальную идею» в самых различных источниках, в том числе в СМИ, прокламируются концепты – «духовные основы общества», «вертикаль власти», «патриотизм». Но эти современные именования – прямые наследники знаменитой (и, увы, многократно осмеянной и осмеиваемой) уваровской «триады»: Православие, самодержавие, народность (Бог, царь и Отечество). 433 Второй пример. Известный современный миссионер и богослов, профессор Московской духовной академии диакон Андрей Кураев в книге-интервью «Почему православные такие?..», отвечая на вопрос о творчестве Толкиена («Властелин колец» и др.), в частности, говорит: «...наиболее дивное и полное описание Толкиеном человеческого посмертия можно найти в его рассказе “Лист Ниггла”»; «“Сильмариллион” религиозен с самого начала. Я бы вообще рекомендовал читать эту книгу параллельно с первыми главами книги Бытия: сотворение мира, создание человека, грехопадение. Если вы ищете перевод библейского сказания на язык современной поэзии, то лучше Толкиена это не сделал никто. Ближайший аналог – это песнь Аслана, творящего мир, в “Хрониках Нарнии” толкиеновского друга Клайва Льюиса» [Кураев 2006, с. 249–250]. Как видим, по авторитетному мнению профессора богословия, лучший «перевод» основополагающих библейских концептов на язык современности сделан в, казалось бы, легкомысленном жанре, предназначенном для «легкого чтения» – фэнтези. Таким образом, концептосфера – относительно стабильное и вместе с тем динамическое явление, эволюция которого обусловливается широким спектром социально-политических, социально-психологических и иных изменений, находящих отражение в ментальности как отдельных слоев населения, так и нации в целом. Основная прикладная «сверхзадача» русской лингвоконцептологии – обращение – сквозь «магический кристалл» языка, на основе инструментария лингвоконцептологии – к вопросам национальной идентичности, в которой и заключена наша (сейчас утраченная для ясного осознавания) «национальная идея». Цель дисциплины – формирование представления о концептосфере русского языка как динамическом явлении, эволюция которого обусловливается широким спектром социальнополитических, социально-психологических и иных изменений, находящих отражение в ментальности как отдельных слоев населения, так и нации в целом. Общая задача дисциплины – рассмотреть те принадлежащие ядерной части лингвоконцептуального пространства русского языка рубежа XX–XXI веков лингвокультурные концепты, в которых наиболее явственно отразились изменения как языкового сознания, так и ментальности россиян в целом. Конкретные задачи и логика построения дисциплины обусловливаются своеобразием содержания и структуры рассматриваемых лингвоконцептуальных феноменов именно как национальных, российских. 434 Литература Андрющенко В.М. Прикладная лингвистика // Языкознание: Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – 2-е изд. – М., 1998. Баак Йост Ван. О русской концептосфере // Международный благотворительный фонд им. Д.С. Лихачева. – СПб., 2001. Электронный ресурс: http://www.lfond.spb.ru/programs/likhachev/100/stenogrammi/baak.html. – 02.06.08. Балли Ш. Французская стилистика. – М., 1961. Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь / Репринт V-го изд. 1899 г. – М., 1991. Воробьев В.В. Лингвокультурология. – М., 2008. Городецкий Б.Ю. Актуальные проблемы прикладной лингвистики // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1983. – Вып. 12: Прикладная лингвистика. Зарифьян И.А., Рождественский Ю.В., Щербакова О.М. Вопросы общей и прикладной филологии в свете реформы школы // Вопросы языкознания. – 1987. – № 4. – С. 16–25. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М., 2004. Кукарцева М.А. Историческое и логическое // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. – М., 2009. Кульчицкая Н.В. Религиозно-этические и социально-культурные концепты, выражающие идею возможности / долженствования спасения России, в произведениях русских философов: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Краснодар, 2007. Кураев А., диакон. Почему православные такие? – М., 2006. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Известия РАН. Сер. лит. и яз. – 1993. – № 1. Лихачев Д.С. «Я живу с ощущением расставания...» // Комсомольская правда. – 1996. – 5 марта. – С. 5. Лихачев Д.С. Культура как целостная среда // Д.С. Лихачев. Русская культура. – М., 2000. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М., 2001. Примерная основная образовательная программа высшего профессионального образования: Направление подготовки бакалавра 032700 – Филология. Утверждено приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. № 337. – М., 2010. Третьяков В.Т. Наука быть Россией: Наши национальные интересы и пути их реализации. – М., 2007. Уайт Л. Избранное: Наука о культуре. – М., 2004. 435 Месибах Абделуахеб (Алжир, г. Алжир; к.ф.н., зам. декана факультета языков и литературы Университета «Алжир 2») [email protected] О неадекватном использовании перевода на уроках русского языка Одна из важных задач учителя иностранного языка – обучение правильному пониманию и восприятию изучаемого языка. Для достижения вышеназванной задачи необходимо преподавателям любого иностранного языка решать следующие задачи: 1) обучение учащихся языку как системе; 2) формирование речевых умений у учащихся; 3) ознакомление учащихся с культурой страны изучаемого языка. Восприятие и правильное понимание элементов чужой культуры, а также их правильная передача другим и есть стержень данной статьи. Всем известно, что язык неразрывно связан с культурой. Правильно учить языку означает правильно осуществлять обмен знаниями, мыслями и чувствами между двумя разными народами и их культурами, иначе говоря, правильно учит межкультурному диалогу. В.Ф. Гумбольдт. Один из первых исследователей роли языка в процессе формирования этнического опыта и культуры, согласно ученому, оба феномена – и культура, и язык, определяются соответствующим этносом, «духом» народа. Язык у исследователя – константа, универсально выражающая этнический опыт народа. «Рассматривать язык не как средство общения, а как цель в самом себе, как орудие мыслей и чувств народа есть основа подлинного языкового исследования. Такое исследование языка само по себе должно объять все различия, поскольку каждое из них принадлежит к понятийному целому» [Гумбольдт 1985, с. 377]. На занятиях по русскому языку в иностранной (алжирской в нашем случае) аудитории часто преподаватели прибегают к пере436 воду как способу объяснения и интерпретации особенно абстрактных понятий. Используемый в иностранной аудитории перевод можно рассматривать как взгляд на чужую культуру через призму своей собственной, так как «носители разных языков могут видеть мир немного по-разному, через призму своих языков» [Апресян 1995, с. 37]. Выражаясь по-другому, или, как пишет Б.А. Серебренников, «результатом отражения являются концепты или понятия <...> Язык не отражает действительность, а отображает ее знаковым образом» [Серебренников 1988, с. 6]. Знаки – коды с помощью которых человек получает сведения о мире. «Картина мира», отображенная в сознании человека, как пишет Г.В. Колшанский, есть «вторичное существование объективного мира, закрепленное и реализованное в своеобразной материальной форме, которой является язык, выполняющий функцию объективации индивидуального человеческого сознания лишь как отдельной монады мира» [Колшанский 2005, с. 15]. При переводе любого слова на иностранный язык, мы не передаем истинного его смысла, а лишь адаптируем его к уже сложившемуся в наших головах понятию, откуда и возникает неадекватность перевода. Любое иностранное слово в культурологическом смысле связано с рядом оттенков значений, состоящих из коллективной памяти и общего опыта данного этноса. Как известно, слово имеет два плана: план выражения и план содержания, но, на наш взгляд, при обращении к слову с точки зрения культурологии можно прибавить, что слово имеет три измерения: план выражения, план содержания или денотации и план коннотации. План выражение – это графическая или звуковая оболочка слова, план денонтации или содержания – это семантическое значение слова, а коннотативный план – это те ассоциации, которых не видно иностранному учащемуся в обоих предыдущих планах и которые требуют бережного обращения и глубоких знаний обеих культур: родной культуры учащихся и культуры народа изучаемого языка. Коннотация – логико-философский термин, выражающий отношение между смыслом (коннотат) и именем или комплексом имен. В отличие от денотативного значения, рассматриваемого как предметного, прямого, словарного, коннотативное значение связано с употреблением самого слова в речи и распознается при учете социокультурного и исторического контекста. Исходя из нашего опыта, преподавателя русского языка как иностранного, мы часто констатируем, что некоторый пласт лексики, а именно религиозной сферы, представляет весьма большие трудности, эти трудности, связанные с недопониманием или 437 искажённым пониманием слов, скрыты, и проявляются лишь тогда, когда просим учащихся объяснить, хотя бы на родном языке, как они восприняли то или другое понятие. В силу того, что в религиозных текстах разных верований (буддизм, иудаизм, христианство и ислам) используются одни и те же термины для обозначения разных по своему выполнению и смыслу обрядов, возникает «конфессиональная интерференция». Для иллюстрации данной мысли мы приводим, как пример, следующий и самый распространённый обряд богослужения: Молитва – «это слово не имеет бесспорной этимологии. Корень был связан со значением мягкий, нежный». Исторически являются родственными слова молить, умолять и молод, молодой. Молодой первоначально означало мягкий, нежный (ср.: Молодая зелень). В религиозной лексике... молиться – обращаться к богу. Надо помнить, что молитва – это не требование (этим она отличается от магического заклинания, заговора), молитва – это смиренное, с душевной кротостью, обращение к богу, она выражает духовное устремление к нему. Она содержит просьбу к богу о помощи или прославляет бога, или выражает благодарность ему, или раскаяние в содеянном грехе. Молитва может быть выражена своими словами или готовыми текстами молитв из молитвословов (молитвенников). Молитва может быть и без слов. Безмолвное преклонение перед богом» [Тимофеев 2001, с. 36–39]. У буддистов молитва совершается в виде медитации, активизирующей энергию внутри и снаружи. В буддийских медитациях Будда – не бог, не личность, а совершенный аспект нашего собственного ума. У иудеев нет свободной личной молитвы Богу, все молитвы канонизированы. Правоверный иудей должен ежедневно иметь три молитвы и в вечерней молитве есть часть, которая называется «молитвой о дожде» с осенних праздников (Суккот – праздник Кущей) до Пасхи (Песах). А в летний период (с Пасхи до праздника Кущей) эта молитва называется «молитвой о росе». У христиан «молитва – это встреча с Богом Живым. Христианство дает человеку непосредственный доступ к Богу, который слышит человека, помогает ему, любит его. В этом коренное отличие христианства, например, от буддизма, где во время медитации молящийся имеет дело с неким безличным сверхбытием, в которое он погружается и в котором растворяется, но Бога как живую Личность он не чувствует. В христианской молитве человек ощущает присутствие Бога Живого» [www.pravmir.ru]. 438 У мусульман молитва или «намаз» – одна из основ религии Ислам. С его помощью осуществляется связь между человеком и Всевышним. Перед совершением молитвы мусульман совершает обряд омовения и предстает перед своим Создателем, возвеличивает Аллаха, бесконечно утверждая Его исключительное право на поклонение, притом, что данный поступок должен совершать каждый мусульманин пять раз в день. На первый взгляд все окажется ясным лишь при переводе слова «молитва», использованного одинаково по отношению к разным вероисповеданиям, в алжирской аудитории словом اﻟﺼﻼة, но как только мы спросим учащихся, о том, как или для чего совершаются молитвы, то сразу услышим проекцию мусульманского мировоззрения на все остальные верования: «люди, совершая молитву, отдают должное Богу. Молитва – это долг верующего человека перед Богом», но никак не просьба о помощи или о прощении и не медитация. Для обозначения, к примеру, некоторых видов христианских молитв, тех, в которых правоверный христианин просит помощь или защиту у Бога, мусульмане пользуются другим термином اﻟﺪﻋﺎء, означающим «обращение, призыв, просьба», в их сознаниях первый и второй термины отнюдь не одинаковы и не означают одного и того религиозного обряда. Вышеназванный пример всего лишь один из многих, с которыми нам приходится осень часто сталкиваться. Поэтому при работе с учащимися, надо переводить не слова, а – смысл, ввести их в чужую культуру. Дословный перевод не может отразить глубину и смысл слова, окружённого разными коннотациями. На наш взгляд, данные рассуждения важны не только для данной проблематики, но и для преподавания иностранных языков в общем, они углубляют убеждения в неправомерности использования перевода на уроках иностранного языка. Студенты воспринимаемые чужие понятия в переводе на их родной язык учатся не языку как средству общения, а как системе максимально приближённой к системе их родного языка, не понимают разницу между их культурой и культурой изучаемого языка. Литература Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства. – М., 1995. – Т. 1. Гумбольдт В.Ф. Характер языка и характер народа // Язык и философия культуры. – М., 1985. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке (Лингвистическое наследие XX века). – М., 2005. 439 Кубрякова Е.С., Постовалова В.И., Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. – М., 1988. Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление. – М., 1988. Тимофеев К.А. Религиозная лексика русского языка как выражение христианского мировоззрения. – Новосибирск, 2001. Электронный ресурс: www.pravmir.ru. 440 Нагзибекова Мехриниссо Бозоровна (Таджикистан, Душанбе; д.ф.н., декан факультета русского языка и литературы Таджикского национального университета) [email protected] Освоение таджикских слов в русском языке Таджикистана Любой исторически сложившийся развитый национальный язык является неоднородным, представляя собой достаточно сложную, многоступенчатую систему – совокупность форм, в которых он существует и проявляется. Это положение особенно актуально для языков мирового уровня, которые развиваются вне их исконного распространения и используются представителями нескольких этносов. К таким языкам относится русский язык, функционирующий и развивающийся на территории Таджикистана. Выявление дифференциальных черт русского языка Таджикистана расширяет представление о способах выражения определенных лексических значений и раскрывает возможности создания средствами языка более полной картины окружающего мира. Специфика функционирования русского языка в последние десять лет связана с экономическими, социальными, культурными изменениями, произошедшими в таджикском обществе. Расширилось лингвокультурологическое пространство, и это объясняется следующими причинами. Рост самосознания, прежде всего титульной нации, активизировало те реалии, которые характерны для таджикской действительности. Эти реалии вошли в ядерноидеологическую зону. Так, например, за последние десять лет в русском языке, во всех его сферах, особенно в средствах массовой информациии, в устной речи, активно используются слова маджлис, дехкан, хашар, Навруз, дастархан и т.д. Слова прочно вошли в русский язык таджиков и функционируют в нем по всем его законам. Данные включения, в связи с их сравнительно 441 небольшим количеством по отношению к основному массиву лексики русского языка, не могут повлиять на целостность лексической системы, но показывают их региональную отнесенность и самобытность. Под влиянием языка и окружающей действительности происходит и корректировка ментальных черт этносов. Практику использования в русской речи лексических единиц таджикского языка можно назвать типичным явлением для настоящего времени, поскольку действительность, окружающая носителя языка, требует употребления адекватных для ее отражения средств. Мы сталкиваемся с проблемой «языкового дефицита», под которым понимается нехватка языковых средств для адекватного функционирования языка в определенной сфере. Благодаря регулярности и частотности воспроизведения, данные единицы теряют свой «чуждый» характер и воспринимаются как естественные компоненты лексической системы родного языка. С точки зрения национального варианта русского языка, лексика, отражающая не родные русскому языку, но близкие и понятные русскоязычному населению понятия, освоенные сознанием говорящих и употребляемые в процессе коммуникации в устных и письменных текстах, не может рассматриваться как экзотическая. И хотя при первичном вхождении в иной язык она семантизируется, этот процесс не длительный. Чем чаще включаются подобные единицы в тексты, что способствует их освоению и закреплению в другом языке, тем реже они семантизируются. Происходит процесс приобретения навыков адекватного употребления новой лексической единицы носителями языка. Данная лексика не приводит к дискомфорту в понимании текста, поэтому должна быть дифференцирована с точки зрения отношения русского сознания к соответствующим предметам и явлениям, связанным с конкретными культурами мира. Фиксация в средствах массовой информации способствует принятию слова широкими массами носителей языка, частотность употребления регионализмов способствует их скорейшему освоению в русском языке Таджикистана, ими изобилуют устные и письменные тексты. Приведем несколько характерных примеров, выявленных из газетных текстов: 1. «14 декабря Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, в соответствии со своими конституционными полномочиями, представил на утверждение Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ новый состав Центральной комиссии по выборам и референдумам РТ» (Народная газета, 16 декабря 2012 г.). 442 2. «Назначить выборы членов нового созыва Маджлиси Милли Маджлиси Оли РТ на 25 марта 2010 года» (Народная газета, 16 декабря 2012 г.). 3. «8 января 2009 года объявляется аукцион № 19 по продаже арестованного имущества дехканского хозяйства С. Шамсова Кулябского района экономическим судом Хатлонской области» (Народная газета, 16 декабря 2012 г.). 4. «Если состоятельные люди будут вкладывать деньги в виде “хайрия” – пожертвования, думаю, это будет настоящим савобом для них, как мусульман» (Азия-Плюс, 29 декабря 2012 г.). Анализ более 500 случаев употребления таджикских слов в русских СМИ показывает, что наиболее употребительны в русском языке Таджикистана бытовые и религиозные слова. Особое место также занимает «топонимическая» сфера, предполагающая знание большого корпуса топонимов, антропонимов и др. данной страны. Например: «В Согде снизились поставки муки и зерна» (Азия-Плюс, № 16, 21.04.2010); «Ливни могут спровоцировать сход оползня в селении Намозгох джамоата Зидды Варзобского района» (Курьер Таджикистана, № 15, 14.04.2010); «В Кулябском регионе селевой поток унес жизни десятков людей» (Азия-Плюс, № 19, 12.05.2010). Рынок Баракат будет перенесен в столичный район Зарафшон» (Курьер Таджикистана, № 16, 21.04.2010); «В деловом центре “Пойтахт” прошла республиканская конференция о роли женщин в общественно-политической жизни» (Азия-Плюс, № 18, 05.05.2010); «“Барки Точик” сокращает долг» (Азия-Плюс, № 18, 05.05.2010; Дайджест-Пресс, № 17, 29.04.2010). Из сделанного нами анализа можно сделать вывод, что употребление языковых реалий характерно для газетных изданий Таджикистана. Использование таджикизмов в СМИ помогает авторам передавать информацию, сохраняя сущность, особенности, индивидуальные черты предметов и явлений, присущих таджикскому народу. Наше исследование показывает, что употребление таджикских языковых реалий характерно для русскоязычных газетных изданий Таджикистана. Использование таджикизмов в СМИ помогает авторам передавать информацию, сохраняя сущность, особенности, индивидуальные черты предметов и явлений, присущих таджикскому народу. 443 Литература Прохоров Ю.Е. Русскоязычный человек в инокультурном окружении: куда идут русский язык и русская культура в новой геополитической коммуникации и чему учить иностранца // Актуальные проблемы филологии и культурологи. – Душанбе, 2009. – С. 6–15. Чередниченко А.И. Методологические вопросы теории языкового варьирования // Грамматические и лексические аспекты регионального варьирования полинациональных языков: Сборник научных трудов. – К., 1998. – C. 6–12. 444 Петрова Оксана Олеговна (Россия, Калуга; аспирант Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского) [email protected] Культурно-идеологические коннотации цветообозначений в русском языке Объектом нашего исследования являются культурно-идеологические коннотации цветообозначений. Материалом послужили данные толковых словарей XIX–XXI веков, а также тексты из национального корпуса русского языка. «Наряду с цветономинациями, связанными с цветом как с физическим явлением... существует целый ряд цветообозначений – характеристик, обусловленных социально и узуально, связанных с социолингвистической традицией...» [Кульпина 2001, с. 8]. «Большую роль при исследовании цвета и цветовой символики играет исторический и культурный опыт человека, накладывающий свой отпечаток на использование цветообозначений в переносном значении...» [Таныгина 2012, с. 2]. I. В обществе первой половины XIX века основными цветовыми маркерами социальной дифференциации общества были два цвета: белый (светлый) и черный (темный). Меньшую значимость имели голубой и желтый цвета. Голубой коннотативно примыкает к белому. Добавочным, неосновным цветом выступал желтый, символизирующий продажность – физическую, политическую, нравственную. Отмеченные коннотации в основе своей имеют визуальный образ. Среди имен лиц цветоообозначения могут называть: а) социально-статусные оппозиции господствующего и податного классов; б) социально-статусные оппозиции внутри одной социальной группы. Белый в норме ассоциировался с господствующим классом, по смежности с определенными предметами, образом жизни 445 представителей господствующего класса. Белые руки были у благородных людей, аристократов. Обращение ваша светлость прилагалось к младшим детям правнуков императора и их мужским потомкам, а также к светлейшим князьям по пожалованию. – Я уверен, что Ваша Светлость не забыли, что в Завидове и в Клину формируется по полку и они почти готовы (Ф.В. Ростопчин. Документы. 1812). Черный символизировал все, что связано с низшим сословием (с низким социальным статусом). В.И. Даль: Черный народ – тягловой, податной, из простонародья, черни; стар. черносошный черный народ, простолюдины. Черная работа – тяжелая, грубая, самая простая, где нет никакого мастерства. Черная жизнь – трудовая, рабочая. – Бывало, так и князь, и боярин не смел без страха произнесть святого имени царского, а ныне, так и черный народ толкует, кому быть, кому не быть царем, кто хорош, а кто не хорош (Ф.В. Булгарин. Димитрий Самозванец. 1830: НКРЯ1). Словарь 1847 г.: Чернорабочий, черноработец (простореч.) – исправляющий черную работу. Н.Ю. Шведова: Чернь. 2. Перен. Люди, далекие от духовной жизни, высоких идеалов, безликая толпа (во 2 знач.). – Светская чернь. Словарь А. Байбурина и др: Черные люди, чернь. Низшее сословие, простонародье. Оппозицией является светское общество – иначе свет. Особая, сравнительно замкнутая группа в дворянской среде. Также со словом черный в рассматриваемом употребляемом значении семантически и коннотативно связано слово темный. Темными называли людей непросвещенных, неграмотных, необразованных, невежественных, отсталых. А такими были, как правило, простые люди из народа. Даль: Темные крестьяне верили в сверхъестественные силы. Ср. также: – Ученье – свет, а не ученье – тьма. Социально-статусная оппозиция: белый (светлый) – черный (темный) реализуется и внутри определенной социальной группы. Светская чернь, белое / черное духовенство, белая / черная кухарка и др. Даль: Белое духовенство, не монашествующее, которое именуется черным. Черное духовенство, черноризцы, чернцы, монахи. 1 НКРЯ – Национальный корпус русского языка. 446 – Все белое и черное духовенство – славянофилы другого рода (А.И. Герцен. Былое и думы. Часть четвертая. Москва, Петербург и Новгород. 1857). – В самой Униатской Церкви происходили раздоры; белое духовенство, т.е. священники, постоянно жаловались на обиды от униатских монахов, принадлежавших к Базилианскому ордену: базилиане захватили себе лучшие церковные имения и вообще были усердные союзники католицизма (Д.И. Иловайский. Краткие очерки русской истории. 1860). – Церковь возглавлял архимандрит, служило черное духовенство, и она была на высоком счету (Зоя Масленикова. Близкие Бориса Пастернака. 1968–2000). – Белое духовенство, – мы, так называемые попы, – раньше лишь пешками были в руках монахов (А. Успенский. Переподготовка. 1920–1929). Даль: Белая кухарка, не стряпуха, а повариха, мастерица, приспешница на господ. Сомов: Черная кухарка. Кухарка, готовящая стол слугам. – Из прежней челяди в особняке оставались две любопытные женщины, старая гувернантка графининых дочерей, ныне замужних, мадемуазель Флери, и бывшая белая кухарка графини, Устинья (Б.Л. Пастернак. Доктор Живаго. 1945–1955). – Швейцар, два лакея, белая кухарка, кухарка просто, судомойка, три горничные, из них одна – та самая Грунька, которую теперь величают Аграфеной Панфиловной Веселкиной и считают в миллионе (А.В. Амфитеатров. Марья Лусьева. 1903). – Черная кухарка и кучер просили расчета (Л.Н. Толстой. Анна Каренина). Социально-статусная оппозиция поддерживается и цветовой оппозицией на уровне номинаций предметов и отвлеченных понятий. Социальные низы использовали и технологически примитивные объекты в своей жизни. Сомов: Черная баня. Курная баня, топившаяся по-черному, т.е. без вытяжки дыма. Черная печь. Печь без дымохода. Темный товар. Товар, торговля которым считается незаконной (в том числе и краденый). А. Байбурин и др.: Черная лестница. Лестница черного хода в богатом особняке или доходном доме (для прислуги). Даль: Черная изба – курная, без трубы, где дым стелется под потолком и выходит в дымволок или в волоковое окно; людская, где живет дворня. Черный двор – задний, скотный, грязный. Оппозицией предметам быта крайних социальных низов, выражающихся черным цветом, выступают более качественные 447 технологически предметы, пригодные для достойной жизни людей более высокого социального статуса (в том числе и людей той же социальной группы). Такие предметы имеют цветономинацию белый. Даль: Белая изба, где печь устроена с трубой, в противность черной, где трубы нет, а дым валит из печи в комнату. Иногда белая изба, или белая половина, зовется у крестьян чистая половина, горница, с голландской печью. Говорят также: изба или печь побелому, по-черному. Байбурин и др.: Светелка, светлица. Небольшая комната без печи, т.е. светлая, чистая, обычно располагавшаяся в верхней части дома (для господ). Голубой цвет как дополнительный к основному белому символизировал элитарность, аристократизм, некую социальную избранность. Выражение голубая кровь служило обозначением людей благородного происхождения. Однако в словарях XIX века (словаре 1847 года и в словаре Даля) данного значения и подобных примеров употребления лексемы голубой не зафиксировано. Это значение отмечается в словарях XX–XXI веков. Кузнецов: Голубая кровь. О дворянском, аристократическом происхождении кого-либо. Кроме того отметим разговорное употребление слова голубой (как вариант синего) в устойчивом сочетании синие (голубые) мундиры. В словаре русских поговорок Мокиенко, Никитиной: Синие (голубые) мундиры – Разг., устар. Жандармы в дореволюционной России, носившие форму данного цвета. Меньшую значимость имела в XIX веке цветономинация желтый. Указом Николая I, узаконившим в дореволюционной России проституцию и публичные дома, проституткам вменялось в обязанность иметь специальный желтый билет, в котором, в частности, подробно описывалось состояние их здоровья. – Дочь моя по желтому билету живет-с... – прибавил Мармеладов... (Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание 1866: НКРЯ). Кроме того, в словаре Даля представлено сочетание желтый дом. Даль: Желтый дом (разг.). Больница для умалишенных. Эта идиома отмечена и более поздними словарями: – Схватили в желтый дом и на цепь посадили (Грибоедов). Происхождение этого сочетания, возможно, связано с тем, что стены в психиатрических лечебницах часто красили в желтый цвет. Считалось, что это действует успокаивающе на пациентов. Таким образом, словари XIX века отмечают преимущественно бинарную оппозицию культурно-идеологических коннотаций: «белый, светлый (голубой) – черный, темный, желтый». 448 II. С конца XIX до 80 годов XX вв. наблюдается уже несколько иная структура оппозиций цветообозначений. В словарях этого периода в семантике цветономинаций отразились социальные изменения российского общества. В связи с пролетарской революцией цветовая символика, опирающаяся на визуальные идеологические созначения, сменяется опорой на символико-идеологические созначения. Более 70 лет доминирует красный цвет, в оппозиции к нему белый (голубой). Черный цвет менее актуален. Цветолексема красный приобретает в этот период широкое распространение в употреблении. Прежняя бинарная оппозиция осложняется: добавляется третий член – «красный». Лексема красный занимает главенствующее положение, становится первой в струтуре противопоставления: «красный – белый – черный». В словаре Д.Н. Ушакова у лексемы красный отмечены новые значения, которых нет в словарях предыдущего периода. Ушаков: Красный. 3. Прилаг., по значению связанное с революционным коммунистическим строем, советский, коммунистический (нов.). 4. В знач. сущ. Революционеры, коммунисты. В связи с появлением новых значений у лексемы красный появляются и новые производные слова. Словообразовательное гнездо увеличивается в объеме: красноармеец, красноармейский, красногвардеец, красногвардейский, краснознаменец, краснофлотец, краснофлотский. Появляются новые сочетания (часть из них фразеологизованные выражения): красная гвардия, красная доска, красный командир, орден Красного знамени (нов.) – военный орден, учрежденный в СССР и присуждаемый за выдающиеся заслуги перед революцией. Орден трудового Красного знамени (нов.) – соответствующий орден за гражданские заслуги. Красный обоз (нов.) – обоз, организуемый крестьянами для сдачи хлеба по твердым ценам на государственные ссыпные пункты. Красная присяга (нов. офиц.) – торжественное обещание, даваемое при вступлении в Красную армию. Красный уголок (нов.) – помещение для политической и культурно-просветительной работы, соответствующим способом оборудованное. Красная линия (архит.) – черта по границам улиц, за которую не должны выступать строения. Красной нитью (проходить) (книжн.) – о какой-н. мысли, идее, тенденции: отчетливо выделяться, господствовать. Красные дни календаря – так называли в СССР наиболее важные праздники». Газета «Красная звезда», газета «Красный флот», город Сулин в Ростовской области с 1926 года был переименован в Красный Сулин, украинский поселок Красный луч (до 1920 года 449 Криндачевка), красный интернационал профсоюзов – международное объединение профсоюзов в 1921–37 гг., научный журнал «Красный архив, город Красный кут в Саратовской области. Бытовавшее ранее с отрицательной коннотацией, слово красный развивает положительную культурно-идеологическую коннотацию. Ушаков: Крайне левый по политическим убеждениям, революционный (дореволюц.). Меня по всей губернии красным величают (И.С. Тургенев). Некоторые идиомы начинают восприниматься уже как устаревшие в связи с социальными переменами. Красный фонарь (устар. дореволюц.) – публичный дом. Красный товар (устар.) – мануфактура. Вместе с революционной эпохой в Россию приходит новая символика. Вокруг доминирует красный цвет как символ побед новой власти и цвет революционного знамени. В период 20–30-х годов повсеместно носят красные косынки, символизирующие причастность к новому времени. Красную косынку носили девушки-комсомолки, потом этот предмет использовали в виде галстука знаменитые пионеры, с некоторого времени получивший наименование «пионерский галстук». Главенствующее положение, первенство красного цвета в советскую эпоху нашло отражение в государственной символике, являющейся одной из основных форм репрезентации господствующей идеологии. Глядя на советские плакаты, в частности периода Великой Отечественной войны, содержащие лозунги, призывы, пропаганду идей, мы наблюдаем то, что основным, преобладающим, наиболее распространенным цветом являлся красный. Советский флаг также был красным. После Октябрьской революции и Красная площадь обрела новое, мемориальное, значение. Белый цвет в общественном сознании носителей русского языка этого периода остается закрепленным за бывшим господствующим классом. Идеологически статусные созначения у слова черный потеснили идеологически статусные созначения у лексемы красный, которая символически стала обозначать революционные перемены и носителей этих перемен – прежде всего низшие слои общества. Слово черный в словарях по отношению к низшим сословиям нередко дается уже с идеологическими пометами – «в речи эксплуататорских классов». Ушаков: Черный – принадлежащий к народу, к «простому народу», к непривилегированным классам общества (истор.). Черный народ (т. наз. простонародье). 450 У слова черный в ряде словосочетаний появилась коннотация «реакционер». Ушаков: Черная сотня (низшее сословие в древнем Новгороде, (дореволюц.) – то же, что черносотенцы....Организации, в которых видную роль играли реакционные помещики, купцы, попы и полууголовные элементы из босяков, народ окрестил «черной сотней» [История ВКП(б)]. Черносотенец (полит.). В царской России – погромщик-реакционер, член одной из крайних монархических организаций, прозванных черной сотней (ср.: черный; дореволюц.). Заядлый черносотенец. Помещик-черносотенец. Писатель-черносотенец. Английские черносотенцы. Появляется совсем новая идиома, которая отражена в словаре Ушакова: Черные списки (дореволюц., загр.) – списки революционеров, революционно настроенных трудящихся, которых капиталисты по взаимному уговору не принимают на работу или увольняют в первую очередь. Семантика лексемы белый в послереволюционный период претерпевает изменения, что находит отражение в словарях. Ушаков: Белый. Контрреволюционный, белогвардейский (употр. со времен Великой французской революции, когда данное слово обозначало сторонника Бурбонов); противоп. Красный. Оппозиция «красный – белый» отражается в самом словаре Д.Н. Ушакова: Белый офицер. Белая гвардия – контрреволюционные войска. || В знач. сущ., преимущ. мн. белые – белогвардейцы. В плену у белых. Расширяется словообразовательное гнездо слова белый, появляются новые производные слова: белогвардеец, белогвардейка, белогвардейский, белогвардейщина (нов. презр.), белоэмигрант. Слово беляк начинает употребляться в новом значении. Шведова: Беляк. То же, что белогвардеец (разг.). В словаре Кузнецова толкование слова беляк ‘о белогвардейце’ дается с пометой презрит. Ефремова приводит помету разг., обычно с оттенком пренебрежительности. Красных было не слыхать, беляки заглядывали в Сараны редко – боялись заразы (В.Ф. Панова. Времена года. Из летописей города Энска. 1953: НКРЯ). III. С середины XX века в связи с дальнейшей социальной и социокультурной дифференциацией общества цветовой спектр, характеризующий общественные группы, расширяется. Появляются новые культурно-идеологические созначения у слов зеленый, голубой, розовый, желтый. Эти цветонаименования становятся частотно употребительными. В конце XX века идеологический экспонент красный становится историзмом, а оппозиция «белый – черный» ослабевает. 451 Культурно-идеологические коннотации у лексемы красный сменяются с положительных на отрицательные. Нередко лексема красный замещается квазисинонимом краснокоричневый. – Если бы красно-коричневые победили тогда, то это был бы даже не Советский Союз, а нечто другое, намного страшнее (Алексей Козлов. Козел на саксе. 1998). – Вы, журналисты, меня, уж конечно, в эти... в руссофашисты запишите. В красно-коричневые какие-нибудь. Будьте прокляты (Вячеслав Рыбаков. Хроники смутного времени. 1998). В толковом словаре демократического новояза и эвфемизмов А. Белояра приводится цветовое обозначение красно-коричневые. Он пишет, что это ярлык, созданный во времена либеральной революции 1991–1993 гг. для навешивания на коммунистов, пытавшихся противостоять развитию демократических процессов в России. В словаре под редакцией Ожегова и Шведовой мы найдем субстантиват коричневые (коричневорубашечники). Ожегов, Шведова: Коричневые – так называли фашистов. – Коричневая чума (о фашизме, презр.). Таким образом, красно-коричневые – пропагандистское клише, подразумевающее объединение коммунистических и крайне правых (фашистских, нацистских и т.п.) сил и/или идеологий. Что касается лексемы белый, то она продолжает жить и функционировать как одна из характеристик социальной дифференциации общества. Во 2-й половине ХХ века она употребляется в сочетании белые воротнички, в оппозиции к другому сочетанию – синие воротнички. В словаре бизнес-терминов: Белые и синие воротнички. Обозначение, принятое в западной социологии для различных категорий лиц наемного труда. Белые воротнички – работники умственного, интеллектуального труда, чиновники, работники аппарата управления, менеджеры, инженерно-технический персонал, конторские, банковские служащие. Синие воротнички – рабочие, занятые физическим трудом. Что касается лексемы зеленый, то она имеет несколько коннотаций, отражающих социальную дифференциацию общества. Ушаков: Зеленые – в знач. сущ. Крестьянские отряды во время гражданской войны 1919 – 20 гг., составляющиеся из дезертиров и ведшие борьбу главным образом против белых, действуя в тылу у них, но также иногда и против красных, являясь в этом случае орудием кулачества (название оттого, что скрывались в лесах; нов. истор.). Зеленая улица (истор.) – два поставленных друг против друга ряда солдат со шпицрутенами, сквозь строй которых (напр. во время Николая I) прогоняли истязуемых. 452 Таких значений и примеров употребления слова зеленый в словаре Ожегова и Шведовой уже не встречается. В нем появится новое, более актуальное для нашего времени значение данной цветономинации. В конце XX века лексема зеленый приобретает особую социальную значимость. Зеленым становится оппозиционное движение с разнообразным спектром политических целей. Ожегов и Шведова: Движение «зеленых» – демократическое движение, один из принципов которого – борьба за гармонию человека с природой, за сохранение окружающей среды. В словаре Ушакова желтый толкуется как работающий в сотрудничестве с капиталистами, реформистский (о профсоюзах; презрит., в языке революционеров). Желтый союз горняков в Англии. Желтый интернационал (Амстердамский). Также слово желтый употребляется в качестве субстантивата. Ушаков отмечает у данного существительного следующее значение: Желтый – член желтого профессионального союза (презрит.) // Штрейкбрехер (презрит.). Кроме того, в XX веке лексема желтый приобретает еще одну отрицательную коннотацию. Появляется и становится широкоупотребительным устойчивое сочетание желтая пресса. Д.Н. Ушаков: Желтый – беспринципный, бульварно-сенсационный (о периодической печати; публиц. презрит.). – Дело происходило в 1910 году, когда в России расцвела буйным цветом так называемая желтая пресса, которая ради дешевой сенсации публиковала интимнейшие фотоснимки с известных и полуизвестных писателей, изображавшие их то на пляже, то в дачном гамаке, то в бильярдной, то за бутылкой вина (К.И. Чуковский. Короленко в кругу друзей. 1940–1969). Оппозиция «голубой – розовый» строится на основе дифференциации общества на особые группы – сексуальные меньшинства. В XX веке голубыми стали называть мужчин-гомосексуалистов. В словаре Ушакова мы уже находим слово гомосексуалист, однако экспонент голубой не является номинацией подобного сигнификата. В данном словаре мы не обнаружим у слова голубой значения гомосексуалист. Однако в словаре Ожегова и Шведовой данное значение уже отражено и зафиксировано. Ожегов, Шведова: Голубой. То же, что педераст (разг.). В Большом словаре русского жаргона Мокиенко, Никитиной: Голубой. Жрр., мол., угол. Гомосексуалист. Кузнецов: Голубой. Жарг. Относящийся к гомосексуалистам, связанный с ними. Голубое движение. Голубые проблемы. Мокиенко, Никитина: Розовый. 1. Гом., мол. Гомосексуальный (о женщине). 2. Гом., мол. Лесбиянка. – Опрос показал 453 также, что розовые женщины реже, нежели нормальные, обследуют себя, в частности грудь. Появляется многовекторная оппозиция, внутри которой есть и бинарные оппозиции: белый – синий, голубой – розовый, краснокоричневый, зеленый, желтый. Цвет в большей мере дифференцирован по сферам общественной деятельности или особенностям личной жизни: производственный труд (белые воротнички – синие воротнички), сексуальноое поведение (голубые – розовые), политическая деятельность (красно-коричневые – зеленые), сфера масс-медиа (желтая пресса). Таким образом, цвет служил и служит индексом социального статуса и социокультурной диффенциации общества, а также по смежности и предметов, понятий, связанных с определенными общественными группами лиц. Если в ХIХ веке основой коннотаций были преимущественно визуальные особенности объекта, то позже такой основой становятся в большей мере некие символические созначения цветономинаций. Литература Кульпина В.Г. Лингвистика цвета: Термины цвета в польском и русском языках. – М., 2001. Таныгина Е.А. Образ цвета в сознании носителя языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Курск, 2012. Тексты из «Национального корпуса русского языка». Словари: Байбурин А., Беловинский Л., Конт Б. Полузабытые слова и значения: Словарь русской культуры XVIII–XIX вв. – СПб.–М., 2004. Белояр А. Толковый словарь демократического новояза и эвфемизмов // Электронный ресурс: http://www.politike.ru. Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб., 2000. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1981– 1982. Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка // Электронный ресурс: http:// www.vseslova.ru. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русского жаргона – СПб., 2000. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русских поговорок. – М., 2007. Словарь церковнославянскаго и русскаго языка / Сост. Вторым отделением Императорской Академии Наук. – СПб., 1847. – Т. 1–4. Словарь бизнес-терминов // Электронный ресурс: Академик.ру. 2001. 454 Сомов В.П. Словарь редких и забытых слов. – М., 1996. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова: В 4 т. – М., 1935–1940. Толковый словарь русского языка / Под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. – 4-е изд., доп. – М., 2007. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / Отв. ред. Н.Ю. Шведова. – М., 2011. 455 Ростова Евгения Гелиевна (Россия, Москва; к.п.н., ведущий научный сотрудник отдела культуроведения в обучении РКИ Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] Вапенханс Хайке (Германия, Берлин; к.п.н, научный сотрудник Института русистики Университета им. Гумбольдта) [email protected] Тексты диалога культур «Россия – Германия» в процессе обучения и образования Диалог как форма межчеловеческого общения является предметом исследования разных отраслей гуманитарного знания и, в некоторой степени, по-разному определяется в их пределах с использованием соответствующей терминологии. Коснулась эта проблематика и лингводидактики, в том числе той ее части, которая занимается проблемами обучения иностранным языкам, то есть, в конечном итоге, общению. Роль культуры при изучении общению на иностранном языке также исследовалась многими лингводидактами, причем степень важности знания языка или культуры и приоритеты бывали существенно различными. Так, известный российский методист профессор Е.И. Пассов предлагает даже считать включение учащегося в диалог культур главной образовательной ценностью изучения иностранного языка, а целью обучения иностранному языку – обучение диалогу культур [Пассов 2011]. Однако если на уровне теоретического осмысления это понятие не смешивается с другими, в некоторой степени близкими понятиями, то в практике преподавания и подготовки учебных материалов, на наш взгляд, это происходит довольно часто: предметом осмысления и обсуждения часто становится не диалог культур, а сравнение культур по модели «как у вас и как у нас». 456 Проведя анализ ряда научных источников, терминологических словарей, можно вычленить основные смыслы и ключевые слова, входящие в дефиниции понятий «сравнение» и «диалог», а также цели этих речемыслительных операций. Так, по нашим данным, каждый из изученных источников (например, Философская энциклопедия и Энциклопедия социологии) отмечает сравнение как процесс, познавательную операцию, которую осуществляет человек с целью понять сходство или различие рассматриваемых объектов. Другие ключевые слова и другую цель процесса мы находим в определениях диалога. Под диалогом в широком смысле понимается специфическая форма и организация общения, коммуникации, которая рассматривается как акт или процесс передачи информации другим людям, связь между двумя или более индивидуами, основанная на взаимопонимании или противопоставлении, сообщение информации одним лицом другому или ряду лиц с тем или иным результатом [Диалог]. Специфика диалога как общения проявляется и в диалоге культур. Представляется весьма убедительной точка зрения на этот вопрос профессора В.В. Миронова, который предлагает рассматривать диалог культур как «познание иной культуры через свою, а своей через другую путем культурной интерпретации и адаптации культур друг к другу в условиях смыслового несовпадения и даже конфликта... В результате культура предстает <...> в виде ТЕКСТА, а диалог между культурами – в форме столкновения двух ТЕКСТОВ. Причем часть текста представляет собой относительно простое совпадение – если не прямое, то связанное с элементарным переводом слов одного языка на другой. А вот несовпадающая часть (та самая, которая наиболее интересна представителям культур) требует не прямого перевода, а смысловой адаптации. Совпадающая часть – это межкультурный первичный словарь, начало коммуникации. А несовпадающая часть культур – системы предложений, т.е. системы смыслов, уходящих корнями в свою собственную культуру и прямо не переводимые, а связанные со смысловой интерпретацией и адаптацией. Следовательно, диалог культур – это смысловая адаптация их друг к другу» [Миронов 2005]. Диалог как общение рассматривается и в работах М.С. Кагана, который подчеркивает, что «в коммуникации мы имеем дело с процессом однонаправленным, информация течет только в одну сторону, и – по законам, установленным теорией коммуникации, – количество информации уменьшается в ходе ее движения от отправителя к получателю. В общении информация циркулирует 457 между партнерами, поскольку оба они равно активны и потому информация не убывает, а увеличивается, обогащается, расширяется в процессе ее циркуляции» [Каган 1988]. Известный ученый также подчеркивает, что «в диалоге каждое сообщение (послание) рассчитано на его интерпретацию собеседником и возвращение в таком преломленном, обогащенном, интерпретированном виде для дальнейшей аналогичной обработки другим партнером и т.д. ...в процессе и в результате общения происходит отнюдь не обмен идеями или вещами, а превращение состояния каждого партнера в их общее достояние» [Каган 1988]. Этот тезис представляется особенно важным для изучения диалога культур вообще и, в частности, диалога культур при изучении иностранного языка и культуры. Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что: 1) сравнение – это процесс сопоставления двух объектов, который, в принципе, применим в практике изучения иных языков и культур, однако по своей сути не является ни общением, ни диалогом; 2) диалог культур – процесс общения (иногда конфликта, столкновения) двух субъектов, в котором присутствует активность каждой культуры, выступающей как субъект действия, субъект общения и текст. Для возникновения диалога культур необходимы, как представляется, два следующих условия: наличие не менее двух субъектов общения, созданных ими текстов и системы аналогичных параметров, обеспечивающих саму возможность адекватного восприятия информации участниками диалога, то есть интерпретации текстов. При этом важной особенностью процесса диалога культур является то, что обе культуры выступают как субъекты общения, предлагая контрагенту некоторые тексты для заимствования или интерпретации. В прямом смысле культуры-контрагенты не задают вопросов друг другу, но создают тексты, вызывающие реакцию в виде интерпретаций или заимствований (тоже интерпретаций, но с разной степенью присвоения текстов культурыконтрагента). Главный результат диалога культур – появление нового текста (как знаковой системы), обладающего свойствами обеих культурконтрагентов. Таким образом, диалог культур представляет собой процесс и результат возникновения в одной из взаимодействующих культур интерпретаций текстов другой культуры. Приведем примеры различных вариантов диалога культур России и Германии как процесса и как результата. 458 Общеизвестно, что в эпоху Петра I в русском языке активно проходил процесс заимствования иностранных слов, в том числе из немецкого языка. В результате заимствования корня Burg в России появились такие названия новых городов, как Оренбург, Шлиссельбург и Санкт-Петербург. В более позднее время эта модель именования города уже не использовалась русским языком, но до сих пор востребована для языковой игры, шутки, например, для называния выставки кошек «Кэтсбург-2012» или школы танцев и танцевального клуба – «Танцбург». Многим в Европе известно имя немецкого врача доктора Фридриха Йозефа Хааса, большую часть жизни прожившего в России, девизом жизни которого была фраза «Спешите делать добро». В память о знаменитом докторе эти слова стали названием благотворительных фондов и даже пьесы М. Рощина, много лет с успехом шедшей на сцене знаменитого московского театра «Современник», в том числе и на гастролях в Германии. Очень интересный вариант диалога культур представляет собой история творчества русского художника Василия Кандинского, много лет прожившего в Германии и воплотившего на своих картинах сельские и городские пейзажи полюбившейся ему страны. Одна из его знаменитых работ 1909 года «Площадь Мариенплатц. Вайльхайм» спустя столетия была скопирована учащимися художественной школы Вайльхайма в стиле пиксель-арта прямо на брусчатке той самой площади. Иными словами, В. Кандинский создал текст на тему Германии, а немецкие студенты – текстинтерпретацию на тему картины знаменитого художника. В истории русско-немецких культурных связей есть и такие примеры, когда в результате диалога культур появлялись текстыинтерпретации, значительно отличные от текстов-оригиналов, но не менее художественно ценные. Классическим примером такого процесса и результата является в ХIХ веке лермонтовский перевод стихотворения Г. Гейне «Сосна», а в ХХ веке – пьеса Г. Горина «Тот самый Мюнхгаузен». И в том, и в другом случае центральный образ художественного произведения-интерпретации стал для русского читателя и зрителя более известным, чем образ текста-оригинала. Диалог культур как диалог текстов представляет значительный интерес и с методической точки зрения, так как дает материал для содержания образования гуманитариев. Материалы диалога культур России и Германии стали основным содержанием пособия «Россия – Германия: диалог культур», адресованного немецким студентам-гуманитариям, изучающим русский язык и культуру. 459 Создание такого пособия представляется актуальным, так как отвечает требованиям, выдвигаемым как российскими, так и германскими лингводидактами. Например, в образовательных документах Германии межкультурная коммуникативная компетентность / компетенция объявлена не только высшей целью обучения иностранным языкам, но одновременно и важным элементом государственной образовательной концепции. Ее суть как в понимании иноязычных контекстов, так и в способности действовать в них, что ведет к взаимопониманию и взаимодействию. Процесс межкультурного взаимопонимания и взаимодействия рассматривается при этом и как взаимодействие необходимых знаний, убеждений и определенного уровня сознания участников коммуникации [Bildungsstandards... 2012]. Следовательно, в рамках учебного процесса и в целях достижения главного результата, учащиеся должны узнавать максимально большое количество интерпретаций текстов родной культуры представителями культуры изучаемой, а также текстов изучаемой культуры, интерпретируемых специалистами-соотечественниками и, возможно, своими силами продолжать диалог культур, создавая новые и новые тексты, причем не только в соответствии с родной национальной традицией, но в соответствии с правилами и требованиями другой культуры. Эта гуманистическая тенденция получила отражение и в девизе перекрестного года России в Германии и Германии в России (2012–2013) – «Германия и Россия: вместе строим будущее». Очевидно, что успешное совместное строительство возможно лишь при условии взаимопонимания и взаимодействия. За любым контактом, взаимодействием, диалогом культур, в конечном итоге, стоят отдельные личности, как правило, яркие, талантливые, способные к пониманию «другого», к действию в инокультурных контекстах. Эта проблема заслуживает отдельного и специального изучения. В рамках настоящей статьи хотелось бы только отметить, что многие из известных во всем мире гениальных интерпретаторов получили поликультурное воспитание и образование, знали несколько языков, сами общались с представителями различных культур и изучали эти культуры. Какие же тексты ими избирались? Как показывает наша практика изучения диалога культур как диалога текстов, чаще всего это были так называемые прецедентные тексты. Выше нами приводились примеры текстов немецкой культуры, интерпретированных русскими авторами. К ним можно добавить интерпретацию шедевра классической немецкой литературы «Фауста» В. Гете, сделанную А.С. Пушкиным («Сцены из Фауста»), а в наше время одно460 именную киноинтерпретацию А. Сокурова; балет П.И. Чайковского «Щелкунчик», написанный на сюжет знаменитой сказки Э.Т.А. Гофмана. А поскольку одной из задач при изучении языка и культуры другой страны было и остается изучение прецедентных феноменов (текстов) этой страны, знание которых позволяет свободно общаться с носителями языка, существовать в иноязычном культурном контексте, то, видимо, на прецедентные тексты есть смысл обратить внимание как на тексты, подлежащие освоению (возможно, на разных уровнях) и усвоению в первую очередь. С другой стороны, очевиден и тот факт, что оригинальные прецедентные тексты могут быть достаточно сложны для изучающих язык на первых этапах обучения, поэтому, как представляется, для учащихся уровней А2–В1 можно пойти на компромисс, то есть предложить для чтения «тексты о текстах», то есть рассказы о том, как появлялись тексты-интерпретации, кто их создавал, в чем их своеобразие и ценность. Так, например, в пособии «Россия – Германия: диалог культур» присутствуют составленные авторами тексты: о создании книги Н.М. Карамзина «Письма русского путешественника», в которой знаменитый в будущем русский историк рассказал о городах Германии, о немецком характере, о встреченных им знаменитых немцах; о создании Александром фон Гумбольдтом трёхтомной монографии «Центральная Азия», написанной по материалам его путешествия на восток Российской империи; о работе в России театрального художника А.А. Роллера, декорации и костюмы которого зритель видел на сцене знаменитого Мариинского театра и др. Для уровня В1/В2 возможно использование оригинальных авторских текстов, демонстрирующих восприятие и оценку явлений другой культуры с точки зрения собственного культурно-языкового опыта их авторов. В качестве примера можно привести текст выступления знаменитого немецкого режиссера П. Штейна, в котором он выражает свою оригинальную точку зрения на драматургию А.П. Чехова, а также говорит о месте в своем творчестве постановок-интерпретаций чеховских пьес. С этой же целью возможно использовать и произведения художественной литературы, например рассказ Н.С. Лескова «Железная воля», посвященный жизни и трагической гибели в России немецкого инженера. Таким образом, ведущим принципом отбора текстов для пособия на материале диалога культур, становится прецедентность, причем среди прецедентных могут быть тексты различных жанров: художественные и публицистические, произведения фольклора и литературоведческие статьи, письма, мемуары и пр. 461 Пособие будет состоять из 9 блоков, каждый из которых посвящен тому или иному варианту диалога культур на руссконемецком материале – интерпретациям и заимствованиям – и разделен на две части по уровням владения русским языком: первая часть А1/А2 и вторая часть В1/В2. Это принципиально новое решение для пособий такого типа. До сих пор материалы, связанные с диалогом культур, использовались авторами учебников и пособий лишь на уровнях, начиная с В1. Объяснение этому простое – необходимый запас слов и грамматики не появляется у учащихся раньше. Однако нам представляется, что с этим утверждением можно поспорить. Дело в том, что: во-первых, авторы вправе выбирать такие варианты диалога культур и такие темы, которые позволяют читать и говорить, имея еще очень небольшой лексический запас, используя, по выражению В.В. Миронова, в начале коммуникации «межкультурный первичный словарь», позволяющий опираться на общее для двух культур и говорить об этом, что называется, «в двух словах». Нами были выбраны следующие темы: «Немецкие слова в русском языке», «Их именами названы... (немецкие имена на карте России, русские имена на карте Германии), «Русские художники в Германии, немецкие – в России», «Путешествия и путешественники», «Русский Берлин и немецкая Москва», «Заимствованные образы», «Перевод или интерпретация», «Экранизация зарубежной классики», «Эти странные русские...эти странные немцы». Нам представляется, что уже на ранних этапах изучения языка учащиеся, безусловно, могут употреблять немецкие слова, заимствованные русским языком; что им будет интересно сопоставить немецкие имена знаменитых ученых с их русскими вариантами и узнать, какие имена получили немецкие принцессы, взойдя на русский престол; они могут назвать улицу, на которой живут или на которой находятся известные памятники; купить книгу или билет на выставку; составить в общих чертах с помощью карты маршрут путешествия; кратко рассказать не только свою биографию, но и биографию ученого, художника или писателя, чье творчество внесло вклад в диалог культур между Россией и Германией и т.д.; во-вторых, на уровнях А1/А2 «не запрещено» использование родного языка учащихся. Приведем примеры того, как это сделано в пособии: 1. Каждый блок начинается с очень небольших по объему и очень простых по лексике и синтаксису вступительных текстов, которые предлагаются для чтения и на русском, и на немецком 462 языках и выполняют роль введения в тему. Например, блок пособия «Немецкие слова в русском языке» начинается так: «В ХVIII веке Россия «открыла окно в Европу» и в русский язык пришло много иностранных слов, в том числе и немецких. Эти слова называли новые для России предметы и понятия (Im 18. Jh. öffnete Russland sein “Fenster nach Europa” und in die russische Sprache kamen viele Fremdwörter, darunter auch deutsche. Diese Wörter benannten neue für Russland Gegenstände und Begriffe)». Блок «Путешествия и путешественники» начинается следующими текстами: «До ХIХ века путешествия были одним из основных способов получить знания о других странах, их географии, истории и культуре. Благодаря путешественникам были составлены первые географически карты, открыты месторождения полезных ископаемых, появились первые книги о “других” (Bis zum 19. Jd. waren Reisen eine der wichtigsten Möglichkeiten, Wissen über andere Länder, ihre Geographie, Geschichte und Kultur zu erhalten. Den Reisenden ist es zu verdanken, dass die ersten geografischen Karten erstellt und Vorkommen von Bodenschätzen erschlossen wurden, die ersten Bücher über die “Anderen” erschienen)». 2. Формулировки заданий также предлагаются на двух языках. Например: «Прочитайте “немецкие” слова и распределите их в таблице по группам (Lesen Sie die „deutschen“ Wörter und ordnen Sie sie den Gruppen zu)»; «Прочитайте, как звучат по-русски имена знаменитых ученых и писателей Германии. В таблицу впишите немецкие соответствия имен и фамилий. Сравните ударение в этих именах (Lesen Sie, wie die Namen bekannter deutscher Wissenschaftler und Schriftsteller auf Russisch lauten. Schreiben Sie die deutschen Entsprechungen für die Vor- und Familiennamen in die Tabelle. Vergleichen Sie die Betonung der Namen)». Различны на разных уровнях и тексты, как по размеру, так и по сложности. Так, например, для чтения на уровне А1/А2 предлагаются тексты от 5 до 10 строк с простыми предложениями, без фразеологизмов, стилистических фигур, но с использованием лексики соответствующего этапа обучения и интернационализмов, и заимствованных слов. Например: Немецкое «-бург» на карте России В России есть города, название которых включает немецкое слово Burg. Эти города построили в ХVIII веке. Екатеринбу́рг носит имя императри́цы Екатери́ны II. Оренбу́рг – город на реке 463 Орь. Шлиссельбург – город-крепость на Балтийском море. СанктПетербу́рг – город Святого Петра, столица Российской империи с 1712 по 1918 гг. Или: Города-побратимы У Санкт-Петербурга 90 городов-побратимов. Они находятся в Европе, в Азии, в Америке, в Африке, даже в Австралии, во многих странах мира. Два из них – в Германии. В 1957 г. городомпобратимом Санкт-Петербурга (тогда Ленинграда) стал Гамбург, а в 1961 году – Дрезден. Интересно, что Гамбург и Дрезден тоже города-побратимы. Одна из площадей Петербурга называется Гамбургской, а одна из его улиц носит название Дрезденская. А в Гамбурге есть Санкт-Петербургская улица, выходит ежемесячный журнал на русском языке «У нас в Гамбурге», а в 2004 г. открыт храм Иоанна Кронштадтского – одного из самых почитаемых святых Санкт-Петербурга. В Дрездене в честь города на Неве названы Ленинградская улица, отель «Нева» и трамвай «Санкт-Петербург». Связывает эти города и то, что Дрезден и Санкт-Петербург – культурные центры Германии и России. В соответствии с возможностями учащихся разных уровней владения языком составлен и методический аппарат пособия, направленный на активное включение учащихся в прямой диалог с предложенными текстами. Этот диалог представляется двухступенчатым: за рецепцией, т.е. чтением и пониманием текста, следует продукция, т.е. создание собственного текста, выражающего интерпретацию прочитанного на фоне опыта и знаний учащихся. Литература Диалог // Электронный ресурс: ru.wikipedia.org/wiki/. Каган М.С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений – М., 1988. Миронов В.В. Философия и метаморфозы культуры – М., 2005. Пассов Е.И. Метод диалога культур. Эскиз-размышление о развитии методической науки. – Елец, 2011. Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch / Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife // Электронный ресурс: http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_10_1 8-Bildungsstandards-Fortgef-FS-Abi.pdf Letzter Zugriff. 464 Смирнова Валентина Григорьевна (Россия, Москва; к.ф.н., проф. кафедры иностранных и русского языков Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина) [email protected] Лингвостилистическое и лингвокультурологическое комментирование художественного текста в иностранной аудитории Вспоминая о Пушкине, мы обращаемся к миру художественной литературы. Чтение художественного текста в иностранной аудитории – дело непростое, особенно в том случае, когда преподаватель ставит перед собой задачу освоения текста как объекта искусства, т.е. с учетом индивидуально-стилевых особенностей и подтекстовой информации. Без комментирования в этом случае не обойтись не только в иностранной, но и в русскоязычной аудитории. В переводческой деятельности также необходимо опираться на лингвистический, лингвостилистический, лингвокультурологический и литературоведческий анализ текста, в противном случае нельзя говорить о полноценном переводе. Применительно к задачам преподавания русского языка как иностранного на материале художественной литературы надо заметить, что если лингвистическому анализу и комментированию все-таки уделяется внимание, то лингвостилистический и лингвокультурологический подход к художественному тексту – большая редкость в существующих пособиях. Что входит в понятие «лингвостилистическое комментирование»? Надо признать, что в лингвостилистике не разработаны еще основные категории и методы исследования. Обычно лингвостилистическое комментирование трактуется как методический прием, ориентированный на выявление стилевой доминанты и 465 направленный на совершенствование навыков чтения художественной литературы. Лингвостилистическое комментирование художественного текста базируется на данных лингвистического анализа, который является первоосновой и необходимой предпосылкой последующего лингвостилистического комментирования. Единицы разных уровней языка (звуковой, лексический, грамматический) в различной степени способны нести эстетическую нагрузку. Лексический уровень в этом отношении является самым важным, так как в слове, помимо основного значения (или основных значений), заключены различные коннотации, задающие направление возможного переосмысления, а всякое художественное произведение есть не что иное, как сложный, определенным образом организованный смысл. Лингвистический комментарий для иностранной аудитории обеспечивает в основном понимание словесного уровня текста: как известно, процесс понимания иноязычного текста начинается с установления значения слов, при этом важно знание как общелитературного значения слова, его парадигматических и синтагматических связей, так и его культурных коннотаций. Если не обратить внимания на название рассказа М. Булгакова «Полотенце с петухом» и не прокомментировать его, то иностранный читатель останется в полной уверенности в том, что искалеченная девушка подарила врачу, спасшему ей жизнь, белое полотенце, в которое был завернут красный петух, а то, что он «вышитый», вполне может остаться незамеченным. Кстати, ни в одном пособии для иностранцев мы не нашли ни слова по этому поводу. Лингвистический комментарий, предназначенный для иностранных учащихся, должен быть объясняющим данный конкретный текст и обучающим, расширяющим лингвистическую компетенцию возможностью образного переосмысления. В пособии для иностранных учащихся «Русская нетрадиционная проза» обращает на себя внимание явное несоответствие комментария словоупотреблению в тексте. Читаем отрывок из рассказа Татьяны Толстой «Ночь»: «Мамочка совершает утренний обряд: трубит в носовой платок, натягивает на колонны ног цепляющиеся чулки, закрепляет их на распухших коленях колечками белых резинок. На чудовищную грудь водружает полотняный каркас, о пятнадцати пуговичках... В Мамочкином зените утвердится седой шиньончик... Мамочкин фасад укроется под белой, с каннелюрами манишкой, и, скрывая спинные тесемки, изнанки, тылы, служебные лестницы, запасные выходы, все величественное здание накроет плотный синий кожух. Дворец воздвигнут». Обратимся к комментарию. «Колонна (архит.) – высо466 кий столб, служащий опорой в здании или воздвигаемый как монумент»; «каркас – опорная часть какого-либо сооружения (например, здания)»; «зенит – в астрономии: точка небесной сферы, находящаяся над головой наблюдателя»; «фасад (архит.) – передняя сторона здания»; «каннелюра (спец. архит.) – вертикальное углубление на стволе колонны»; «кожух (спец.) – чехол, футляр, внешняя обшивка механизмов, их частей» [Яценко 2004, с. 45– 46]. Поставим себя на место иностранного читателя. Очевидно, что формальный подход в комментировании, не учитывающий образное переосмысление, не проясняет смысл, а вводит в заблуждение, затрудняя восприятие текста. Лингвостилистический анализ и комментирование представляет собой следующий этап работы с текстом, обычно на продвинутом этапе обучения. Основной задачей лингвостилистического комментирования является изучение индивидуально-авторского использования языковых средств. В этом плане оно помогает глубже и точнее понять значение слова, первооснову его многозначности. Дополнительные смысловые оттенки, которые слово получило в контексте, подчас являются источником стилистических приращений смысла и обеспечивают понимание дополнительной, подтекстовой информации [Шанский 1975, с. 111–113]. Предварительный лингвостилистический анализ направлен на выявление стилевой доминанты творчества писателя, он гарантирует при адаптации или переводе текста осознание тех языковых средств, которыми нельзя пожертвовать ни при каких условиях. Поясним, что мы имеем в виду. В известной всем русистам старшего поколения «Книге для чтения по русскому языку» в рассказе Л.Н. Толстого «После бала» татарин, которого жестоко наказывают за дезертирство, повторяет «одни и те же слова: «Братцы, пожалейте!». В этом же рассказе в «Хрестоматии по русскому языку для студентов-иностранцев» А.Ф. Конопелкина адаптация не затронула важный для Толстого смысл: «Он (наказываемый) не говорил, а всхлипывал: “Братцы, помилосердствуйте. Братцы, помилосердствуйте”. Но братцы не милосердствовали...». Безусловно, текст в «Книге для чтения» предназначенный для иностранцев, «владеющих русским языком в объеме элементарного курса», подвергнут большей адаптации, чем текст в хрестоматии А.Ф. Конопелкина, которая, заметим, адресована «студентам-иностранцам подготовительных факультетов университетов», но речь не об этом. Замена устаревшего глагола «помилосердствуйте» на «пожалейте» изъяла из текста важную для Толстого, обличителя церкви, информацию. «Помилосердствовать» – это не просто «пожалеть», «помилосердствовать» означает 467 по-христиански «простить». «Но братцы (для верующих: все люди – братья во Христе) не милосердствовали». Эта фраза, ее лексическое наполнение имеет особое значение для Толстого, который реакцией своего героя на экзекуцию («на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты тоска») показывает противоестественность жестокого наказания человека, взывающего к милосердию. Другой пример. В уже упомянутой хрестоматии А.Ф. Конопелкина адаптация рассказа А. Платонова «Машинист Мальцев» (в хрестоматии – «Машинист») привела к изъятию из текста очень важного для понимания идейного смысла рассказа фрагмента. Сравним 2 варианта: А. Платонов «Машинист» (хрестоматия): «Я ушел. Я не был другом Мальцева, но я хотел защитить его от горя и решил не сдаваться»; А. Платонов «В прекрасном и яростном мире» («Машинист Мальцев»): «Я ушел. Я не был другом Мальцева, и он ко мне всегда относился без внимания и заботы. Но я хотел защитить его от горя судьбы, я был ожесточен против роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающих человека; я почувствовал тайный, неуловимый расчет этих сил – в том, что они губили именно Мальцева, а не, скажем, меня. Я понимал, что в природе не существует такого расчета в нашем человеческом, математическом смысле, но я видел, что происходят факты, доказывающие существование враждебных, для человеческой жизни губительных обстоятельств, и эти губительные силы сокрушают избранных, возвышенных людей. И решил не сдаваться, потому что чувствовал в себе нечто такое, чего не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе, – я чувствовал свою особенность человека. И я пришел в ожесточение и решил воспротивиться, сам еще не зная, как это нужно сделать». Не трудно заметить, что адаптация, не основанная на лингвостилистическом и литературоведческом анализе, не только упрощает, но и, можно сказать, обесценивает текст с точки зрения идейно-художественного смысла. Поясним, что мы имеем в виду. Именно в этом фрагменте заключена основная мысль рассказа, на которую ориентировано платоновское название «В прекрасном и яростном мире». Исключая при адаптации данный фрагмент из текста, мы лишаем читателя авторской подсказки. То же собственно произойдет, если в известном рассказе А. Платонова «Возвращение» изъять из текста абзац: «Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших обес468 силивших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем». Подобная адаптация, безусловно, упростит чтение, но лишит читателя возможности проникнуть в платоновские «смыслы», ради которых написан рассказ. Поясним сказанное. Само название рассказа и платоновская метафора ориентирует читателя на осознание перемен в душе героя, увидевшего своих детей и почувствовавшего кровную связь с ними. Алогичность сочетания «билось (сердце) долго и напрасно всю его жизнь», если понимать его только в плане функциональной работы («сердце бьется»), снимается, поскольку контекстом задается другое, метафорическое осмысление этого сочетания. Глагол «биться» в этом сочетании реализует диффузно одновременно несколько значений: «2. Колотиться, ударяться обо что», «3. Содрогаться, трепетать», «4. Быть в движении (о пульсе, сердце), см СУ. Пробившееся, освободившееся сердце и есть «обнажившееся» сердце по ассоциации с выражением «обнаженная совесть, душа». Сердце Иванова, сбросившее «преграду», вышло из «заключения в нем», чтобы чувствовать непосредственно и, по Платонову, «точнее и действительней». То, что произошло с сердцем капитана Иванова («пробилось на свободу») напоминает метаморфозу: сердце из органа кровообращения превращается в душу и бьется уже не «напрасно». Не менее важен для понимания художественного текста лингвокультурологический, или лингвокультуроведческий подход. Как заметил К. Деви-Строс, язык есть одновременно и продукт культуры, и ее важная составная часть, и условие существования культуры. Более того, язык – специфический способ существования культуры, фактор формирования культурных кодов [Маслова 2010, с. 62]. Обращение к художественному тексту в иностранной аудитории предполагает как предварительный анализ, так и комментирование текста в аспекте национальной культуры. С одной стороны, это усложняет работу, с другой сторону, только в этом случае оправдано обращение к национальной художественной литературе в иностранной аудитории. Современная лингвистика ориентирована на изучение языковой картины мира. Язык есть важнейший способ формирования и существования знаний человека о мире. Понятие «картины мира» строится на изучении 469 представлений человека о мире. М. Хайдеггер писал, что при слове «картина» мы думаем прежде всего об отображении чего-либо, «картина мира, сущностно понятая, означает не картину, изображающую мир, а мир, понятый как картина» [Маслова 2010, с. 64– 65]. Между картиной мира как отражением реального мира и языковой картиной мира, как фиксацией этого отражения существуют сложные отношения. Картина мира может быть представлена с помощью пространственных (верх-низ, правый-левый, востокзапад, далекий-близкий), временны х (день-ночь, зима-лето), количественных, этических и других параметров. На ее формирование влияют язык, традиция, природа и ландшафт, воспитание и т.д. Ю.Д. Апресян подчеркивал донаучный характер языковой картины, называл ее наивной картиной. Языковая картина мира как бы дополняет объективные знания о реальности, часто искажая их. Поскольку познание мира человеком не свободно от ошибок и заблуждений, его концептуальная картина мира постоянно меняется, тогда как языковая картина мира еще долгое время хранит следы ошибок и заблуждений. Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и концептуализации мира, складывается в некую единую систему взглядов, представлений, характерных для носителей языка. Известную роль в формировании языковой картины мира играет литература. Трудно переоценить роль русской классической литературы в формировании русской языковой картины. Пушкин считал, что «климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии». В 30-е годы XIX века Пушкин поворачивается к миру таких реальностей, как русская природа, человек, история народа. Пушкин изучал все, имеющее отношение к жизни русского народа. В народных песнях (всего он собрал и записал 61 песню) он открыл свойство, которое он назвал «лестницей чувств» – «То разгулье удалое, То сердечная тоска». Это двуединство полярных начал, присущее духовному складу русского человека, отразилось в творчестве поэта. При самых мрачных ощущениях, при самом большом отчаянии поэзия Пушкина всегда подает надежду и утешение. Пушкин открыл в «образе мыслей и чувствований» русского народа такие моральные качества, которые не сводятся только к жалости или сочувствию, а образуют особое, органическое слияние понятий о правде, добре и красоте, придавая особую русскую окраску пониманию гуманизма. Пушкинская тема «маленького человека» исподволь привела к появлению термина «русская душа» с представлением о невозможности счастья на фоне общего страдания и унижения и осоз470 нанием ответственности человека за все происходящее. Этот нравственный критерий, означающий особое умение воспринимать мир по народной вере и правде, стал основной составляющей русской культуры. Лингвокультурологический анализ призван обнаружить в текстах, предлагаемых для чтения в иностранной аудитории, смыслы, актуальные для русской культуры. К сожалению, в неплохих учебных пособиях для иностранцев, изучающих русском язык, художественный текст обычно адаптируется и снабжается заданиями и упражнениями, ориентированными на изучение русской лексики и грамматики в отрыве от лингвостилистики и фоновых культурных знаний [Розанова, Шустикова 2006; Новикова, Щербакова 2008; Вишняков 2001]. В нашей статье мы коснемся этических представлений русского человека, которые на протяжении уже нескольких столетий формируются на основе пушкинского мировидения, затрагивающего прежде всего сферу отношения к родине, ее природе, ее истории и сферу личных отношений – любви, вражды и дружбы. К сожалению, не так часто при изучении русского языка как иностранного обращаются к чтению Н.С. Лескова. Тогда как сам Лесков заметил, что сила его таланта в положительных типах: «Я дал читателю положительные типы русских людей». Так, при умелой адаптации сказ о тульском мастеровом «Левша» может дать интереснейший культурологический материал. Это касается прежде всего эмоционально-образной составляющей русского языка: междометий, усиливающих экспрессивность разговорной речи: ах, ох, ну; образных выражений, передающих народное мироощущение: живьем съест; я вам голову сниму; Левши дело выгорело; а у нас так глаз пристрелямши; утро вечера мудренее; как снег на голову; шуба овечкина, так душа человечкина. Сами образы, представленные в рассказе, также имеют значение для понимания сути русского характера. Главный герой сказа не имеет имени. Левша – это прозвище, так называют человека, у которого рабочей является левая рука. Однако, благодаря сказу Лескова, слово «левша» получило культурную коннотацию: «русский умелец, патриот, представитель русского народа». «Там, где стоит «Левша», надо читать «русский народ», – говорил Лесков. В современном мире одной из самых актуальных является экологическая проблема. Для многих русских писателей защита окружающей среды тесно связана с проблемой нравственной деградации человека. Свою задачу как писателя Виктор Астафьев видел в том, чтобы «понимать добро, утверждать его». По его мнению, «защита природы – это глубоко человеческая задача, 471 если хотите, это защита самого человека от нравственного саморазрушения». Повествование в рассказах В. Астафьева «Царьрыба» напоминает известное произведение американского писателя Э. Хемингуэя «Старик и море», но смысловое наполнение этих произведений различно. Хемингуэй создает гимн человеку, ведущему борьбу до победного конца, а рассказ В. Астафьев вызывает совсем другие чувства и ассоциации, отчасти благодаря названию «Царь-рыба». Как замечено С.Г. Тер-Минасовой, в русском языке, впрочем, как и в английском, слово «царь» имеет в основном положительные коннотации. Это подтверждают сочетания: Царь небесный, Царь царей, Царь зверей, Царь птиц, Царь природы (человек), Царь лесов, Царь-колокол, Царь-пушка. И английский, и русский язык, несмотря на исторические события, наделяют монарха наивысшими достоинствами: он самый великий всемогущий, благородный, сильный, выгодно отличающийся от всех и всех превосходящий» [Тер-Минасова 2004, с. 101–105]. В рассказе о рыбе говорится двойственно: и в возвышенном стиле – царь-рыба, волшебная, сказочная, долгожданная, редкостная, богоданная, и со сниженной, даже подчеркнуто негативной оценкой – зловещая, здоровенная, рыбина, чудовище, тварь, отвратная, гада, требуха. Само описание осетра, крупной хрящевой рыбы, ценной своим мясом и икрой (черной), внушает ужас человеку. У нее грузное тело, круглая спина; хвост изогнутый, перепончатый, крылатый; толстое нежное брюхо; жабры ее хлопают, скрипят; чуткие присоски; мягкие, безжильные, как бы червячные усы; костяной панцирь, защищающий покатый лоб; маленькие глазки с желтым ободком вокруг темных зрачков; глазки без век, без ресниц, голые, глядящие со змеиной холодностью; хрящ холодного носа, острие носа; хрустит жабрами и ртом; чавкает ртом; мясо – нежное, бабье мясо, сплошь в прослойках свечного, желтого жира; глазки, плавающие в желтушном жиру. «Реки царь (царь-рыба) и всей природы царь (человек) – на одной ловушке. Караулит их одна и та же мучительная смерть». Схватка с царь-рыбой напоминает Игнатьичу о его «тяжком грехе» – надругательстве над женщиной. Осознание этого греха становится спасительным для героя рассказа: «Но не зря сказывается: женщина – тварь божья: за нее и суд, и кара особые. Вот и прими заслуженную кару! Прощенья, пощады ждешь? От кого? Природа, она, брат, тоже женского рода! Прими все муки сполна за себя и за тех, кто под этим небом, на этой земле мучает женщину». В русском языке категория рода, «наделяющая все существительные, а значит все предметы окружающего мира свойствами мужскими, женскими или нейтраль472 ными, «средними», свидетельствуют о более эмоциональном отношении к природе, к миру, об одухотворении этого мира» [ТерМинасова 2004, с. 202]. Итак, существительные Царь-раба, природа, женщина – женского рода, соответственно возникает и глубокий обобщающий смысл произведения В.Астафьева. В этой связи небезынтересно вспомнить о Есенине, у которого Россия ассоциировалась с коровой. Обращает внимание и обилие в приведенном фрагменте текста восклицательных знаков, свидетельствующих о повышенной эмоциональности. Как замечено, в русском языке восклицательный знак употребляется гораздо чаще, чем в английском, что свидетельствует не только о повышенной эмоциональности, но и о более открытом проявлении эмоций» [Тер-Минасова 2004, с. 195–200]. Читая рассказ В. Шукшина «Психопат» в иностранной аудитории, да, собственно говоря, и в современной русскоязычной, можно столкнуться с трудностью в понимании реплики героя относительно молодежи 60-х годов: «Да чтобы вас черт побрал с вашими бородками, с вашими гитарами!.. Дую спик инглишь, сэр? Лескова надо читать, Лескова! Чехова, Короленку... Потом Толстого Льва Николаевича. А то – гитара-то гитара, а квакаем пока. А уж думаем – соловьи». Все это может показаться набором слов, если не знать о том, что в 60–70-е годы была особенно популярна гитара, особым шиком считалось сказать несколько фраз на иностранном языке, в моде была бородка, очки. Внешние приметы образованного человека есть, а подлинной интеллигентности и желания служить своему народу – нет. Так что бессвязная, на первый взгляд, речь деревенского библиотекаря означает критику молодежи, оторвавшейся от родной почвы, от лучших традиций русского народа и русской интеллигенции. Ссылка на русских писателей тоже не случайна. Народный гуманизм этих писателей был основой веры в творческие и душевные силы русского человека. Одним словом, без фоновых знаний в области русской культуры важные для рассказа смыслы будут потеряны. Позволим себе заметить, что в произведениях крупных русских писателей всегда есть культурологическая составляющая, делающая обращение к их творчеству вдвойне обоснованным. В.М. Шукшин был собирателем русского характера, в своих рассказах он передает своеобразие мировидения русского деревенского человека. При чтении рассказа, думаем, в комментировании нуждается и такое слово, как подвижник. В церковной литературе «подвижник» значит «человек, подвергающий себя лишениям ради спасения души, аскет», самоотверженный борец за достижение высоких целей. Положительная коннотация этого слова чрезвычайно 473 важна для понимания сути характера героя и не должна остаться без внимания читателя. В заключение заметим, что обращение в иностранной аудитории к художественной литературе только как к текстовому материалу, не вполне рационально и оправдано, во всяком случае этот материал может дать намного больше сведений о языке и культуре изучаемого языка. Литература Вишняков С.А. Русский язык как иностранный: Учебное пособие. – М., 2001. Зализняк Анна А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. – М., 2005. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М., 2010. Новикова Н.С., Щербакова О.М. Синяя звезда. Рассказы и сказки русских и зарубежных писателей с заданиями и упражнениями: Учебное пособие. – М., 2008. Розанова С.П., Шустикова Т.В. Человек среди людей: Книга для чтения. М., 2006. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М., 2004. Шанский Н.М. Программа курса «Лингвистический анализ художественного текста // Анализ художественного текста. – М., 1975. – Вып. 1. Яценко И.М. Русская нетрадиционная проза. – СПб., 2004. 474 Субботина Марина Валентиновна (Россия, Чебоксары; д.ф.н., зав. кафедрой коммуникационных технологий Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева) [email protected] Формирование читательских компетенций: методологический этюд Культура мышления как умение воспринимать, анализировать и обобщать информацию суть общекультурной компетенции, входящей во все общеобразовательные программы, является следствием развития читательских навыков / читательских компетенций. Учить «много в чтении и в беседе при беспрестанном трении умов», по воспоминаниям Модеста Корфа, было основной методикой в педагогической деятельности преподавателей Императорского Лицея. В Уставе Лицея в разделе «Изящные письмена, или словесность» сказано: «...Руководствуя воспитанников в словесности», профессор должен тщательно избегать «пустых школьных украшений» и, занимая воспитанников предметами, «возрасту их сообразными», прежде заставлять их мыслить, ...и «никогда не терпеть, чтобы они употребляли слова без ясных идей». В «Правилах особенных в курсе окончательном» отмечалось, что «науки нравственные, физические и математические должны занимать первое место». «Под именем наук нравственных здесь заключаются все те познания, кои относятся к нравственному положению человека в обществе, и, следовательно, понятия об устройстве Гражданских обществ, о правах и обязанностях, отсюда возникающих» [Царскосельский лицей...]. Не смешаться с толпой людей обыкновенных, пресмыкающихся в неизвестности, научиться любви к Отечеству нельзя без овладения культурой чтения, – главная мысль «Наставлений воспитанникам» в речи профессора Куницына, прочитанной 475 19 октября при открытии Царскосельского Лицея [Царскосельский лицей...]. Читательские компетенции описываются терминами риторики. По Ю.В. Рождественскому, термины риторики входят в разряд терминов искусства и в разряд терминов науки [Рождественский 2003, с. 108]; оба разряда квалифицируются как личные термины: в составе сем этих терминов можно четко видеть смысловой оттиск всей школы автора-мастера-учителя. Анализ корпуса русских переводов Аристотеля, а также комментариев к этим переводам, позволяет реконструировать выведенный Аристотелем алгоритм обучения читательским компетенциям. Феномен Аристотеля-ученого характеризуют словами Платона как «ум собеседования», где «собеседование» (греческое слово diatribē) имеет значение – «человеческое общение». Жилище Аристотеля Платон называл «домом чтеца». Согласно сообщению Цицерона, – на которое указывает А.Ф. Лосев, – Аристотель собрал, сопоставил и объединил всех старых писателей по риторическому искусству, начиная с Тиссия. Предписания каждого из них он поименно записал с великой тщательностью, разъяснил трудности и старательно истолковал. При этом он настолько превзошел самих этих первых основателей риторики красотой и краткостью речи, что никто уже не захотел знакомиться с их предписаниями из их собственных книг, но все желающие понять, к чему в действительности сводятся их советы, обращались к книге Аристотеля как гораздо более удобному объяснению» [Лосев, Тахо-Годи 1993, с. 264]. Феномен учения Аристотеля заключается в восприятии всего существующего как произведения искусства. Такое восприятие Аристотель обосновывал выведенным им первопринципом художественности всякого бытия, по которому каждая вещь – это овеществленная форма с причинно-целевым назначением. И метод постижения художественности бытия всякой вещи – риторический, суть которого в логическом расчленении всякой сложной вещи до первообразующих элементов. Применение каждого логического пассажа из реконструируемого алгоритма к современной речевой практике позволяет пошагово тестировать актуальность риторических технологий Аристотеля. Начальная ступень заданного алгоритма – выявление довода. По Аристотелю, довод это интеллектуально-рефлективное суждение, занимающее место причины в высказывании, имеющем причинно-следственную / целевую логическую конструк476 цию. Все высказывание может иметь форму, как законченного произведения словесности, так и его части, вплоть до одного предложения (или его части). Вот пример из Возражения критикам «Полтавы», опубликованного в альманахе «Денница» в 1831 г. и изданном М. Максимовичем, с заголовком: «Отрывок из рукописи Пушкина (“Полтава”)»: «Наши критики взялись объяснить мне причину моей неудачи – и вот каким образом. Они, во-первых, объявили мне, что отроду никто не видывал, чтоб женщина влюбилась в старика, и что следственно любовь Марии к старому гетману (NB: исторически доказанная) не могла существовать» ([Пушкин]; курсив наш. – М.С.). В выделенном курсивом высказывании доводом является отроду никто не видывал, чтоб женщина влюбилась в старика, поскольку представляет собой интеллектуально-рефлективное суждение, занимающее место причины по отношению к положению: исторически доказанная любовь Марии к старому гетману не могла существовать; – почему? – потому что отроду никто не видывал, чтоб женщина влюбилась в старика. Характерологическим свойством высказывания является наличие у него парадигмы. Образование парадигмы основывается на категории модальности довода. Под модальностью довода понимается приемлемость суждения обществом. Если на место причины помещается истинное или первое положение (достоверно не через другие положения, а через самое себя: не нужно спрашивать, «почему?») или положение, берущее начало от первого или истинного, то все высказывание предстает как доказательство. Если на место причины помещается положение (1) правдоподобное, (2) согласующееся с (3) приобретенными (4) искусствами (оценивается как правильное людьми авторитетными: мудрыми и известными), то высказывание – диалектическое. Если на место причины помещается положение, кажущееся правдоподобным, но на деле не таковое, – высказывание эристическое. (Эффект правдоподобности может создаваться путем озвучивания / словесного овеществления того, что, хотя и не существует в реальности, но очень желанно как реальность слушающему: например, сумасшествие Чацкого желанно «фамусовскому обществу»). Если на место причины помещается описание чего-то, свойственного той или иной науке, но описание делается неправильно, высказывание носит название паралогизма. 477 Из четырех вариантов, образующих парадигму (инвариант) причинно-следственного высказывания, только диалектическое высказывание может быть, по Аристотелю, дидактическим материалом, обеспечивающим надежность в воспитании читательских компетенций. Как предмет студийных упражнений диалектические высказывания, по мысли Аристотеля, обеспечивают надежную диагностику общественного состояния и служат основой для компетенций в построении диалога практического, и для образования личностных философских знаний. Поэтому второй алгоритмической ступенью является отбор диалектических высказываний. Сила убедительности диалектического высказывания возрастает, когда его логико-семантическая структура реализуется либо в форме наведения, либо в форме силлогизма. Под наведением понимается восхождение от единичного факта к массовому явлению. Такое построение высказывания характеризуется как более доступное и убедительное для чувственного восприятия. Например: «“................ – и только перед гробом Я тихую молитву сотворил, Глаза мои прозрели; я увидел И Божий свет, и внука, и могилку”. Вот, государь, что мне поведал старец. <...> Я посылал тогда нарочно в Углич, И сведано, что многие страдальцы Спасение подобно обретали У гробовой царевича доски. Вот мой совет: во Кремль святые мощи Перенести...» [Пушкин 1986, с. 405]. Довод: сведано, что многие страдальцы Спасение подобно обретали У гробовой царевича доски, – поскольку занимает место причины: почему мощи – святые. Построение в виде силлогизма более неодолимо и действенно против тех, кто склонен спорить (при этом, наведение может входить в структуру силлогизма, например, в качестве одной из посылок): «.................. невозможно быть, Чтоб мы в своем веселом пированье Забыли Джаксона! Его здесь кресла Стоят пустые, будто ожидая Весельчака – но он ушел уже В холодные подземные жилища... 478 1-я посылка 2-я посылка Вывод: Хотя красноречивейший язык Не умолкал еще во прахе гроба; Но много нас еще живых, и нам Причины нет печалиться. ..................» [Пушкин 1986, с. 478]. Почему Причины нет печалиться? – доводы: 1) красноречивейший язык Не умолкал еще во прахе гроба; 2) много нас еще живых (наведение). Довод, как рефлективное суждение, обусловлен проблемой. Под проблемой у Аристотеля понимается некая речевая предметность в виде вопроса текущего бытия, относительно чего в дискурсе генерируются причинно-следственные высказывания. Словесное формулирование проблемы осуществляется в процедуре речемыслительных опытов с материалом довода. Это третья ступень алгоритма. Процедура речемыслительных опытов с доводом состоит из 4-х моментов. Во-первых, исходя из семантики высказывания сформулировать имплицитно присутствующий в дискурсе вопрос (проблему). Вопрос должен быть направлен на получение однозначного ответа – да или нет. Например, в высказывании: Не изменяй теченья дел. Привычка – Душа держав [Там же, с. 419], – довод: Привычка – душа держав (занимает место причины: – почему нельзя изменять теченья дел? – потому что привычка – душа держав). В семантике высказывания имплицирована проблема успешности и безопасности управления. Дан ответ на вопрос: можно ли (стоит ли) изменить тип управления государством? Второй момент в процедуре речемыслительных опытов: определение логической структурообразующей категории довода. Такой структурообразующий материал представлен четырьмя категориями: 1) род, 2) определение, 3) собственное, 4) привходящее. В основе различения категорий лежит векторность смыслов. Род характеризуется радиальной векторностью (открытое множество векторов, направленных из одной точки); указывает на общую суть многих и различных вещей. Категория тестируется вопросом: что именно есть эта обсуждаемая предметность? 479 Например, в том же высказывании: Не изменяй теченья дел. Привычка – Душа держав [Пушкин 1986, с. 419], – в доводе названа суть, которая заключается во многих и различных вещах (не только проблемы управления) – привычка. Логическая структурообразующая категория данного довода – род. Определение характеризуется вектором однонаправленным: заменяет (с целью определения сути бытия вещи) 1) имя → речью, 2) речь → речью, 3) имя → именем (синонимом); (язык, в котором много определений, язык с активными компетенциями, язык, переназывающий действительность). Например, определением является довод сколько раз заведомые бредни оказывались золотыми россыпями для пытливого искателя! В высказывании «Тем более не пренебрегайте древними свалками памяти простонародной: сколько раз заведомые бредни оказывались золотыми россыпями для пытливого искателя!» [Леонов] занимает место причины: 1) почему не пренебрегать древними свалками памяти простонародной?; 2) потому что сколько раз заведомые бредни оказывались золотыми россыпями для пытливого искателя! В высказывании имплицирована проблема семантической сферы для поиска руководящих решений. Ср.: деятельность братьев Гримм. Логическая структурообразующая категория довода – определение: характеризуется вектором однонаправленным, заменяет имя речью с целью определения бытия вещи: заведомые бредни (древние свалки памяти простонародной) – золотые россыпи для пытливого искателя. Собственное характеризуется вектором обоюдонаправленным: предикат и объект взаимозаменяемы. Факт категории собственного тестируется экспликацией союза если.., то. Например: Если человек, то способен научиться читать и писать. Если способен научиться читать и писать, то человек. (Язык, в котором много собственного, язык, где переписывается история.) Привходящее характеризуется возможной векторностью. Указывает на непостоянную характеристику обсуждаемого объекта. В привходящем часто употребляется словесная метафора и метонимия. Например, в высказывании: «Напрасно прежние, в порядке очередности созревавшие души ненаписанных книг ломились из 480 меня наружу, как из горящего дома. Им приходилось посторониться, пока через кончик пера, как по трапу, не сойдет на бумагу скромная, с веснушками и в ситцевом платьице, снаружи ничем для глаза не примечательная девочка со старофедосеевской окраины. Отсюда смутная, пока столь заманчивая на дальнем прицеле и, оказалось впоследствии, неосуществимая тема размером в небо и емкостью эпилога к Апокалипсису» [Леонов] довод – созревавшие души ненаписанных книг вынуждены... посторониться перед девочкой – занимает место причины: 1) почему образовалась тема размером в небо и емкостью эпилога к Апокалипсису?; 2) потому что созревавшие души ненаписанных книг вынуждены посторониться перед девочкой. В высказывании имплицирована проблема границ темы: только ли волей автора определяются границы темы? влияют ли на границы темы текущего произведения отложенные замыслы (замыслы, не овеществленные автором по самопринуждению, ради иерархии в осуществлении замыслов)? Существует ли взаимосвязь между порядком в осуществлении замысла и границами темы? Логическая структурообразующая категория довода – привходящее: указывает на непостоянную характеристику обсуждаемого объекта (души ненаписанных книг), сочетается с наличием многозначной культурологической метафоры. Ср.: В. Набоков. Какое сделал я дурное дело (27 декабря 1959, Сан-Ремо): Какое сделал я дурное дело, и я ли развратитель и злодей, я, заставляющий мечтать мир целый о бедной девочке моей. О, знаю я, меня боятся люди, и жгут таких, как я, за волшебство, и, как от яда в полом изумруде, мрут от искусства моего. Но как забавно, что в конце абзаца, корректору и веку вопреки, тень русской ветки будет колебаться на мраморе моей руки. [Антология русской поэзии]. Третий момент в процедуре речемыслительных опытов: определение вопроса, с которым сочетается структурообразующая категория. Аристотелем составлен список из десяти вопросов: 1) что именно есть? 481 2) сколько? 3) какое? 4) по отношению к чему? 5) где? 6) когда? 7) находиться [в каком положении?], 8) обладать [чем?], 9) действовать [как?], 10) претерпевать [что?]. Например, привходящее, как структурообразующая категория довода – созревавшие души ненаписанных книг вынуждены... посторониться перед девочкой – сочетается с десятым аналитическим вопросом – что должны претерпеть души ненаписанных книг? (– вынуждены посторониться перед девочкой). Четвертый момент в процедуре речемыслительных опытов: определение культурологической этимологии речевых элементов довода. Для этого необходимо 1) определить культурологический этимон употребленного в доводе речевого элемента; 2) найти различия употребленного в доводе элемента с его культурным этимоном; 3) рассмотреть сходства элемента с его культурным этимоном; 4) разобрать, в скольких культурологических значениях употреблен речевой элемент. Результатом проведения речемыслительных опытов с доводом является топ. Подобно окультуренной земле, топ это окультуренное речемыслительными опытами место, благодаря чему оно становится общим. Топы составляют логико-семантический культурный арсенал человечества, государства, нации, профессионального сообщества; из них формируется тезаурус личности. Топ – это риторически проштудированный довод. Риторически проштудированный довод – свидетельство риторического зрения; это текст, получивший силу благодаря «просеиванию» его через историю культуры рече-мысли; ритор как бы смотрит на предмет своего речевого делания и, отсюда, приобретает контроль над логикой довода, а следовательно, и над возможными способами опровержения своего довода со стороны оппонентов. Общим следствием довода, приобретшего статус топа, является ясность речи. Весь алгоритм может быть представлен в виде следующей схемы (см. схему 1): 482 Схема 1 1. Выявление довода Занимает ли в высказывании место причины? нет да 2. Определение модальности довода и отбор диалектических высказываний Согласуется ли с приобретенными искусствами? нет да 3. Речемыслительные опыты с доводом: 3.1 Определение проблемы, обусловившей довод; 3.2 Определение логической структурообразующей довода; 3.3 Определение вопроса, с которым сочетается структурообразующая категория довода. Приобретение риторических навыков/ овладение читательскими компетенциями В упражнениях по заданному алгоритму приобретается навык отличать истинное от ложного в каждом конкретном случае. Текущая общественная (и частная) жизнь генерирована прецедентными текстами и читательскими компетенциями. В основе организации и функционирования любого общества находится принятый в нем корпус прецедентных текстов всех фактур – устной, письменной, печатной и электронной. Актуализация семиотического контента принятых в обществе текстов, или иначе – дискурс – обусловлен пользовательскими компетенциями читателей, – умениями читателей понимать, принимать, передавать и хранить текст. Платон сохранил высказывание софиста Протагора из Абдер (ок. 444), выводившего все познание из ощущений: «Человек есть мера всех вещей существующих, что они существуют, и не существующих, что они не существуют» и высказывание софиста Продика Кеосского: «Каковы те, кто пользуется вещами, таковыми необходимо быть для них и самим вещам» [Лосев 1994, с. 13]. Центром формирования читательских компетенций – научения чтению с беспрестанным трением ума – являются студийные упражнения с доводами диалектических высказываний (см. схему 2). 483 Схема 2 Положение Убедительность высказывания Довод Довод Довод Безопасность общества Характерологические свойства читателей (читательские компетенции) Как убедительность всякого высказывания обусловлена содержанием доводов, на которых основывается то или иное положение, так мерой понимания доводов читателями обусловлена степень безопасности общества. Литература Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. – М., 1996. Антология русской поэзии // Электронный ресурс: http://www.stihirus.ru/1/nabokov/36.htm. Аристотель // Электронный ресурс: http://lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/ kategorii.txt. Аристотель // Электронный ресурс: http://lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/ aristotel1_1.txt. Леонов Л.М. Пирамида // Электронный ресурс: http://lib.aldebaran.ru/ author/leonov_leonid/leonov_leonid_piramida_t1. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. – М., 1993. Лосев А.Ф. История античной эстетики. М., 1994. Пушкин А.С. Сочинения: В 3 т. – М., 1986. – Т. 2. Пушкин А.С. // Электронный ресурс: http://az.lib.ru/editors/p/pushkin_ a_s/text_1831_vozrazhenia.shtml. Рождественский Ю.В. Философия языка. Культуроведение и дидактика. – М., 2003. Царскосельский лицей. Новый Акрополь. Философская школа // Электронный ресурс: http://www.newacropol.ru/study/child/licey/. 484 Хасыети Хацзи (Китайская Народная Республика, Урумчи; д.ф.н., доц. кафедры русского языка Синьцзянского университета) [email protected] Перевод – способ межкультурной коммуникации Как известно, перевод является одним из древнейших видов разумной человеческой деятельности. Служа средством общения людей различных национальностей, перевод является средством межъязыковой и межкультурной коммуникации. Как один из видов языкового посредничества, перевод отличается от сокращенного изложения, пересказа и других форм воспроизведения текста тем, что он является процессом воссоздания единства содержания и формы подлинника. «Перевести – значит выразить верно и полно средствами одного языка то, что уже выражено ранее средствами другого языка» [Федоров 1983, с. 75]. Согласно А.Д. Швейцеру, «Перевод может быть определен как однонаправленный и двухфазный процесс межъязыковой и межкультурной коммуникации, при котором на основе подвергнутого целенаправленному (переводческому) анализу первичного текста создается вторичный текст (метатекст), заменяющий первичный в другой языковой и культурной среде... Процесс, характеризуемый установкой на передачу коммуникативного эффекта первичного текста, частично модифицируемый различиями между двумя языками, двумя культурами и двумя коммуникативными ситуациями» [Швейцер 1988, с. 75]. Как деятельность межкультурной коммуникации, перевод требует специальной подготовки, навыков и умения. Она предполагает совершенное владение иностранным и родным языком, знание не только своей, но и иноязычной культуры. «Успешная межкультурная коммуникация предполагает сознание, совместное знание. Это в значительной степени продукт 485 социализации человека, усвоения им хранимого языком общественного опыта» [Верещагин, Кастомаров 2005, с. 26.]. Один из методологических принципов, о которых мы всегда должны помнить, пишет Т. Ван Дейк, «заключается в том, что понятие прагматического контекста является теоретической и когнитивной абстракцией разнообразных физико-биологических и прочих ситуаций» [Дейк 1989, с. 19]. Необходимо отметить, что типизированный прагматический контекст является структурированным. Известно, что в процессе перевода взаимодействуют не только два языка и более, но две культуры, имеющие как общую, так и национальную специфику. Выявление общего, интернационального, общечеловеческого и частного, особенного, национального является принципиальным при изучении такого явления, как межкультурная коммуникация. Становится все более очевидным, что человечество развивается по пути расширения взаимосвязей и взаимозависимости различных стран, народов и культур. Различные по своей истории, традициям, языку и религии культуры развиваются, взаимодействуют и влияют друг на друга посредством межкультурной коммуникации. Перевод – это акт не только лингвистический, но и культурный, акт коммуникации на границе культур. Процесс перевода всегда имеет два аспекта – язык и культуру, так как они неразделимы. Язык и культура взаимосвязаны: язык не только выражает культурную реальность, но и придает ей форму. Смысл лингвистического элемента ясен только тогда, когда он согласуется с культурным контекстом, в котором употребляется. Переводчики должны уделять большое внимание различиям в качестве и степени конвенциональности при переводе текста с языка одной культуры на язык другой. «Необходимо отметить особую роль, которая принадлежит лингвокультурологии как науке, возникшей на стыке лингвистики и культурологии, и исследующий проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке» [Маслова 2001, с. 28]. Наличие общечеловеческого начала обусловлено тем, что мышление у людей, говорящих на разных языках, в своих главных очертаниях остается сходным или одинаковым. Внешние условия жизни, материальная действительность определяют сознание людей и их поведение, формируют картину мира. В то же время конкретные внешние условия существования отдельного этноса (географические, физиолого-антропологические особенности, культурно-бытовые традиции и др.) формиру486 ют специфические качества и совокупности представлений, определяющие основу национальной концептуальной картины мира и национальной языковой картины мира. Мы обнаруживаем, что языки по-разному членят действительность, различно описывают одни и те же явления и предметы, обращая внимание на разные их признаки. Так, для россиян хлеб является главным компонентом их рациона, кроме того, хлеб считается не просто продуктом питания, а символом гостеприимства и достатка. Хлеб – всему голова. Поэтому и существует в русском языке обилье выражений со словом «хлеб», например: хлеб-соль; хлеб-соль ешь, правду режь; даром есть хлеб; легкий хлеб; верный хлеб; заработать на хлеб и т.п. А в Китае основным продуктом питания является рис, на его основе изготавливается много других продуктов. Например, рисовая лапша, рисовый уксус и рисовая водка, а особые рисовые лепешки известны на весь мир. И в китайском языке много выражений со словом 米 (рис) или 饭 (рис). Например: 饭碗 (буквальный перевод: чашка для риса; смысл: ‘работа, кусок хлеба’); 夹生饭 (буквальный перевод: полусырой рис; смысл: ‘не довести дело до конца’); 鱼米之乡 (буквальный перевод: край рыбы и риса; смысл: ‘богатое, плодородное место’); 生米煮成熟饭 (буквальный перевод: сырой рис уже стал готовым; смысл: ‘дело сделано, уже ничего не поправишь’); 巧妇难为无米之炊 (буквальный перевод: даже самая хорошая хозяйка не сварит кашу без крупы; смысл: ‘из ничего не выйдет ничего’. Данные примеры свидетельствуют о том, что каждый этнос имеет собственное представление о мире, об общих явлениях культуры во всех сферах. Речь здесь идет не только о том, что в одной этнической культуре могут отсутствовать некоторые элементы, имеющиеся в другой культуре, но и о том, что отношение к тем или иным объектам, существующим в общечеловеческой культуре, может быть различным. Эти объекты могут вызывать разные ассоциации, то есть по-разному сопоставляться с культурным опытом народа. Своеобразие национальных языковых картин мира и множественность культур не является препятствием для взаимопонимания народов и преодолевается при переводе. Однако межкультурное общение адекватно и успешно протекает только тогда, когда коммуниканты, являющиеся носителями разных культур и языков, осознают тот факт, что каждый из них является другим и 487 каждый воспринимает попеременно чужеродность партнера. Ознакомление с культурой других народов – одна из важнейших социальных функций перевода. Переводчик является как бы удвоенной языковой личностью. Он воспринимает иноязычную текстовую деятельность с позиции лингвокультуры иноязычного социума. А затем переходит на родной языковой и социокультурный коды. «Перевод как особый род речевой деятельности является одним из основных и общепринятых средств межкультурной коммуникации, так как очень часто именно переводчик становится посредником в обмене информацией. Отсюда проблема перевода представляется в двух ипостасях – в собственно языковом (переводческом) смысле, перевод одного языка на другой;а также в смысле понимания, перекодировки содержания через канал связи между говорящим и адресатом» [Нелюбин 1997, с. 70]. Например, в известном рассказе Лу Синя «Пожелания», после смерти мужа героиню Сян Линьсау свекровь вынудила вступить во второй брак. А жители городка говорят об этом: «祥林嫂)现在是交了好运了。她婆婆来抓她回去的时候,是 早已许给了贺家坳的贺老六的,所以回家之后不几天,也就装在 花轿里抬去了。 “阿呀,这样的婆婆!......” 四婶惊奇的说。». Буквальный перевод данной части: – Да, ей повезло! Когда свекровь разыскала ее и увезла домой, она уже была просватана за Хэ Лао-лю, из селения Хэцзяао. Спустя несколько дней ее посадили в свадебные носилки и отправили к жениху. – Ай-я! Вот это свекровь! – изумленно сказала тетушка. В эпоху, которую описал Лу Синь, считали позором, если женщина после смерти мужа выходила второй раз замуж. Поэтому китайским читателям понятно, почему люди так сильно реагируют на то, что произошло с Сян Линьсау. А русских читателей, скорее всего такая реакция удивит. Переводчик дал пояснение к переводу: В феодальном Китае считалось позором, если женщина после смерти мужа выходила второй раз замуж. В рассказе приводится необычный случай, когда свекровь принуждает невестку-вдову вступить во второй брак. Так, при переводе с языка на язык необходимо учитывать различия между разными культурами. В.Г. Гак справедливо указывает: «Для достижения адекватного перевода приходится не только решать задачу: что и как переводить, но и задачу: что добавить или, напротив, опустить, при переводе» [Гак 1998, с. 513]. 488 Литература Верещагин Е.М., Кастомаров В.Г. Язык и культура. – М., 2005. Гак В.Г. Языковые преобразования. – М., 1998. Дейк Т.А. Язык, познание, коммуникация. – М., 1989. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М., 2001. Нелюбин Л.Л. Переводоведение в ретроспективе // Филология. – Philologica (Краснодар). – 1997. – № 12. Федоров А.В. Искусство перевода и жизнь литературы. (Очерки). – М., 1983. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. – М., 1988. 489 Ходжиматова Гулчехра Масаидовна (Таджикистан, Душанбе; д.п.н., зав. кафедрой методики преподавания русского языка и литературы Таджикского национального университета) [email protected] Сопоставительный анализ терминологической лексики в русском и таджикском языках в процессе обучения подъязыку специальности Следует отметить, что при обучении языку специальной научной литературы главное место отводится учету особенностей контактирующих языков русского и таджикского. Выявление специфики таджикского языка при обучении русскому языку создает основу для целенаправленного преподавания русского языка студентов-таджиков, ибо опора на родной язык обучаемых – необходимое условие при обучении русскому языку, с чем не может не считаться методическая наука. Учет особенностей родного языка студентов-таджиков играет позитивную роль в повышении качества программ, учебников, учебных пособий, методических разработок по развитию русской научной речи студентов-таджиков помогает предвидеть и прогнозировать возникающие трудности в изучении того или иного лексико-грамматического раздела и предотвратить возможные ошибки. В обучении русскому языку студентов-таджиков надо выделить начальную и последующую стадии и этапы, и в зависимости от этого следует говорить о месте и роли родного языка. В первичном периоде формирования русской речи основой выступает родной (таджикский) язык, поэтому его влияние на неродную речь неизбежно. Л.В. Щерба отмечал, что «можно изгнать родной язык из процесса обучения (и тем объединить этот процесс, не давая иностранному никакого оружия самозащиты против влияния родного языка), но изгнать родной язык из голов учащихся... 490 невозможно: ученики после всех объяснений учителя, стремящегося согласно правилам прямистской методики объяснить смысл того или иного слова или языкового явления без помощи родного языка, все же только тогда вполне понимают этот смысл, когда находят для него эквивалент на родном языке» [Щерба 2002, с. 54]. Поэтому ученый предлагал «путь сознательного отталкивания от родного языка: учащиеся должны изучать всякое новое, более трудное явление иностранного языка, сравнивая его с соответственным по значению явлением родного языка. Как известно, путь сознательного отталкивания от родного языка для студентовтаджиков должен происходить при изучении всякого нового, более трудного явления неродного языка в сравнении его с соответственным по значению явлением родного языка. На начальной стадии приемлем перенос навыков, умений, а также знаний из родного языка в неродной в тех случаях, когда они могут удовлетворительно функционировать в неродной речи. Известно, что при усвоении русского языка у студентовтаджиков могут произойти нарушения норм пользования им. Эти нарушения могут быть вызваны разными причинами: внешними и внутренними. Внешними факторами могут быть, например, большой объем нового материала, недостаточная эффективность методов обучения, не совсем правильное преподнесение материала преподавателем. Внутренними причинами нарушения языковой нормы могут явиться: специфика строя русского языка и связанные с ней психические законы восприятия, запоминания и сохранения в памяти особенностей данного языка; объективные трудности, связанные с необходимостью овладения психическим механизмом (знаниями, умениями, навыками), позволяющими воспринимать и порождать речевые произведения, последовательно принадлежащие двум языковым системам, т.е. трудности, вызываемые национально-русским билингвизмом. «Билингвизм и использование обоих языков в равной мере – ситуация, при которой индивид в состоянии воспринимать оба языка и пользоваться ими практически в любом контексте. Существуют различные уровни такого билингвизма, достаточного для индивида» [Алиев, Каже 2005, с. 13]. Недостаточно высокий уровень знаний студентов по русскому языку ныне является, к сожалению, неоспоримым фактом. Студенты приходят в вуз со слабой языковой подготовкой, не могут нормально прочитать несложные тексты, элементарно передать содержание прочитанного, правильно построить простые предложения. Они допускают большое количество ошибок, вызванные интерференцией (отрицательное влияние) родного языка. 491 Под интерференцией понимают процесс, тормозящий усвоение неродного языка, возникающий вследствие переноса речевых навыков из одного языка в другой (из родного языка в иностранный или из первого иностранного языка во второй). Интерференция обусловлена как психологическими, так и лингвистическими факторами. Основными лингвистическими факторами являются расхождения в грамматическом строе изучаемого и родного языков. В тесной связи с лингвистическим фактором находится психологическая причина грамматической интерференции, возникающая на этапе формирования грамматической структуры высказывания. Это закономерно, ибо мыслительная деятельность учащегося-билингва базируется на родном языке, а речевое воплощение мысли осуществляется грамматическими средствами русского языка. Так как в процессе овладения неродным языком преобладает грамматическая норма родного языка, то возникает разрыв между мыслительной деятельностью и речевыми возможностями билингва. Происходит вторжение грамматических норм одной языковой системы в пределы другой, отражающееся в речи билингва в виде интерференционных нарушений грамматических норм изучаемого языка. Знание характерных особенностей русского и таджикского языков и их учет в процессе обучения подъязыку специальности дает преподавателю возможность выявить и предупредить ряд характерных ошибок, связанных с типологическим различием данных языков. Преподавателю исключительно важно в работе со студентами учитывать существенные отличия в грамматическом строе изучаемого и родного языков. Важно, на наш взгляд, учитывать следующее: 1) грамматические факторы, обусловленные особенностями выражаемых языковых средств в русском и таджикском языках; 2)специфические грамматические категории русского языка, отсутствующие в родном (таджикском) языке. Таджикский и русский языки – это языки неблизкородственные, которые по признаку наличия форм словоизменения генетически объединяются в один флективный тип, но по способам выражения грамматических категорий имеют разный типологический статус: русский язык по преимуществу флективный, а в таджикском языке преобладают аналитические агглюнативные формы. В связи с этим грамматическая интерференция на уровне русской речи студентов-таджиков проявляется весьма прозрачно. Для нее характерны устойчивые грамматические ошибки. Сопоставительное исследование физической терминологии в русском и таджикском языках выявило также ряд факторов, имеющих важное значение для совершенствования коммуника492 тивно-теоретических навыков студентов неязыковых вузов национальных групп. При сопоставительном описании терминологической лексики в русском и таджикском языках путем контрастивного анализа нами выявлены потенциальные возможности возникновения интерференции, которую составляют единицы грамматической системы изучаемого (русского) языка, отличающиеся от единиц родного (таджикского) языка. Они и представляют собой объекты и причины возможных интерференционных ошибок на грамматическом уровне. Терминологическая лексика, в основном, выражена именем существительным, поэтому характеризуя грамматические категории имен существительных в сопоставляемых языках, мы приняли во внимание не только их семантику и характер парадигматических отношений, но и синтагматические связи. Такой контрастивно-сопоставительный анализ позволил установить потенциальные зоны грамматической интерференции как в сфере парадигматики, так и на уровне синтагматических связей (согласование, управление), а затем, в соответствии с каждой зоной потенциального поля грамматической интерференции в области имен существительных, прогнозировать типы и виды ошибок. В целях решения методических задач выявления потенциального поля грамматической интерференции в процессе обучения русскому языку студентов-таджиков неязыкового вуза осуществлено его моделирование. Потенциальное поле грамматической интерференции представляется нами как некоторое пространство, в котором намечается конфигурация центральных и периферийных зон поля. Отнесенность грамматических явлений изучаемого (русского) языка к центральной зоне или периферии ставится в зависимости от степени глубины их расхождений в семантическом и формальном плане от аналогичных явлений родного языка (таджикского) языка. Так, к центральной зоне относятся грамматические явления в области имен существительных с глубокими расхождениями и, в связи с этим, с наибольшим интерференционным влиянием, а к периферии – с менее глубокими расхождениями и относительно меньшим интерференционным влиянием. Таким образом, центральная зона является объектом наиболее интенсивной грамматической интерференции, периферия – менее интенсивной. Сопоставление грамматических категорий имен существительных русского и таджикского языков проводилось с целью выявления сходств и различий: 1) в плане содержания (обычно грамматические категории в сопоставляемых языках имеют 493 разный объем и качество содержания; 2) в плане способов выражения (лексико-семантические средства, парадигматические, словообразовательные, синтагматические отношения) и 3) в плане функционирования. Проведенное сопоставление позволило построить модель потенциального поля грамматической интерференции в области имен существительных. Например, в сфере категории рода интерференцией могут быть подвержены следующие зоны трудностей: 1) существительные мужского, женского, среднего рода; 2) неодушевленные существительные, родовая принадлежность которых морфологически не маркирована в форме единственного числа именительного падежа и у которых в сопоставляемых языках род не совпадает (двигатель,скорость,джоуль, и т.д.); 3) несклоняемые существительные иноязычного происхождения (бета-излучение, бета-частицы, радио, гамма-излучение и т.д.). На уровне парадигматики грамматическая интерференция может выразиться в смешении флексий 1,2,3 склонения существительных. Это ошибки типа: ядрой (вместо ядром), газой (вместо газом), о энергие (вместо о энергии) и т.д. На уровне синтагматических отношений порождение грамматической интерференции происходит в ошибочном употреблении морфологических показателей согласующихся слов: равномернем движении, электрическая свет и др. Сопоставление грамматических категорий имен существительных русского и таджикского языков в функциональном плане показало: во-первых, в сопоставляемых языках существуют общие категории имен существительных, но с различными средствами выражения и их функционированием, соответствующим, согласно внутренним правилам, в каждом языке; во-вторых, специфические и типологические различия, являющиеся областью весьма сильной интенсивной интерференции. Они содержатся, особенно, в сфере категории падежа, где объем значений и границы употребления той или иной русской падежной формы совершенно отсутствует в родном языке обучаемых. Выявление возможностей возникновения интерференции в сфере грамматических категорий имен существительных явилось только первым этапам работы нашего исследования, так как прогнозируемая интерференция не всегда адекватна реальной (фактической). Несовпадение потенциальной и фактической интерференции, проявляющейся в речи студента-билингва на русском языке, зависит не только от специфики сопоставляемых языков, 494 но и от этапа обучения данному языку, условий его усвоения и т.д. и т.п. На особенности таджикского языка следует опираться в процессе продуманной организации системы упражнений, учитывая наиболее трудные языковые явления русского языка. Преподаватель должен преподносить учебный материал в такой последовательности и с подбором таких упражнений, которые способствуют быстрому преодолению всевозможных интерференционных трудностей. Выявленные лингвистические характеристики подъязыка физики и его ядра, физической специальной лексики, как в плане монолингвального описания, так и в плане бинарного изучения в русском и таджикском языках составили прочную основу для разработки методики обучения русской профессиональной речи на материале подъязыка специальности. Таким образом, при обучении русскому языку студентовтаджиков подъязыку специальности одной из главных задач является учет особенностей как русского, так и родного языков. Рассмотрение особенностей и специфики родного языка обучаемых в сравнении с изучаемым языком создает основу для рациональной организации программного учебного материала и его презентации в вузовской аудитории, теоретическую базу для активизации познавательной и практической деятельности студентов, повышает эффективность занятий. Выявление особенностей родного языка студентов-таджиков позволяет наиболее рационально преподносить новый материал, способствует лучшей организации работы по развитию профессиональной речи студентов, обогащению их активного словарного запаса, помогает предвидеть трудности в изучении того или иного раздела, предупреждать возможные интерференционные ошибки. Литература Алиев Р., Каже Н. Билингвальное образование. Теория и практика. – Рига, 2005. – С. 13. Щерба Л.В. Преподавание языка в школе: Общие вопросы методики: Учебное пособие для студ. филол. фак. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб.–М., 2002. – С. 54. 495 Шамин Степан Михайлович (Россия, Москва; к.и.н., ведущий научный сотрудник отдела культурологии в обучении РКИ Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] Слово звезда и его производные в русской культуре1 XVIII в. стал поворотным в развитии астрономической лексики русского языка. Решающую роль сыграл указ Петра I об учреждении Академии наук (1724) и приглашение для работы в ней одного из крупнейших астрономов и картографов того времени француза Жозефа-Никола Делиля, воспитавшего русских учеников. В России появилась своя, ориентированная на европейскую науку, астрономическая школа. Это предопределило усвоение русским языком европейской астрономической терминологии и обеспечило стандартизацию научной лексики. Однако, до того как это произошло, русский язык прошел многовековой путь развития. Исходной точкой были существовавшие в языке еще до появления письменности названия видимых астрономических объектов, которые использовались в повседневной жизни. Задача данной статьи состоит в том, чтобы на примере слова звезда проанализировать закономерности развития лексем данной тематической группы. Предваряя дальнейшие наблюдения, следует вспомнить, что древнерусской астрономической лексике пришлось пройти через две мировоззренческие революции. Они были связаны с освоением знаний о мире, накопленных ведущими мировыми культурными центрами. Первой из революций стало усвоение выработанных античными философами моделей мира [Древнерусская космология 2004]. Эта революция произошла после принятия 1 Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 11-04-00268а. 496 христианства. Византийские тексты несли большой объем греческой астрономической лексики, которая оказала заметное влияние на язык Древней Руси. Вторая мировоззренческая революция началась в XV столетии, когда освободившееся от ордынского ига Московское государство вступило в тесное соприкосновение с Европой. Русская культура стала постепенно впитывать научные знания, накопленные западным миром. Этот процесс превратился в своеобразную гонку, в ходе которой только что освоенные знания оказывались устаревшими благодаря новым открытиям, сделанным европейскими мыслителями. Закончилась вторая революция превращением России в один из важных европейских центров изучения космического пространства. Указанные революции первоначально затрагивали исключительно язык образованной верхушки общества и лишь затем, вместе с образованием, языковые новшества с большим или меньшим успехом распространялись среди широких слоев носителей языка. Перейдем непосредственно к анализу смыслового содержания слова звезда. К моменту появления письменности оно использовалось в речи достаточно широко, чтобы авторы переводов греческих текстов не пытались заменить его иностранными наименованиями (как это происходило, к примеру, с названиями звезд и созвездий). Происходило лишь сужение и уточнение понятия. Уже первая мировоззренческая революция сузила область значений слова звезда благодаря тому, что из греческого языка была заимствована лексема планета. В древнейших славянских памятниках мы встречаем данное наименование для Солнца, Луны и пяти известных в то время планет – подвижных «звезд», привлекших внимание античных философов [Срезневский 1893, cтб. 27]. Так древнее деление небесных объектов на Солнце, Луну, Месяц и звезды начало уходить в прошлое. Последующие новшества относятся уже ко времени второй мировоззренческой революции. Так звезда с хвостом древнерусских летописей в XVI впервые названа кометой, а во второй половине XVII в. это наименование получило широкое распространение в образованной части общества [Шамин 2012, с. 366– 372]. Метеориты также могли отождествляться древнерусскими наблюдателями со звездами. В зависимости от точки наблюдения их называли падающими звездами или описывали как ужасных огненных змеев, пролетающих по небу. Летописи позволяют сделать однозначный вывод о том, что в Древней Руси далекие падающие звезды и ужасных огненных змеев, которых «посчастливилось» наблюдать поблизости от точки падения, не связывали 497 между собой. Отделение метеоритных тел от звезд впервые фиксируется в сборнике XV столетия, происходящем из КириллоБелозерского монастыря. В статье «О д(е)ньницах» говорится: «Видимыя и къ земли падаемыя звезды гл(агол)ють ч(е)л(о)в(е)ци, яко звезды суть и падають, инии же гл(агол)ють, яко мытарьства соуть лоукавая, но ниже звезды соуть, ниже мытарства, но отложения соуть огньна н(е)б(е)снаго огня, и падають долу, и елико нисходять низоу, раставляются и съливаются пакы на въздусе; сего ради ниже на земли виде кто когда падашаяся отъ нихъ, но всегда на въздоусе сливаются и расыпаютъ и гл(агол)ются дениця; звезды ж никогда падаютъ» [Срезневский 1893, cтб. 771–772]. Предложенное в данном тексте наименование денница за метеоритами не закрепилось. Оно уже использовалось как наименование планеты Венеры [Там же, cтб. 771]. Лишь в петровское время падающие звезды получили собственное, сохранившееся до наших дней название – метеор [Фасмер 1986, с. 610]. Таким образом, к началу XVIII в. слово звезда стало научным термином с точным значением, определяющим конкретную группу астрономических объектов. Развитие языка шло не только по линии уточнения значения лексемы звезда. Уже первая мировоззренческая революция привела к появлению неологизмов, образованных на основе данного слова. В первую очередь, это обозначения для наблюдающего за звездами человека и для самого процесса изучения звезд. Переводчики византийских текстов для передачи указанных выше понятий или калькировали термины оригинала, или же транскрибировали их. Уже в древнейших памятниках находим слова астрология, астрономия [Срезневский 1, 1893. Cтб. 32], звездозаконие, звездословие [Там же, cтб. 965]. Расширение синонимического ряда шло и позднее. В исследовании М.И. Сахаровской приведена хронологическая таблица с лексемами, определяющими человека, изучающего звезды. Для периода XI–XVII в. выделено 25 слов с этим значением. Многие из них связаны со словом звезда. Древнейшими и наиболее употребительными были (в порядке частоты использования) звездочьтьцъ, астроном, звездословец, астролог [Сахаровская 1985, с. 91]. Не позднее XII в. в рукописях вместе с понятием знака зодиака и его транскрибированным наименованием стали появляться русские определения заимствованного термина. К примеру, в переводе «Богословия» св. Иоанна Дамаскина, выполненном Иоанном, экзархом Болгарским, зодии определены как звезды сълежие: «Гл(агол)ють же 12 зодии, еже суть звездами сълежими на н(е)б(е)си» [Срезневский 1893, cтб. 995]. Знакам зодиака уделя498 лось большое значение в астрономической европейской литературе раннего нового времени. Соответственно, начиная с XV столетия, в текстах появляются их новые определения – к примеру, нелестные звезды: «нелестных звезд, им же имена сут си: Криос, Таврос, Дидим, Каркинъ, Леон, Парфенъ, Зигос, Скорпии, Тохсоте, Егокеро, Идрогос, Ихиос» [Симонов 2007, с. 356, 357]. (Здесь названия знаков зодиака даны в виде транскрипции их греческих названий Κριός, Ταύρος, Δίδυμοι, Καρκίνος, Λέων, Παρθένος, Ζυγός, Σκορπιός, Τοξότης, Αιγόκερως, Υδροχόος, Ιχθείς.) Популярные в Европе XVII в. модели небесной сферы получают в России наименование звездного глобуса [Сахаровская 1985, с. 68]. Не входящие в зодиак группы звезд еще в XVII в. могли назвать просто звездой, к примеру «Стрелец бо звезда именовашеся храбраго ради исполина» [Словарь русского языка... 1978, с. 346], однако уже в XVIII столетии возникает слово созвездие. Таким образом, мы видим, что из столетия в столетие вместе с переводами новых иностранных сочинений появлялись все новые слова и словосочетания, которые дублировали друг друга. Однако после создания в России своей астрономической школы начинается систематизация астрономической терминологии и сокращение числа используемых в текстах слов и словосочетаний, происходящих от слова звезда. Словарь русского языка XI–XVII вв. указывает следующие «астрономические» лексемы, образованные от слова звезда: звезда, звездарь, звезденый, звездица, звездка, звездник, звездница, звездный, звездоблюдение, звездоблюститель, звездовидный, звездовство, звездозаконие, звездозаконник, звездозаконный, звездозрение, звездозрец, звездозрительный, звездословесие, звездословесник, звездословец, звездословие, звездословный, звездослужитель, звездотечение, звездочестие, звездочетание, звездочетец, звездочтец, звездочетие, звездочетный, звездочетья, звездочтение [Там же, с. 346–348]. В итоге же, из всего накопленного за столетия разнообразия, в научной лексике остались лишь звезда, звездный и созвездие. Национальный корпус русского языка (далее НК) позволяет проследить дальнейшую судьбу отвергнутых наукой слов и словосочетаний. Оказалось, что у некоторых из них жизнь продолжается вне научного тезауруса. Один из вариантов такого существования – этнографический. Старое словоупотребление сохранялось вплоть до момента полного освоения народными массами научной картины мира. Так, для казаков, сопровождавших путешественника В.К. Арсеньева в его странствиях по Дальнему Востоку, комета оставалась звездой с хвостом даже в начале XX в.: «Ночью, перед рассветом, меня разбудил караульный и доложил, 499 что на небе видна “звезда с хвостом”» («Дерсу Узала», 1923 г.; здесь и далее тексты без сносок цитируются по НК). Казалось бы, что после распространения всеобщего образования и знаний о кометах, наименования хвостатая звезда, звезда с хвостом и т.д. должны исчезнуть из языка, однако этого не произошло. Часть устаревших в научно-практическом плане наименований сохранилось в пространстве культуры. Этому, безусловно, способствовал и тот факт, что уже в древнерусское время слово звезда было не только определением видимых на небосводе объектов, но и символом. К сожалению, до нашего времени не сохранилось точных данных о том, какие культурные смыслы были связаны в языке славян с понятием звезда до принятия христианства. В христианском же сознании со словом звезда в первую очередь ассоциируется Вифлеемская звезда, которая привела волхвов к родившемуся Христу. Вероятнее всего, символ звезды – путеводительницы хорошо укладывался и в рамки мировоззрения славян дохристианской эпохи. Все это дало мощный импульс для использования слова в самых разных областях культуры для обозначения объектов, которые должны указывать путь, привлекать всеобщее внимание и т.д. Так словосочетание Звезда Пресветлая стала одним из символических наименований Богородицы. Такое название получил распространенный в России XVII столетии сборник с описаниями чудес Богородицы. Постепенно в русской культуре накопилось множество самых различных «звездпутеводителей» – от «Полярной звезды», издававшийся А.И. Герценом и Н.П. Огаревым в 1855–1868 годах до современных «суперзвезд» кино, подиума, блогосферы и т.д. Переводы и переложения европейских литературных сочинений способствовали распространению символических толкований, выработавшихся на Западе. Данные НК свидетельствуют (см. табл. 1), что в учебнонаучной или производственной технической сфере слово звезда используется существенно реже, чем в художественной. Возвращаясь к устаревшим словам и конструкциям, произведенным от лексемы звезда, отметим, что лексико-грамматический поиск в НК по запросу звезда + хвост с расстоянием между лексемами от –3 до 3 (запрос фиксирует устаревшее наименование комет) показал сохранение в языке данной конструкции вплоть до наших дней. Статистика же распределения слов по сфере функционирования свидетельствует, что подавляющее большинство зафиксированных в НК примеров относится к художественной литературе. Аналогичным образом запрос звезда + падать с расстоянием между лексемами от –3 до 3 (запрос фиксирует устаревшее наименование метеоритов) показал, что хотя любой, даже 500 не образованный человек знает о невозможности падения звезды на землю, в качестве литературного (или просто бытового) образа данная конструкция вполне устойчива и вряд ли исчезнет из языка в обозримом будущем. Более того, еще в XIX столетии возник неологизм звездопад (первое упоминание в 1880 г.), который также используется в художественной литературе чаще, чем в любой другой сфере. Таблица 1. Звезда. Сферы функционирования Сферы функционирования Художественная Публицистика | нехудожественная Учебно-научная | нехудожественная Бытовая | нехудожественная Церковно-богословская | нехудожественная Электронная коммуникация | нехудожественная Художественная | публицистика Реклама | нехудожественная Производственно-техническая | нехудожественная Официально-деловая | нехудожественная Публицистика | бытовая | нехудожественная Учебно-научная | публицистика | нехудожественная Учебно-научная | церковно-богословская | нехудожественная Публицистика | реклама | нехудожественная Публицистика | учебно-научная | нехудожественная Производственно-техническая | официальноделовая | нехудожественная Церковно-богословская | бытовая | нехудожественная Официально-деловая | учебно-научная | нехудожественная Публицистика | церковно-богословская | нехудожественная Бытовая | публицистика | нехудожественная Церковно-богословская | публицистика | нехудожественная 501 Найдено документов 2502 3419 457 110 82 Найдено словоформ 13107 9346 2978 236 181 61 160 6 60 136 94 17 79 28 3 58 20 12 19 2 12 5 6 1 5 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 Крайне интересна судьба лексем звездочьтьцъ (звездочет), астроном, звездословец (звездослов), астролог, которые были синонимами на протяжении примерно шести – семи столетий. Они в XVIII столетии разошлись по своему смысловому значению и сферам функционирования. За словом астроном закрепилось значение ученого, изучающего астрономию, за лексемой астролог – значение лжеученого, занимающегося астрологией. Слово же звездочет сохранило историческое значение «человек, изучающий звезды» без дифференциации на ученых и лжеученых, однако употребляться оно стало преимущественно в сфере культуры. По данным НК более половины случаев использования этого слова приходится на художественную литературу, а среди всех отмеченных в НК типов текстов на первом месте по частоте употребления данной лексемы стоит роман. Лексема звездослов практически исчезла из языка. В НК она дважды упомянута в XIX в. (один раз в стихотворении, а другой – в историческом исследовании), а потом появляется лишь в современных романах жанра фэнтези: Семенова М.В. Волкодав. Знамение пути (2003); Успенский М.Г. Там, где нас нет (1995). Аналогичным образом дело обстоит и с еще одним древнерусским синонимом этого ряда – словом звездозаконник. Оно упоминается в НК всего два раза. Первый – в исторической повести Н.А. Полевого «Иоанн Цимисхий» (1841), а второй – в уже упомянутом фантастическом романе М.Г. Успенского. Очевидно, что для адресованных подросткам романов в жанре фэнтези не подходят ни слишком «современные» астролог и астроном, ни «детское сказочное» звездочет. Авторы пытаются найти нужное для создания художественного образа слово среди устаревших лексем. Слово звездарь использовал Ю.Н. Тынянов в исторической повести «Восковая персона» (1930), для которой особенно характерна историческая стилизация языка. Звездозаконие обнаруживаем в романе Д.С. Мережковского «Воскресшие Боги. Леонардо да Винчи» (1901), а также в философском сочинении Г.В. Флоровского «Пути русского богословия» (1936), в этом же сочинении зафиксировано и прилагательное звездозрительный. Мережковский и Фроловский используют эти слова при обращении к русской истории XVI в. У Мережковского обнаруживаем также звездочетие («Петр и Алексей» (1905); «Воскресшие Боги. Леонардо да Винчи») и звездочетный «Воскресшие Боги. Леонардо да Винчи»). Для советской фантастики более характерным было не обращение к устаревшим формам, а создание неологизмов. Так, отмеченное в Словаре русского языка XI–XVII вв. прилагательное 502 звездовидный использовал И.А. Ефремов в фантастическом романе «Час быка» (1968–1969). Однако здесь речь явно идет о создании неологизма. Сочинение Ефремова наполнено различными «звездными» словами и конструкциями. Часть из них обозначает существующие в реальности объекты, а часть – фантастические. К реалиям можно отнести слова звездолет, звездолетчица, звездолетчик, звездная система, межзвездные. Творческая фантазия Ефремова породила неологизмы Звездный Флот, Совет Звездоплавания, звездолет прямого луча, скопление темных звезд, звезды-невидимки, россыпь звездных огней, звездообразный кристалл мнемозаписи, «звездочка». Причем некоторые из них создавались как синонимы уже существующих в языке «иностранных» слов. В противовес словам астронавт (1951) и космонавт (1956) создается слово звездолетчик (1961). Еще в 1908 г. НК фиксирует понятие космический корабль, в 1932 г. – аналогичное по значению звездный корабль, а в 1935 г. – звездолет. Конструкция звездный корабль широкого распространения не получила и была вытеснена звездолетом. Пик употребления слова звездолет приходится на период между 1953 и 1973 гг. – время активного развития советской «космической» фантастики. Таблицы № 2–4 показывают, что эти неологизмы обслуживают, в основном, художественную литературу, а также публицистику. Таблица 2. Космический корабль. Сферы функционирования Сферы функционирования Публицистика | нехудожественная Художественная Учебно-научная | нехудожественная Производственно-техническая | нехудожественная Бытовая | нехудожественная Реклама | нехудожественная Электронная коммуникация | нехудожественная Публицистика | учебно-научная | нехудожественная Официально-деловая | нехудожественная Церковно-богословская | нехудожественная 503 Найдено документов 292 81 46 16 4 3 2 1 1 1 Найдено словоформ 570 184 70 26 5 3 2 1 1 1 Таблица 3. Звездный корабль. Сферы функционирования Значение м.б.Сферы функционирования Художественная Публицистика | нехудожественная Найдено документов 4 4 Найдено словоформ 9 7 Таблица 4. Звездолет. Сферы функционирования Значение м.б. Сферы функционирования Художественная Публицистика | нехудожественная Учебно-научная | нехудожественная Производственно-техническая | нехудожественная Реклама | нехудожественная Найдено документов 40 23 5 Найдено словоформ 483 38 5 1 3 1 1 Вернемся к развитию научной лексики. Этот процесс был связан с развитием российской астрономической науки. Еще М.В. Ломоносов попытался отказаться от заимствованной лексемы астрономия. В «Слове похвальном Ея величеству Государыне императрице Елисавете Петровне, самодержице Всероссийской, говоренном ноября 26 дня 1749 года» он использовал неологизм звездочетная наука, образованный на основе устаревшего уже в качестве научного термина прилагательного звездочетный. Однако это был скорее политический манифест, направленный против засилья иностранцев в Академии наук, чем начало реальных перемен. Позиции слова астрономия оставались непоколебимыми. Чтобы в русском языке начала развиваться собственная «космическая» лексика, понадобились многие годы успешного развития русской науки. Уже в XIX столетии русская астрономическая школа оказалась в числе лидеров мировой науки. Слово звезда вновь стало основой для создания научных терминов. В 1884 г. НК фиксирует понятие звездная система, в 1908 г. – звездное скопление, в 1947 г. – звездная величина. Астроном И.С. Шкловский использовал в своей речи слово звездник, для обозначения астронома, специализирующегося на изучении звезд. Хотя аналогичное слово встречается в древнерусских текстах, вряд ли Шкловский позаимствовал его из древних рукописей. Скорее всего, это неологизм, созданный в рамках интенсивно развивавшегося профессионального жаргона. Особенно интересным кажется начавшийся в СССР процесс «русификации» существующей уже космической терминологии. Как показывает НК, некоторые образованные на основе слова 504 звезда лексические конструкции оказываются вторичными по отношению к тем, что образованы на основе лексемы космос: космическая пыль (1900) – межзвездная пыль (1977); космический газ (1912) – межзвездный газ (1965); космическая среда (1924) – межзвездная среда (1960); космическая плазма (1999) – межзвездная плазма (2008). С отмеченными выше культурными и языковыми процессами связано и появление названия населенного пункта, в котором создавался Центр подготовки космонавтов – Звездный городок. Центр был организован в 1960 г., а в НК название Звездный городок фиксируется с 1970 г. Как раз на эти годы приходится пик «звездного» словотворчества в советской фантастике. Попытаемся систематизировать данные об истории слова звезда и его производных. Эта история тесно связана с расширением представлений русских людей об окружающем мире, развитием науки и русской культуры. Изначально звезда в русском языке – это любой светящийся в ночном небе объект небольшого размера. Появилось это слово раньше, чем славянские языки обособились от ближайших соседей по языковому древу. Не позднее XI в. начался период истории языка, когда столкновение с культурами, в рамках которых было накоплено значительно больше знаний об окружающем мире, чем у славян, вело к постоянному увеличению числа астрономических терминов, в том числе и производных от слова звезда. Иногда в рукописных памятниках накапливалось больше двух десятков синонимов. Это было неизбежным процессом, поскольку в России не было центров, которые могли бы систематизировать астрономическую лексику и навязать свою систему всем носителям русского языка. Появление Академии наук и создание русской астрономической школы покончило с анархией в русской астрономической лексике. Значительная часть слов и словосочетаний оказались устаревшими. Они продолжали «доживать» в речи тех слоев населения, которые не получали достаточного образования для усвоения системы новой астрономической лексики. Со временем, по мере того как российская наука прошла «ученический» период и Россия превращалась в один из мировых центров изучения космоса, начался процесс наработки и развития собственной астрономической терминологии. В некоторых случаях наблюдалась более или менее успешная русификация заимствованных терминов. В сфере культуры «космическая» лексика жила по другим законам. Падающая звезда или даже целый звездопад – были слишком сильными образами, чтобы отказаться от них в угоду научной 505 точности. Звездочет (который, в отличие от астролога, правдив) потребовался для того, чтобы провести маленького ребенка в волшебную сказочную страну. Звездослов или звездозаконник оказались необходимы в книгах для подростков, которые выросли из сказок и в звездочетов уже не верили. Писатели обращались к устаревшим лексемам по мере развития новых литературных жанров, требовавших своего художественного языка. В данном случае возвращение устаревших слов в литературные произведения нельзя рассматривать в рамках процесса лексической деархаизации. Ведь художественная ценность этих слов определяется именно «ароматом древности», который они несут. Правильнее будет сказать, что устаревшие слова оказались востребованными в ходе литературной актуализации архаики. Устаревшие слова не годились для литературных жанров, обращенных в будущее. Советская «космическая» фантастика массово продуцировала новые лексические конструкции. Таким образом, в языке функционирует целый ряд слов, жизнь которых тесно связана с развитием художественной литературы и, шире, культуры. Происходящие в обществе культурные процессы актуализируют или создают вновь целые группы лексем. Падение же интереса к жанру ведет к сокращению употребления созданной или актуализированной писателями лексики. Литература Древнерусская космология / Отв. ред. Г.С. Баранкова. – СПб., 2004. Сахаровская М.И. Становление русской астрономической терминологии (XVI–XVII вв.): Дис. ... канд. филол. наук. – М., 1985. Симонов Р.А. Математическая и календарно-астрономическая мысль Древней Руси. – М., 2007. Словарь русского языка XI–XVII вв. / Гл. ред. С.Г. Бархударов. – М., 1978. – Вып. 5: (Е–ЗИНУТИЕ). Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. – СПб., 1893. – Т. 1. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Пер. с нем. – 2-е изд., стереотип. – М., 1986. – Т. 2. Шамин С.М. История появления слова «комета» в русском языке // И.И. Срезневский и русское историческое языкознание: К 200-летию со дня рождения И.И. Срезневского: Сборник статей Международной научной конференции, 26–28 сентября 2012 г. / Отв. ред. И.М. Шеина, О.В. Никитин. – Рязань, 2012. – С. 366–372. 506 Секция 5. ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 507 508 Подсекция А. МЕТОДИКА КАК НАУКА И МЕТОДИКА КАК ПРАКТИКА. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ Щукин Анатолий Николаевич (Россия, Москва; д.п.н., зав. кафедрой методики, педагогики и психологии Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина) [email protected] Методика обучения РКИ в контексте современной лингводидактики Переход российской высшей школы на новые образовательные стандарты 3 поколения (2010), в основу которых положен компетентностный подход к обучению, дает основание уточнить содержание ключевого для дисциплины «Методика преподавания русского языка как иностранного» термина «методика», являющегося определяющим в подготовке будущих преподавателей РКИ. Этот термин в рамках названной дисциплины широко используется при характеристике методики как учебной, научной и практической дисциплины. Предмет «методика» изучается магистрами филологии, будущими преподавателями РКИ, в рамках лекционного курса, практических занятий и самостоятельной работы, на которые отводится, согласно рабочей программе учебной дисциплины, 144 часа. Методика как учебная дисциплина. Знакомит будущих преподавателей с содержанием дисциплины «методика», ее объектом 509 и предметом. Курс методики призван обеспечить формирование профессиональной компетенции, т.е. способности студентов-русистов к обучению языку в результате знакомства с методами и технологиями его преподавания. Содержание этой дисциплины обеспечивается тремя курсами методик: а) общими методиками (дают описание закономерностей и особенностей обучения русскому языку вне зависимости от конкретных условий его преподавания), б) частными методиками (характеризуют особенности преподавания языка в конкретных условиях его изучения и учитывают особенности родного языка учащихся), в) специальными методиками (посвящены описанию особенностей преподавания какой-либо стороны языка, его аспектов, видов речевой деятельности, процесса организации обучения и др.). Следует заметить, что учебный процесс в высшей школе в настоящее время обеспечен достаточным количеством учебных курсов методики, ориентированных на разные контингенты учащихся1. Методика как научная дисциплина. Будучи разделом педагогики, ее частной дидактикой, методика содержит изложение теоретических основ преподавания языка. Для обозначения теоретической составляющей курса методики с середины 20-го столетия стали использовать термин «лингводидактика», введенный в научный оборот русистом-академиком Н.М. Шанским, который рекомендовал применять этот термин при описании языка в учебных целях [Шанский 1985]. Можно утверждать, что лингводидактика, будучи теорией обучения языку, разрабатывает методологические основы такого обучения и рассматривает следующие проблемы: статус методики как самостоятельной научной дисциплины, ее 1 Методика преподавания русского языка иностранцам / Под ред. С.Г. Бархударова. – М., 1967; Митрофанова О.Д., Костомаров В.Г. и др. Методика преподавания русского языка как иностранного. – М., 1990; Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д. Методическое руководство для преподавателей русского языка иностранцам. – 4-е изд. – М., 1988; Акишина А.А., Каган О.Е. Учимся учить. Что надо знать о преподавании русского языка. – М., 1997; Методика / Под ред. А.А. Леонтьева, Т.А. Королевой. – 3-е изд. – М., 1982; Вагнер В.Н. Методика преподавания русского языка англоговорящим и франкоговорящим: Фонетика. Графика. Устная речь. – М., 1995; Методика преподавания русского языка как иностранного для зарубежных филологоврусистов (включенное обучение) / Под ред. А.Н. Щукина. – М., 1990; Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного. Учебное пособие. – 2-е изд. – М., 2010; Практическая методика обучения русскому языку как иностранному / Под ред. А.Н. Щукина. – М., 2003; Капитонова Т.И., Московкин Л.В. Методика обучения русскому языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки. – СПб., 2005; Щукин А.Н. Обучение речевому общению на русском языке как иностранному. – М., 2012 и др. 510 понятийный аппарат, объект и предмет исследования, связь с базисными для методики дисциплинами, характеризует систему обучения языку (подходы, цели, методы, средства, процесс обучения), существующие лингводидактические теории и учения. Методика как практическая дисциплина. Эта часть курса методики знакомит студентов с приемами работы, с помощью которых достигаются поставленные цели обучения в рамках практического курса языка и формируется коммуникативная компетенция учащихся. Такие приемы работы до середины прошлого столетия именовались с помощью термина «научная организация труда» педагога, а в наши дни определяются как «технологии обучения» или «педагогические технологии». При этом произошла дифференциация понятий «технологии обучения» (совокупность приемов работы педагога) и «технологии в обучении» (использование в учебном процессе технических средств обучения). Первые представляют собой способы эффективного управления процессом обучения, обеспечивающим получение запланированного результата с заданными параметрами качества и минимальными затратами времени и усилий со стороны учащихся. Определенным образом организованные способы обучения языку с использованием технологий получили в методической литературе свои названия: обучение в сотрудничестве, дистантное обучение, интерактивное обучение, проектное обучение, игровое обучение, технологии «языковой портфель», «casestudy» и др. К «технологиям в обучении» (или «информационно-педагогическим технологиям») принято относить радио и телевизионное вещание, телефонную связь, компьютеры, компьютерное программное обеспечение, Интернет, спутниковые системы навигации и др. Таким образом, практическая составляющая курса методики предполагает знакомство учащихся с технологиями обучения,