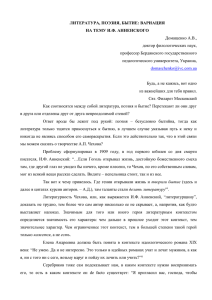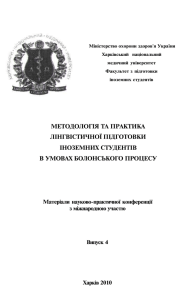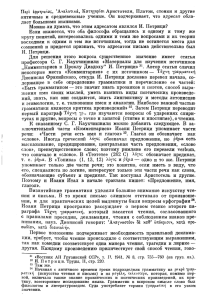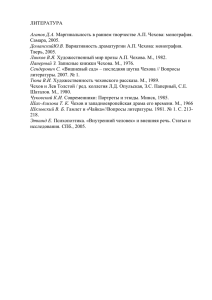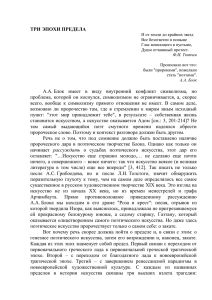ЛИТЕРАТУРА, ПОЭЗИЯ И БЫТИЕ
реклама

ЛИТЕРАТУРА, ПОЭЗИЯ, БЫТИЕ: ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ И.Ф. АННЕНСКОГО Домащенко А.В., доктор филологических наук, профессор Бердянского государственного педагогического университета, Украина, Будь, а не кажись, вот одно из важнейших для тебя правил. Свт. Филарет Московский Как соотносятся между собой литература, поэзия и бытие? Перетекают ли они друг в друга или отделены друг от друга непреодолимой стеной? Ответ вроде бы лежит под рукой: поэзия – безусловно бытийна, тогда как литература только тщится прикоснуться к бытию, в лучшем случае указывая путь к нему и никогда не являясь способом его самораскрытия. Если это действительно так, что в этой связи мы можем сказать о творчестве А.П. Чехова? Проблему сформулировал в 1909 году, в год первого юбилея со дня смерти писателя, И.Ф. Анненский: “…Если Гоголь открывал жизнь, достойную божественного смеха там, где другой глаз не увидел бы ничего, кроме плесени, то Чехов, по его собственным словам, мог из всякой вещи рассказ сделать. Видите – пепельница стоит, так и из нее. Так вот к чему привелось. Где гении открывали жизнь и творили бытие (здесь и далее в цитатах курсив авторов. – А.Д.), там таланты стали делать литературу”i. Литературность Чехова, или, как выражается И.Ф. Анненский, “литературщину”, доказать не трудно, тем более что сам автор нисколько ее не скрывает, а, напротив, как будто выставляет напоказ. Значимым для того или иного героя литературным контекстом определяется значимость его характера: чем дальше в прошлое уходит этот контекст, тем значительнее характер. Чем ограниченнее этот контекст, тем в большей степени такой герой только кажется, а не есть. Елена Андреевна должна быть понята в контексте идеологического романа XIX века: “Не умею. Да и не интересно. Это только в идейных романах учат и лечат мужиков, а как я, ни с того ни с сего, возьму вдруг и пойду их лечить или учить?”ii Серебряков тоже сам подсказывает нам, в каком контексте нужно воспринимать его, то есть в каком контексте он de facto существует: “Я пригласил вас, господа, чтобы объявить вам, что к нам едет ревизор”iii. В этом контексте выстрелы из револьвера с покушением на убийство, конечно, невозможны, “срам один”, как выражается не выходящая за пределы единственно актуального для нее патриархального контекста няня. Субъективно и Серебряков не может понять причины бурной реакции Войницкого на его “проект”, поэтому он по-своему прав, называя его “сумасшедшим”. Серебряков пребывает в гоголевском смысловом контексте, который сразу же ослабевает, как только вступает во взаимодействие с актуальным для дяди Вани контекстом. Сразу же выясняется, что в пределах этого смыслового пространства профессор существовать не может: “Не могу я жить с ним под одною крышей! Живет тут, почти рядом со мною…”iv Степень кажимости, искусственности каждого из персонажей драмы проверяется тем, насколько этот присущий дяде Ване контекст для него невыносим. Для Елены Андреевны он – ад: “Я сию же минуту уезжаю из этого ада! (Кричит.) Я не могу дольше выносить!”v Но что стало причиной такой болезненной, на грани безумия, реакции дяди Вани? Предложение Серебрякова продать имение? Ни в коем случае. Предложение Серебрякова – такая же кажимость, как и вся его жизнь. Из этой кажимости нет и не может быть выхода в реальность, как бы ее ни трактовать. Нелепость его предложения понятна всем, кроме самого Серебрякова, который, впрочем, с самого начала предупредил, что не настаивает на нем, и Марии Васильевны, у которой на все жизненные вопросы всегда готов один ответ: “Слушайся Александра!” – именно потому, что она со своими брошюрами не меньшая кажимость, нежели тот, кому она поклоняется. Нет сомнения, что если бы предложение было принято, это в первую очередь вызвало бы раздражение самого Александра, потому что разговор затевался вовсе не для того, чтобы иметь практические последствия, а для того чтобы все еще раз восхитились его умом, благородством, великодушием, но тут же забыли о содержании того, что он сказал. Конечно, Серебряков был искренне оскорблен, когда вместо поклонения повесивших на гвоздь внимания свои уши слушателей увидел перед собой размахивающего револьвером безумца. Каковы, однако, главные причины этого приступа безумия? Эти причины обусловлены иным контекстом, который, будучи наиболее серьезным и значимым в драме, именно дядю Ваню, а не бывшего Лешего (доктора Астрова), делает главным действующим лицом. Об этом контексте, имеющем сущностное значение для всего Серебряного века, говорит И.Ф. Анненский: “Думаю…, что и все мы не столько сострадаем Гамлету, сколько ему завидуем. Мы хотели бы быть им, и часто мимовольно переносим мы его слова и музыку его движений в обстановку самую для них не подходящую. Мы гамлетизируем все, до чего ни коснется тогда наша плененная мысль”vi. Причины безумия дяди Вани в некоторой степени те же самые, что и у Гамлета: распоряжаясь судьбой имения, Серебряков претендует на то, чтобы не просто быть отцом Сони, но занять место умершего отца дяди Вани. Это, конечно, не новость, потому что так и было раньше: “Все наши мысли и чувства принадлежали тебе одному. Днем мы говорили о тебе, о твоих работах, гордились тобою, с благоговением произносили твое имя; ночи мы губили на то, что читали журналы и книги, которые я теперь глубоко презираю”vii. Драма дяди Вани в том, что этот мир, основанный на поклонении Серебрякову, уже разрушен, а вместе с тем и само его существование, ранее наполненное высоким смыслом служения, теперь оказалось бессмысленным и поэтому только тяготит его. Войницкий раздражен тем, что, оказывается, сам профессор так ничего и не понял и по-прежнему пытается занимать то место, которое ему уже не принадлежит. Дядя Ваня, конечно, не Гамлет: предел его мечтаний – проснуться в грозу рядом с испуганной Еленой Андреевной, держать ее в объятиях и шептать ей: “Не бойся, я здесь”viii. Гамлет с самого начала знает, что Офелия от судьбы не спасет и, более того, сама в какой-то момент становится орудием судьбы, а ведь Елена Андреевна – далеко не Офелия, иначе сразу же раскусила бы такого шарлатана, каков профессор Серебряков. Тем не менее, в сцене безумия дядя Ваня бессознательно гамлетизирует, именно поэтому он не смешон. Было бы смешно, если бы он делал это сознательно, вообразив себя Гамлетом. Отмеченным контекстом сущность дяди Вани, конечно, не исчерпывается. Во время ночной грозы он говорит Елене Андреевне: “Сейчас пройдет дождь, и все в природе освежится и легко вздохнет. Одного только меня не освежит гроза”ix. Если бы Елена Андреевна была более начитанной в русской литературе, не ограничив свое знание идейными романами, она бы легко уловила тютчевский контекст: обновляющая природу гроза и человек, находящийся вне этой стихийной гармонии. После слов дяди Вани так и хочется в тон ему продолжить: Ах, лишь одной главы моей Сон благодатный не коснулся! Здесь трагический контекст дополняется контекстом высокой лирики, в изломанном, искаженном виде проявляющийся в характере дяди Вани. Ну а как же сам Гоголь, которого И.Ф. Анненский противопоставляет Чехову? Разве он не столь же литературен? В 1996 г. Д.С. Лихачев в одном из посвященных ему телефильмов сказал о Хлестакове и Чичикове: “В какой литературе вы найдете подобных героев?” Ответить на этот вопрос нетрудно: например, во французской. Литературным предшественником Хлестакова является Маскариль из “Смешных жеманниц”x, который тоже выдает себя не за того, кто он на самом деле, хотя подлинным считает именно этого придуманного себя: “Да что там говорить: я еще не встал, а у меня уже полдюжины острословов”xi. Полдюжины парижских острословов – это, конечно, если вдуматься, нисколько не меньше не только тех графов и князей, которые “толкутся и жужжат…, как шмели”, по утрам в передней Хлестакова, но даже и министра, который, как мы помним, иной раз в ней оказывается. Хлестаков вспоминается также и тогда, когда Маскариль начинает рассказывать о своей мнимой литературной значимости и плодовитости: “Вы можете услышать, с каким успехом исполняются в лучших парижских альковах двести песенок, столько же сонетов, четыреста эпиграмм и свыше тысячи мадригалов моего сочинения, а загадок и стихотворных портретов я уж и не считаю”xii. Влияние творчества писателя такого масштаба, как Мольер, конечно, не ограничивается образом Хлестакова, хотя, может быть, это и самый яркий пример. Когда Като говорит служанке о зеркале: “Скорее подай нам наперсника (советчика; le conseiller. – А.Д.) Граций!” – или когда Мадлон приказывает слуге: “Поскорее вкатите сюда удобства собеседования”xiii, – имея в виду кресло, мы не можем не вспомнить гоголевских губернских дам с их в высшей степени утонченно-изысканным языком. Мадлон и Като целиком вышли из прециозных романов М. Скюдери, поэтому и все их поведение определяется этими романами: “Если бы все думали, как вы – говорит Мадлон отцу, искренне при этом его презирая, – романы кончались бы на первой странице. Вот было бы восхитительно, если бы Кир сразу женился на Мандане, а Аронс без дальних размышлений обвенчался с Клелией!”xiv Для Мадлон прочитанные ею романы являются, конечно, первичными по отношению к той жизни, которую они с Като ведут. Гоголевские же губернские дамы, очевидно, своим литературным происхождением обязаны Мадлон и Като, и в этом факте нет ничего, что могло бы поставить под сомнение гениальность русского писателя. Литературность, стало быть, – это извечная проблема поэтического творчества, и поэтому правы те, кто утверждает, что последним поэтом был Орфей?xv Ведь, согласно этой логике, уже у Лина, следующего после Орфея поэта, можно найти соответствующие аллюзии и реминисценции. Общеизвестно, что наиболее памятный случай литературности, которая подменяет собою то, что есть, связан с Дон Кихотом. Но данная проблема является модификацией более общей и, без сомнения, центральной проблемы всего Ренессанса: противоречия между тем, что кажется, и тем, что есть. Генезис этой проблемы восходит ко времени зарождения ποιητικὴ τέχνη. В самом деле, возвращение Алкесты в трагедии Еврипида, осуществленном благодаря τέχνη Геракла, – это то, что кажется, или то, что есть? Вряд ли мы затруднимся с ответом, если не будем забывать о глубоком отличии песенного лада, созидаемого соработничеством богов, героев и поэтов, от иллюзорной реальности ποιητικὴ τέχνη, которая, однако, ни секунды не сомневается, что именно эта реальность является подлинной: результат тринадцатого, самого катастрофического подвига Геракла, о котором почему-то всегда забываютxvi. Что имеет в виду Адмет, когда говорит после возвращения Алкесты: “…Утвердился лад лучшей жизни”xvii? Что на смену прежнему, связанному с ποίησις онтологически безусловному песенному ладу, пришел лад как результат τέχνη. Орфей не был последним поэтом по той причине, что песенный лад, которому он принадлежал, таков, что всех поэтов, созидающих его, делает равными друг другу соработниками Муз. Вот почему не Орфей, а тот, на ком заканчивается история ποίησις, – я имею в виду Пиндара – становится последним поэтом. Подражатели появляются, когда поэзия становится подражательной, то есть миметической: когда она перестает быть ποίησις и становится ποιητικὴ τέχνη. Ключевую роль в этом перевороте сыграл Геракл, не только в “Алкесте” устанавливающий новой жизненный уклад, но прежде, согласно Аполлодору, убивший Лина; убивший именно потому, что был совершенно не приспособлен к высокому песенному ладу, и, таким образом, совершивший двойное преступление против ποίησις. В эстетическом плане этот переход к τέχνη означает, что воображаемое и его созерцание становятся отныне более реальными, нежели сама реальность. На этом стоит эстетическое сознание, которое представляет собой не что иное, как проявление притязаний кажимости на то, что есть. Средневековье этого противоречия не знало, однако оно не только вновь актуализируется, но предельно обостряется в эпоху Ренессанса, накладывая отпечаток на всю новоевропейскую литературу. И здесь не только рядом с Сервантесом, но в первую очередь должен быть назван Шекспир. В ответ на слова королевы, что “кажется” ему в том, что отец умер, необычным, Гамлет отвечает: „Seems‟, madam? nay, it is; I know not „seems‟.xviii „Кажется‟, государыня? нет, есть; мне безразлично „кажется‟: Это только мой черный плащ, добрая матушка, И мои обычные мрачные одежды, И бурный вздох усиленного дыханья, Как и обильные слезы очей, И удрученные черты Вместе со всеми обличьями, поступками, знаками скорби, – Все это не может выразить меня; на самом деле это „кажется‟, То, что можно сыграть; Но то, что во мне, – больше, чем видимость; Тогда как все это – лишь облачение скорби. Трагедия Гамлета в том, что после смерти отца то, что есть, сменилось тем, что кажется: именно это является главной причиной неблагополучия в Датском королевстве и именно это должно быть исправлено Гамлетом: прежний жизненный строй, олицетворением которого был его отец, должен быть возвращен на место нового, утвердившегося после смерти отца. Здесь сопоставление трагедии Шекспира и “Дяди Вани” может быть продолжено. Гамлет впадает в безумие каждый раз, как только кажимость заявляет свои права на него: властью ли Клавдия или фиглярством (“fool”) Полония, любовью Офелии, подлостью Розенкранца и Гильденстерна. Гамлет никогда не проявляет признаков безумия в общении с Горацием, но также – с актерами. Дядя Ваня впадает в безумие, когда кажимость в лице профессора заявляет свои права на тот мир, в котором он и Соня существуют и который является единственной опорой в его противостоянии кажимости, хотя этот мир лишен уже даже привнесенного, а не только своего самостоятельного, внутреннего смысла. Ренессанс, таким образом, задает меру всему последующему поэтическому искусству и определяет его сущность. И.Ф. Анненскому, указывающему на литературность Чехова, как будто противоречит журналист А. Минкин, сказавший 19 июля 2010 г. в программе “Особое мнение” одного из центральных российских телеканалов: “Мы же в Чехове живем по уши…”, – и тут же поправился (точность важна): “По макушку”. Если мы целиком, без остатка, пребываем в том, что стало реальностью благодаря творчеству А.П. Чехова, то какая же это литературность? Стало быть, Чехов, как и Гоголь, творил бытие, поэтому тоже является гением. На самом деле никакого противоречия здесь нет, поскольку все еще привычное для нас разделение литературы и жизни было поставлено под сомнение уже во времена И.Ф. Анненского. Делать литературу – значит оставаться в сфере сугубой “литературщины”, в лучшем случае – в “искусно-омозаиченном” мире, тогда как творить бытие – значит приобщиться к миру как имени: “мир-Коробочка или мир-Собакевич”xix. Не нужно понимать И.Ф. Анненского упрощенно. Для него литературщина – вовсе не уничижительное понятие. Именно благодаря ей, когда вся жизнь сверху донизу оказалась пронизанной литературностью, Чеховым “обличилась… манфредовская презумпция героизма”, а также “весь ужас и весь комизм нашей только литературности”xx, то есть современной Чехову и Анненскому жизни, лишенной подлинной бытийной основы, растворившейся в литературе. А.П. Чехов не только принадлежит к той эпохе, когда вопрос о соотношении литературы, поэзии и бытия в последний раз в границах ποιητικὴ τέχνη приобрел трагическую остроту, но и, наряду с П. Верленом, А. Рембо, А. Фетом и некоторыми другими, является самым значительным представителем этого времени. Речь идет о тех крупнейших художниках, в творчестве которых искусство приходит к предсказанному Гегелем завершению. А. Рембо – “предел” (П. Валери), предел – А. Фетxxi, но предел и Чехов, о чем, еще при его жизни, сказал ему М. Горький: “Дальше Вас – никто не может идти по сей стезе, никто не может писать так просто о таких простых вещах, как Вы это умеете. После самого незначительного Вашего рассказа – все кажется грубым, написанным не пером, а точно поленом. И – главное – все кажется не простым, т.е. не правдивым”xxii. М. Горький все сводит к реализму, но дело обстоит, по-видимому, намного глубже: Рембо и Фета, которые тоже нечто завершают, реализм меньше всего заботил. Речь идет о пределе ποιητικὴ τέχνη. А.А. Фет – предел в том смысле, что он пропел последний гимн красоте, вполне при этом осознавая, что “базар крикливый” уже на пороге и его не остановить никакими поэтическими заклинаниями. А.П. Чехов делает следующий шаг, и для его утонченного слуха самое главное слово ποιητικὴ τέχνη – произведение – начинает звучать невыносимо фальшиво. А.Б. Гольденвейзер вспоминает о своей встрече с Чеховым в городском саду в Ялте: - Я на днях слышал ваше новое произведение… (и понесла же меня нелегкая употребить такое нелепое слово!). Чехов весь передернулся, как от электрического тока, и с отвращением перебил меня: - Какое произведение?! Он особенно подчеркнул это слово.xxiii Здесь важно отметить два момента. Во-первых, нет сомнения, что нелепость названного слова Гольденвейзер остро почувствовал только в момент общения с Чеховым, тогда как ни до, ни после упомянутого разговора, очевидно, нисколько не затруднялся с его употреблением. Во-вторых, мы должны вспомнить заслуженно ставшую легендарной деликатность Чехова, чтобы понять, насколько его задело это, казалось бы, вполне нейтральное слово. Что дает понять Гольденвейзеру Чехов? Что его творчество нельзя судить по законам произведения, следовательно, нельзя судить по законам автономной ποιητικὴ τέχνη. Такое возможно только в одном случае: когда законы ποιητικὴ τέχνη становятся тождественными жизненным законам. Вот почему творчество Чехова – это не просто “предел” ποιητικὴ τέχνη, как в случае Рембо, но и выход за ее “пределы”. Этот выход осуществляется не так, как у Глеба Успенского, когда единственно значимой оказывается правда грубой и не приукрашенной жизни, но также и не так, как у Ф.И. Тютчева или В. Стефаника, когда ποίησις, дремлющая в недрах слова, пробуждается к жизни. О том, что это за выход, пишет сам Чехов в записной книжке: “За новыми формами в литературе всегда следуют новые формы жизни (предвозвестники), и потому они бывают так противны консервативному человеческому духу”xxiv. ποιητικὴ τέχνη служит отныне не для создания совершенного предмета эстетического созерцания, но также и не для того, чтобы осуществить “приращение бытия” – “символическую репрезентацию” как “чувственную полноту непосредственного присутствия”xxv, благодаря которой обычное эмпирическое существование может быть восполнено до целого – по аналогии с частями (σύμβολα) расколотой пластинки, из которых составляется целое. В эпоху, предшествовавшую “пределу” общепонятным было, что сама по себе эмпирически данная жизнь целой ни при каких обстоятельствах быть не может: для этого она должна быть восполнена искусством, которое поставило себя в этом качестве на место религии Средневековья и разума “века гениев”. У Шекспира мы находим такую предельную мощь “символической репрезентации”, какую еще поискать во всем последующем поэтическом искусстве, однако даже она нисколько не способствовала тому, чтобы земная жизнь сама по себе стала целой. Через триста лет после Шекспира один чеховский герой говорит другому: “Какая еще там новая жизнь! Наше положение, твое и мое, безнадежно”xxvi, – может быть, еще более безнадежно, чем положение современников Шекспира. И тем не менее вера в то, что эмпирически наличное существование – благодаря искусству – должно, через сто или двести лет, преобразиться, является основной движущей силой чеховского творчества. Это значит, что в эпоху “предела”, то есть: в эпоху господства “действенной области” (Г. Риккерт) во всех сферах жизни, изменилось понимание сущности ποιητικὴ τέχνη. Искусство уже не хочет существовать в качестве “только” искусства. Оно хочет, чтобы то, что оно накопило, стало фактом непосредственной эмпирической жизни, преображая ее: не только в человеке, воплощенном в искусстве, но и в обычном человеке все должно быть прекрасно. Только такое оправдание искусства принимается в расчет Чеховым. Сущность ποιητικὴ τέχνη определяется теперь теми жизненными законами, которые характерны и для действенной области, причем именно в ποιητικὴ τέχνη они – эти законы – выступают в изначальном и незамутненном виде: обретя в ней реальность, они одновременно обретают способность утвердиться и в реальной жизни. ποιητικὴ τέχνη, стало быть, не над жизнью, не против жизни, а впереди жизни – ее предвозвестие. ποιητικὴ τέχνη – ключ к пониманию жизни, к пониманию того, что стоит на пороге и только рождается в качестве реальности. А. Минкин свидетельствует (а его свидетельство как журналиста в данном случае показательно), что творчество Чехова остается предвозвестием и по отношению к нашим сегодняшним насущным проблемам. Показательно, однако, что этот вывод прежде всего ироничен по отношению к тому состоянию, в котором пребывает жизнь через сто с лишним лет после Чехова. Г.-Г. Гадамер пишет: “Символическая репрезентация, осуществляемая искусством, не нуждается в какой-либо зависимости от наличного мира вещей”xxvii. Продолжу суждение немецкого мыслителя, и то, что я скажу, будет, конечно, гораздо менее дискуссионно. Символическая репрезентация, каковой является искусство, не должна стремиться к тому, чтобы “наличный мир вещей” вобрал ее в себя, достигнув таким образом в своих собственных пределах единства наличного и символического. А ведь именно к этому начинает стремиться искусство, как только область действенности утверждается в качестве господствующей. Другими словами: наличный мир вещей, будучи частью пластинки, объявляет себя, пусть даже потенциально, целой пластинкой, не осознавая при этом, что в онтологическом отношении никаких последствий данная декларация не имеет и не может иметь. Творчество Чехова – это не про-из-ведение, то есть эстетическое “приращение бытия”, а приобщение искусства к жизни и жизни к искусству, так что ни в жизни ничего не остается чуждого искусству, ни в искусстве – ничего чуждого жизни. В результате любая претензия эстетического начала на автономность начинает восприниматься как невыносимая пошлость. И.Ф. Анненский не прав, усмотрев в чеховской фразе о пепельнице кардинальное снижение требований, которые предъявляет себе искусство. В этой фразе, напротив, проявление предельного могущества искусства, когда для него не остается в жизни ничего неподвластного. Это могущество одновременно становится своей противоположностью, поскольку достигается благодаря тому, что в искусстве, в конечном счете, ничего не остается от искуса, искусственности, и поэтому оно начинает отрицать само себя. А.П. Чехов – предел, потому что в его творчестве жизнь целиком растворилась в литературе, не сохранив никакого сверхлитературного бытийного остатка. Творчество Чехова “по макушку” вобрало в себя все то, что определило нашу жизнь в ХХ веке и продолжает ее определять в нынешнем. Дальше ποιητικὴ τέχνη идти некуда: она завершила круг своего развития, начатый в эпоху Ренессанса, и остановилась. После того, как это произошло, возможны только разрушение ποιητικὴ τέχνη (многочисленные кунстштюки ХХ века) и переход поэтического слова в другое состояние, выходящее за пределы ренессансной парадигмы. Это путь от эстетики к фундаментальной онтологии лада, и на этом пути уже не Чехов будет тем, кто поведет нас. Но до тех пор, пока длится эпоха “предела” (а она может продлиться сколь угодно долго), Чехов неизменно будет оставаться в числе наиболее авторитетных и почитаемых писателей. Примечания Анненский И.Ф. Избранное / И.Ф. Анненский. – М.: Правда, 1987. – С.441. ii Чехов А.П. Собр. сочинений: в 8 т. / А.П. Чехов. – М.: Правда, 1969-1970. – Т.7. – 1970. – С.222. iii Там же. – С.230. iv Там же. – С.234. v Там же. – С.233. vi Анненский И.Ф. Ук. книга. – С.391. vii Чехов А.П. Ук. книга. – С.233. viii Там же. – С.213. ix Там же. – С.212. x См.: Веселовский А.Н. Западное влияние в новой русской литературе. – 5 изд., доп. / А.Н. Веселовский. – М., 1916. – С.192. xi Molière. Les Précieuses ridicules, comédie en un acte. 1659 // Oeuvres de Molière. – T.2. – Paris, 1819. – P.36. xii Мольер. Смешные жеманницы // Полн. собр. сочинений: в 4 т. / Мольер. – М.: Искусство, 1965-1967. – Т.1. – С.272. Пер. Н. Яковлевой. xiii Там же. – С.267, 270. xiv Там же. – С.263. xv См. об этом: Анненский И.Ф. Ук. книга. – С.423, 429. xvi Впрочем, Альбрик называет его третьим в ряду двенадцати подвигов; см.: Грейвс Р. Мифы Древней Греции / Р. Грейвс. – М.: Прогресс, 1992. – С.387-388. xvii Evripides. Alcestis / Evripides. – Lipsiae: BSB B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1980. – P.42. xviii Шекспир У. Трагедия о Гамлете, принце Датском / У. Шекспир. – СПб.: Азбука-классика, 2008.– С.40. xix Анненский И.Ф. Ук. книга. – С.440. xx Там же. – 441. xxi См.: Домащенко А.В. Ποιητικὴ τέχνη / А.В. Домащенко // Актуальні проблеми іноземної філології. – Вип. V. – Ч.І. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – С.210-212. xxii Переписка А.П. Чехова: в 2 т. – М.: Художественная литература, 1984. – Т.2. – С.326. xxiii Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого / А.Б. Гольденвейзер. – М.: ГИХЛ, 1959. – С.393. xxiv Чехов А.П. Ук. собр. сочинений. – Т.8. – С.368. xxv См.: Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного / Г.-Г. Гадамер. – М.: Искусство, 1991. – С.302-305. xxvi Чехов А.П. Ук. собр. сочинений. – Т.7. – С.238. xxvii Гадамер Г.-Г. Ук. книга. – С.304. i