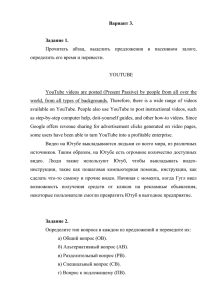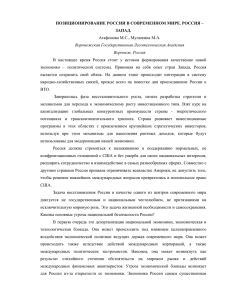Индо-пакистано-английский писатель и лауреат Букеровской
реклама
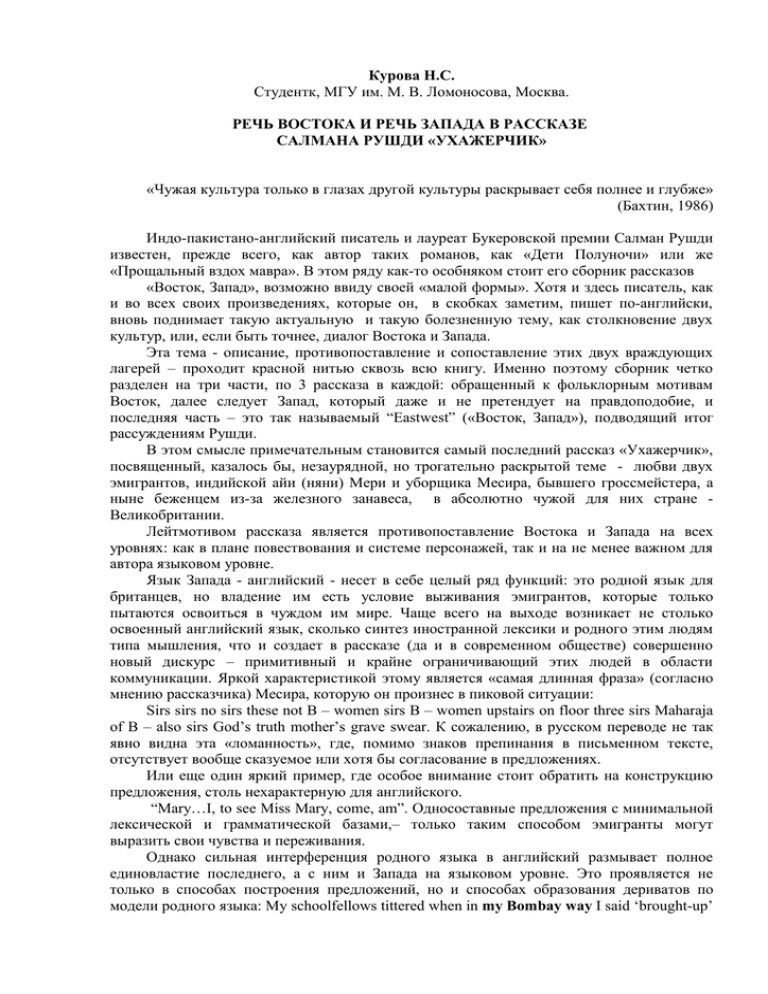
Курова Н.С. Студентк, МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва. РЕЧЬ ВОСТОКА И РЕЧЬ ЗАПАДА В РАССКАЗЕ САЛМАНА РУШДИ «УХАЖЕРЧИК» «Чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже» (Бахтин, 1986) Индо-пакистано-английский писатель и лауреат Букеровской премии Салман Рушди известен, прежде всего, как автор таких романов, как «Дети Полуночи» или же «Прощальный вздох мавра». В этом ряду как-то особняком стоит его сборник рассказов «Восток, Запад», возможно ввиду своей «малой формы». Хотя и здесь писатель, как и во всех своих произведениях, которые он, в скобках заметим, пишет по-английски, вновь поднимает такую актуальную и такую болезненную тему, как столкновение двух культур, или, если быть точнее, диалог Востока и Запада. Эта тема - описание, противопоставление и сопоставление этих двух враждующих лагерей – проходит красной нитью сквозь всю книгу. Именно поэтому сборник четко разделен на три части, по 3 рассказа в каждой: обращенный к фольклорным мотивам Восток, далее следует Запад, который даже и не претендует на правдоподобие, и последняя часть – это так называемый “Eastwest” («Восток, Запад»), подводящий итог рассуждениям Рушди. В этом смысле примечательным становится самый последний рассказ «Ухажерчик», посвященный, казалось бы, незаурядной, но трогательно раскрытой теме - любви двух эмигрантов, индийской айи (няни) Мери и уборщика Месира, бывшего гроссмейстера, а ныне беженцем из-за железного занавеса, в абсолютно чужой для них стране Великобритании. Лейтмотивом рассказа является противопоставление Востока и Запада на всех уровнях: как в плане повествования и системе персонажей, так и на не менее важном для автора языковом уровне. Язык Запада - английский - несет в себе целый ряд функций: это родной язык для британцев, но владение им есть условие выживания эмигрантов, которые только пытаются освоиться в чуждом им мире. Чаще всего на выходе возникает не столько освоенный английский язык, сколько синтез иностранной лексики и родного этим людям типа мышления, что и создает в рассказе (да и в современном обществе) совершенно новый дискурс – примитивный и крайне ограничивающий этих людей в области коммуникации. Яркой характеристикой этому является «самая длинная фраза» (согласно мнению рассказчика) Месира, которую он произнес в пиковой ситуации: Sirs sirs no sirs these not B – women sirs B – women upstairs on floor three sirs Maharaja of B – also sirs God’s truth mother’s grave swear. К сожалению, в русском переводе не так явно видна эта «ломанность», где, помимо знаков препинания в письменном тексте, отсутствует вообще сказуемое или хотя бы согласование в предложениях. Или еще один яркий пример, где особое внимание стоит обратить на конструкцию предложения, столь нехарактерную для английского. “Mary…I, to see Miss Mary, come, am”. Односоставные предложения с минимальной лексической и грамматической базами,– только таким способом эмигранты могут выразить свои чувства и переживания. Однако сильная интерференция родного языка в английский размывает полное единовластие последнего, а с ним и Запада на языковом уровне. Это проявляется не только в способах построения предложений, но и способах образования дериватов по модели родного языка: My schoolfellows tittered when in my Bombay way I said ‘brought-up’ for upbringing and ‘thrice’ for ‘three times’…/ Мои школьные приятели посмеивались надо мной, когда я на свой бомбейский манер говорил «возрастание» вместо «воспитание» и «втройне» вместо «трижды». Таким образом, рассказчик, учась в Англии, подсознательно сохранял менталитет другой языковой среды.1 Помимо этого, язык Запада проявляется еще в двух ипостасях: во-первых, это «настоящий английский», так называемый язык Диккенса и Теккерея. Не зря в рассказе появляется эпизодически фигура Льюиса Кэрролла, напоминающая читателю, что английский язык – это, прежде всего, язык великой литературы. Хотя на протяжении всего рассказа это персонаж не произносит ни слова, все же эта ипостась английского проявляет себя в речи другого героя, - а именно, рассказчика, который выступает сразу в двух ролях: в роле 16-тилетнего подростка и в роле уже зрелого повествователя, который, как раз таки и использует литературный язык. Or was that her heart, roped by two different loves, was being pulled both East and West, whinnying and rearing, like those movie horses being yanked this way by Clark Gable and that way by Montgomery Clift, and she knew that to live she would have to choose?/Или, может, это её сердце, крепко связанное любовью к Востоку и любовью к Западу, разрывалось между ними на части и билось, как те киношные лошади, которых тянут в разные стороны Кларк Гейбл и Монтгомери Клифт, и она понимала, что чтобы выжить, ей нужно сделать выбор/ А во-вторых, это грубый повседневный, во многом огрубленный разговорный язык некоторых носителей западной культуры, весьма и весьма далекий от первого. Полный оскорблений, английский выступает не как средство заработка, а как инструмент унижения, тем самым, убивая образ Запада радушно принимающего бедствующих (ср. Wogistan; wog – крайне оскорбительное слово по отношению к афро-американцам, сродни рус. черномазый). Еще один вид английского - это язык старающегося ассимилироваться молодого поколения. Он предстает абсолютно клишированным и как бы сросшимся с музыкальной поп-культурой, ибо для выражения всех своих душевных переживаний дети эмигрантов неизменно используют строчки из западных хитов. Another Saturday night…There might be a mop-top love-song stuck at number one, but I was down with lonely Sam in the lower depths of the charts…How I wish I had someone to talk to, / I’m in an awful way. Рассказчик напоминает себе только одну строчку, руководствуясь ею уже как девизом; здесь песня - это не только способ выражения себя, настроения или желаний. Молодое поколение искренне полагает, что в музыке и словах заложены советы по правильному поведению в незнакомой среде, ответ на вопрос «как стать здесь своим?». Можно рассматривать песню как концепт, т.е. как «сгусток культурной среды в сознании человека» (Степанов Ю.С.). Музыка – это, по словам Гегеля, и «характеристика духовной культуры в целом» (Гегель, 1, 225), где возникает единство между исполнителем и слушателем. She-E-rry, won’t you come out tonight? yodeled the Four Seasons. I knew exactly how they felt/ Детка, разве ты сегодня не придешь? – голосили «Времена года». И я точно знаю, что они при этом чувствовали. Единство это возникает на главном в то время для рассказчика чувстве – чувстве одиночества. Возможно, именно поэтому на него так сильно влияла духовная культура, отвечавшая его переживаниям и его состоянию в целом. Рассмотрев все аспекты проявления английского языка, можно заключить, что слишком разные языковые компетенции коммуникантов не столько препятствуют речевым актам, сколько делают английский язык крайне неоднородным, лишая его полного главенства на языковом уровне. 1 Перевод Т.Н. Чернышевой Казалось бы, язык Востока, т.е. явного меньшинства, должен подстраиваться под окружающую среду, раствориться в другой культуре и стереться из памяти. Но не все персонажи подчиняются этому правилу. Так айа (няня) Мери после переезда семьи в Лондон предпочитает разговаривать с близкими на хинди, тем самым отделяя себя от чуждой ей действительности. Несмотря на то, что в разговоре с Месиром, своим «ухажерчиком», айа переводит свои высказывания на английский, она не стремится в полном смысле освоить этот язык. …and Certainly-Mary flapped her hand at the set: ‘Khali-pili bom marta,’ she objected, and then, for her host’s benefit translated: for nothing he is shouting shouting./ Мэри-Конечно застучала в знак протеста по телевизору: Хали-пили бом марта, - сказала она и перевела, чтобы доставить удовольствие хозяину. – Чего орет как резаный? Прибегая к этому языку и к этой культуре лишь в крайних случаях, она всегда остается верной себе и своим корням, поэтому между любовью к Месиру и любовью к Востоку, т.е. своей родине, она выбирает свой родной лагерь – лагерь Востока: «Англия разбила ей сердце тем, что была не Индия». В изображении Рушди «Восток» (как дискурс), в отличие от «Запада», един и не зависим от социального статуса говорящего. Хотя молодое поколение сразу выбирает западный образ жизни и стиль поведения, восточный менталитет, а с ним и язык, заложенные в генах, не могут исчезнуть без следа (см. пример о «воспитании»). Это подтверждается не только на языковом, но и на смысловом уровне: At sixteen, you still think you can escape from your father…you don’t see how your gestures already mirror his…you don’t hear his whisper in your blood./ В 16 лет еще думаешь, что от отца можно сбежать….еще не видишь, как повторяешь его жесты…Не слышишь отцовского шепота в своей крови. Примечательно, что и айе, и «ухажёрчику» никак не дается английский. Поэтому их средством общения становится своеобразный метаязык - язык шахмат (the great formalization of war, transformed into an art of love/ представление/олицетворение войны, превращенное в вид/искусство любви Поскольку эта игра изначально пришла в Европу с Востока, то именно она становится коммуникативным мостом между двумя культурами: Such was their courtship. ‘It’s like an adventure, baba, Mary once tried to explain me/ ‘It’s like going with him to his country, you know? What a place, baap-ré!...But in the game of chess they had found a form of flirtation, an endless renewal…a courtly wonderland of the ageing heart./Такими были их ухаживания. «Это как путешествие, баба,» как то раз пыталась объяснить мне Мери. И они нашли форму флирта, не надоедавшую благодаря новизне каждой партии…рыцарская страна чудес стареющего сердца. В этом эпизоде о шахматах Рушди сам играет (вербально) с читателем в увлекательную игру слов (в том числе и окказиональных) и значений (courtly-courtercourtship). Тем самым автор увеличивает смысловой объем и пытается выразить невыразимое, что придает специфический колорит всему рассказу. Таким образом, на весьма непродолжительное время два мира общаются на этом условном языке. Но дальнейшее развитие действия показывает, что компромисс в таком случае невозможен: как я уже говорила, Англия убивает айу тем, что она не Индия, и Мэри бежит обратно к себе, где её загадочная болезнь, начинавшаяся и проходившая без всякой видимой причины, наконец, прошла. В рассказе Салмана Рушди язык Запада доминирует фактически: в реалиях, стереотипах поведения людей и окружающей их среде. Но этот язык проявляет себя агрессивно, подобно колонизатору, искореняя чуждую ему культуру. С самого начала эмигранты чувствуют себя униженными и лишенными гражданских прав и ощущают к себе презрительное отношение местного населения (Wogistan): ‘Let’s leave our card,’ said the first type. ‘Then he will know to expect us’ ‘Ideal,’ said the second type, and smashed his fist into old Mixed-Up’s mouth. ‘You tell him,’ the second type said, and struck the old man in the eye. И это не последняя сцена, где таких людей, как Месир, избивают, унижают и просто издеваются. Часто Рушди подчеркивает всю бедственность их положения «говорящими» названиями и именами. Например, дом, в котором поселось семейство назывался WaverlyHouse, от глагола to waver – колыхаться, дрожать. Так Рушди еще раз подчеркивает неуверенность и хрупкость их положения. Еще один яркий пример – это имя самого «ухажерчика» - Mixed-Up – т.е.запутавшийся, потерявшийся, растерянный или, как описывает Macmillan, someone who has a lot of emotional problems. Пожалуй, самую яркую характеристику дана айей по названию любимого ею западного мультфильма the Flintstones, т.е. семья-кремень. Но Месир добавляет “Rubble’’, т.е. щебенка: то, что раньше было стойким, как кремень, превратилось в осколки, которые ветер разносит по всему миру. Явной ксенофобии в мышлении западного человека противопоставлено доминирование Востока в мышлении эмигрантов, которые остаются верными своим корням (образ айи). Примечательной в этом конфликте становится фигура рассказчика, находящегося как бы под перекрестным огнем двух противоборствующих сторон. Его заветной мечтой становится получение британского гражданства, которое должно, как он надеется по молодости лет, даровать ему свободу. Но позднее он понимает, что свобода недосягаема, поскольку оковы Востока не отпускают его на Запад, связывают по рукам и тянут назад. Чем дальше - тем сложнее ему сделать свой выбор. Как он сам описывает свое состояние в конце рассказа, “I buck, I snort, I whinny, I rear, I kick. Ropes, I do not choose between you. Lassoes, lariats, I choose neither of you, and both. Do you hear& I refuse to choose./ Я лягаюсь, встаю на дыбы, храплю, заливаюсь ржанием. Я не желаю выбирать себе новые путы. Прочь, ремни и арканы, прочь, не могу! Слышите? Я отказываюсь от выбора. Эту внутреннюю борьбу невозможно закончить перемирием, так же, как и невозможно найти компромисс. Хрупкий баланс между лагерями с отъездом айи рушится для всех, а создать новый человеку с уже сложившимся западным менталитетом (основанном на западном воспитании и на желании стать своим в этом мире) и бурлящей «отцовской» (восточной) кровью не удается. Вопрос, которым задается автор на протяжении всей книги, («Возможен ли синтез двух культур?») в итоге остается без ответа. Восток и Запад всегда будут двумя противостоящими лагерями. Они доминируют в разных планах, но их силы практически равны. Автор и на примере судьбы героев, и на языковом уровне подчеркивает, что синтез этих сторон обречен с самого начала: персонажи так и остаются перед мучительным выбором, где язык как основополагающий критерий, определяющий этническую принадлежность человека, играет решающую роль.