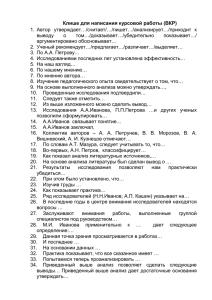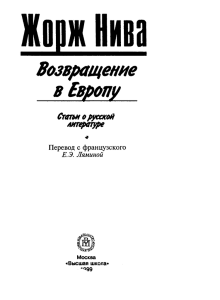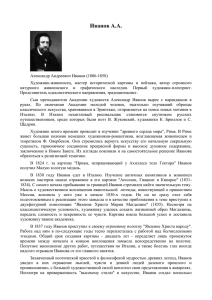искусство как религиозное творчество
реклама
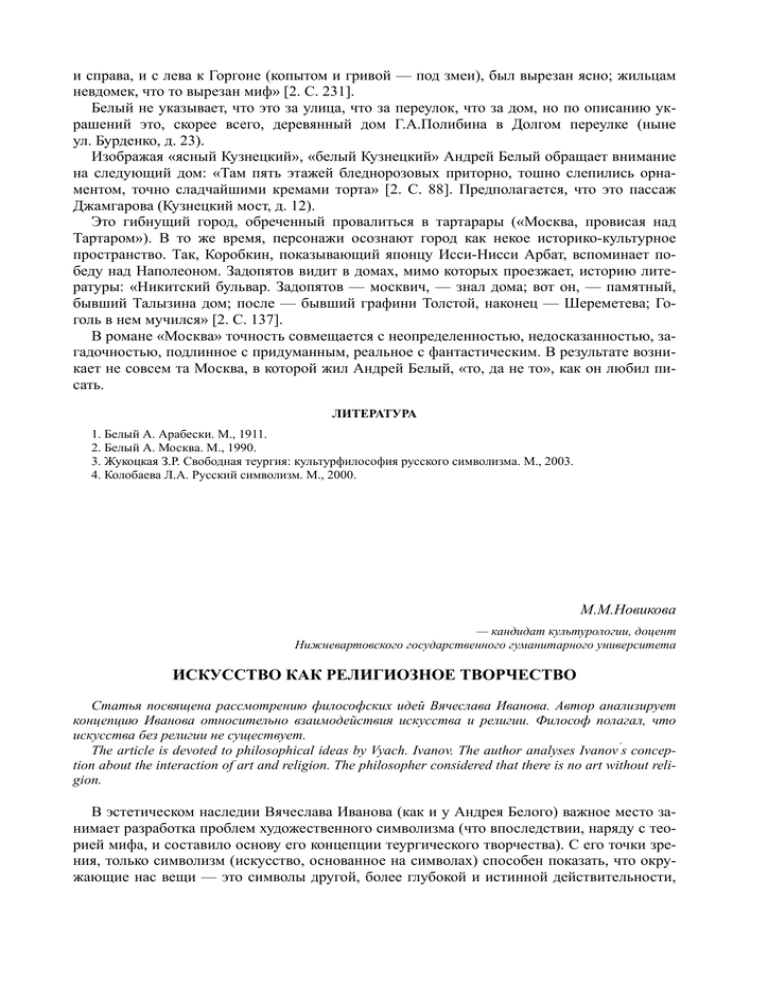
и справа, и с лева к Горгоне (копытом и гривой — под змеи), был вырезан ясно; жильцам невдомек, что то вырезан миф» [2. С. 231]. Белый не указывает, что это за улица, что за переулок, что за дом, но по описанию украшений это, скорее всего, деревянный дом Г.А.Полибина в Долгом переулке (ныне ул. Бурденко, д. 23). Изображая «ясный Кузнецкий», «белый Кузнецкий» Андрей Белый обращает внимание на следующий дом: «Там пять этажей бледнорозовых приторно, тошно слепились орнаментом, точно сладчайшими кремами торта» [2. С. 88]. Предполагается, что это пассаж Джамгарова (Кузнецкий мост, д. 12). Это гибнущий город, обреченный провалиться в тартарары («Москва, провисая над Тартаром»). В то же время, персонажи осознают город как некое историко-культурное пространство. Так, Коробкин, показывающий японцу Исси-Нисси Арбат, вспоминает победу над Наполеоном. Задопятов видит в домах, мимо которых проезжает, историю литературы: «Никитский бульвар. Задопятов — москвич, — знал дома; вот он, — памятный, бывший Талызина дом; после — бывший графини Толстой, наконец — Шереметева; Гоголь в нем мучился» [2. С. 137]. В романе «Москва» точность совмещается с неопределенностью, недосказанностью, загадочностью, подлинное с придуманным, реальное с фантастическим. В результате возникает не совсем та Москва, в которой жил Андрей Белый, «то, да не то», как он любил писать. ЛИТЕРАТУРА 1. Белый А. Арабески. М., 1911. 2. Белый А. Москва. М., 1990. 3. Жукоцкая З.Р. Свободная теургия: культурфилософия русского символизма. М., 2003. 4. Колобаева Л.А. Русский символизм. М., 2000. М.М.Новикова — кандидат культурологии, доцент Нижневартовского государственного гуманитарного университета ИСКУССТВО КАК РЕЛИГИОЗНОЕ ТВОРЧЕСТВО Статья посвящена рассмотрению философских идей Вячеслава Иванова. Автор анализирует концепцию Иванова относительно взаимодействия искусства и религии. Философ полагал, что искусства без религии не существует. The article is devoted to philosophical ideas by Vyach. Ivanov. The author analyses Ivanov’s conception about the interaction of art and religion. The philosopher considered that there is no art without religion. В эстетическом наследии Вячеслава Иванова (как и у Андрея Белого) важное место занимает разработка проблем художественного символизма (что впоследствии, наряду с теорией мифа, и составило основу его концепции теургического творчества). С его точки зрения, только символизм (искусство, основанное на символах) способен показать, что окружающие нас вещи — это символы другой, более глубокой и истинной действительности, что символы — это мифы, в которых и через которые человек воспринимает и понимает окружающий его мир (истинно символическое искусство соприкасается с областью религии, поскольку религия выражает связь всего сущего и смысла всяческой жизни, и поэтому можно говорить о символизме и религиозном творчестве как о находящихся в некотором взаимоотношении). Религиозное творчество всегда было связано с художественной деятельностью (поскольку всякая идея стремится быть воплощенной, и в данном случае искусство играло роль посредника между мирами, между действительностью и неведомым). Наиболее явно это выступало в древние эпохи, когда все формы искусства, подчеркивал Иванов, непосредственно служили целям религии (живопись, скульптура, музыка, архитектура и т.д.). Художниками владела религиозная идея. Данной точки зрения придерживались Е.Н.Трубецкой, Н.А.Бердяев и многие другие русские мыслители начала ХХ в., но первым о связи искусства и религии, о возможности их будущего слияния в едином творческом акте высказался Вл.С.Соловьев [1, 6, 7, 8]. Его идея теургии ставит будущим теургам, полагал Иванов, еще более важную задачу, чем та, которую разрешали древние художники, она объясняет художественно-религиозное творчество в более возвышенном смысле. Однако эта задача кажется совершенно невыполнимой. В самом деле, «как может человек способствовать своим творчеством вселенскому преображению? Населит ли он землю созданиями рук своих? Наполнит ли воздух своими гармониями? Заставит ли реки течь в предначертанных им берегах и ветви деревьев простираться по предуказанному плану? Запечатлеет ли свой идеал на лице земли и свой замысел на формах жизни? Будет ли художник-теург — художник-тиран, о каком мечтал Ницше, художник-поработитель, который переоценит все ценности эстетические и разобьет старые скрижали красоты, последовав единственно своей „воле к могуществу“? …Или такой художник, который „трости надломленной не переломит и льна курящего не угасит“?» [4. С. 144]. Иванов считал, что теургический принцип в искусстве — это принцип не насильственного изменения действительности, а глубокой, проникновенной восприимчивости к ней. Художник должен не изменять своей волей формы вещей, а прозревать их сокровенную сущность, выявлять их красоту. Но для этого нужен особый талант, особое видение и слух, иными словами, художник должен почувствовать тайный символический смысл форм и явлений. Только тогда его творческие прикосновения станут «нежными и вещими». «Глина сама будет слагаться под его перстами в образ, которого она ждала, и слова в созвучия, предуставленные в стихии языка. Только эта открытость духа сделает художника носителем божественного откровения» [4. С. 144]. Только реалистический символизм, по мнению Иванова, может построить новый миф из своих символов, а миф, в свою очередь, может вырасти только из реальных символов, поскольку он есть объективная правда о сущем. Еще Платон говорил, что истинной задачей поэта является творение мифов, в которых бы отражалась гармония мира. Но существует ли в настоящий момент религиозная почва, на которой мог бы расцвести миф? Существует ли вера в сокровенную реальность? Если возможен реалистический символизм, возможен и миф, полагал Иванов. В истинном мифе уже нет видимой личности его творца, есть только вера в правду нового прозрения. «Из чего следует, что творится миф ясновидением веры и является вещим сном, непроизвольным видением, „астральным“ (как говорили древние тайновидцы бытия) гиероглифом последней истины о вещи сущей воистину. Миф есть воспоминание о мистическом событии, о космическом таинстве. Поистине небо сходило на землю, любило и оплодотворяло ее, как повествует Эсхил, говоря о ливне Урана, пролившемся на разверстую Гею» [4. С. 144]. Поэтому первым условием мифотворчества является, по Иванову, душевный подвиг самого художника. Он должен творить, чувствуя и пытаясь выразить божественное всеединство, миф должен стать событием внутреннего опыта, личного по своей основе, сверхличного по своему содержанию. Создание такого мифа и есть подлинно теургическая задача. Пока же человечество, считал Иванов, еще очень далеко от этой цели. Но те попытки создания мифа, которые происходят в символическом искусстве, являются симптомами поворота к совершенно иному мировосприятию. В этом мировосприятии, на его взгляд, происходит «…возврат души и ее новое, пусть еще робкое и случайное прикосновение к „темным корням бытия“». Не религиозная настроенность нашей лиры или ее метафизическая устремленность плодотворны сами по себе, но, по глубокому убеждению философа, то «первое, еще темное и глухонемое осознание сверхличной и сверхчувственной связи сущего, забрезжившее в минуты последнего отчаянья разорванных сознаний, в минуты, когда красивый калейдоскоп жизни стал уродливо искажаться, обращаясь в дьявольский маскарад, и причудливое сновидение переходить в удушающий кошмар» [4. С. 160]. Философ пытался опровергнуть представление о мифотворчестве как о самопроизвольном акте народного творчества, опираясь в данном случае на рассуждения Соловьева, считавшего, что если можно говорить о поэтах и художниках будущего как теургах, то можно говорить и о мифотворчестве, исходящем от них и через них (необходимо только, чтобы ими владела религиозная идея) [5. С. 224]. Разрабатывая концепцию теургического искусства, Иванов выдвинул идею о двух этапах художественного творчества — восхождении и нисхождении. На первом этапе (при восхождении) человек поднимается до вершин смысла происходящего, где ему открывается вся красота мира, а затем с этой вершины нисходит уже художник, который воплощает открывшееся ему в художественных формах. В то же время Иванов считал, что человек хотел бы совершить теургический акт, но совершает только акт символический (подобные мысли характерны для более поздних работ Иванова, таких, например, как статья «О границах искусства», в которых явно отсутствует былой его оптимизм относительно теургических возможностей искусства). В самой материи, в веществе, больше святости, больше искусства, чем в человеческом духе. Само вещество, по выражению Иванова, не символически, не условно, но прямо и на деле следует за духом по его тайным путям. А человек лишь символически оживляет в произведениях искусства эту видимую для глаза и звучащую для уха плоть. Все произведения искусства — только символы иной реальности; иконы, изображающие богов, — это только кумиры, а люди забывают это и поклоняются им, как идолам. Всякое произведение искусства в этом смысле несовершенно, и как бы оно ни было прекрасно, душа мира страдает от незавершенности, «тоскует мрамор в статуе», любое вещество требует от художника других и больших усилий для своего освобождения. С древнейших времен истинные художники, по Иванову, терзаются темными воспоминаниями о том, что когда-то, в золотом веке искусств, звучали лиры, которым повиновались деревья и звери, волны и скалы, а изваяния искусных рук жили и не старились. Микеланджело казалось, что его создания действительно живы и только притворяются камнями. Художника все время тревожит и томит желание перейти за грань реальности, туда, где начинается чудо. Перейти трудно еще и потому, что это безумный шаг. И, тем не менее, художнику трудно отказаться от своего безумия и поверить в то, что его дело — только преобразование форм. «Скорее помнится ему, что какая-то роковая тайна, какое-то старинное грехопадение и проклятие раздробило целостное творчество, создавая разделенные искусства, из коих каждое — только искусство; и одну целостную любовь-жизнь разбило на множество преходящих увлечений, мимолетных прельщений, пустых зеркальностей любви. Во всяком случае он явственно слышит жалобу материи, которой умеет придать форму, но бессилен сообщить истинную жизнь, и это ощущение неиспользованных им сил и тяготений самого вещества, над которым он работает, плодотворно побуждает поэта к раскрытию новых возможностей слова, музыканта к поискам неслыханных дотоле гармоний, живописца к новому зрению вещей и красок» [5. С. 224]. Но как бы ни увлекала художника идея теургического творчества, завершается она либо технической объективацией, либо эстетическим безумием. И потому, считал Иванов, многие художники легко подменяют недосягаемый идеал символическим условным покушением на волшебство. Одно дело изваять Афродиту, а другое дело — магической силой искусства вдохнуть в нее жизнь. По-видимому, вдыхать жизнь в материю можно, согласно Иванову, только перестав быть художником, т.е. забыв, что материя уже жива. Подобным образом рассуждал и А.А.Блок, который в своем докладе «О современном состоянии русского символизма», посвященном творчеству Иванова и Белого, говорил о двух стадиях развития русского символизма: позитивной, основанной на «теургических откровениях», и кризисной, на которой произошло трагическое искажение открывшегося, превращение мистических прозрений в эстетические. Были пророками, отмечал Блок, пожелали стать поэтами. Теургическое творчество — дело далекого будущего, если оно вообще возможно, а поэты и мыслители преждевременно стали полагать себя теургами, точно так же, как преждевременной была русская революция: «Мы пережили безумие иных миров, преждевременно потребовав чуда; то же произошло ведь с народной душой: она прежде срока потребовала чуда, и ее испепелили лиловые миры революции» [2. С. 435]1. Теургический переход — противозаконный по отношению к природе выход за ее пределы — является на самом деле, согласно Иванову, помощью духа потенциально живой природе: «И стремление к этому чуду в художестве есть стремление правое, а выход художества в эту сферу, лежащую вне пределов всякого, доселе нам известного художества, выход за ограждение символов, подобных высеченным из слоновой кости башням, воздвигнутым уже на последних окраинах и открывающим вид на моря и горы вечности, есть выход желанный и для художника как такового, потому что там символ становится плотью, и слово — жизнью животворящей, и музыка — гармонией сфер» [5. С. 226]. С одной стороны, стремление художника выйти за пределы символов — это лишь творческий соблазн, желание заведомо невозможного чуда, но с другой стороны, теургическое томление помогает осуществлению в нас нового религиозного сознания, покоящегося на постулатах веры. В теургическом искусстве, по Иванову, видимо, должно быть иное чередование этапов: человек должен нисходить до духовно-реального проникновения к Матери-Земле, а художник должен восходить до непосредственной встречи с высшими сущностями на каждом шагу своего художественного действия. Он должен быть смирен, как Иосиф, послушный сновидец и бдительный, благоговейный поводырь и оберегатель мировой души. Тем не менее, Иванов призывает художников не обольщаться — красота не спасет мир. Возможно, Достоевский подразумевал не нашу красоту и не наше искусство — «искусство прометеевых детей, желающих ограбить небо». Грядущая мистерия, осуществленное теургическое искусство вряд ли будет похоже на все то, с чем мы имеем дело в нашей сегодняшней культуре. Но в душе художника всегда должен звучать повелительный призыв В.Соловьева к открытию теургического смысла и назначения поэзии, звучать как обет Фауста — «к бытию высочайшего стремиться неустанно» [5. С. 136]. 1 Невозможность теургии Блок видел и в том, что наш разум, воспитанный на принципах рациональности, пока не в состоянии оторваться от своих основ и традиций: И наконец, у предела зачатия Новой души, неизведанных сил, — Душу сражает как громом проклятие: Творческий разум осилил — убил. (С моря ли вихрь…) Теургическое искусство, полагал Иванов, должно быть не учительством и пророчеством, а «умным веселием». К сожалению, так уж принято на Руси, что самые талантливые художники должны были быть еще и освободителями. Писатель был учителем или проповедником, и это раскалывало его душу, искажало чистоту художественной формы. Художник должен стремиться не к совершенствованию существующего общества, а к невозможному, к новому бытию, к изменению мирового плана. Только это и делает его творчество живым. Для Иванова пример теургического искусства являли творческие поиски Достоевского и Скрябина. Достоевский своим творением, по мнению философа, задал теургическую загадку: как возможен Иван-царевич, грядущий во имя Господне? Как земля русская может стать святой Русью? И писатель в глубине души надеялся, что его творчество создаст такого человека, в котором бы гармонично воплотилась человеческая и божественная природа — человека, который был бы не от мира сего, и в то же время вырастал из этого мира. Создание, или рождение, такого человека, согласно Иванову, и есть теургия. Мечта о преображении мира пронизывает все творчество Достоевского: то он мечтает о таинственном посланнике старца Зосимы, как о зачинателе «нового рода людей новой жизни», то изображает такого посланника в лице князя Мышкина, то верит, что дети преобразят мир, и разворачивает целую метафизику ребенка как представителя иного мира в нашем «темном царстве». То страстно проповедует идею русского народа-богоносца. Об этом Иванов даже писал, что «провозглашенная Достоевским „самостоятельная русская идея“ — идея преображения всего нашего общественного и государственного союза в церковь — это единственный нам открытый творческий путь. И эта единственность и предопределенность пути — не теснота и не скудость, а признак творчества истинного, в котором воочию предстоит тайна совпадения свободы с необходимостью» [4. С. 325]. Вторым фанатиком теургии для Иванова был Скрябин, который, по его мнению, совершенно «разлюбил» искусство в нашем традиционном понимании. Он любил только красоту, все мироздание было в его глазах эстетическим феноменом, но не в обыденном смысле. Природа, вещи возникли, по Скрябину, для того только, чтобы принять от божественного Духа прекрасные формы. Для него, как и для мифического Орфея, музыка была движущим и строящим первоначалом, она должна была вовлекать в свой круг природу и новым созвучием вливаться в гармонию сфер. Скрябин всю жизнь положил на создание своей «Мистерии». К каждой нотной строке он готовил цветовую и стихотворную строку, искал местность, где хор будет исполнять его «Мистерию». И сам хор, в его представлении, должен был состоять из людей, проникнутых единым соборным сознанием и вдохновением. Это был бы не хор исполнителей, но хор священнодействующих, хор свершителей литургического служения. Во время исполнения «Мистерии» не должно быть слушателей, все будут участниками, если не хора, то внутренне слитого с ним сонма торжественных шествий. Его «Мистерия», полагал Скрябин, будет окончательной мистерией. Она будет исполняться всего один раз, и после этого исполнения кончится Эон, в котором мы живем, кончится этот мир, и наступит мир новый и преображенный. «Скрябину — носителю теургического помазания, не было дела до того, не сожжет ли огонь таинства уготованную к его приятию плоть искусства, не сожжет ли он и самого теурга. Смерть означала для него свершение личности…» [3. С. 182]. Теургия не являлась, по Иванову, проблемой в древние века. Мифологическому миросозерцанию древности всегда сопутствовало ощущение миростроительной мощи искусства. Это особенно относилось к музыке. В музыкальную гармонию верили как в первооснову Вселенной. Музыка, вера, религия не существовали порознь. Искусство врачевало ритмом и мелодией души и тела, оно разрешало самую непосредственную теургическую задачу — преодоление хаоса в человеке. Но постепенно каждое искусство, совершенствуясь и утончаясь, освобождаясь от служения религии, обмирщалось. В конце концов, искусство оказалось замкнутым в пределах человеческого переживания, оно уже перестало выражать то, что люди знали об иных мирах, о сверхчувственном порядке вещей. Искусству осталась лишь «тощая» задача эстетического воспитания. Однако, считал Иванов, вера в искусство как освобождающую силу, способную изменить и перевоссоздать культуру, все еще жива. Современная культура — «рассадник духовных овощей», «огород», где все приручено, зарегистрировано и целесообразно. Само слово «культура» сухо, практично и безвкусно, «потому что отрицает все самопроизвольное и богоданное и утверждает лишь саженное, посеянное, холенное, подстриженное, выращенное и привитое, — потому что не включает в себя понятия творчества: тогда как то, что мы за отсутствием иного слова принуждены называть культурой — есть именно творчество» [3. С. 162]. Размышления Вячеслава Иванова полны, с одной стороны, горестного сожаления о невозможности теургического творчества, а с другой — гордости за человека, стремящегося выйти за пределы законов природы, за «пределы символов». Эти стремления, в конечном счете, могут, по его мнению, способствовать зарождению совершенно нового, в подлинном смысле слова религиозного сознания — самого главного истока новой, еще очень смутной в своих очертаниях, но уже зарождающейся культуры. ЛИТЕРАТУРА 1. Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. М., 1994. 2. Блок А.А. О современном состоянии русского символизма // Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. 3. Иванов В.И. Взгляд Скрябина на искусство // Лик и личины России. Эстетика и литературная теория. М., 1995. 4. Иванов Вяч. Две стихии в современном символизме // Родное и вселенское. М., 1994. 5. Иванов Вяч. О границах искусства // Борозды и межи: Опыты эстетические и критические. М., 1906. 6. Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. 7. Трубецкой Е.Н. Свет Фаворский и преображение ума // П.А.Флоренский: pro et contra. СПб., 1996. 8. Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках. Этюды по русской иконописи // Смысл жизни. М., 1994.