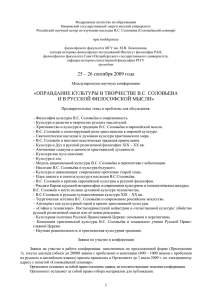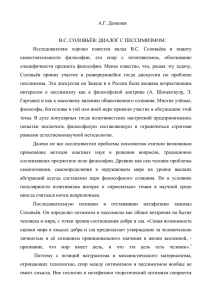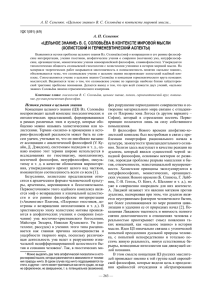Краткой повести об антихристе
реклама
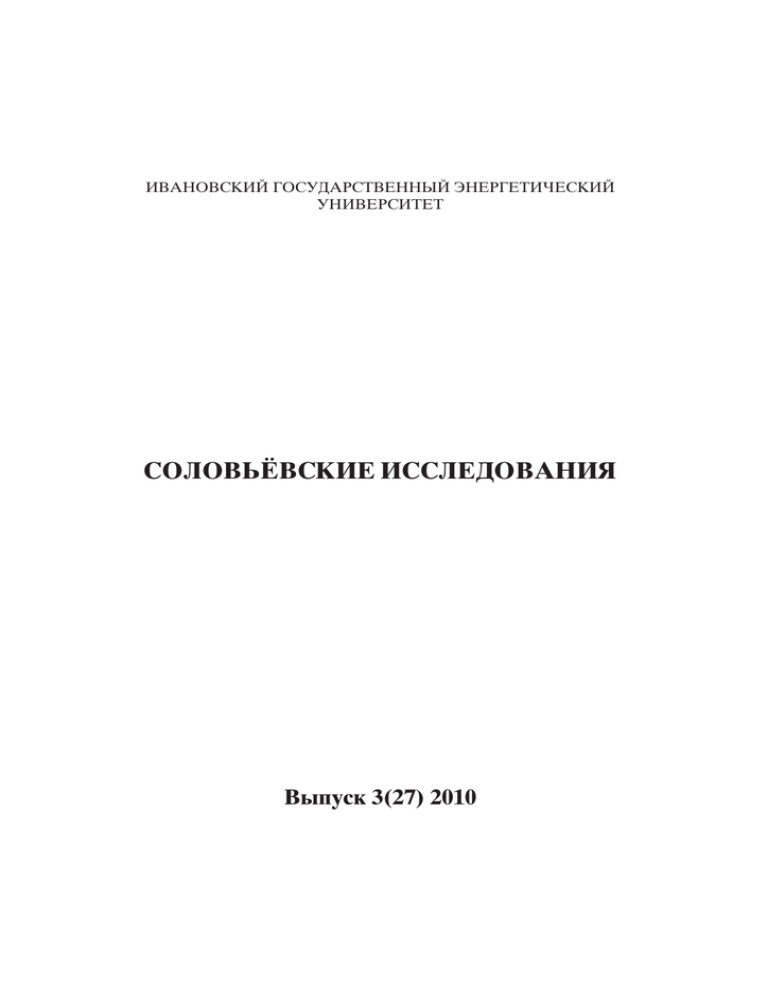
1 ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СОЛОВЬЁВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Выпуск 3(27) 2010 2 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Соловьёвские исследования. Вып. 3 (27) 2010 Журнал издается с 2001 года ISSN 2076-9210 Редакционная коллегия: М.В. Максимов, д-р филос. наук (главный редактор) А.П. Козырев, канд. филос. наук (зам. гл. редактора, г. Москва) Е.М. Амелина, д-р филос. наук (г. Москва), А.В. Брагин, д-р филос. наук (г. Иваново), Н.И. Димитрова, д-р филос. наук (Болгария), И.И. Евлампиев, д-р филос. наук (г. Санкт-Петербург), К.Л. Ерофеева, д-р филос. наук (г. Иваново), О.Б. Куликова, канд. филос. наук (г. Иваново), Н.В. Котрелев (г. Москва), Я. Красицки, д-р филос. наук (Польша), Л.М. Максимова, канд. филос. наук (г. Иваново), Б.В. Межуев, канд. филос. наук (г. Москва), В.В. Михайлов, канд. филос. наук (г. Москва), В.И. Моисеев, д-р филос. наук (г. Москва), М.И. Ненашев, д-р филос. наук (г. Киров), Е.А. Прибыткова, канд. юрид. наук (Германия), С.Б. Роцинский, д-р филос. наук (г. Москва), В.В. Сербиненко, д-р филос. наук (г. Москва) Адрес редакции: 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34, ИГЭУ, кафедра философии, Российский научно-образовательный центр исследований наследия В.С. Соловьёва Тел. (4932), 26-97-70, 26-97-75; факс (4932) 26-97-96 E-mail: [email protected] http://www.solovyov-seminar.ispu.ru © © © М.В. Максимов, составление, 2010 Авторы статей, 2010 Ивановский государственный энергетический университет, 2010 3 СОДЕРЖАНИЕ В.С. СОЛОВЬЁВ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ Роцинский С.Б. Формирование основ онтологии всеединства................................4 О «ТРЕХ РАЗГОВОРАХ…» ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЁВА Евлампиев И.И. Загадка «Краткой повести об антихристе» Вл. Соловьёва..........................................................................................................12 Парилов О.В. «Три разговора…» Вл. Соловьёва и современное толерантное общество....................................................................31 Треушников И.А. Апокалиптика «Трех разговоров» и теократическая идея Вл. Соловьёва....................................................................38 Глазков А.П. К вопросу о религиозных основаниях эсхатологии Владимира Соловьёва........................................................................55 Пилецкий С.Г. Идея возмездия и учение В.С. Соловьёва.....................................64 Крохина Н.П. Эсхатологический символизм А. Белого.......................................73 К ЮБИЛЕЮ ЕВГЕНИЯ БОРИСОВИЧА РАШКОВСКОГО Евгению Борисовичу Рашковскому 70 лет.............................................................85 «Владимир Соловьёв – философ моей жизни». Из писем Е.Б. Рашковского. Публикация М.В. Максимова..................................86 Список основных трудов Е.Б. Рашковского..........................................................88 Кузин Ю.Д. Мысль в лире: опыт жизни, веры и любви в философско-эстетическом освоении бытия (К 70-летию Е.Б. Рашковского).............................................................................90 ПУБЛИКАЦИИ Забытый Соловьёв: Поэзия В.С. Соловьёва в русской музыке. Публикация М.В. Максимова...............................................................................101 Библиография музыкальных произведений на стихи В.С. Соловьева.........................................................................................132 НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ Asproulis N. Creation and creaturehood. The neo-patristic alternative worldview to the «metaphysics of all-unity»? A brief approach of G. Florovsky’s theology.......................................134 Pribytkova E. Law as a Minimum of Good: the Cross-point of All-Unity and Universalism.........................................................142 Матушанская Ю.Г. Мессианское движение в Российской Империи в контексте идеи всеединства В. Соловьёва..........................................................147 НАШИ АВТОРЫ.................................................................................................152 О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛ............................................................................154 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ......................................................................154 4 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 В.С. СОЛОВЬЁВ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ УДК 17.023.21 ББК 87.3(2)51 С.Б. РОЦИНСКИЙ Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ОНТОЛОГИИ ВСЕЕДИНСТВА Рассматривается процесс формирования Вл. Соловьёвым онтологических основ концепции всеединства, в основе которой лежит принцип равновесия единства и множественности. Показывается, что в целом ряде учений западных мыслителей Соловьёв обнаруживал приверженность то к одной, то к другой крайности. В философии всеединства русского мыслителя эти крайности уравновешиваются, значение единичного бытия у него, по сути, тождественно значению бытия универсального. The article discusses the formation ontological foundations of the concept of unity, which is based on the principle of balance of unity and plurality by V. Solovyov. It is shown that in a number of Western thinkers’ works Solovyov showed a commitment to one or another extreme. In unity philosophy of the Russian thinker these extremes are balanced, the value of a single being according to him, in fact, identical to the value of being a universal. Ключевые слова: единство, множественность, индивидуальное, универсальное, часть, целое, номинализм, реализм, онтология, субстанция, всеединство, моноплюрализм, всечеловечество. Keywords: unity, plurality, individual, universal, part, whole, nominalism, realism, ontology, substance, all-unity, monopluralism, pan-humanity. Философия всеединства Вл. Соловьёва, если отвлечься от ее содержательных характеристик, исходит из утверждения онтологического равновесия единства и множественности. Не растворение индивидуального во всеобщем единстве, не поглощение частного целым, а именно равновесие и онтологическая равноценность этих двух сторон сущего – всеобщей целостности и входящих в ее состав частных элементов бытия – такова самая общая характеристика принципа всеединства. «Я называю истинным, или положительным, всеединством такое, – писал мыслитель, – в котором единое существует не за счет всех или в ущерб им, а в пользу всех. Ложное, отрицательное единство подавляет или поглощает входящие в него элементы и само оказывается, таким образом, пустотою; истинное единство сохраняет и усиливает свои элементы, осуществляясь в них как полнота бытия»1. Если говорить об онтологическом фундаменте системы Соловьёва, то несомненно, что для него, как для представителя «верующей философии», положения христианского вероучения явились краеугольным камнем этого фундамента. Но именно философское обоснование своего учения Соловьёв пытается найти с помощью анализа идей предшественников. Внимательное отношение к онтологической проблематике прослеживается уже в его магистерской диссер- С.Б. Роцинский. Формирование основ онтологии всеединства 5 тации «Кризис западной философии». Среди прочих вопросов, которые его, несомненно, интересовали, для него было важным выявление в учениях европейских мыслителей характера связи и взаимоотношения между целым и частным, между единством мира и множественностью входящих в его состав элементов. В самом начале названной работы он обращает внимание на «знаменитый спор реализма с номинализмом»2, тему взаимоотношения всеобщего и индивидуального, которая была продолжена в последующие века. В Новое время эту проблему по-своему решает Декарт. Он признает действительную множественность отдельных вещей, относящихся к мыслящей или протяженной субстанции. Но эта множественность единичных тел и духов, считает Соловьёв, в учении Декарта ничем не обусловливается. Ведь они в своей отдельности не могут быть ни субстанциями, ни ее атрибутами, так как субстанция одна, а атрибут по определению есть общее содержание всех однородных вещей. «Остается признать единичные вещи за частные видоизменения, модусы атрибутов: отдельный вещественный предмет будет модусом протяжения, отдельное мыслящее существо, дух, – модусом мышления, – заключает Соловьёв. – Таким образом, логически развивая принципы Декарта, мы получаем полную форму спинозизма»3. Следует отметить, что учение Б. Спинозы сыграло большую роль в формировании философского мировоззрения Вл. Соловьёва. «У Спинозы Соловьёв нашел философское обоснование своей первоначальной интуиции, духовного всеединства мира»4, – говорил в этой связи К.В. Мочульский. Однако из этого вовсе не следует, что русский мыслитель некритически заимствует известные идеи Спинозы и безоговорочно включает их в свою систему. Система Спинозы, считал Соловьёв, страдает существенным противоречием, заключающимся в том, что из природы его субстанции никак не следует множественное бытие конечных вещей. Ведь субстанция, будучи действительностью сама в себе, не заключает необходимости ничего другого, в том числе и необходимости конечных вещей как своих модусов. А если Спиноза все же утверждает эту множественность вещей, то только потому, что обнаруживает их в эмпирической действительности. Поэтому Соловьёв видит вполне логичным и закономерным тот поворот в развитии философской мысли, который производит Лейбниц. Он с явным одобрением отмечает то обстоятельство, что Лейбниц делает важный шаг в сторону утверждения онтологического статуса единичных сущностей. У автора «Монадологии» все существующее является не только одушевленным, но и состоящим из монад – душ, «духов», обладающих собственным представлением, стремлением, действием, страданием. Логически вписывая учение Лейбница в общую историческую канву, Соловьёв расценивает его монадологию как своего рода закономерное диалектическое «снятие» противоречия, образовавшегося между дуализмом Декарта и пантеизмом Спинозы. И все же, по мнению Соловьёва, учение Лейбница – лишь очередной шаг к восстановлению равновесия между всеобщим единством и единичной множественностью, но отнюдь не достижение такого равновесия. Наделяя отдельные психические единицы полнотой субстанциальной самостоятельности, Лейбниц все же мало места отводит полаганию и обоснованию того единства, которое является необходимой диалектической противоположностью монадической раздроблен- 6 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 ности. Хотя он и говорит о предустановленной гармонии, о том, что каждая монада более или менее ясно отражает весь мир. Но всего этого, считает Соловьёв, явно недостаточно: «Выражая во всей силе и полной логической ясности момент множественности и самостоятельности отдельного частного бытия, Лейбницева философия для противоположного момента общей сущности и единства представляет только гениальные догадки и остроумные метафоры, принадлежащие лично философу, но не переходящие в общее достояние философии»5. «Золотой середины» – гармонического равновесия между свободной множественностью и абсолютным первоначалом, сообщающим эмпирически разрозненным элементам онтологическое единство, – Соловьёв не находит и в философских системах целого ряда других новоевропейских мыслителей. Если у английских эмпирико-сенсуалистов перевес находится на стороне индивидуального, вещественного начала, у Канта и Фихте – на стороне субъекта, то у завершителя немецкой классической философии Гегеля абсолютное начало возвышается и над эмпирической множественностью, и над отдельной человеческой личностью. Таким образом, в истории новоевропейской мысли Соловьёв обнаруживает продолжение все того же спора между средневековыми реалистами и номиналистами. Философы с той или иной мерой последовательности отстаивают позиции то ли вседовлеющего универсализма, то ли самоуверенного индивидуализма. Если позиция первенства всеобщего объективного начала, получившая рациональное обоснование у Спинозы, была завершена впоследствии в учении Гегеля, то ее «антитезис» – точка зрения индивидуализма и субъективизма, возникшая в Новое время с монадологии Лейбница и получившая продолжение у Беркли, Канта и Фихте, доводится до последнего предела у Макса Штирнера, у которого ндивидуальное человеческое «я» становится, по существу, центром мироздания. Не вполне удовлетворяет Соловьёва и позиция Шопенгауэра, у которого в качестве всеобщего, абсолютного принципа выступает мировая воля, а всякое индивидуальное бытие есть лишь явление мировой воли, единичные особи «в своей отдельности только представляются». В итоге получается очередной дисбаланс: «существенное тождество особей и призрачность их отдельности»6. Ближе всех к пониманию сути вопроса, по мнению Соловьёва, подходит Э. Гартман со своей категорией бессознательного, которое находится за пределами эмпирического сознания и утверждается как абсолютное первоначало всего существующего, как всеединый дух. После обстоятельного анализа этого понятия Соловьёв приходит к заключению, что «это бессознательное есть всеобъемлющее единичное существо, которое есть все сущее, оно есть абсолютное неделимое, и все множественные явления реального мира суть лишь действия и совокупности действий этого всеединого существа»7. Следовательно, что касается другой стороны всеединства – множественности отдельных существ и лиц, то их существование у Гартмана весьма призрачно: «Очевидно, в самом деле, что при этом принципе то существование, в котором дана прямая противоположность истинно-сущего – разрозненная особность отдельных существ… открываемое только при величайших усилиях умозрения... такое существование, разумеется, должно быть признано за неистинное, за нечто такое, что не должно быть...». И далее – парадоксальное: «Истинность Гартма- С.Б. Роцинский. Формирование основ онтологии всеединства 7 новой практической философии заключается... в признании того, что высшее благо, последняя цель жизни, не содержится в предметах данной действительности, в мире конечной реальности, а, напротив, достигается только чрез уничтожение этого мира...»8. Вл. Соловьёв старается раскрыть и обосновать оптимистический смысл такой неожиданно нигилистической позиции немецкого философа. Он делает вполне логичное заключение, что утверждение Гартмана о «совершенном уничтожении», переходе в чистое небытие «не только нелепо само по себе..., но и прямо противоречит основному метафизическому принципу самого Гартмана». Потому что абсолютным началом у Гартмана признается «не абстрактная сущность, не пустое единство, а конкретный всеединый, всеобъемлющий дух, который не относится отрицательно к другому, к частному бытию, а, напротив, сам его полагает; поэтому в конце мирового процесса снятие наличной действительности есть уничтожение не самого частного бытия, а только его исключительного самоутверждения, его внешней особенности и отдельности»9. Этим своим оптимистическим выводом Соловьёв не только «спасает» частное бытие этого мира от его уничтожения гартмановской философией бессознательного, но и посылает полемический выпад в сторону позитивизма. Поскольку его представители, отбросив признание всяческих метафизических основ бытия, абсолютизировали именно это частное бытие в его «внешней особенности и отдельности», выступающее единственным предметом опыта. Этот критический настрой, несомненно, сказался и на том, что Соловьёв в своей магистерской работе, имеющей подзаголовок «Против позитивистов», больше внимания уделяет утверждению и обоснованию объективного существования именно абсолютного первоначала, в то время как вторая сторона всеединства – частное бытие – занимает у него меньше места в общей массе рассуждений. Этим, очевидно, объясняется и то, что в данной работе молодой философ ограничивается формулировкой категории «всеединого первоначала». Оно «в своей проявляемой действительности, которую мы познаем в области нашего опыта, представляет несомненно духовный характер... независимо от нашего сознания и первее его»10 и не дает параллельной дефиниции противоположного полюса – начала единичной множественности бытия, а также характера связи между ними. Эти вопросы Соловьёв рассматривает уже в последующих своих работах – «Философские начала цельного знания», «Чтения о Богочеловечестве», «Критика отвлеченных начал» и др. В частности, в «Философских началах…» он дает глубокую метафизическую трактовку соотношения единства и множественности. Философ доказывает, что обе эти стороны сущего коренятся в абсолютном, которое «необходимо во всей вечности различается на два полюса или два центра: первый – начало безусловного единства или единичности как такой, начало свободы от всяких форм, от всякого проявления и, следовательно, от всякого бытия; второй – начало или производящая сила бытия, то есть множественности форм»11. В обосновании своей концепции всеединства Вл. Соловьёв больше всего созвучий находит в философии Шеллинга. «Безосновная основа» Шеллинга, в которой, как в абсолюте, все противоположности находятся лишь в потенции, в 8 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 неразличенном виде, находит свой прототип в соловьёвском Абсолюте, который, как «положительное ничто», свободен от всякого бытия и в то же время обладает положительной силой бытия мира во всей множественности его форм. В учении русского мыслителя отражено то напряженное взаимоотношение между свободой и «святой необходимостью», которое имеет место в учении немецкого философа. Свободно только то, что обладает самостью и действует по законам собственной природы, а не по внушению или принуждению извне. Это относится и к Богу, и к человеку. Только если Бог обладает абсолютной свободой, то человек есть существо, «вызванное к существованию из несуществующего, и через это пользуется совсем особенной свободой». «Если реальное начало, или самость, человека разрывает единство с идеальным началом, тогда на место духа любви, связующего все силы в человеке, становится дух зла... Обратно, добро есть полное единство обоих начал»12. В достижении такого единства Соловьёв видел, вслед за Шеллингом, перспективу и смысл человеческой истории. У обоих мыслителей важнейшими движущими началами развертывания полноты бытия выступают любовь и свобода. И хотя в «философии тождества» обоснование сущности свободы отличается метафизической усложненностью по сравнению с характеристикой данного понятия в «философии всеединства», суть дела в конечном счете сводится к тому, что исторический процесс есть трудный и длительный путь постижения человеческими индивидами, наделенными свободной волею (от Бога, по Соловьёву, от «основы», по Шеллингу), высшей премудрости Божественного промысла в мире, добровольного и сознательного подчинения во все большей и большей мере зиждительной воле Творца. Параллели и совпадения можно обнаружить и по поводу ряда других вопросов, рассматриваемых этими мыслителями. Однако, как отмечал А. Лосев, преувеличивать шеллингианские заимствования у Соловьёва не следует: «Эти совпадения вырастали у Вл. Соловьёва органически и самостоятельно, они были почти всегда результатом его собственного философского творчества»13. Таким образом, в системах новоевропейской философии Вл. Соловьёв старался найти такую доктрину, в которой бы он получил подтверждение своей метафизической идеи всеединства – идеи гармонического равновесия в соотношении единства и множественности. В разных философских школах (за исключением учения Шеллинга) он обнаруживал приверженность то к одной, то к другой крайности. И такая дивергенция характерна для всего пути развития европейской мысли. От Парменида и Платона берет начало традиция единства, цельности, универсальности, которая проходит через всю историю как древней, так и новоевропейской философии. Другая традиция, удостаивающая первоочередным вниманием индивидуальное, частное, имеет своим началом не менее мощный источник в лице Аристотеля и тоже в различных модификациях пробивает себе дорогу через всю историю мысли. Отношение между этими мировоззрениями вполне обоснованно можно отнести к числу так называемых «основных», а может, и «проклятых» вопросов философии. Споры по поводу «первичности» то ли единства, то ли множественности пронизывают всю средневековую схоластику, переходят в философию и науку Нового времени, не заканчиваются они и в наши дни. С.Б. Роцинский. Формирование основ онтологии всеединства 9 Что касается социально-политического аспекта этого вопроса, то здесь опять-таки тяжба между монизмом и плюрализмом в наибольшей, пожалуй, степени выступала философско-методологической основой противоборствующих воззрений на идеал общественного устройства. В социально-политическом контексте «монизм» модифицируется в государственный порядок, дисциплину, далее – в унитаризм, тоталитаризм, деспотизм. Плюрализм же напрямую связан с категориями либерализма, демократизма, анархизма... «На протяжении всего длительного развития, от VII века до н.э. и до наших дней, – писал по этому поводу Бертран Рассел, – философы делились на тех, кто стремился укрепить социальные узы, и на тех, кто хотел ослабить их. С этим различием были связаны другие. Сторонники дисциплины защищали некоторые догматические системы, старые или новые... Сторонники либерализма, с другой стороны, исключая крайних анархистов, тяготели к научному, утилитарному, рационалистическому... Этот конфликт... сохраняется вплоть до настоящего времени и, несомненно, сохранится в течение многих грядущих веков»14. (К сказанному остается добавить, что данная коллизия определяет главное содержание политической борьбы и в современной России). Однако, как справедливо замечает далее Рассел, каждая из конфликтующих сторон «отчасти права и отчасти заблуждается». В конечном счете он возлагает надежды на доктрину такого либерализма, который сможет «укрепить социальный порядок... и обеспечить стабильность без введения ограничений больших, чем это необходимо для сохранения общества»15. В традиции западной мысли Нового времени попытку создания такой «компромиссной философии» Б. Рассел связывает с именем Дж. Локка, который выступал как против индивидуализма анабаптистов, так и против слепого преклонения перед авторитетом и традицией. В русской же философии главная заслуга в создании онтологических и диалектико-логических основ достижения такого компромисса принадлежит Вл. Соловьёву. Его учение о всеединстве вполне корректно можно охарактеризовать как моноплюрализм, ценность единичного бытия у него, по сути, равновесна значению бытия универсального. Личность и общество должны, по убеждению философа, не подавлять друг друга или приносить себя в жертву, а органически друг друга дополнять: «Общество есть дополненная, или расширенная, личность, а личность – сжатое, или сосредоточенное, общество»16. И все же вопрос этот, видимо, был не таким уж простым для Соловьёва, поскольку в разных его сочинениях можно обнаружить смещение акцента в ту или иную сторону. В частности, несмотря на многократное подчеркивание существенного значения индивидуального бытия, Соловьёв, тем не менее, отказывался признать его субстанциальность, расходясь в этом вопросе с Лейбницем и соглашаясь в некотором смысле с Платоном, Спинозой, Гегелем, считавшими, что конечная вещь, конечное существо не могут быть субстанцией, ибо субстанция не может возникать и уничтожаться. Человек же состоит не только из бессмертной души, но и из бренного тела. Если допустить, что человек существует после смерти, писал Соловьёв, то «в таком случае логически необходимо признать, что он существует... и до рождения, потому что умопостигаемая сущность по понятию своему не подлежит форме нашего времени, которая есть только форма явлений»17. И все же, то принимая, то опровергая различные аргументы и контраргу- 10 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 менты, Соловьёв приходит к заключению не в угоду одной из сторон, а к заключению сбалансированному: «Итак, когда мы говорим о вечности человечества, то implicite разумеем вечность каждой отдельной особи, составляющей человечество. Без этой вечности само человечество было бы призрачно»18. Это почти что признание за человеческой личностью статуса субстанциальности. Однако это «почти» так и не было отброшено Соловьёвым. Более того, по поводу вопроса о субстанциальности человеческого «я» Соловьёв не раз вступал в споры с Л.М. Лопатиным, для которого положительный ответ на этот вопрос не вызывал сомнения. Лопатин видел только одну альтернативу его решения: наше «я» – или субстанция, или явление. Соловьёв же предлагал третье решение: личность ни субстанция, ни явление, она – ипостась. Хотя индивидуальная личность и укоренена духовно в вечности, но телесно и психически она подвержена «Гераклитову току» во времени. «Отличие «ипостасей» Соловьёва от «субстанций» Л.М. Лопатина заключается именно в том, что ими Гераклитова тока запрудить нельзя, – писал по этому поводу Е.Н. Трубецкой. – Субстанция, хотя бы и не абсолютная, а сотворенная, есть, во всяком случае, сверхвременное, вечное бытие, обладающее неизменным, постоянным содержанием, которое ни в каком случае не может быть унесено «рекой времен». Становящимся «ипостасям», наоборот, недостает как раз этого признака постоянства и неизменности... Словом «ипостась» Соловьёв хотел выразить, что личность есть существо свободное от вечности и для вечности...»19. Если в произведениях раннего периода Соловьёв большее значение придавал индивидуальной личности, в последние годы жизни – человечеству как целостному организму. Однако здесь дело именно в акцентах, в нюансах, но не в принципе. Эти незначительные колебания уравновешиваются принципиальной позицией в его понимании сущности всеединства: «Совершенное всеединство, по самому понятию своему, требует полного равновесия, равноценности и равноправности между единым и всем, между целым и частями, между общим и единичным. Полнота идеи требует, чтобы наибольшее единство целого осуществлялось в наибольшей самостоятельности и свободе частных и единичных элементов – в них самих, через них и для них»20. Этот принцип является основополагающим для Вл. Соловьёва и в искании путей совершенствования жизни всего человечества. В его философии всеединства содержатся глубокие и во многом пророческие размышления о всечеловечестве, о перспективах его существования как единого и взаимозависимого целого, о сосуществовании входящих в его состав наций, народов и культур. Именно в этом контексте он высказал плодотворные идеи, которые оказались поразительно созвучными важнейшим вызовам нашей эпохи, остро поставившей эти вопросы уже не в отвлеченно-теоретическом плане, а исходя из настоятельного требования реальных обстоятельств. Философ прозорливо усмотрел в мировом развитии наступление ситуации, которая столетие спустя будет охарактеризована как «целостный и взаимозависимый мир». Однако единство и целостность мира не означает для Соловьёва некую безразличную, субстанциальную слитность. «Только такая жизнь, такая культура, – писал философ, – которая ничего не исключает, но в своей всецелости совмещает высшую сте- С.Б. Роцинский. Формирование основ онтологии всеединства 11 пень единства с полнейшим развитием свободной множественности, – только она может дать настоящее, прочное удовлетворение всем потребностям человеческого чувства, мышления и воли и быть, таким образом, действительно общечеловеческой, или вселенской, культурой…»21. Таким образом, в своем учении Вл. Соловьёв во многом предвосхитил постановку, а отчасти и философское решение важных современных проблем. Его философия всеединства, берущая начало в глубинах метафизики, обнаруживает свою пригодность и полезность для осмысления жизненных реалий на самых разных уровнях бытия. В своих размышлениях и построениях мыслитель стремился не столько к тому, чтобы нарисовать конкретный образ цели развития человечества, сколько к тому, чтобы охарактеризовать отношения, при которых эта цель может быть достигнута. Эти отношения в современном языке культуры получили выражение в таких понятиях, как интеграция, коммуникация, толерантность, диалог, взаимопонимание, примирение и т.п., которые сегодня бьют все рекорды частотности. Эти слова имеют прямое отношение к соловьёвскому идеалу всечеловечества, в составе которого на свободной основе и на равных правах мирно общаются и взаимодействуют разные народы, нации, цивилизации, не растворяясь при этом во всеобщем единстве, не подавляя и не поглощая друг друга. Примечания 1 Соловьёв В.С. Первый шаг к положительной эстетике // Соловьёв В.С. Сочинения. В 2 т. М.,1988. Т.2. С. 552. 2 Соловьёв В.С. Кризис западной философии (Против позитивистов) // Соловьёв В.С. Сочинения. В 2 т. М., 1988. Т.2. С. 10. 3 Там же. С. 13. 4 Мочульский К.В. Владимир Соловьёв. Жизнь и учение // Мочульский К.В. Гоголь. Соловьёв. Достоевский. М., 1995. С. 74. 5 Соловьёв В.С. Кризис западной философии. С. 20. 6 Там же. С. 66. 7 Там же. С. 73. 8 Там же. С. 120. 9 Там же. С. 120–121. 10 Там же. С. 114. 11 Соловьёв В.С. Философские начала цельного знания // Соловьёв В.С. Сочинения. В 2 т. М., 1988. Т.2. С. 235. 12 Соловьёв Вл. Свобода и зло в философии Шеллинга // Историко-философский ежегодник-87. М., 1987. С. 275, 276. 13 Лосев А.Ф. Вл. Соловьёв и его время. М., 1990. С.192. 14 Рассел Б. История западной философии. В 2 т. Новосибирск, 1994. Т.1. С.19. 15 Там же. С. 20. 16 Соловьёв В.С. Оправдание добра // Соловьёв В.С. Сочинения. В 2 т. М.,1988. Т. 1. С. 65. 17 Соловьёв В.С. Чтения о Богочеловечестве // Соловьёв В.С. Сочинения. В 2 т. М., 1989. Т. 2. С.120. 18 Там же. С. 119. 19 Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьёва. М., 1995. Т. 2. С. 239. 20 Соловьёв В.С. Смысл любви // Соловьёв В.С. Сочинения. В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 543. 21 Соловьёв В.С. Философские начала цельного знания. С. 176. 12 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 О «ТРЕХ РАЗГОВОРАХ…» ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЁВА Мы продолжаем публикацию статей, подготовленных авторами на основе докладов, прочитанных на конференции ««Три разговора…» – философское завещание Вл. Соловьёва», организованной Российским научно-образовательным центром исследований наследия В.С. Соловьёва (Соловьёвским семинаром) (Иваново, ИГЭУ, 20 мая 2010 г.) Начало публикации см. в журнале «Соловьёвские исследования», выпуск 26. УДК 130.2:2:82.09 ББК 87.3(2)51:83 И.И. ЕВЛАМПИЕВ Санкт-Петербургский государственный университет ЗАГАДКА «КРАТКОЙ ПОВЕСТИ ОБ АНТИХРИСТЕ» ВЛ. СОЛОВЬЁВА1 Обосновывается гипотеза о том, что «Краткая повесть об антихристе» состоит из трех частей, причем вторая (основная) часть была написана задолго (примерно за два года) до основного текста «Трех разговоров о войне, прогрессе и конце всемирной истории». Первая часть и финал повести были дописаны Соловьёвым при включении их в свое последнее крупное произведение; именно эти части демонстрируют радикальное отречение Соловьёва от основ своей философии, прежде всего от концепции Богочеловечества, подразумевавшей единство Бога и человека. In article the hypothesis is proved that «The short story about Antichrist» consists of three parts, and the second (main) part has been written long before (approximately for two years) to the basic text of «Three conversations on war, progress and the world history end». First part and the final of the story have been added by Solovyov when he put it into his last large work; these parts show radical Solovyov’s repudiation of main ideas of his philosophy, first of all repudiation of the concept of GodMenhood meaning unity of God and person. Ключевые слова: Владимир Соловьёв, Достоевский, Христос, антихрист, Богочеловечество, христианство, русская философия. Keywords: Vladimir Solovyov, Dostoevsky, Christ, Antichrist, God-Menhood, Christianity, Russian philosophy. «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» – это самое странное и противоречивое произведение Владимира Соловьёва. Многие исследователи называют это сочинение «пророческим», видят в нем итог всей философии Соловьёва, предлагают брать его за точку отсчета для интерпретации всего его творчества. На наш взгляд, для такого рода оценок и суждений нет никаких оснований; на самом деле последнее крупное произведение обозначает отречение Соловьёва от своего прежнего мировоззрения, здесь просматривается глубокая личная драма мыслителя2. Предчувствуя скорую смерть, Соловьёв, видимо, не устоял пред ужасом смерти и поступил так, как поступают огромное множество людей, никогда не задумывавшихся над своей смертностью и вдруг ощутивших ужас близкого конца, – он нашел убежище и защи- И.И. Евлампиев. Загадка «Краткой повести об антихристе» Вл. Соловьёва 13 ту от этого ужаса в церкви, в церковном, догматическом учении. Однако то, что является естественным и оправданным для обычного человека, оказалось личной драмой для философа, который всю свою философию посвятил размышлениям о сущности человека и человечества и в конце своего жизненного и творческого пути внезапно отказывается от всего самого оригинального в своих воззрениях. Нужно решительно подчеркнуть, что центральной темой Соловьёва на протяжении всего его творческого пути была критика традиционной догматической религиозности и исторической церкви как носительницы этой традиционной религиозности. Согласно Соловьёву, подлинный смысл христианской религии был утрачен в истории, историческая церковь (во всех трех ее разновидностях) исказила ту истину, которую принес в наш мир Иисус Христос. Свою собственную философию Соловьёв рассматривал как возрождение во всей полноте этой великой утраченной истины. Основу для своей критики догматического христианства и исторической церкви Соловьёв находил в философском мировоззрении Ф. Достоевского. Особенно ясно свою преемственность по отношению к философским идеям Достоевского Соловьёв выразил в «Трех речах в память Достоевского». В этой работе и близкой к ней речи «Об упадке средневекового миросозерцания» Соловьёв лаконично и резко определил суть своего неприятия исторической церкви и своего представления о свободной религиозной вере, к которой должно прийти человечество. Христианство Соловьёв понимает как учение о преображении земного бытия к совершенному состоянию, в соответствии с евангельской заповедью: «…будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный» (Мтф. 5, 48). В то же время в исторической церкви это возвышенное учение было забыто, и на первый план вышла формальная сторона веры (вера в догматы) и идея грядущего спасения через исполнение формальных обрядов. «При Константине Великом и при Констанции, – пишет Вл. Соловьёв, – к христианству привалили языческие массы не по убеждению, а по рабскому подражанию или корыстному расчету. Явился небывалый прежде тип христиан притворных, лицемеров. Он еще более размножился, когда при Феодосии, а окончательно при Юстиниане язычество было запрещено законом и, кроме разбросанной горсти полутерпимых евреев, всякий подданный греко-римской империи принудительно обязывался быть христианином под страхом тяжких уголовных наказаний… Прежнее действительно христианское общество расплылось и растворилось в христианской по имени, а на деле – языческой громаде. Преобладающее большинство поверхностных, равнодушных и притворных христиан не только фактически сохранило языческие начала жизни под христианским именем, но всячески старалось – частию инстинктивно, а частию и сознательно – утвердить рядом с христианством, узаконить и увековечить старый языческий порядок, принципиально исключая задачу его внутреннего обновления в духе Христовом»3. Неизбежным следствием такого положения церкви стала формализация христианской веры. «Смысл христианства в том, чтобы по истинам веры преобразовывать жизнь человечества. Это и значит оправдывать веру делами. Но если эта жизнь была оставлена при своем старом 14 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 языческом законе, если самая мысль о ее коренном преобразовании и перерождении была устранена, то тем самым истины христианской веры потеряли свой смысл и значение как нормы действительности и закон жизни и остались при одном отвлеченно-теоретическом содержании. А так как это содержание мало кому понятно, то истины веры превратились в обязательные догматы, т. е. в условные знаки церковного единства и послушания народа духовным властям. Между тем нельзя же было отказаться от идеи, что христианство есть религия спасения. И вот от незаконного соединения этой идеи спасения с церковным догматизмом родилось чудовищное учение о том, что единственный путь спасения есть вера в догматы, что без этого спастись невозможно»4. В результате, став церковью всемирной, христианская церковь так и не сумела выполнить ту возвышенную задачу, которая предполагалась Евангелием, – не сумела преобразить жизнь людей. Отвечая на заявления мыслителей славянофильского направления о том, что только русскому православию удалось сохранить евангельский образ Христа, в то время как на Западе он был утрачен, Соловьёв пишет: «Практическое воздействие христианского начала на жизнь государств и народов нельзя признать достаточным и на Востоке, так же как и на Западе; ни там ни здесь жизненная задача христианства не была успешно исполнена, и для объяснения этого общего неуспеха необходимо указать на его общую причину»5. Движущей силой преображения несовершенного бытия мира и человека к совершенству выступает у Соловьёва само человечество, осознающее себя как носителя божественной силы, т.е. как Богочеловечество. Последнее понятие составляет абсолютный центр всех философских построений Соловьёва. С ним связано представление о прогрессивном историческом развитии человечества, в котором все в большей степени выявляется божественное могущество человечества и происходит все более глубокое преобразование его собственного бытия и бытия окружающего мира в сторону гармонии, совершенства. История – это и есть поле, где рождается совершенный человек и совершенное общество, которые затем своей божественной силой преобразят все бытие. Видимый прогресс цивилизации Соловьёв рассматривает как главное доказательство своего убеждения в том, что человечество находится на правильном пути к совершенному состоянию. В том числе это совершенное состояние подразумевает все более и более мирное и доброжелательное отношение друг к другу и отдельных людей, и отдельных наций. Соловьёв предельно оптимистически представляет себе будущее человечества; ведь, согласно его учению, исторический процесс неизбежно должен привести к формированию «нормального» общества, т.е. общества совершенного. Характерен сам термин «нормальное» общество – для Соловьёва именно совершенство нормально и реально, а несовершенство существует как бы временно и незаконно. В подавляющем большинстве работ Соловьёва нет даже намека на возможность трагического конца истории, или на временную победу в истории сил зла6. Тем более неожиданно в этом контексте выглядит пессимистическое настроение, господствующее в «Трех разговорах». Прежде всего бросается в глаза, И.И. Евлампиев. Загадка «Краткой повести об антихристе» Вл. Соловьёва 15 что Соловьёв отрекается от своей прежней позиции по поводу непрерывного исторического прогресса, приводящего к окончательной победе совершенства в человеке, человечестве и в мире в целом. Его прежнюю точку зрения по этому вопросу излагает Политик, но с этой точкой зрения Соловьёв теперь совершенно не согласен, считая, что она несет только «относительную правду»7. Впрочем, в этом выражении он сглаживает то поистине радикальное изменение своей позиции, которая происходит в «Трех разговорах». Ведь теперь он понимает историю как суд, как «тяжбу» между добром и злом, причем, как демонстрирует его «Краткая повесть об антихристе», теперь он уверен, что в конечном счете в этой «тяжбе» победу одержит зло, и только после прямого вмешательства божественной силы, самого Иисуса Христа, произойдет то преображение мира и воцарение добра, которое ранее Соловьёв предполагал как результат последовательных исторических усилий самого человечества. Несовместимость новой точки зрения со старой особенно ясно выступает в высказывании господина Z, выражающего позицию автора, в начале третьего разговора. Здесь, возражая Политику, доказывающему плодотворность исторического прогресса, господин Z говорит: «Я думаю, что прогресс, то есть заметный, ускоренный прогресс, есть всегда симптом конца»8. И далее уточняет, что под «концом» имеет в виду именно конец истории, причем конец, весьма неблагоприятный для человечества, раз все заканчивается появлением антихриста и его воцарением в качестве всемирного императора. Господство безнадежного фатализма в представлениях Соловьёва об истории проявляется в заключительных словах господина Z: «Ну, еще много будет болтовни и суетни на сцене, но драма-то уже давно написана вся до конца, и ни зрителям, ни актерам ничего в ней переменять не позволено»9. Если раньше Соловьёв в человеке, в его свободных (богочеловеческих) деяниях в мире видел источник исторического развития, то теперь он возвращается к средневековой точке зрения о полной предопределенности истории, о ее зависимости от божественной воли. В результате Соловьёв изменяет свою позицию и в отношении церкви и в отношении исторического христианства. Раньше он называл историческую церковь носителем «храмового христианства», т.е. такого христианства, которое «замыкается в стенах храма и превращается в обряд и молитвословие»10, никак не влияя на действительную жизнь людей. Отсюда он делал парадоксальный вывод, что не церковные христиане, а «неверующие двигатели новейшего прогресса действовали в пользу истинного христианства»11. Теперь он пересматривает эту точку зрения: в «Краткой повести об антихристе» носителями высшей истины в конечном счете оказываются именно люди церкви – католический папа Петр, православный старец Иоанн и протестантский теолог, профессор Паули. Хотя они оказываются в меньшинстве – большая часть паствы трех конфессий подчиняется воле антихриста – тем не менее теперь Соловьёв убежден, что в каждой из конфессий присутствует здоровое ядро, и только оно способно противостоять высшему злу, воплощенному в антихристе. Впрочем, идея единения церквей и возникновения на этой единой основе новой церкви – церкви Св. Духа, входила в круг давних «утопических» идей Соловьёва, поэтому 16 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 упомянутый фрагмент из «Краткой повести об антихристе» не является самым характерным примером отказа от основ его философской системы. Тем не менее «Краткая повесть об антихристе» представляет особый интерес именно в силу того, что в ней в целом «отречение» Соловьёва приобретает особенно явный и прямой характер, доходя до своеобразного «самобичевания». Одновременно и внутренние противоречия, пронизывающие позднее сочинение Соловьёва («Три разговора»), здесь также достигают своей кульминации. Поняв их, мы поймем всю неоднозначность позиции Соловьёва, странность его новой позиции, которую невозможно счесть ни последовательной, ни даже достаточно ясной. Прежде всего всмотримся в структуру «Краткой повести об антихристе». Повесть явно делится на три части, из которых третья – предельно краткий финал, в котором господин Z не читает, как раньше, сочинение некоего старца Пансофия, а пересказывает по памяти рассказ автора о том, как он предполагал закончить повесть. Оставим пока в стороне эту третью часть и будем рассматривать только две основные части повести. Сразу можно заметить, что эти две части не вполне логично связаны друг с другом, между ними заметен грубый «стык». Первая часть повествует об исторической ситуации (изображается ХХ век), в которой состоится приход антихриста, и собственно о психологии антихриста, о формировании его убеждения, что он – новый Мессия, завершающий дело Христа и «замещающий» самого Христа в качестве высшего идеала для человечества. Заканчивается первая часть повести описанием кризиса, который переживает ее безымянный герой, иронично называемый «сверхчеловеком», его решением покончить с собой в связи с тем, что он не ощущал в себе сил для того, чтобы стать «новым Христом», и его мистическим спасением посредством некой «темной силы» (это, очевидно, дьявол), которая вошла в него и сделала «антихристом». Новая эпоха жизни «сверхчеловека» начинается с написания им великого труда «Открытый путь к вселенскому миру и благоденствию», который прославил его и сделал мировым духовным лидером. Далее начинается вторая часть, где описывается, как на заседании союза европейских государств его главой, т.е. фактически главой всемирного правительства, был избран «сверхчеловек», ставший антихристом. Вчитываясь в начало этой второй части, нетрудно заметить, что оно совершенно не согласуется с содержанием первой части. Здесь об антихристе говорится так, словно он только что стал известен читателю и Соловьёв первый раз представляет его нам. Читая первую фразу о выборах главы союза государств, мы не можем однозначно сказать, что это и есть тот самый персонаж, психологию которого Соловьёв описывал выше: «Заправилы общей европейской политики, принадлежавшие к могущественному братству франкмасонов, чувствовали недостаток общей исполнительной власти. Достигнутое с таким трудом европейское единство каждую минуту готово было опять распасться. В союзном совете или всемирной управе (Comité permanent universe) не было единодушия, так как не все места удалось занять настоящими, посвященными в дело масонами. Независимые члены управы вступали между собою в сепаратные соглашения, и И.И. Евлампиев. Загадка «Краткой повести об антихристе» Вл. Соловьёва 17 дело грозило новою войною. Тогда “посвященные” решили учредить единоличную исполнительную власть с достаточными полномочиями. Главным кандидатом был негласный член ордена – “грядущий человек”»12. До сих пор не было ни намека на то, что будущий антихрист состоял членом масонского ордена, да и о самом ордене не было ни слова, кроме того здесь по отношению к антихристу применено выражение «грядущий человек», в то время как до этого Соловьёв называл его исключительно «сверхчеловеком». Наше недоумение возрастает еще больше, когда мы читаем дальше описание занятий «грядущего человека» и его происхождения: «Будучи по профессии ученым-артиллеристом, а по состоянию крупным капиталистом, он повсюду имел дружеские связи с финансовыми и военными кругами. Против него в другое, менее просвещенное время говорило бы то обстоятельство, что происхождение его было покрыто глубоким мраком неизвестности. Мать его, особа снисходительного поведения, была отлично известна обоим земным полушариям, но слишком много разных лиц имели одинаковый повод считаться его отцами»13. Это описание явно направлено на «снижение» образа «грядущего человека», на высмеивание его; при этом взгляд Соловьёва на своего героя – иронично-высокомерный, что совершенно не вяжется с психологическим описанием внутреннего мира «сверхчеловека» в первой части. Но самое разительное противоречие заключено в описании профессиональных занятий «грядущего человека»: он является ученым-артиллеристом и кроме того еще крупным капиталистом, имеющим связи в финансовых и военных кругах (!). Но ведь в первой части «сверхчеловек» был аттестован как замечательный представитель узкого круга верующих-спиритуалистов. Как можно совместить эти описания? Одно предполагает, что этот человек жил исключительно духовными запросами, а второе именно это отрицает, описывая его как практика и материалиста (это явно предполагается в определениях «артиллериста» и «капиталиста»). Все сказанное подталкивает к достаточно правдоподобному, на наш взгляд, выводу, что первоначально вторая часть существовала самостоятельно и у нее было другое начало. Соответственно первую часть, или, по крайней мере, рассказ о душевных переживаниях «сверхчеловека», нужно считать позднейшим добавлением, которое имело совсем другой смысл и задачи, чем написанная ранее вторая часть, – это следует из совершенно разного стиля описания героя: первая привлекает внимание к его сложной психологии, которой мы до некоторой степени можем сочувствовать, вторая представляет его всецело отрицательным персонажем, воплощением мирового зла, дьявола. Отметим, что и вся тема «панмонголизма», описание монгольского ига и кровавой войны за освобождение Европы от этого ига во второй части не упоминается вовсе и не играет никакой роли в рассказе о воцарении антихриста. В пользу того, что вторая часть существующей «Краткой повести об антихристе» была написана задолго до основного текста «Трех разговоров», могут свидетельствовать два письма Соловьёва. В апреле 1896 г. в письме к М.М. Стасюлевичу он пишет: «Занят нравственною философией, пророками и антихристом…»14; в письме к Н.А. Макшеевой, написанном в следующем году, 18 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Соловьёв приводит список неотложных дел: «1) печатаю “Нравственную философию”; 2) готовлю к печати “Метафизику”; 3) idem “Эстетику”; 4) idem “Об Антихристе”»15. Вероятно, в это время (в 1897 г.) первый набросок «Краткой повести об антихристе», а именно его вторая часть, уже был написан16. Казалось бы, все рассуждения о существовании какого-то варианта повести об антихристе до «Трех разговоров» опровергаются прямым указанием Соловьёва в предисловии на то, что он сначала изложил историю антихриста в такой же разговорной форме, как и весь остальной текст произведения, и только затем, под влиянием «дружеской критики», переделал его в отдельную повесть. Однако мы считаем, что в данном случае не стоит верить Соловьёву «на слово». Хорошо известно, что некоторые его утверждения о собственных писательских планах и степени их реализации не находят объективного подтверждения в его рукописях и осуществленных изданиях. Поэтому и указанное утверждение вовсе не опровергает наше предположение о том, что основная часть повести об антихристе была написана гораздо раньше «Трех разговоров». Возможна такая вполне естественная интерпретация указанного утверждения Соловьёва: уже имея предварительный вариант повести, он мог переработать его в форму диалога и вставить в «Три разговора», но затем, поняв неудачность этой формы для такого серьезного и необычного содержания, вернулся к изложению в форме повести, причем использовал для этого уже имевшийся вариант в качестве основы, дописав к нему начало и конец. Еще более веский аргумент в пользу раннего происхождения повести об антихристе по отношению к основному тексту «Трех разговоров» дает сравнение ее второй части с финалом, с третьей частью. В «Трех разговорах» повесть об антихристе не дописана ее вымышленным автором, старцем Пансофием, до конца. Она обрывается на очень важной сцене единения церквей, и затем господин Z от своего имени «пересказывает» финал всей истории антихриста. С точки зрения самой логики повествования этот переход от текста, «написанного» Пансофием, к пересказу его текста господином Z выглядит совершенно немотивированным. Нам кажется, что этот переход объясняется очень просто: Соловьёв, вставляя уже имевшийся текст об антихристе в свое новой произведение, не смог дописать конец с той же детализацией и духовной «энергетикой», что и основную часть; чтобы скрыть явный перебой темпа изложения при переходе к финалу истории антихриста, он и ввел сюжет «незаконченности» повествования отца Пансофия. При этом не только стиль, но и содержание финала не соответствует идейному содержанию второй (самой ранней, по нашему предположению) части повести. Прояснить это несоответствие представляется чрезвычайно важным, но для этого нужно сравнить все три части этого вставного произведения. Ведь первая и третья части повести, несомненно, были написаны одновременно, в момент завершения «Трех разговоров», для того чтобы согласовать уже имевшуюся повесть об антихристе (вторую часть нынешнего варианта) с контекстом нового сочинения. Попытаемся понять, в чем заключалось это согласование. Присмотримся внимательней к содержанию второй части. Она повествует о восхождении к власти над миром антихриста, который, повторим, не вы- И.И. Евлампиев. Загадка «Краткой повести об антихристе» Вл. Соловьёва 19 зывает никакой симпатии и предстает человеческим воплощением сатаны, дьявола. Кульминацией и итогом второй части повести является драматическая сцена столкновения императора-антихриста и его ставленника на папском престоле, мага, с оставшимися верными Христу членами христианских церквей: католической, православной и протестантской. Соловьёв показывает, что большая часть христиан подчинилась антихристу и пошла за ним, поскольку он дал им «равенство в сытости», и только малая часть во главе с папой Петром, православным старцем Иоанном и профессором теологии Паули осталась верной Христу и выступила против императора, опознав в нем антихриста. В финальной сцене папа-маг Аполлоний своей темной силой вызывает молнии, которые убивают папу Петра и старца Иоанна за то, что они пытаются обличать антихриста, но профессор Паули уводит сплоченную группу подлинных христиан за собой и затем тайно забирает тела папы Петра и старца Иоанна. Затем происходит мистическое событие воскресения мертвых и единения церквей. Но здесь лучше предоставить слово самому Соловьёву: «Пришедшие за телами нашли, что они совсем не тронуты тлением и даже не закоченели и не отяжелели. Подняв их на носилки и закрыв принесенными плащами, они теми же обходными дорогами вернулись к своим, но, лишь только они опустили носилки на землю, дух жизни вошел в умерших. Они зашевелились, стараясь сбросить с себя окутывавшие их плащи. Все с радостными криками стали им помогать, и скоро оба ожившие встали на ноги целыми и невредимыми. И заговорил оживший старец Иоанн: “Ну вот, детушки, мы и не расстались. И вот что я скажу вам теперь: пора исполнить последнюю молитву Христову об учениках Его, чтобы они были едино, как Он сам с Отцом – едино. Так для этого единства Христова почтим, детушки, возлюбленного брата нашего Петра. Пускай напоследях пасет овец Христовых. Так-то, брат!” И он обнял Петра. Тут подошел профессор Паули: “Tu est Petros! – обратился он к папе. – Jetzt ist es ja gründlich er wiesen und ausser jedem Zweifel gesetzt”17. – И он крепко сжал его руку своею правою, а левую подал старцу Иоанну со словами: “So also Väterchen – nun sind wir ja Eins in Christo”18. Так совершилось соединение церквей среди темной ночи на высоком и уединенном месте. Но темнота ночная вдруг озарилась ярким блеском, и явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Явление несколько времени оставалось на месте, а затем тихо двинулось в сторону юга. Папа Петр поднял свой посох и воскликнул: “Вот наша хоругвь! Идем за нею”. И он пошел по направлению видения, сопровождаемый обоими старцами и всею толпою христиан, – к Божьей горе, Синаю...»19. Если, действительно, вторая часть повести об антихристе была написана гораздо раньше основного текста «Трех разговоров», можно высказать предположение о том, как в то время Соловьёв мыслил себе завершение этой повести (очевидно, что во второй части самой по себе недостает окончания). Нам кажется, что «единение церквей», совершившееся в конце второй части, говорит о том, что в эпоху написания этого текста Соловьёв все еще не отказался до конца от своих утопических представлений о грядущей единой церкви, которая призвана повести единое человечество к земному совершенству. Весьма значимой дета- 20 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 лью в истории «единения церквей» является тот факт, что это единение осуществляет не собственно деятель церкви, священнослужитель, а профессор теологии. Возможно, здесь Соловьёв намекает на первостепенное значение рационального – богословского и философского – исследования христианства и его догматической системы для исправления недостатков существующей исторической церкви; т.е. в этот момент Соловьёв по-прежнему считал весьма важной и собственную философию в великом историческом деле возрождения христианства и победы над грядущим антихристом (любопытно, что сам Соловьёв именно в связи со свободным отношениеи к догматам считал себя скорее протестантом, чем католиком; см. ниже цитату из книги К.В. Мочульского). Создание первого варианта повести об антихристе можно рассматривать не как полный отказ от идеи земного прогресса, а только как радикальное сомнение в абсолютности и предопределенности этого прогресса. На этом этапе переосмысления своих взглядов Соловьёв пришел к выводу, что его прежний оптимизм в представлении о грядущем совершенстве человечества необоснован и путь к указанному совершенству полон трагических срывов и ошибок. Приход антихриста и изображался Соловьёвым как такое трагическое заблуждение, отклонение от истинного пути. Однако единение церквей и тем самым восстановление истинного целостного христианства, возможно, представлялись ему в качестве начального пункта восстановления правильного положения дел и возвращения человечества на тот же путь совершенства. Характерно, что мы не видим в конце второй части непосредственного вмешательства Бога в ход земных дел. Хотя происходит мистический акт воскресения убитых антихристом папы Петра и старца Иоанна, в повести нет указаний на то, что это сделал Христос своим прямым вмешательством, можно подумать, что это произошло по каким-то «внутренним» мистическим законам самого земного бытия человека. Это вполне соотносится с представлением Соловьёва о Богочеловечестве как присутствии и действии божественной силы в земном человеке (человечестве). Но если так, то можно предположить, что в дальнейшем повествовании именно объединившиеся верные христиане должны были заново сплотить вокруг себя здоровые силы человечества, т.е. как бы восстановить целостность Богочеловечества, и своими земными силами победить антихриста и его воинство. В противоположность этому в эпилоге повести (в третьей части) воссоединившаяся и возродившаяся христианская церковь не играет никакой роли в деле победы над антихристом. Вместо этого Соловьёв рассказывает нам поистине анекдотическую историю о восстании евреев против «необрезанного» императора-антихриста, резко контрастирующую с предельной серьезность последних сцен второй части, и заканчивает все непосредственным вмешательством Бога, «извне» спасающего погибающее человечество, не способное ничего противопоставить власти антихриста. Все это слабо соответствует смыслу второй части. К моменту завершения «Трех разговоров» (вторая половина 1899 г.) Соловьёв, видимо, окончательно отказался от представлений о богочеловеческом пути к совершенству и даже о какой-то реальной значимости акта единения церквей. И.И. Евлампиев. Загадка «Краткой повести об антихристе» Вл. Соловьёва 21 Поэтому в кратком эпилоге повести об антихристе он даже не вспоминает об этом акте: негодование еврейства по поводу нарушения антихристом (которого они считали «своим») смехотворных деталей религиозного культа оказывается гораздо более серьезным фактом религиозной жизни человечества, чем свершившееся единство христианской церкви! Невозможно представить себе более едкого высмеивания своих прежних идеалов! Теперь все дело спасения мира от антихриста Соловьёв целиком «передоверяет» одному Богу. Впрочем, в пользу естественности финала повести об антихристе, казалось бы, можно выдвинуть очень простой и убедительный аргумент: Соловьёв в изложении истории антихриста опирается на текст Откровения Иоанна Богослова, и там победа над антихристом («зверем») и его «помощником» лжепророком изображается именно так, как это передает Соловьёв: «И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою…» (Отк. 19, 20). Тем не менее ни это совпадение, ни заимствование Соловьёвым других деталей из текста Апокалипсиса (о них он сам говорит в предисловии к «Трем разговорам») не могут опровергнуть тот факт, что смысл повести Соловьёва невозможно буквально соотносить со смыслом истории, рассказанной в Откровении Иоанна. В повести Соловьёва антихрист – это человек, в которого вселился сатана, обыденная человеческая природа антихриста выразительно подчеркнута Соловьёвым в первой части повести, где передаются его душевные терзания. Это, конечно же, не имеет ничего общего с мистическим образом антихриста-зверя в Откровении Иоанна (Отк. 13). Правда, в последующей богословской и полемической литературе антихриста чаще всего понимали именно так, как это делает Соловьёв, как человека, лжепророка, который попытался заместить собой Христа (основу для такого понимания антихриста дал сам апостол Иоанн, который в своих посланиях говорит даже о множестве антихристов: 1 Иоан. 2, 18-19). Однако при таком восприятии антихриста его апокалиптический прообраз должен пониматься сугубо символически, а поэтому буквальное перенесение финала истории антихриста-зверя в историю антихриста-человека выглядит совершенно неестественным. Против слишком прямого соотнесения текста Апокалипсиса и повести Соловьёва свидетельствует также и то, что другие детали повествования, прямо заимствованные из Откровения Иоанна, используются Соловьёвым очень свободно – совершенно не в том смысле, как в Библии. Например, убиенные антихристом папа Петр и старец Иоанн соответствуют двум свидетелям Христа из Откровения Иоанна (Отк. 11, 3-12), но в тексте Откровения эти два свидетеля сразу же после воскресения возносятся на небо, у Соловьёва же они становятся центром обновленной церкви, объединяющей всех людей, оставшихся верными Христу. Не нужно доказывать, насколько иной смысл благодаря этому получает история этих свидетелей в повести Соловьёва. То же самое можно сказать по поводу апокалиптического образа «жены, облеченной в солнце», который появляется в самом конце второй части повести Соловьёва. В тексте Откровения Иоанна этот образ предваряет появление ан- 22 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 тихриста и обозначает грядущее рождение великого повелителя народов и победителя антихриста. Нужно особо отметить этот момент: в Откровении Иоанна антихриста побеждает загадочный небесный воин на белом коне, именно он низвергает антихриста и его помощника-мага в серное озеро. Концовка второй части повести Соловьёва намекает на то, что он, возможно, собирался развивать именно эту тему Апокалипсиса – иначе непонятно, зачем в заключение этой части он вывел образ «жены, облеченной в солнце», ведь ее главная роль именно в рождении указанного небесного воина. Интересно, что согласно одной известной интерпретации (принадлежащей Андрею Кессарийскому) «жена, облеченная в Солнце», – это церковь, а младенец, рожденный ею, – это символ постоянного рождения церковью лучших своих представителей, которые и обеспечат победу над антихристом. Согласно другой интерпретации (популярной в католической церкви) «жена, облаченная в солнце», – это Богородица, а младенец – Христос. В итоговом варианте «Трех разговоров» Соловьёв, по сути, выбирает второй вариант; но, возможно, в эпоху написания второй части повести об антихристе он предполагал развить в финале первую интерпретацию, поскольку она более органично сочетается с его концепцией Богочеловечества. Таким образом, добавление третьей части (финала) повести об антихристе в той форме, какую мы знаем, можно считать знаком окончательного отречения Соловьёва от всей своей прежней философии, прежде всего от концепции Богочеловечества, от идеи нерасторжимого единства Бога и человека. Он возвращается к догматическому церковному учению, в котором человек принципиально отделен от Бога и мало что может в этом мире; это возвращение Соловьёв обозначает, быть может, даже слишком нарочито, тем, что описывает в финале «Краткой повести об антихристе» гибель антихриста в буквальном соответствии с текстом Апокалипсиса. После всего сказанного, не так трудно понять причины добавления первой части повести, повествующей о душевных терзаниях «сверхчеловека», будущего антихриста. Отрекаясь от своих прежних убеждений и даже высмеивая их в «Трех разговорах», Соловьёв теперь должен был признать свое учение не восстановлением истинного смысла христианства, как он полагал ранее, а радикальным заблуждением, противодействующим делу Христа в мире, т.е. способствующим победе антихриста. Как последовательный человек, он тем самым вынужден признать, что ранее был «пособником» антихриста, и это ведет его к необходимости покаяния. Таким покаянием и является изображение своего собственного духовного опыта как величайшего соблазна и величайшей гордыни, ведущих человека на путь антихриста. В первой части Соловьёв изображает себя самого, в свои лучшие годы, когда он верил, что его философское учение возродит утраченную в истории истину Христа и направит человечество на путь совершенства. Конечно, в этом изображении очень много нарочитого и утрированного, но в нем мы действительно узнаем главные интенции учения Соловьёва. Собственно говоря, высказанная здесь гипотеза не только не является слишком смелой, она не является и новой. Одним из первых об этом, оговариваясь об «ужасности» такой постановки проблемы, прямо сказал С. Булгаков в цик- И.И. Евлампиев. Загадка «Краткой повести об антихристе» Вл. Соловьёва 23 ле статей, посвященных странному феномену Анны Шмидт и ее отношений с Вл. Соловьёвым. Подробно разбирая софиологию Соловьёва, выраженную не столько в его строгой философии, сколько в стихотворениях, где божественная София предстает «небесной возлюбленной» Соловьёва, Булгаков признает невозможным обойти самый важный вопрос: «Если на основании собственного учения Вл. Соловьёва о Софии приходится установить, что только Христу принадлежит активное, творческое начало Логоса в отношении к Софии, как “телу” Божества или предвечной Женственности, то не придется ли признать, что Соловьёв – в каком-то смысле – именно так сознавал себя в отношении к “вечной подруге”?»20. И единственным свидетельством правоты такой постановки вопроса о «самоощущении» Соловьёва Булгаков считает «до известной степени автобиографическую и как бы самобичующую “Повесть об антихристе”»21 (курсив мой. – И.Е.). Еще более резко на ту же тему высказывался Г. Флоровский. Он характеризует настроение, которое испытывал Соловьёв в момент написания «Трех разговоров», «апокалиптической тревогой» и даже «мистическим испугом», прямо связанным с разочарованием в своих прежних убеждениях. «Нужно здесь отметить, – пишет Флоровский, – и еще одну, очень интимную черту. Ведь в книге Антихриста “Открытый путь к вселенскому миру и благоденствию” нельзя не узнать намеренного намека Соловьёва на его собственные грезы прошлых лет о “великом синтезе”. <…> В “Повести об Антихристе” Соловьёв отрекался от иллюзий и соблазнов всей своей жизни и осуждал их с полной силой. <…> Это и не могло не быть его последней книгою… В ней чувствуется вся горечь и весь трагизм такого личного крушения и отречения…»22. Среди возможных факторов, обусловивших и сам факт включение повести об антихристе в «Три разговора», и некоторые конкретные мотивы этой повести, можно увидеть помимо всего прочего также влияние философии Ф. Ницше, точнее полемику с Ницше. В сентябре 1899 г. вышла статья Соловьёва «Идея сверхчеловека», в которой он, критикуя отдельные стороны философии Ницше, тем не менее, констатировал, что она выражает дух времени и правильно ставит проблему целей человеческого развития; более того, Соловьёв в целом принимал идею Ницше о грядущем превращении человека в сверхчеловека. В момент написания этой статьи он чувствовал явное созвучие между представлениями Ницше о грядущем процессе самосовершенствования человека и собственной концепцией богочеловеческого процесса, имеющего целью превращение человека в совершенное существо; это очевидно следует из следующего положения: «…вот настоящий критерий для оценки всех дел и явлений в этом мире: насколько каждое из них соответствует условиям, необходимым для перерождения смертного и страдающего человека в бессмертного и блаженного сверхчеловека»23. И в заключение статьи Соловьёв констатирует общее позитивное значение философии Ницше: «Ныне благодаря Ницше передовые люди заявляют себя <…> так, что с ними логически возможен и требуется серьезный разговор – и притом о делах сверхчеловеческих»24. Однако, по-видимому, вскоре Соловьёв резко изменил свое отношение к Ницше и увидел в нем не близкого по духу мыслителя, а идейного противника. 24 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Возможно, это было связано с тем, что он осознал глубину антихристианских убеждений Ницше, в контексте которых указанное выше сходство представлений о будущем человечества могло означать, что и концепция Соловьёва несет в себе антихристианский смысл и объективно способствует победе антихриста. Этот ход мыслей и мог стать одним из решающих мотивов того разочарования в прежних взглядах, которое наглядно демонстрирует и основной текст «Трех разговоров» и окончательный вариант «Краткой повести об антихристе». Мы уже отмечали характерный момент: во второй части повести, которая, по нашему предположению, написана задолго до «Трех разговоров» и не несет еще следов радикального отрицания Соловьёвым всей своей прошлой философии, мы находим только одно определение антихриста как «сверхчеловека» (его Соловьёв мог добавить при редактировании текста), в то время как в первой части, которая была написана в 1899 г., это одна из самых заметных тем – антихрист это и есть «сверхчеловек», и, несомненно, это определение непосредственно связано с идеями Ницше. Теперь для Соловьёва популярность философии Ницше – это наглядная иллюстрация приближения антихриста, а, может быть, уже и начала его царствования в мире. Помимо прочего статья «Идея сверхчеловека» позволяет более точно определить, когда произошел радикальный перелом во взглядах Соловьёва, приведший его к отречению от основ своей прежней философской системы. В самом начале статьи Соловьёв указывает, что она была вызвана прочтением разбора философии Ницше, напечатанного в «последней книжке московского философского журнала (январь–февраль 1899)»25 (имеется в виду журнал «Вопросы философии и психологии»). Как известно, основная работа над текстом «Трех разговоров», в том числе и над окончательным вариантом «Краткой повести об антихристе», осуществлялась с осени 1899 г. по начало 1900 г. Можно сделать вывод, что резкая перемена взглядов Соловьёва, в том числе в отношении философии Ницше и к идеи сверхчеловека, произошла в середине 1899 г. И еще одно великое произведение великого мыслителя нужно иметь в виду, если мы хотим понять истоки и смыслы «Краткой повести об антихристе». Это «Поэма о Великом инквизиторе» Ф. Достоевского. Во всех своих зрелых трудах Соловьёв неявно или явно (как в «Трех речах в память Достоевского») опирался на отдельные идеи своего великого предшественника. И совершенно очевидно, что в сочинении, подводящем итог всем его идейным исканиям, как считал сам Соловьёв, он решил вступить в творческое «соревнование» с Достоевским, попытавшись создать произведение такой же глубины и художественной выразительности, как и «Поэма о Великом инквизиторе». Однако в данном случае уже трудно говорить о какой-то идейной близости Соловьёва и Достоевского; нам кажется, что Соловьёв прекрасно понимал, что в данном случае он выступает уже не как наследник Достоевского, а как его противник. В двух произведениях есть множество совпадающих моментов. Прежде всего нужно отметить, что идейный смысл в обоих произведениях выявляется через противостояние Иисуса Христа главному персонажу, который и у Достоевского и у Соловьёва выступает как воплощение ложного пути веры. При этом в обоих случаях внимание рассказчика сконцентрировано на указанном И.И. Евлампиев. Загадка «Краткой повести об антихристе» Вл. Соловьёва 25 главном персонаже (Великом инквизиторе и антихристе), а образ Христа очерчивается в большей степени через противостояние его противникам, как бы в отраженном виде, через их отношение к Христу. В «Поэме о Великом инквизиторе» Христос не говорит ни слова, но за него говорит Великий инквизитор; в «Краткой повести об антихристе» Христа вообще нет как действующего лица, он появляется только в самом конце. Но в обоих случаях повествование, по сути, концентрируется именно на его образе. Смысл этого образа в «Краткой повести об антихристе» оказывается диаметрально противоположным смыслу образа Христа в «Поэме о великом инквизиторе». Подводя итог своим размышлениям о сути христианской веры, Достоевский изображает Иисуса не как всесильного Бога и грозного Судию, карающего и милующего греховных людей, а как совершенного человека, несущего людям весть о возможности преображения, но не дающего никаких гарантий этого преображения, поскольку оно целиком зависит от духовных усилий самих людей. Такое представление об Иисусе было характерно и для Соловьёва во всех его главных работах. Его же можно угадать и во второй части «Краткой повести об антихристе», где оставшиеся верными Христу представители трех церквей объединяются вокруг его образа для борьбы с антихристом. Но вот первая часть и особенно финал повести дают совершенно иное представление об Иисусе. Представляя себя в начале своего духовного развития последователем и завершителем дела Христа, будущий антихрист окончательно отрекается от него из-за того, что осознает божественное величие Христа, перед которым он должен рабски склониться, как и любой человек, т.е. должен отказаться от своего сверхчеловеческого (богочеловеческого!) предназначения. Вот как Соловьёв передает рассуждения своего героя, который от позиции следования за Христом переходит к позиции противостояния Христу: «А если?.. А вдруг не я, а тот... галилеянин... Вдруг он не предтеча мой, а настоящий, первый и последний? Но ведь тогда он должен быть жив... Где же Он?.. Вдруг Он придет ко мне... сейчас, сюда... Что я скажу Ему? Ведь я должен буду склониться перед Ним, как последний глупый христианин, как русский мужик какой-нибудь, бессмысленно бормотать: “Господи Сусе Христе, помилуй мя грешнаго”, или как польская баба растянуться кжижем? Я, светлый гений, сверхчеловек. Нет, никогда!»26. И здесь, как пишет Соловьёв, в его сердце рождается сначала ужас, а потом зависть, «захватывающая дух ненависть». Чрезвычайно важно сравнить этот «психологический портрет» антихриста с тем, что мы знаем об отношении Соловьёва к церковному, обрядовому христианству. Для примера можно взять лаконичную и точную характеристику К.В. Мочульского, данную на основе собственных высказываний Соловьёва. Оценивая правдоподобность известных свидетельств в пользу «присоединения» Соловьёва к католической церкви, Мочульский пишет: «Новое эсхатологическое мировоззрение его не только не совпадает, но во многом прямо противоположно официальному католическому учению. Он был единственным членом грядущей церкви, того “малого стада”, которому суждено победить Антихриста. И православие и католичество представлялись ему только историческими этапами, и 26 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 он ставил себя вне вероисповеданий. В этом и заключалась парадоксальность его положения. <…> Он верно говорил о себе: “Меня считают католиком, а между тем я гораздо более протестант, чем католик”. “Протестантским” было отношение Соловьёва к историческим церквам, их догматам и обрядам, ко всей внешней стороне религиозной жизни. Его “вселенское христианство” носило спиритуалистический и мистический характер. Очень показательно в этом смысле его письмо к В. Величко от 20 марта 1895 г. (меньше чем за год до “присоединения”). “Я прожил у Вас, – пишет Соловьёв, – несколько недель великого поста, и мы с вами правил поста не соблюдали, и в церковь не ходили, и ничего в этом дурного не было, так как все это не для нас писано, и всякий это понимает”»27. Тот окончательный перелом в мировоззрении Соловьёва, который произошел в 1899 г. заставляет его отречься не только от оптимистических представлений о неотвратимом прогрессе, господствующем в человеческой истории, но и вообще от представления о том, что его философия раскрывает истинное содержание христианства. Теперь он высмеивает свое стремление противопоставить философские «формулы» обрядовому христианству, видит в этом неизбежный путь к антихристианству и, по сути, признает, что историческое христианство не нуждается ни в каком философском «исправлении» и его подлинное и полное содержание сводится именно к тому, чтобы вслед за русским мужиком механически бормотать молитву или вслед за польской бабой растянуться кжижем… Как естественное развитие такого отречения от философского мудрствования и возвращение к исторической церкви и ее догматическому учении выглядит финал «Краткой повести об антихристе», где уже без всякого «сотрудничества» с человеком Христос, как всемогущий Бог, бесконечно возвышающийся над грешной землей, своей собственной силой уничтожает антихриста и спасает немощное человечество. Описывая последнюю битву войска императора-антихриста с восставшими против него евреями, Соловьёв заканчивает свою повесть следующим образом: «Но едва стали сходиться авангарды двух армий, как произошло землетрясение небывалой силы – под Мертвым морем, около которого расположились имперские войска, открылся кратер огромного вулкана, и огненные потоки, слившись в одно пламенное озеро, поглотили и самого императора, и все его бесчисленные полки, и неотлучно сопровождавшего его папу Аполлония, которому не помогла вся его магия. Между тем евреи бежали к Иерусалиму, в страхе и трепете взывая о спасении к Богу Израилеву. Когда святой город был уже у них в виду, небо распахнулось великой молнией от востока до запада, и они увидели Христа, сходящего к ним в царском одеянии и с язвами от гвоздей на распростертых руках. В то же время от Синая к Сиону двигалась толпа христиан, предводимых Петром, Иоанном и Павлом, а с разных сторон бежали еще иные восторженные толпы: то были все казненные антихристом евреи и христиане. Они ожили и воцарились с Христом на тысячу лет»28. Нам кажется, что на фоне всего предшествующего творчества Соловьёва все это очень напоминает детскую сказку с обязательным счастливым фина- И.И. Евлампиев. Загадка «Краткой повести об антихристе» Вл. Соловьёва 27 лом. И мы составим сомнительную честь великому мыслителю, если будем повторять ни на чем не основанный тезис о том, что «Три разговора» и входящая в него «Краткая повесть об антихристе» – это чуть ли не самое главное, что написано Соловьёвым. Это произведение – свидетельство личной драмы Соловьёва, и, как всякое свидетельство такого рода, оно притягивает нас, поскольку в нем мы чувствуем иррациональную энергию личного духа мыслителя. Но его невозможно ставить в один ряд с другими сочинениями Соловьёва, поскольку в нем нет ни ясной системы идей, ни подлинной художественной выразительности – ничего из того, что пытаются вычитать в нем те, кому особенно импонирует этот необычный Соловьёв, демонстрирующий свою безоговорочную приверженность церковному, догматическому христианству. Соловьёв действительно был человеком пророческой одаренности, и он заранее предсказал смысл той жизненной драмы, которая произошла с ним в последний год жизни и, видимо, была связана с предчувствием смерти. Это предсказание он дал в работе «Жизненная драма Платона». Здесь Соловьёв противопоставляет последнее произведение Платона «Законы» всему остальному его творчеству; он видит в «Законах» свидетельство отречения Платона от тех идеалов, которым он следовал всю свою сознательную жизнь. Платон как великий мыслитель сформировался под влиянием трагического события – смерти своего учителя Сократа. Эта смерть особенно поразила Платона своей несправедливостью, поскольку Сократ был убит людьми не приемлющими его свободной, мыслящей веры – веры, в свете которой представали ложными и нелепыми их собственные устоявшиеся верования. Все свое творчество Платон посвятил борьбе за эту свободную веру, и в этой борьбе его постоянно вдохновлял светлый образ Сократа. И вот в конце жизни он пишет «Законы» – сочинение, провозглашающее в качестве единственного средства духовного «исправления» человечества ту самую темную веру, которая убила его учителя. «Таким образом, – пишет Соловьёв, – величайший ученик Сократа, вызванный к самостоятельному философскому творчеству негодованием на легальное убийство учителя, под конец всецело становится на точку зрения Анита и Мелита, добившихся смертного приговора Сократу именно за его свободное отношение к установленному религиозно-гражданскому порядку. Какая глубочайшая трагическая катастрофа, какая полнота внутреннего падения! Автор Апологии, Горгия, Фэдона после полувекового культа убитого законами мудреца и праведника открыто принимает и утверждает в своих “Законах” тот самый принцип слепой, рабской и лживой веры, которым убит отец его лучшей души!»29. Нетрудно увидеть здесь точное изображение жизненной драмы самого Соловьёва. Конечно, он никогда не доходил до того, чтобы назвать церковное христианство «слепой, рабской и лживой верой», но он всегда боролся с его формализмом, догматизмом, духовной ограниченностью, не боясь открыто обозначать эти недостатки (например, в речи «Об упадке средневекового миросозерцания»), он всегда боролся за философски просветленную веру, показывающую человеку путь к совершенству. И вот, в предсмертном сочинении 28 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 он, как и Платон, отрекается от всех своих свободных исканий и объявляет, что истина – только в церковном учении, не предполагающем никакой свободы и не требующем от человека никаких дерзновенных – богочеловеческих – деяний. В этом отречении от своих убеждений Соловьёв, как и Платон, был вынужден отречься и от своего духовного учителя, от Достоевского. Нагляднее всего это видно из противоположности соловьевского Христа, который в финале «Краткой повести об антихристе» приходит в «великой молнии» и в «царском одеянии», чтобы карать грешников и править святыми – Христу Достоевского, который в «Поэме о Великом инквизиторе» отвергает искушение чудом, авторитетом и властью и растворяется в темной ночи, ничего не оставляя людям, кроме веры в собственную силу. Но можно отметить и еще несколько важных мотивов, которые наглядно свидетельствуют о том, что Соловьёв теперь выступает не как наследник, а как противник Достоевского. В третьем разговоре господин Z (т.е. сам Соловьёв) так формулирует свое понимание зла: «Зло действительно существует, и оно выражается не в одном отсутствии добра, а в положительном сопротивлении и перевесе низших качеств над высшими во всех областях бытия. Есть зло индивидуальное – оно выражается в том, что низшая сторона человека, скотские и зверские страсти противятся лучшим стремлениям души и осиливают их в огромном большинстве людей. Есть зло общественное – оно в том, что людская толпа, индивидуально порабощенная злу, противится спасительным усилиям немногих лучших людей и одолевает их; есть, наконец, зло физическое в человеке – в том, что низшие материальные элементы его тела сопротивляются живой и светлой силе, связывающей их в прекрасную форму организма, сопротивляются и расторгают эту форму, уничтожая реальную подкладку всего высшего. Это есть крайнее зло, называемое смертью. И если бы победу этого крайнего физического зла нужно было признать как окончательную и безусловную, то никакие мнимые победы добра, в области лично нравственной и общественной, нельзя было бы считать серьезными успехами»30. Можно подивиться смелости, с которой Соловьёв формулирует утверждения, идущие против главных духовных традиций русской мысли. Ведь здесь он утверждает, что главное зло коренится не в душе человека, как утверждали почти все великие русские мыслители и до, и после Соловьёва, а в самой материи. Признавая смерть крайним, наиболее полным воплощением зла, Соловьёв тем самым и победу над злом в этой его форме считает важнейшей, определяющей для всей борьбы со злом на земле. Но акт воскресения, победу над смертью осуществляет не человек, а Бог (это особенно подчеркивается в «Трех разговорах»); отсюда с неизбежностью приходится заключить, что человек не отвечает за окончательную победу добра на земле, его роль второстепенна. Здесь Соловьёв одним росчерком пера зачеркивает весь свой грандиозный труд «Оправдание добра», где он утверждал прямо противоположное. Это, конечно же, несовместимо и с этической позицией Достоевского, который главным полем битвы добра и зла, Бога и дьявола полагал душу каждого человека. Наконец, в один из моментов третьего разговора господин Z с выделанным пафосом заявляет следующее: «Изо всех звезд, которые восходят на умственном И.И. Евлампиев. Загадка «Краткой повести об антихристе» Вл. Соловьёва 29 горизонте человека, со вниманием читающего наши священные книги, нет, я думаю, более яркой и поразительной, чем та, которая сверкает в евангельском слове: “Думаете ли вы, что Я мир пришел принести на землю? Нет, говорю вам, – но разделение”. Он пришел принести на землю истину, а она, как и добро, прежде всего разделяет»31. И далее на недоумение Дамы, которая замечает, что это высказывание противоречит другим словам Христа, где он называет миротворцев сынами Божьими, господин Z разъясняет: «Так заметьте же, что примирить их [эти высказывания. – И.Е.] можно только чрез разделение между добрым или истинным миром и миром дурным или ложным. И это разделение прямо указано Тем же, Кто принес истинный мир и добрую вражду: “Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам”. – Есть, значит, хороший, Христов мир, основанный на том разделении, что Христос пришел принести на землю, именно на разделении между добром и злом, между истиной и ложью; и есть дурной, мирской мир, основанный на смешении, или внешнем соединении, того, что внутренне враждует между собою»32. Важнейшим положением Достоевского в его философском понимании человека является представление о неразрывной связанности добра и зла в душе каждого человека и невозможности полного искоренения зла. Человек должен стремиться к господству добра в своей душе, к преображению своей жизни к совершенству, но окончательного и полного совершенства и преображения он достичь не может, поскольку это означало бы, что он исчез как человек, как относительное существо, стремящееся к абсолютному состоянии33. В этом убеждении сказывается глубочайшее понимание жизни и человека, которое Достоевский демонстрирует всем своим творчеством. Но именно этой глубины не хватает Соловьёву в его позднем сочинении, в духе самого вульгарного утопизма он верит в «окончательное» отделение «святых» от «злодеев» и изображает эту наивную утопию в своей повести об антихристе. Примечания 1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 08-03-00634а. 2 Подробнее эта тема развита нами в статье «Жизненная драма Владимира Соловьёва», которая предполагается к публикации в начале 2011 г. в журнале «Вопросы философии». 3 Соловьёв В.С. Об упадке средневекового миросозерцания // Соловьёв В.С. Сочинения. В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 342–343. 4 Там же. С. 346. 5 Соловьёв В.С. Национальный вопрос в России // Соловьёв В.С. Сочинения. В 2 т. М., 1989. Т. 1. Философская публицистика. С. 315. 6 Б.В. Межуев в статье ««Перемена в душевном настроении» Вл. Соловьёва 1890-х годов в контексте его эсхатологических воззрений» («Соловьёвские исследования». Вып. 11. Иваново, 2005) достаточно убедительно показывает, что некоторые сомнения в однозначно оптимистическом варианте понимания истории появляются у Соловьёва еще в 1889–1890 гг. в связи с осознанием реальной силы зла. Однако в это время отдельные суждения на эту тему обнаруживаются только в публицистике Соловьёва, они не складываются пока в целостную систему и не изменяют общий характер философии Соловьёва. По-настоящему значимыми эти новые мотивы станут только в период написания «Трех разговоров». 30 7 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Соловьёв В.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории // Соловьёв В.С. Сочинения. В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 640. 8 Там же. С. 705. 9 Там же. С. 761. 10 Соловьёв В.С. Три речи в память Достоевского // Соловьёв В.С. Сочинения. В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 302. 11 Соловьёв В.С. Об упадке средневекового миросозерцания. С. 349. 12 Соловьёв В.С. Три разговора… С. 745. 13 Там же. 14 Письма Владимира Сергеевича Соловьёва. СПб., 1909. Т. I. С. 135. 15 Там же. Т. II. С. 326. 16 Существует свидетельство, которое показывает, что интерес к теме антихриста появился у Соловьёва еще в конце 1880-х годов. Согласно воспоминаниям Л. Тихомирова, в 1889 г., в беседе с ним, Соловьёв выказывал оживленный интерес к этой теме, при этом он связывал возможное появление антихриста с усилением политического и культурного влияния Дальнего Востока, особенно буддизма (см.: Тихомиров Л.А. Тени прошлого. М., 2000. С. 603). 17 Ты есть Петр! Теперь это полностью доказано и не подлежит никакому сомнению (нем.). 18 Итак, отцы, отныне мы едины во Христе (нем.). 19 Соловьёв В.С. Три разговора… С. 759. 20 Булгаков С.Н. Владимир Соловьёв и Анна Шмидт // Булгаков С.Н. Тихие думы. М., 1996. С. 79. 21 Там же. С. 76. 22 Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 466. 23 Соловьёв В.С. Идея сверхчеловека // Соловьёв В.С. Сочинения. В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 634. 24 Там же. 25 Там же. С. 626. 26 Соловьёв В.С. Три разговора… С. 742. 27 Мочульский К.В. Гоголь. Соловьёв. Достоевский. М., 1995. С. 187. 28 Соловьёв В.С. Три разговора… С. 761. 29 Соловьёв В.С. Жизненная драма Платона // Соловьёв В.С. Сочинения. В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 624. 30 Соловьёв В.С. Три разговора… С. 727. 31 Там же. С. 709–710. 32 Там же. С. 710. 33 Подробнее см.: Евлампиев И.И. Становление европейской неклассической философии во второй половине XIX – начале ХХ века. 31 О.В. Парилов. «Три разговора…» Вл. Соловьёва УДК 130.2:2:82.09 ББК 87.3(2)51:83 О.В. ПАРИЛОВ Нижегородский государственный педагогический университет «ТРИ РАЗГОВОРА…» ВЛ. СОЛОВЬЁВА И СОВРЕМЕННОЕ ТОЛЕРАНТНОЕ ОБЩЕСТВО Раскрывается сущность понятия толерантности, истоки происхождения данной ценности и ее интерпретация в современном глобализирующемся мире. Толерантность рассмотрена сквозь призму «Трех разговоров…» Вл. Соловьёва. Великий русский философ в итоговом произведении утверждает идею непримиримой борьбы со злом, а значит, отрицания возведенной в абсолют толерантности – таков основной вывод статьи. The essence of the notion of tolerance, the roots of the origin of the given value and its interpretation in the modern globalizing world are exposed. The tolerance is looked upon in the light of «Three conversations…» of V. Solovyov. In this final work the great Russian philosopher states the idea of irreconcilable fight with evil, and it means the denial of absolute tolerance – that is the main conclusion of the article. Ключевые слова: толерантность, общечеловеческие ценности, либерализм, личность, конформизм, Вл. Соловьёв, «Три разговора…», добро и зло, война и мир, «Краткая повесть об антихристе». Keywords: tolerance, common to all mankind values, liberalism, individual, conformism, V. Solovyov, «Three conversations…», good and evil, war and peace, «A short story about antichrist». В постперестроечные годы радикально трансформировалось сознание подавляющего большинства россиян: привычные аксиологические установки советского времени – коллективизм, патриотизм, семья и др. – постепенно поблекли, уступив место иным ценностям, одна из которых – толерантность. Еще 20 лет назад о ней ничего не знали, и по сию пору это понятие воспринимается как образчик заимствованного новояза, но пропагандируется толерантность столь активно, что возникает стойкое ощущение, будто важнее этой ценности нет. Сайтами с одноименным названием заполнен Интернет; на эту тему написаны горы пропагандистской литературы; воспитание толерантности у молодого поколения видится важнейшей задачей современной педагогики: «факторы коммуникабельности и толерантности» ставятся во главу угла Концепцией модернизации Российского образования до 2010 года, так что иные ценности отступают на второй план1; повсеместно практикуются бесконечные «уроки толерантности» в школе. Прежде всего, необходимо прояснить суть данного понятия. Чтобы не быть голословными, станем исходить из этимологического значения термина «толерантность» и из формулировки, данной в словаре: «Толерантность (от лат. toleraпtia – терпение) проявляется в терпимости к чужим мнениям, верованиям, поведению. Толерантность – это моральное качество личности или состояние общественных нравов, характеризующееся сдержанностью моральных оценок, неагрессивным способом восприятия морального и социального зла»2. 32 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Итак, высшее достоинство носителя духа толерантности – способность терпеть и «не агрессивно воспринимать» любые явления, в том числе и откровенное зло. Речь в данном случае не идет о том, чтобы понять другого, а идет о том, чтобы терпеть его, хотя бы и внутренне протестуя; терпеть сквозь зубы. Те, кто насаждает данную ценность, очевидно, хотели бы видеть Россию большим домом терпимости. Где же искать истоки толерантного миропонимания? Толерантность – одна из так называемых «общечеловеческих», то есть, читай, европейско-американских ценностей, активно пропагандируемых в России в последние годы. Она – плоть от плоти западного эгалитарно-либерального духа, утверждение и расползание по миру которого определил К. Леонтьев еще в XIX веке. Чертами эгалитарного либерализма выступают: рациональный и утилитарный подход к жизни, мещанство, гуманистический эгоцентризм, идея псевдоравенства. В социальной практике Запада это проявилось в ослаблении «религиозных антитез,… целые страны становятся похожими, бледнеют характеры», фетишизируются права личности, причем любой (то есть человек греховный, полный страстей и пороков превозносится и требует к себе исключительного внимания и интереса), дополняется эта установка абсолютизацией равенства – «полного, экономического, полового». Неизбежные плоды данных мировоззренческих установок, по К. Леонтьеву, – разложение общественной жизни – «слепые» надежды «на земное счастье, земной гуманный утилитаризм», измельчение идеала – «средний человек; буржуа спокойный среди миллионов точно таких же средних людей, тоже покойных»3. Нетрудно обнаружить в современной толерантности обозначенные еще 150 лет назад К. Леонтьевым черты. Верно трактует духовные основы толерантности в современном глобализирующемся мире А.В. Брагин: «Предельно атомизированное общество продолжает существовать как целое в силу не столько внутренних, духовных регуляторов, сколько внешних – правовых, стоит рухнуть которым – и начнется «война всех против всех». Данное обстоятельство обусловливает хрупкость существующей социальной системы, для сохранения которой требуются постоянные уступки человеческому эгоизму и греху. Отсюда абсолютизация требований толерантности, политкорректности, ненасилия»4. К чему неизбежно приведет утверждение и насаждение духа толерантности? Во-первых, к размыванию и дискредитации моральных ценностей и установок. То, что в традиционном обществе оценивается как грех, порок, в толерантном обществе уже квалифицируется как самовыражение личности. Пропагандисты духа толерантности самовольно открывают «ящик Пандоры»: предоставляют человеку право самому определять, что допустимо с моральной точки зрения, а что нет. Остальным же предписывается априори принимать любой тип поведения, терпимо к нему относиться. Так, в энциклопедии Кольера толерантность трактуется как «стремление и способность к установлению и поддержанию общности с людьми, которые отличаются в некотором отношении от превалирующего типа или не придерживаются общепринятых мнений»5. С точки зрения современного толерантного общества, гомосексуалист – это особенная О.В. Парилов. «Три разговора…» Вл. Соловьёва 33 личность, «не придерживающаяся общепринятых мнений». Отныне он претендует на особое толерантное отношение к себе. Но те же претензии, в принципе, может заявить и педофил. Чем он хуже представителя сексуальных меньшинств? Подобная тенденция толерантного отношения к пороку, в частности, отразилась в «Новом планетарном гуманизме», возникшем в наши дни по инициативе ведущих западных ученых, философов (в их числе 10 нобелевских лауреатов) и поддержанном некоторыми российскими интеллектуалами. Суть «Нового планетарного гуманизма» изложена в опубликованном «Гуманистическом манифесте 2000»6. Планетарные гуманисты утверждают, что «государство должно допускать сосуществование широкого многообразия моральных ценностей», т.е. налицо абсолютный моральный релятивизм. Следствие подобного подхода – отсутствие каких-либо моральных ограничений в стремлении удовлетворять «священные» права человека – планетарные гуманисты выступают за сексуальное просвещение детей, открыто защищают гомосексуализм, браки между родственниками: «Супружеские пары одного пола должны обладать теми же правами, что и гетеросексуальные пары. Не должны запрещаться… и браки между родственниками» 7. Во-вторых, толерантность, как внутренняя установка личности, неизбежно приведет к равнодушию и бесчувствию: постепенно привыкая заранее со всем соглашаться, терпимо относиться ко всему, человек отучится различать добро и зло, будет индифферентно относиться к любым социальным и личностным проявлениям. Не случайно Г.К. Честертон определяет толерантность как «добродетель людей, которые ни во что не верят». «Способность подавлять чувство неприятия»8 (так определяет суть толерантности Е.И. Касьянова), сформировавшись как экзистенциальная интенция, неизбежно выработает в личности иммунитет к откровенно греховному. Апологеты толерантности обрекают человека на неизбежную разорванность сознания: с одной стороны, призывают взращивать, всячески культивировать настрой на «взаимное понимание и согласование самых разных… установок, ориентаций, не прибегая к насилию,… а используя… сотрудничество»9. С другой стороны, побуждают сдерживать «чрезмерное неадекватное обстоятельствам повышение толерантности», не замечая, что обозначенные установки исключают друг друга. Если учесть признание Е.И. Касьяновой, что «применительно к толерантности понятие меры, границы пока не исследовано»10, остается открытым вопрос, к чему относиться толерантно, а что терпеть недопустимо. Удивительное явление современного бытия – откровенное зло перестает быть опознаваемо, например, прямая пропаганда, в том числе и государственным телеканалом, пороков и низменных инстинктов (сериал «Школа»). Всеобщему осуждению подлежит лишь то, на что дана санкция властей. Современный массовый человек, воспитанный в духе толерантности, перестает реагировать на вопиющие события, в частности, на то, что в центрах крупных мегаполисов сжигают деревянные дома (нередко вместе с людьми), расчищая площадку под застройку. Нынешние изуверы, сжигающие спящих людей в их домах, сродни выведенным Вл. Соловьёвым в «Трех разговорах…» разбойникам-башибузукам, 34 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 сжегшим заживо обоз беглых армян11. Персонаж повествования – Генерал истребляет извергов и считает это главным «добрым делом» своей жизни. В этом сюжете недвусмысленно просматривается центральная этическая установка Вл. Соловьёва, ответ на ключевой вопрос – имеет ли человек право покарать явное зло. «Три разговора…» были написаны в обличение толстовства – предтечи современного толерантизма. Последний доводит толстовскую идею непротивления злу до крайности, до абсурда – игнорирует зло, трактуя его как «личностное самовыражение», «реализацию личных прав». Поэтому анализируемое произведение спустя 110 лет звучит не просто актуально, но и пророчески. В противовес нынешним защитникам толерантности, философ побуждает прямо обличать зло: «Равнодушие и снисходительное пренебрежение… не у места… общественная совесть громко требует, чтобы дурное дело было названо своим настоящим именем»12; более того, призывает прибегнуть к его физическому уничтожению, если иные средства исчерпаны – «меч воина или перо дипломата… должны оцениваться по своей действительной целесообразности» в борьбе со злом. Согласно мыслителю, недопустимо присущее толерантизму стремление размыть границу между добром и злом; добро и зло субстанциональны, имеют метафизическую природу («с нашими представлениями о добре и зле связана Божья воля»13), следовательно, их разграничение абсолютно. Всемирная история прочитывается как «всемирный суд Божий», т.е. «долгая тяжба» между добром и злом, предполагающая напряженную нравственную борьбу. Невозможен толерантный конформизм, т.е. механическое соединение людей в абстрактное братство, ибо «братья бывают разные». Здесь автор ссылается на евангельскую максиму, что Христос пришел не «мир принести», но «разделение». В. Соловьёв констатирует: Спаситель являет истину, которая, как и добро, разъединяет. В противовес защитнице толерантности Е.И. Касьяновой, трактующей «мир» и «гуманизацию человеческих отношений» как однозначное «добро»14, мыслитель уточняет: лишь тот мир «хороший», который «основан на разделении между добром и злом, между истиной и ложью»; соответственно, мир, базирующийся «на смешении, или внешнем соединении, того, что внутренне враждует между собой», – «дурной мир»15. Так что мир миру – рознь. Автор уверен, что «нравственный порядок… или воля Божья сами собою в мире не совершаются». Следовательно, не противодействуя злу, человек неизбежно становится его соучастником: если «моралист» не остановит насильника, но «допустит злодеянию совершиться под аккомпанемент его хороших слов», то он достоин лишь отвращения16. Мыслитель словами своих героев фиксирует характерные психологические черты непротивленца – эти черты недвусмысленно просматриваются и в современном поборнике толерантности. Это равнодушие и безучастие – готов и «башибузука, поджаривающего младенцев, назвать евангельским разбойником… единственно для того, чтобы как-нибудь зла пальцем не тронуть»; конформизм и «возведенная в абсолютное правило» терпимость (в интерпретации автора – «вежливость, лишенная здравого смысла и чувства живой действи- О.В. Парилов. «Три разговора…» Вл. Соловьёва 35 тельности»17). В данном контексте, философ, используя иронию, сарказм, повествует о человеке, у которого желание угодить всем «перешло в манию» и в конце концов погубило его. Еще более комичен образ камергера Деларю, благодарящего и всячески ублажающего собственного насильника (стихотворение в «Третьем разговоре»). Печальная участь камергера свидетельствует о том, что непротивленчество не способно нейтрализовать зло, напротив, содействует его нарастанию. Особо щепетильный вопрос – вопрос о национально-религиозной толерантности. Мы убеждены, что религиозной толерантности как таковой быть не может в принципе. Религиозный человек никак не может признать и принять, по определению, чужой веры как равной своей собственной. Для верующего его религия является единственно верной и истинной и, соответственно, другая религия представляется ложной или, по крайней мере, не обладает всей полнотой истины. Принять душой иную веру для него означает смириться с ложью. Религиозная толерантность означает неизбежное угашение религиозности, говоря языком Нового Завета, – «теплохладность», которую осудил Бог на погибель. В ироничной форме, словами Дамы, осуждает ее и Вл. Соловьёв: «А вот американцы прекрасно свое дело устроили. Ото всех вер к ним духовные лица приехали. Епископа католического председателем сделали. Он им Отче наш поанглийски прочел, а буддийские и китайские жрецы-идолопоклонники учтиво ему отвечают: «Oh yes! All right, Sir! Мы никому зла не желаем и только об одном просим: чтобы ваши миссионеры уехали от нас куда-нибудь подальше. Потому что ваша религия чрезвычайно как хороша для вас, и, что вы ее исполняете, мы в этом не виноваты, а для нас наша религия всех лучше»18. Что касается национальной толерантности, с одной стороны, безусловно, недопустимы ксенофобия, разжигание национальной ненависти. Но с другой стороны, в ходе проповеди толерантности сегодня вообще отрицается национальное начало как таковое, проповедуется одинаковость людей, неразличение их по национальному признаку. Вот в качестве образца – выдержка из упоминавшегося нами «Гуманистического манифеста 2000»: «Этносы являются продуктом былой социальной и географической изоляции, более не свойственной открытому мировому сообществу». Идеал планетарных гуманистов – лишенный национальных отличий аморфный всечеловек: «Пора ввести в обиход новый способ идентификации человека – принадлежность к мировому сообществу»19. В отношении же государствообразующей русской нации нередко действуют сегодня двойные стандарты: попытки пропагандировать русские национальные ценности объявляются либеральной общественностью «красно-коричневой чумой», рецидивами фашизма. Нет ничего плохого в исповедании своих национальных ценностей и традиций, в национальной солидарности. Нужно смотреть правде в глаза: что помогает сегодня выжить и социализироваться мигрантам на чужой территории, в чужой языковой и культурной среде? – национальная взаимовыручка и взаимопомощь. Что губит сегодня русскую нацию? – национальное разобщение и взаимное отчуждение. В «Трех разговорах…» темы национальной идентификации, национальной солидарности поднимает одна из самых противоречивых фигур – Поли- 36 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 тик. С одной стороны, он – воплощенная толерантность: «Конечно, недаром по-французски politesse и politique в ближайшем родстве. И заметьте, что для этого вовсе не требуется никаких чувств, никакого этого благоволения, о котором напрасно помянул Генерал. Если я на кого-нибудь не бросаюсь и не грызу его голову зубами, то ведь это не значит, чтобы я имел к нему какое-то благоволение. Напротив, я могу питать к нему в своей душе самые злобные чувства, но, как человеку культурному, мне такая грызня прямо гадка»20. Но с другой стороны, его высказывания по национальному вопросу сегодняшняя толерантная публика могла бы расценить как откровенно шовинистические. Прежде всего, для Политика лишенный национальных отличий всечеловек есть понятие пустое: «Если мы своим существительным признаем это отвлеченное понятие, то мы должны прийти к эгалитарной безразличности и нацию Ньютона и Шекспира ценить не больше, чем каких-нибудь папуасов»21. Недвусмысленно Политик делит нации на высшие и низшие, недоразвитые в культурном отношении: «Ведь папуасы и эскимосы – люди; но я не согласен считать своим существительным то, что у меня общее с папуасом и эскимосом»22. Более того, он отстаивает право высшей нации господствовать над низшей, например, завоевателей, но носителей более высокой цивилизации – англичан над «низшими» – бурами в Южной Африке23. Эти идеи отчасти провокационны, но с чем нельзя не согласиться, то это с отстаиваемой автором установкой на внутринациональную солидарность, звучащую в противовес призывам нынешних толерантных гуманистов любить все нации одинаково: «Я вот человек кроткий, так в любви я гораздо более солидарен с какимнибудь белым или сизым голубем, нежели с черным маврой Отелло, хоть и он тоже человеком называется» (Господин Z); «Я могу и, пожалуй, должен жалеть и беречь всякого человека, как и всякое животное, – блажен муж иже и скоты милует; но признавать себя солидарным, своим я буду не с какиминибудь зулусами или китайцами, а только с нациями и людьми, создававшими и хранившими все те сокровища высшей культуры, которыми я духовно питаюсь» (Политик). Автор завещает нам «беречься от ошибок безразличной эгалитарности»24. Сущностные черты современного поборника толерантности четко просматриваются в главном персонаже «Краткой повести…» – антихристе. Прежде всего, это самозванство, мимикрия. Антихристово дело – «морочить», обольщать людей. Подобно тому, как нынешняя толерантная всеядность рядится в красивые одежды «Нового гуманизма», так и антихрист маскируется под «обманчивую и соблазнительную личину добра»25. Еще одна особенность – эгоизм, непомерная гордыня («любил он только одного себя»). Современный толерантный «Новый гуманизм» густо замешан именно на этом чувстве. Наконец, одна из главных особенностей, также коррелирующая с нынешними установками толерантизма, – это стремление всячески потворствовать греховному и неисправленному человеку, тем самым культивируя в нем порок: «Христос, проповедуя и в жизни своей проявляя нравственное добро, был исправителем человечества, я же призван быть благодетелем этого отчасти исправленного, отчасти неисправимого человечества. Я дам всем людям все, что нужно»26. О.В. Парилов. «Три разговора…» Вл. Соловьёва 37 Черты современного толерантного общества отчетливо проступают в сочинении антихриста «Открытый путь к вселенскому миру и благоденствию», а именно стремление всех примирить в «равенстве всеобщей сытости»; растворить в аморфном едином целом всякую греховность и односторонность; следовательно, отпадет надобность в их преодолении: «Всякому одностороннему мыслителю или деятелю легко будет видеть и принять целое лишь под своим частным наличным углом зрения, ничем не жертвуя для самой истины, не возвышаясь для нее действительно над своим я, нисколько не отказываясь на деле от своей односторонности, ни в чем не исправляя ошибочности своих взглядов и стремлений, ничем не восполняя их недостаточность»27. Пророчески мыслитель описывает восторженное принятие толпой этих соблазнительных идей: «Никто не будет возражать на эту книгу, она покажется каждому откровением всецелой правды... чудный писатель не только увлечет всех, но он будет всякому приятен»28. В современном контексте пропаганда толерантности прочитывается как часть глобальной культуры постмодерна, основной чертой которой является размывание традиционных скреп и устоев. В категориях «деконструкция», «децентрация», «смерть субъекта» прочитываются гениально предсказанные великим Владимиром Соловьёвым антихристовы установки духовной смерти человека. Примечания 1 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года // Вестник образования России. 2002. № 6. С. 35. 2 Википедия. Свободная энциклопедия // www.russia-talk.com/rf/irinarkh.htm. 3 Леонтьев К.Н. Избранное. М.: Рарогъ, Московский рабочий, 1993. С. 95. 4 Брагин А.В. Консервативная апология духовного наследия В.С. Соловьёва: проблема ненасилия, толерантности в эпоху глобализации и неолиберализма // Соловьёвские исследования. Иваново, 2008. Вып. 16. С. 44. 5 Электронная энциклопедия Кольера // http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ filosofia.html. 6 См.: Гуманистический манифест 2000 // Антология русской философии. В 3 т. СПб.: СЕНСОР, 2000. Т. 3. 7 Гуманистический манифест 2000 // Антология русской философии. В 3 т. СПб.: СЕНСОР, 2000. Т. 3. С. 473. 8 Касьянова Е.И. Проблема толерантности в идейном наследии Вл. Соловьёва // Соловьёвские исследования. Иваново, 2008. Вып. 18. С. 147. 9 Касьянова Е.И. Указ. соч. С. 148. 10 Касьянова Е.И. Указ. соч. С. 149. 11 Соловьёв В.С. Соч. В 2 т. М.: АН СССР, Институт философии, изд-во «Мысль», 1988. Т. 2. С. 660–664. 12 Соловьёв В.С. Указ. соч. С. 638. 13 Соловьёв В.С. Указ. соч. С. 656. 14 Касьянова Е.И. Проблема толерантности в идейном наследии Вл. Соловьёва // Соловьёвские исследования. Иваново, 2008. Вып. 18. С. 153. 15 Соловьёв В.С. Указ. соч. С. 710. 16 Соловьёв В.С. Указ. соч. С. 654, 655. 38 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 17 Соловьёв В.С. Указ. соч. С. 671. Соловьёв В.С. Указ. соч. С. 700–701. 19 Гуманистический манифест 2000 // Антология русской философии. В 3 т. СПб.: СЕНСОР, 2000. Т. 3. С. 470. 20 Соловьёв В.С. Указ. соч. С. 702. 21 Соловьёв В.С. Указ. соч. С. 697. 22 Соловьёв В.С. Указ. соч. С. 696. 23 Соловьёв В.С. Указ. соч. С. 698. 24 Соловьёв В.С. Указ. соч. С. 696–698. 25 Соловьёв В.С. Указ. соч. С. 732. 26 Соловьёв В.С. Указ. соч. С. 741. 27 Соловьёв В.С. Указ. соч. С. 744. 28 Соловьёв В.С. Указ. соч. С. 744. 18 УДК 130.2:2:82.09 ББК 87.3(2)51:83 И.А. ТРЕУШНИКОВ Нижегородская академия МВД России АПОКАЛИПТИКА «ТРЕХ РАЗГОВОРОВ» И ТЕОКРАТИЧЕСКАЯ ИДЕЯ ВЛ. СОЛОВЬЁВА Рассматриваются воззрения Владимира Соловьёва на проблему завершения истории. Проблематика последней крупной опубликованной работы основателя философии всеединства анализируется в контексте его подхода к пониманию сущности и смысла исторического процесса, осмысления проблемы общественного прогресса. Анализ воззрений Владимира Соловьёва на теократию показывает, что мыслитель отказывается от идеи немедленного осуществления теократического идеала. Это не противоречит представлениям Владимира Соловьёва о богочеловеческом процессе. In this paper Vladimir Solovyov’s views on completion of history are considered. The problems of the last significant published work of the founder of all-unity philosophy are investigated in the context of his approach to understanding the essence and the meaning of the historical process, comprehension of the social progress problem. The analysis of Vladimir Solovyov’s views concerning theocracy displays that the thinker discards the idea of carrying out theocratic ideal immediately. It does not contradict Vladimir Solovyov’s concepts about god-human process. Ключевые слова: философия всеединства, философия истории, духовная культура, религия. Keywords: all-unity philosophy, philosophy of history, spiritual culture, religion «Три разговора …» оказались последней крупной работой В.С. Соловьёва. В ней находят своеобразное завершение центральные темы творчества мыслителя, обсуждаемые поколениями исследователей после кончины основателя философии всеединства. Значимое место в философии В.С. Соловьёва занимает идея теократии. Весьма распространено мнение, что в девяностые годы оптимистическое настроение В.С. Соловьёва сменяется эсхатологическими предчувствиями. Философ начинает ощущать опасность, грозящую ев- И.А. Треушников. Апокалиптика «Трех разговоров» 39 ропейской цивилизации с Востока. К рубежу 1900 года он высказывает мысли о том, что европейская история завершилась, а это для В.С. Соловьёва равносильно гибели общечеловеческой культуры. Последняя крупная работа мыслителя, содержащая яркую картину завершения земной истории и второго пришествия Христа, позволяет многим исследователям заключить, что философ в финале своего творчества отказался от идеи осуществления теократического идеала. Известный исследователь творчества В.С. Соловьёва М.В. Максимов, проанализировавший в своей работе историософию основателя философии всеединства в контексте ее оценок современными исследователями, отметил, что «значительное большинство зарубежных, да и отечественных авторов пишут о разочаровании В.С. Соловьёва в своей концепции, о крахе надежд на теократическое преображение мира, нашедших наиболее яркое и убедительное выражение в последнем крупном произведении философа – «Трех разговорах о войне, прогрессе и конце всемирной истории». Эсхатологическая тема В.С. Соловьёва в этом случае окрашивается исследователями исключительно в апокалипсические тона»1. По мнению М.В. Максимова, данная позиция является не вполне корректной. Исследователи подходили к «Трем разговорам» как к финальной работе мыслителя, разрывая единый контекст его учения и необоснованно противопоставляя последний период всему его творчеству. Даже смысл последней крупной опубликованной работы философа остается не выясненным до конца. «Каков философский смысл этой повести об антихристе и его поддельном добре? Какие изменения вносят высказанные в ней В.С. Соловьёвым идеи в его историософию? Эти вопросы ставили перед собой многие исследователи творчества философа, и многие, отвечая на них, сходились в одном: «Три разговора» и «Краткая повесть об антихристе» являются свидетельством не только «крушения теократической утопии» В.С. Соловьёва, но и радикального отказа от прежних представлений об истории как богочеловеческом процессе. Об этом на Западе писали А. Кожевников, Г. Закке, Л. Венцлер, Дж. Саттон, А. Игнатов, в России – Е. Трубецкой, К. Мочульский и многие другие. И, тем не менее, эти вопросы не представляются проясненными до конца»2. Не претендуя на окончательное решение данной задачи, обратим внимание на динамику представлений основателя философии всеединства о теократии. Идея теократии, появившаяся уже в первых работах В.С. Соловьёва, теснейшим образом связана с центральной идеей его философии. Как отмечал Е.Н. Трубецкой, «…от начала до конца философской деятельности Соловьёва практический интерес действительного осуществления всеединства в жизни стоит для него на первом месте…». По сути дела это означает «осуществление царства Божия»3. Также следует заметить, что «теократическая проповедь» мыслителя основывается на его представлениях об «Абсолютном (всеедином), о Богочеловечестве, о Софии и о сущности мирового процесса». Умозрения философа семидесятых годов сохраняются в более поздних работах основателя философии всеединства, возможно, отредактированные «в некоторых отношениях», что доказывает преемственность мысли В.С. Соловьёва4. В восьмидесятые годы философ продолжает развивать свое учение о «свободной те- 40 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 ократии». В девяностые идея теократии, не находящая реализации в исторической действительности, подвергается трансформации, что мы наблюдаем в работах мыслителя «позднего» периода творчества. Таким образом, фактически реализуется идея всеединства, примененная к социальной и исторической действительности, через объединение западной и восточной христианских церквей, через синтез западных и восточных начал организации социальной жизни, через объединение народов и государств. Учение о свободной теократии впервые формулируется В.С. Соловьёвым в «Философских началах цельного знания» и в дальнейшем сохраняется в качестве значимой темы в течение всего творчества мыслителя, составляя один из основных элементов его историософии. Итогом устранения односторонних начал, господствующих в жизни западного и восточного обществ, будет установление «нормальных отношений». Они, полагает мыслитель, определяются тем, что «духовное общество или церковь в свободном внутреннем союзе с обществами – политическим и экономическим – образуют один цельный организм – свободную теократию или цельное общество». Основные сферы общественной жизни связываются между собой в свободном единстве. Философ специально обращает внимание, что в свободном теократическом обществе «церковь как таковая не вмешивается в государственные и экономические дела, но дает государству и земству высшую цель и безусловную норму их деятельности». Становлением данного типа отношений ознаменуется «третий фазис исторического развития», приводящий к созданию «цельного общества». Заметим, что в этом состоянии политические и хозяйственные механизмы социального организма не подвергаются никакому внешнему давлению со стороны церкви, но при условии сохранения ориентации на высшие духовные потребности5. Каким образом это можно фактически реализовать и что должна делать церковь, если общество в целом не готово посвятить себя служению высшим ценностям? Ответы на эти вопросы остаются у молодого мыслителя вне поля зрения. В последующем он будет вынужден обратиться к ним, и, как мы увидим, это приведет к существенным противоречиям в концепции теократии. Мысль о свободной теократии как «истинном и нормальном обществе», которое может быть только «свободной общинностью», «осуществлением божественного начала в обществе человеческом», осуществляемое только «свободно и сознательно», содержится у В.С. Соловьёва в предисловии к «Критике отвлеченных начал»6. Свободная теократия отождествляется в этой работе с «нормальным обществом», все элементы которого взаимосвязаны «как необходимые составные части одного и того же сложного существа». Церковь со стороны «средств для своего осуществления» рассматривается все же в определенной степени зависимой от гражданской и государственной сфер, а также от экономической области, отождествляемой с материальными средствами, необходимыми для существования теократии на земле. Однако в истинной или свободной теократии, обращает внимание В.С. Соловьёв, верховное значение принадлежит безусловному, или божественному, началу, мирские стороны жизни должны находиться к первому в отношении «свободного подчинения», как «совершенно необходимое и законное средство, орудие и среда для осуществле- И.А. Треушников. Апокалиптика «Трех разговоров» 41 ния единой, божественной цели»7. Уже в данных построениях мы можем увидеть зерно сомнения в возможности фактически реализовать свободное единство. Признание необходимости государственности для осуществления теократии, несмотря на все оговорки, приведет мыслителя в дальнейшем к необходимости усилить ее роль. Идея теократии определяла решение В.С. Соловьёвым большинства историософских проблем и политических вопросов в «зрелый» период его творчества. Отметим, что мыслитель был долгое время убежден в принципиальной возможности осуществления теократической идеи в пределах земной истории. Справедливо заметил Патрик де Лобье, что Соловьёв стремился построить модель Царства Божия, предназначенную для земли8. «Лествица человеческого совершенствования утверждена на земле, и только глава ее достигает неба», – говорит философ, утверждая идеал истинной религии, которая собою связывает два мира, сторонясь «бескрылого материализма» и «беспочвенного идеализма»9. Особенное внимание следует обратить на дифференциацию между основными элементами теократической конструкции. Постулируемое свободное единство церкви, государства и общества предполагает примат духовной власти. В трактате «Великий спор и христианская политика» философ отмечал, что мыслить два «одинаково-самостоятельных и безусловных начала» в человеческой жизни невозможно. Отсюда он делает вывод о необходимости подчинения мирского церковному, что есть утверждение идеи теократии10. Реализация теократической идеи должна привести к духовному преобразованию и гражданского общества, и производственной сферы, и природы в конечном итоге. Теократическое устройство предполагает, по мнению В.С. Соловьёва, совмещение трех форм власти: священнической, государственной и пророческой. Идея триединства этих форм власти развивается мыслителем в брошюре 1884 года «Еврейство и христианский вопрос». Соотношения между властями представляются взаимодополняющими, приводящими к гармоничному единству. Христианская теократическая идея, выступающая «расширением и воплощением» теократии иудейской, по мысли В.С. Соловьёва, дает миру «подлинное священство», возвышает «царственный элемент теократии», превращая христианского государя в автономную от «народного своеволия» силу. Неограниченная политическая власть царя ограничена нравственным влиянием церкви. Однако воплотить идеал христианской теократии в истории не удалось ни Западу, по причине «слабости и раздробленности государственной власти», ни Востоку, вследствие «злоупотреблений византийского цезаризма». Более того, на Западе мыслитель видит злоупотребление и третьим принципом теократии – свободой пророческого служения и личного духа, что ярко проявилось в истории протестантизма, отделившего пророчество от священства и не подарившего миру «истинных пророков». Мыслитель сетует на фактическое отсутствие церковного единства и на невозможность римским иерархам опереться на силу самодержавных христианских государей и «благочестивых патриархальных» народов Востока в борьбе против антихристианских сил в Европе11. Государственности, таким образом, принадлежит чрезвычайно важ- 42 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 ная роль – практическое осуществление идеала Боговластия. Эту мысль В.С. Соловьёва нам следует запомнить. Именно отсутствие мощной государственности, по мысли В.С. Соловьёва, привело к неудаче осуществления еврейской теократии. «При всей великой благодати, которую еврейский народ получал от Бога через своих пророков», без единой и крепкой государственной власти и без «деятельного» священства одно пророческое служение оказалось не способно обеспечить прогрессивное развитие иудейского общества. «Первый из этих недостатков отнял у евреев политическую самостоятельность, второй остановил их религиозное развитие», – отмечает мыслитель. В итоге, еврейская теократия не достигла той высшей цели, которая была перед ней поставлена, она оказалась не в состоянии объединить народы, оставаясь в узких национальных рамках. «Национальная теократия Иуды и Израиля даже на вершине своего развития, – пишет В.С. Соловьёв, – не исполнила этого всемирного назначения»12. Однако еврейский народ все же выполнил свое высшее предназначение. В работе «Россия и Вселенская Церковь», которая во многом выступает популярным изложением основных положений учения В.С. Соловьёва, мыслитель подчеркивает, что «развитие еврейского народа привело к положительному результату огромной всемирной ценности – христианству»13. Историческая теократия Ветхого Завета была необходимым этапом, подготавливающим абсолютную вселенскую теократию Христа. История Израиля представляет, таким образом, процесс Богорождения. В.С. Соловьёв отмечает, что евреи – единственный народ в древнем мире, который при живой и напряженной религиозности обладал и высокой энергией человеческого начала – его нравственной свободой. Эти качества иудейского народа привели к созданию самой возможности для рождения Христа, так как активное божественное начало, по мнению мыслителя, могло воплотиться только в духовно-активном человеческом материале. Реализация теократического идеала представляется В.С. Соловьёву основным делом человеческой истории. Однако, как мы знаем, мыслитель полагает возможным начать осуществление идеала уже в современный ему период. Е.Н. Трубецкой в свое время заявил: «Теократия для него есть царствие Божие в земном его осуществлении. Не знать этого – значит ровно ничего не знать в творениях раннего и среднего периода Соловьёва»14. В контексте работы «Еврейство и христианский вопрос» обозначаются движущие силы этого процесса. Реализовать основные принципы, на которых должно строиться теократическое общество, а именно: «полную самостоятельность религиозного начала в обществе», «правильное расчленение общественного тела и твердый порядок в его управлении»; «свободную и энергичную деятельность личных сил», могут «свежие силы» славянских народов. В.С. Соловьёв ведет речь, прежде всего, о русских и поляках. Анализируя особенности общественного строя России и Польши, философ приходит к выводу о взаимодополнительности духовных и общественных качеств двух народов. Поляки представляются воплощением единства Востока и Запада как подданные русского царя в политической области и как подчиненные католическому престолу в сфере религиозной15. Мыслитель предполагает направить усилия народов на решение универсаль- И.А. Треушников. Апокалиптика «Трех разговоров» 43 но-религиозной задачи. В этом деле свою роль призван сыграть и еврейский народ, включенный в политическое тело Польши и России, в лучшей своей части, и представляющийся мыслителем третьей силой. Таланты еврейского народа должны развиться в пророческом служении и активном преобразовании материального мира16, чего так не хватает народу русскому. Образ теократии, созданный В.С. Соловьёвым в обозначенной работе, подвергается справедливой, на наш взгляд, критике Е.Н. Трубецким не только за невозможность практического осуществления. Политические и материальные выгоды, которые получит, прежде всего, русский народ вследствие осуществления теократии, превращают его жизнь в «рай земной». «Послушание» России римскому первосвященнику «заменяет» собой крест Христов. Основатель философии всеединства «позабыл» предъявить к русскому народу нравственное требование, которое выступает условием восхождения к вселенскому идеалу, а именно «отречения от национального эгоизма и от привязанности к земному благополучию». В этом славянофильство В.С. Соловьёва сочетается с его юдаизмом, как полагает критик. Фактически национальное выдвинулось вперед вселенского. К чести философа в последующих работах он отказался от развития данного тезиса. В трактате «История и будущность теократии» он «перепечатал всю превосходную характеристику еврейского народного характера», но «отбросил как недостойное перепечатки» рассуждение об отношениях Израиля к России и Польше17. «История и будущность теократии» увидела свет в 1887 году. Этот труд, по словам племянника философа С.М. Соловьёва, «должен был стать основным трудом его жизни»18. Основатель философии всеединства прослеживает на материале Св. Писания становление и эволюцию еврейской теократии, полагая ее в качестве закономерного этапа на историческом пути становления вселенской теократии. Теократия иудейская должна была служить приуготовлением к теократии христианской. Сам философ характеризовал содержание своего труда как «философию библейской истории». Опираясь на богатый исторический материал, мыслитель в очередной раз формулирует основные принципы теократического устройства. «Всеобщее священство есть идеал теократии и цель истории», – заявляет философ. Столь высокая цель не может быть достигнута быстро и без усилий. Движение к свободной теократии должно сопровождаться духовным совершенствованием индивидов и позитивными изменениями в социальном организме. Становление теократии – богочеловеческий процесс. Он предполагает свободное творчество человека. Теократия «есть сочетание божественного и человеческого начала», – пишет В.С. Соловьёв. «Богочеловеческое мироправление» приобретает положительный характер только тогда, когда «избранник Божий уже сам участвует в деле Божием» подобно ветхозаветным иудейским патриархам19. Священническая власть связывает общество с Богом, и в этом «реально-мистическом соединении» и заключается ее первоначальная задача. Власть государственная способствует позитивному видоизменению форм социального общежития. «...Закон Божий… устанавливает такую общественную организацию, которая не только обусловливает постепенное воспитание всего народа до духовного совершеннолетия, 44 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 но вместе с тем посредством особых теократических органов сообщает всем те религиозные блага, которые могут быть самостоятельно достигнуты лишь немногими»20. Сама идея подчинения закону сохраняется, по мысли В.С. Соловьёва, в христианстве, так как «религия закона не упраздняется, а лишь восполняется религией благодати». Таким образом, сторонники принципа свободы, любви и благодати, отвергающие идею «послушания богоучрежденному авторитету», не правы. Пророческая власть обеспечивает синтез двух первых и, в ходе свободного пророческого творчества, укрепляет самосознание народа. Роль пророков чрезвычайно велика. Они являются «по преимуществу носителями богочеловеческого сознания», они обеспечивают «нравственное соединение» человечества и природы с Богом. Для этого соединения и существуют и священство, и царство, поэтому, по мысли В.С. Соловьёва, пророк – «высшая из трех теократических властей». Заметим, что в данной модели большое значение придается автономии как пророческой, так и священнической власти. Это обстоятельство позволит нам объяснить, почему мыслитель, предлагая создать свободную теократию, планировал опереться на авторитет папы римского для организации священнической власти, объединив под его руководством все христианские церкви, а организацию государственной власти думал поручить русскому царю. Почему В.С. Соловьёв не допускает возможности объединения под эгидой Православной церкви или конкретно самой крупной и сильной Русской? Ответ ясен – Русская православная церковь не обладает политической автономией. В работе «Великий спор и христианская политика» мыслитель подверг критике Византийскую церковь за то, что она не смогла сохранить собственную автономию и попала в зависимость от императорской власти. Это привело все общество к кризису. Россия в свое время получила христианскую культуру из Византии. Этот факт во многом предопределил специфику развития Русской православной церкви. Постепенно она окончательно попала под контроль русского государства. В завершенной форме у В.С. Соловьёва модель теократии предполагает задействование мощи русского государства и русского народа в качестве подавляющей антихристианские настроения силы. «Глубоко религиозный и монархический характер русского народа, некоторые пророческие факты в его прошлом, огромная и сплоченная масса его империи, великая скрытая сила национального духа... – все это, обращает внимание основатель философии всеединства, указывает, по-видимому, что исторические судьбы судили России дать Вселенской Церкви политическую власть, необходимую ей для спасения и возрождения Европы и всего мира»21. В данной модели, как справедливо заметил М.В. Максимов в своем исследовании, видно, что вероучительный авторитет сместился на Запад. Православный Восток представляется преимущественно сосредоточением политического и военного могущества22. На большое значение государственного механизма в конструкции философа обращал внимание и автор капитального труда «Миросозерцание В.С. Соловьёва». Он обнаружил некоторое противоречие между признанием значимой роли государства в деле осуществления теократии и общими представлениями основа- И.А. Треушников. Апокалиптика «Трех разговоров» 45 теля философии всеединства о государстве, которые тот дает в «Критике отвлеченных начал». По мнению Е.Н. Трубецкого, представления о государстве сложились у В.С. Соловьёва под непосредственным влиянием идей Шопенгауэра и «выросли на почве старых естественноправовых учений ХVII и ХVIII века». Понимание государства как исключительно юридического союза «находится в полном противоречии с фактами». Государство выполняет важнейшую социальную функцию, так как не только служит разграничению интересов, но и заботится о нуждах всего общества. В конце концов, по мнению Е.Н. Трубецкого, государство как таковое не может быть признано «отвлеченным началом». Наличие государственности в конструкции свободной теократии лишний раз доказывает «утопичность всего построения». Попытка ввести государство с его «внешними принудительными механизмами» в Царствие Божие противоречит положительной идее великого синтеза, реализация которой возможна в «высшей сфере бытия», фактически за пределами человеческой истории23. Особое внимание Е.Н. Трубецкой обращает на светское могущество России, которому основатель философии всеединства придает большое значение. По мнению критика, мыслитель предполагает фактически установление международной диктатуры русского государства, что необходимо для «спасения и возрождения всего мира». Третий Рим представляется философу в виде империи и великой державы. Е.Н. Трубецкой отмечает, что эта мысль не высказывается открыто, но к ней несложно прийти вслед за построениями В.С. Соловьёва. Однако критик отмечает «необычайную шаткость» оснований, которые приводит мыслитель в качестве доказательств теократической миссии русского государства. Вера в нее «унаследована» от славянофилов и представляет «многовековое национальное предание. В теократическую конструкцию вводятся «все политические устои старого славянофильства». Монархическое начало России настолько усиливается основателем философии всеединства, он возлагает на него столь значительные надежды, что даже славянофильские мечтания в сравнении с ними «могут показаться скромными»24. «Веру в национальное мессианство России автор «Теократии» получил в наследство от славянофилов, – пишет К.В. Мочульский, – он только видоизменил ее, поставив на месте православия самодержавие и на место церкви – империю. Много лет он беспощадно обличал славянофильский национализм и нанес ему последний удар, а между тем в его теократической системе – полное торжество национализма. Из всех стран одна Россия призвана строить земное царство. А это значит, что русской империи суждено всемирное владычество, могущество, богатство и слава. Начав призывом России к смирению и самоотречению, он кончает обещанием ей диктатуры над всем миром». Такова, по мнению К.В. Мочульского, «ирония судьбы В.С. Соловьёва: ни один эпигон славянофильства в самых дерзких своих мечтах не доходил до такой национальной гордыни»25. В этом, как мы видим, критики сходятся в оценке модели В.С. Соловьёва. Следует заметить, что Мочульский и Трубецкой фактически «додумывают» за основателем философии всеединства последствия реализации его замыслов. Авторитетный отечественный исследователь А.Ф. Лосев, рассматривая этот вопрос, отмечал следующее: «Что касается конкретной ис- 46 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 тории России, то Вл. Соловьёв... находит трудноисчислимое множество всякого рода отрицательных сторон, так что ни о каком специальном национализме Вл. Соловьёва не может идти и речи; и если говорить здесь о каком-нибудь национализме, то он получает у Вл. Соловьёва форму особого исторического критицизма. А ведь в таком случае уже ничто не мешает мыслить Россию также и с тем общечеловеческим содержанием, которое выдвигается у самого Вл. Соловьёва»26. С этим, несомненно, следует согласиться, но, на наш взгляд, не так уж и неправы Е.Н. Трубецкой и К.В. Мочульский, указавшие на перспективы реализации замыслов В.С. Соловьёва как раз в конкретно-политической области. Мечты о вселенском могуществе России, опирающиеся на убеждение в особом задании, которое замыслил ей Создатель, на национально-мессианские представления, действительно владели мыслителем в первый и второй периоды его творчества. Попытка включить государство в царство Божие, содержащаяся в теократической идее Соловьёва, названа Трубецким «противоестественной», и в этом заключается «коренная ошибка» основателя философии всеединства27. Сам Соловьёв последовательно настаивал на необходимости свободного единства трех форм власти. В «Оправдании добра», являющемся по многим отзывам одним из самых проработанных сочинений мыслителя, он утверждает: «Как всякий первосвятитель есть только вершина многочисленного и сложного сословия священнослужителей, которыми он связан с полнотою мира, как далее, и царская власть осуществляет свое призвание в народе лишь через сложную систему гражданских и военных служений с их личными носителями, так и свободные деятели высшего идеала проводят его в жизнь общества через множество более или менее полных участников их стремлений. Простейшее отличие трех служений состоит в том, что священническое главным образом крепко благочестивою преданностью истинным преданиям прошлого, царское – верным пониманием истинных нужд настоящего, а пророческое – верою в истинный образ будущего. Отличие же пророка от праздного мечтателя в том, что у пророка цветы и плоды идеальной будущности не висят на воздухе личного воображения, а держатся явным стволом настоящих общественных потребностей и таинственными корнями религиозного предания. В этом связь пророческого служения с священническим и царским»28. Высшей властью в системе теократии является духовная власть. Однако в области государственного управления за ней нет «никаких державных прав». Власть православного царя ограничена не правовым, а нравственным образом. Е.Н. Трубецкой обнаруживает существенные противоречия в изображении В.С. Соловьёвым теократической конструкции. Представление о теократии как о церковно-государственном строе противоречит понятию о ней как о воплощении «небесного в земном». Насильственный характер государства нарушает возможность свободы, заложенную в саму теократическую идею. Неразрешенной проблемой, по мнению критика, является отношение иноверцев и неверующих к предполагаемому устройству. Свобода разрушает теократию, а теократия, последовательно осуществляемая, уничтожает свободу. В.С. Соловьёв преимущественно рассматривает вопрос о взаимоотношениях властей в И.А. Треушников. Апокалиптика «Трех разговоров» 47 рамках теократического устройства, фактически умалчивая о положении в ней отдельных людей. Представления о характере отношений между властями так же утопичны и нереализуемы29, по мнению Е.Н. Трубецкого, с которым придется согласиться. Интересно, что сам В.С. Соловьёв в ходе полемики по национальному вопросу отмечал: «…славянофильская попытка…совместить полноту государственного абсолютизма с полнотою общественной свободы не выдерживает критики»30. В контексте своей теократической идеи ему самому не удалось избежать известного соблазна, вероятно, в силу общей схематичности своих построений. «Правда» теократической идеи мыслителя, по мнению Е.Н. Трубецкого, заключается в утверждении окончательной цели для человечества – «полноты и целостности истинной жизни в Боге», но его ошибка – в стремлении достичь этого высшего предела в рамках земного существования31. Авторитетный современный исследователь В.В. Сербиненко справедливо отмечал утопичность теократической модели В.С. Соловьёва и сближение ее с теми характеристиками общественного строя, которые он сам «всегда решительно и безоговорочно отвергал»32. Сомнения в возможности реализовать данный идеал овладевают сознанием В.С. Соловьёва в середине девяностых годов, когда создается «Оправдание добра». Работа, таким образом, явилась результатом «начинающегося разочарования» в теократической мечте. В предисловии ко второму изданию мыслитель пишет: «Установить в безусловном нравственном начале внутреннюю и всестороннюю связь между истинною религией и здравой политикой – вот главное притязание этой нравственной философии. Притязание совершенно безобидное, так как истинная религия не может никому себя навязывать, а также всякой политике предоставляется безвозбранно и не быть здравою – на свой риск, разумеется»33. Обращая внимание на данную мысль идейного основателя философии всеединства, Е.Н. Трубецкой отмечает, что «бросается в глаза, до какой степени старая мечта В.С. Соловьёва поблекла и утратила силу». Нет больше заявлений о «воинствующей» церкви, о «принудительной государственной организации третьего Рима». «Безобидная теократия», как полагает критик, «есть явная бессмыслица». Е.Н. Трубецкой вообще не обнаруживает упоминания о теократии даже в тех разделах труда, которые посвящены социальным проблемам, предполагающим в более ранний период творчества обращение к идее теократического устройства34. Отсюда делается вывод о том, что представления В.С. Соловьёва о способах, формах и сроках достижения христианского идеала трансформировались. В «Краткой повести об антихристе», завершающей заключительную работу философа «Три разговора», мы находим живописную картину гибели европейской цивилизации в ходе азиатского вторжения, освобождения Европы от «нового монгольского ига», пришествие антихриста и его крушение, завершающееся пришествием Христа. Обращает на себя внимание состояние христианской церкви. «При очень значительном численном уменьшении своего состава на всем земном шаре оставалось не более сорока пяти миллионов христиан – оно нравственно подобралось и подтянулось и выигрывало в качестве, что теряло в количестве... Папство уже давно было изгнано из Рима и после 48 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 многих скитаний нашло приют в Петербурге под условием воздерживаться от пропаганды здесь и внутри страны. В России оно значительно опростилось... что касается до протестантства..., то оно очистилось от своих крайних отрицательных тенденций, сторонники которых открыто перешли к религиозному индифферентизму и неверию. В евангелической церкви остались лишь искренне верующие, во главе которых стояли люди, соединявшие обширную ученость с глубокой религиозностью и с все более усиливавшимся стремлением возродить в себе живой образ древнего подлинного христианства»35. Духовное очищение наблюдалось и в православной церкви. Испытания и изменение положения, породившие состояние открытого духовного противостояния в борьбе за истину, на чем, напомним, настаивал В.С. Соловьёв, произвели благотворный эффект. «Русское православие, после того как политические события изменили официальное положение церкви, хотя потеряло многие миллионы своих мнимых, номинальных членов, зато испытало радость соединения с лучшею частью староверов и даже многих сектантов положительно-религиозного направления. Эта обновленная церковь, не возрастая числом, стала расти в силе духа...»36. Эта сила духа проявилась в полной мере, когда большинство представителей христианских церквей, поддавшись на хитрость антихриста, пошли за ним. Истинные христиане, оставшиеся в явном меньшинстве, сумели не только сохранить верность Христу, но и изобличить самого антихриста. Хотя победа над ним достигается силою Божией в ходе Второго пришествия. Возникает истинное братское единение церквей, о котором так долго мечтал В.С. Соловьёв, но оно происходит без внешних эффектов «среди темной ночи на высоком уединенном месте». Таким образом, в контексте этой апокалипсической трагедии происходит и объединение церквей, но оно не напоминает прежнюю идею свободной теократии, а все, что осталось от идеи союза римского престола и российской монархии, как заметил В.В. Сербиненко, это папа, «получающий статус беженца в Петербурге»37. Основатель философии всеединства в последний период своего творчества, по мнению Е.Н. Трубецкого, сумел «прозреть» действительное религиозное призвание России. Это произошло благодаря «крушению» мечты В.С. Соловьёва о России как о третьем Риме. Это позволило мыслителю акцентировать внимание на индивидуальном и специфическом в русской религиозной культуре. Православная Россия осуществляет в земной истории «одну необходимую особенность среди христианства» – его мистическую сторону. Образ старца Иоанна передает всю сущность восточного христианства, выступающего хранителем предания, апокалипсических откровений, прозрений в «тайну воплощенного Слова». Этот мистический компонент и вносит православие во вселенскую церковь. Нет в «Трех разговорах» и образа «народа-богоносца». Синтез вселенского христианства осуществляется не одним русским народом, а «всеми народами во Христе, сходящем с неба на землю»38. В этом, по мнению Е.Н. Трубецкого, истинное разрешение антиномии «Запад – Восток». Данную мысль, высказанную в докладе «Старый и новый национальный мессианизм», мыслитель повторяет и в «Миросозерцании В.С. Соловьёва». Заметно, что трактовка Трубецким последнего крупного при жизни опубликованного сочинения основателя философии все- И.А. Треушников. Апокалиптика «Трех разговоров» 49 единства очень напоминает интерпретацию Бердяева, данную им в статье «Проблема Востока и Запада в религиозном сознании Вл. Соловьёва». «Cтapeц Иoaнн – пocлeдний, блaгoй peзyльтaт вocтoчнoпpaвocлaвнoгo peлиrиoзнoгo пyти. Taк жe кaк пaпa Пeтp II – пocлeдний, блaгoй peзyльтaт зaпaднoкaтoличecкoгo peлигиoзнoгo пyти. …Becь миcтичecкий oпыт Bocтoчнoй цepкви co cтapцaми нa выcoчaйшиx cвoиx вepшинax выpaбaтывaeт тo выcшee пpoзpeниe, тo oкoнчaтeльнoe яcнoвидeньe, кoтopoe oпoзнaeт в миpe aнтиxpиcтa. Бeз xpиcтиaнcкoгo Bocтoкa нe мoжeт быть oпoзнaн aнтиxpиcт. … Mиcтичecкoe яcнoвидeньe и пpoзpeниe cтapцa Иoaннa ecть cвятыня Bocтoкa, пpaвдa Bocтoкa, и oнa нe зaвиcит oт иepapxичecкoй coпoдчинeннocти cтapцa Иoaннa пaпe Пeтpy II. Cтapeц Иoaнн и Пeтp II coeдиняютcя, yжe oпoзнaв aнтиxpиcтa и пpoкляв eгo. Tyт Coлoвьёв дocтиraeт гeниaльныx, пoиcтинe пpopoчecкиx пpoзpeний»39, – пишет Бердяев в своей работе, поддерживая мысль о разочаровании мыслителя в возможности добиться объединения церквей в пределах человеческой доапокалипсической истории. Данная оценка вызывает возражения современных исследователей (М.В. Максимов, Патрик де Лобье). Концепция свободной теократии В.С. Соловьёва, по их мнению, может рассматриваться как «условная эсхатология», как возможность благополучного завершения человеческой истории. По мнению французского исследователя, которое приводит современный отечественный автор, мыслитель остался верен теократическому идеалу до конца своих дней40. М.В. Максимов доказывает правильность данной оценки, опираясь на свидетельства самого В.С. Соловьёва, высказанные в письме к его французскому корреспонденту Е. Тавернье. Мыслитель, уточняя свою точку зрения по вопросу теократии, писал: «...Надо раз навсегда отказаться от идеи могущества и внешнего величия теократии, как прямой и немедленной цели христианской политики. Цель ее – справедливость, слава же есть следствие, которое придет само собой». Таким образом, евангельские пророчества о конце мира конституируются основателем философии всеединства в основание своих представлений о сущности христианской политики. По мысли В.С. Соловьёва, человечество должно приложить усилия для формирования общественных структур, позволяющих «устранить все духовные заблуждения, которые в настоящее время мешают людям правильно понимать открытую нам истину». Представление об окончательной победе добра, заложенное в христианской эсхатологии, не должно приводить к «пассивному ожиданию». Она «не может быть простым и чистым чудом, абсолютным актом божественного всемогущества Иисуса Христа, ибо в таком случае вся история христианства была бы излишня», – считает В.С. Соловьёв. «Очевидно, что Иисус Христос, чтобы восторжествовать истинно и разумно над антихристом, нуждается в нашем сотрудничестве», – заявляет мыслитель41. М.В. Максимов совершено прав, полагая, что «в этом письме, относящемся к последним годам жизни философа, он вновь повторяет идею богочеловеческого взаимодействия». Кроме того, современный исследователь справедливо отмечает, что «Три разговора» не следует рассматривать в качестве абсолютно итогового сочинения мыслителя, так как он имел большие творческие 50 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 планы и не собирался останавливаться на критике «поддельного добра». М.В. Максимов приходит к интересному выводу о неверной трактовке последнего периода творчества В.С. Соловьёва как исключительно эсхатологического и даже апокалипсического. Эсхатология присуща мысли основателя философии всеединства на всех этапах его творчества, что отмечалось и отмечается многими исследователями. На последнем этапе мыслитель, по мнению М.В. Максимова, не утратил веру в прогресс, не оставил мечту о Богочеловечестве. Трактуя «Краткую повесть об антихристе», современный исследователь приходит к выводу, что богочеловеческий процесс предполагается В.С. Соловьёвым после второго пришествия Христа в период Его тысячелетнего царства. Данная трактовка, по нашему мнению, вполне может иметь право на существование. Опираясь на нее, М.В. Максимов критикует исследователей, противопоставляющих «раннего» и «позднего» В.С. Соловьёва. «Невозможно согласиться с таким выводом. Он предполагает расчленение целостной философско-исторической концепции Вл. Соловьёва и изоляцию теократического учения от фундаментального элемента его историософии – учения о Богочеловечестве. Однако такая операция не может быть признана корректной». В число критикуемых авторов попадает и Е.Н. Трубецкой. Кроме того, по мнению М.В. Максимова, он «разглядел у В.С. Соловьёва лишь один путь – путь теократического преображения мира, не приняв антиномичности соловьёвского миросозерцания». Автор «Миросозерцания В.С. Соловьёва» пришел к выводу о разочаровании основателя философии всеединства в теократической концепции и богочеловеческом процессе, «что означает, по сути, отказ от самой идеи всеединства»42. Отрицательное отношение Е.Н. Трубецкого к стремлению непосредственно реализовать теократический идеал очевидно. Можно согласиться с мнением А.А. Носова, которое выражено в очень информативной статье, вошедшей в современной издание труда Е.Н. Трубецкого о В.С. Соловьёве, что все «пространное» сочинение Е.Н. Трубецкого «выросло из неприятия соловьёвской идеи теократии как Божественного царства, установляемого на земле в результате тех или иных социальных преобразований»43. Объяснение негативного отношения Е.Н. Трубецкого к возможности реализации теократической идеи в рамках земной истории можно обнаружить в ряде обстоятельств. Прежде всего, следует заметить, что мыслитель критикует и корректирует в своих построениях не только церковно-политические взгляды В.С. Соловьёва, но и понимание базовых историософских конструкций, в частности – учение о Софии. При этом Е.Н. Трубецкой стремится сохранить корректность с точки зрения религиозно-догматической. Усиливается понимание Софии как модели человеческого общества, достижимой только за пределами человеческой истории. Гипертрофированная, по мнению Е.Н. Трубецкого, роль государственности в теократической конструкции вызывала неприятие еще и потому, что мыслитель был хорошо знаком с общественной деятельностью (об этом пишет А.А. Носов в обозначенной статье). Он ясно видел недостатки российского государственного механизма, и включение его в структуру идеального общественного устройства не могло не вызвать отторжения. Кроме того, не будем забывать об изменении исторических условий. Кризис, нараставший при жиз- И.А. Треушников. Апокалиптика «Трех разговоров» 51 ни В.С. Соловьёва и замеченный великим русским мыслителем, разразился после его кончины. В условиях рецидива мировых социально-политических потрясений Е.Н. Трубецкой не мог оптимистически относиться к возможности непосредственно реализовать общественный идеал, тем более не мог мыслить в качестве ведущей силы этого процесса Россию, охваченную революционным пожаром. Следует заметить, что автор «Миросозерцания В.С. Соловьёва», несомненно, глубоко понимал философский замысел основателя философии всеединства. В связи с этим хотелось бы несколько защитить Е.Н. Трубецкого от критических замечаний М.В. Максимова. На наш взгляд, говорить о «резком противопоставлении» в интерпретации Е.Н. Трубецкого этапов творческой эволюции основателя философии всеединства будет излишним упрощением. Последователь и критик В.С. Соловьёва достаточно убедительно доказывает и показывает постепенность охлаждения философа к возможности непосредственного осуществления теократического идеала. Эту коррекцию воззрений мыслителя признает и М.В. Максимов. В письме Е.Н. Трубецкого к М.К. Морозовой можно увидеть, как философ отмечает, что В.С. Соловьёв «оставил», но не «отказался» от теократической мечты в конце жизни» 44 . Учение В.С. Соловьёва столь многопланово, что каждый исследователь может обнаружить в нем именно то, что является ценным для него. Можно акцентировать внимание на идее Богочеловечества. Так поступает М.В. Максимов. «В историософии Вл. Соловьёва первостепенное значение имеет не национальное призвание, а идея реализации Богочеловеческого синтеза», – обращает внимание он. В данном контексте, по мнению современного исследователя, можно говорить о том, что В.С. Соловьёв не отказывается от идеи прогресса, но в поздних работах основатель философии всеединства усиливает внимание на его сложный и драматический характер45. Однако с не меньшим основанием можно акцентировать внимание на вопросе практического осуществления теократии в ближайшем будущем, на который, как мы видели, В.С. Соловьёв обращает много внимания в свои «лучшие годы». Представления о реализации теократической идеи у него вписывается в общее понимание исторического прогресса. Идея прогресса и развития – «суть специфически-христианская», – считает мыслитель. Таким образом, философ, не отрицая идеи прогресса, что характерно для многих религиозных авторов, смешивающих прогресс исключительно с материалистическими эволюционными представлениями, уточняет его характер. «Только христианская (или что то же – мессианская) идея царства Божия, последовательно открывающегося в жизни человечества, дает смысл истории и определяет истинное понятие прогресса»46. По мысли философа, до христианства человечество не имело положительной цели для своего существования, только оно дало людям «абсолютный идеал». Истинный прогресс и является приближением к данному идеалу. Прогресс в корне своем должен носить нравственный характер, как полагает В.С. Соловьёв. При этом личное совершенствование не отделимо, отмечает мыслитель в работе «Из философии истории», от общественного прогресса. Личный нравственный рост с необходимостью должен выразиться в обществен- 52 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 ной деятельности, связанной с «преобразованием безнравственных и бесчеловечных учреждений и порядков». Общественный прогресс, таким образом, осуществляют «нравственные лица». Мыслитель называет их «лучшие люди», «герои», «двигатели истории». При этом «большинство обыкновенных людей» должны «восприимчиво сообразовывать» с изменяющейся в прогрессивном направлении социальной действительностью свою персональную нравственную культуру. В идеале социальная иерархия должна соответствовать нравственному достоинству индивидов, но такое состояние находится «за пределами истории». Церковь в смысле священного учреждения есть уже «свершившийся факт», а совершенное состояние общества, то есть «свободное братство всех в любви», – еще только пророческий идеал47. Как видим, совершенствование духовной составляющей в идеале должно совпадать с усовершенствованием институциональных форм социальной жизни и всей природы. «Вся история состоит в том, что человек делается лучше и больше самого себя, перерастает свою наличную действительность, отодвигая ее в прошедшее, а в настоящее вдвигая то, что еще недавно было противоположным действительности, – мечтой, субъективным идеализмом, утопией»48. Однако следует обратить внимание на момент, не ускользнувший от внимания многочисленных исследователей творчества В.С. Соловьёва, – сила зла также «вдвинута» в мир и с необходимостью действует в нем. В ярких художественных образах эта проблема нашла глубокое отражение в «Трех разговорах». В данной работе злое начало рассматривается как реальная историческая сила, которая приобретает разнообразные изощренные формы, скрывается под лицом добра и вообще в конце истории одерживает над человечеством, пусть и временную, но все же победу. Борьба со злом, в соответствии с сюжетом «Краткой повести об антихристе» в земной истории не приводит к положительному результату, для окончательной победы над ним требуется пришествие Христа. Таким образом, закрадывается сомнение в возможности исторического прогресса добра, если рассматривать его с объективистской или «количественной» точки зрения, что и позволяет многим исследователям творчества В.С. Соловьёва говорить о пессимистических настроениях, захвативших сознание мыслителя. И можно согласиться с мнением Е.Н. Трубецкого, считающего, что в версии «Трех разговоров» «недостает того земного завершения прогресса, которое раньше представлялось философу необходимым»49. Е.Н. Трубецкой, на наш взгляд, последовательно и убедительно доказывает противоречивость теократии и ненужность ее для Царства Божия, а также охлаждение, которое наблюдается у В.С. Соловьёва к этой идее. Подтверждения реализации своих чаяний мыслитель действительно не обнаруживал в современном ему обществе. Идеалы христианской политики, сформулированные мыслителем в семидесятые годы, сохраняют характер заданий и в девяностые. В «воскресном письме» мая 1897 года философ не удержался от восклицания: «Есть ли такая мировая сила, которая могла бы истинным соединением соединить в исторической жизни Божеское начало с человеческим, благочестие с образованностью, религию с гуманизмом, истину Востока с истиною Запада и во имя этой полной истины сказать расслабленному греко-славянскому миру: Встань и И.А. Треушников. Апокалиптика «Трех разговоров» 53 ходи!»50. Вопрос во многом носит риторический характер, но он задан в 1897 году и остается без ответа. По-видимому, ни Россия не выполнила своего призвания, ни православная церковь не смогла добиться расширения духовного влияния. Мысль, действительно чрезвычайно напоминающая славянофильскую формулу, о том, что можно построить «государство, самодержавное в области своих средств, но вместе с тем нравственно зависящее от церкви и оставляющее за народом всю свободу быта и мнения…»51, осталась нереализуемой мечтой. Чаемый мыслителем великий синтез определяющих жизненных начал все же реализуется в историческом финале, что выражено в «Краткой повести об антихристе», и для этого не требуется теократическое величие. При этом идея богочеловеческого сотрудничества сохраняется, конечно, у В.С. Соловьёва. Полагаем, можно обозначить особый ракурс, обнаруживаемый в «Краткой повести …», – ракурс личного духовного совершенствования, или, если можно так выразиться, «качества» отражения добра в земном мире. В этом ракурсе можно отметить несомненный прогресс. Он проявился в лице лучших представителей христианской церкви, позволивших опознать истинную личину антихриста. Если акцентировать внимание на данном моменте, то можно отметить, что В.С. Соловьёв до конца сохранил убеждение в возможности духовного совершенствования и, что особенно важно, в актуальности активной борьбы за добро в земном мире. Примечания 1 Максимов М.В. Владимир Соловьёв и Запад: невидимый континент. М, 1998. С. 190. Там же. С. 211. 3 См.: Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В.С. Соловьёва. В 2 т. М., 1995. Т. 1. С. 112. 4 См.: Там же. С. 406. 5 См.: Соловьёв В.С. Собрание сочинений. В 10 т. / Под ред. и с примеч. С.М. Соловьёва и Э.Л. Радлова. 2-е изд. СПб., 1911–1914. Т. 1. С. 287–288. 6 См.: Там же. Т. 2. С. IХ. 7 См.: Там же. С. 185–186. 8 См.: Patrick de Laubier Port?e et inspiration de la philosophie morale et sociale de Soloviev // Соловьёвские исследования: период. сб. науч. тр. Вып. 6. Иваново, 2003. С. 24. 9 См.: Соловьёв В.С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 4. С. 403. 10 См.: Там же. С. 90. 11 См.: Там же. С. 161–170. 12 Там же. С. 566. 13 Соловьёв В.С. Россия и Вселенская Церковь / Пер. с фр. Г.А. Рачинского. М., 1911. С. 399. 14 Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В.С. Соловьёва. Т. 1. С. 507. 15 См.: Соловьёв В.С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 4. С. 181. 16 См.: Там же. С. 184–185. 17 См.: Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В.С. Соловьёва. Т. 1. С. 502–506. 18 Соловьёв С.М. Владимир Соловьёв: Жизнь и творческая эволюция. М., 1997. С. 221. 19 Соловьёв В.С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 4. С. 403. 20 Там же. С. 488. 21 Соловьёв В.С. Россия и Вселенская Церковь. С. 63. 22 См.: Максимов М.В. Владимир Соловьёв и Запад: невидимый континент. С. 188. 23 См.: Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В.С. Соловьёва. Т. 1. С. 172–173, 178–179. 24 См.: Там же. С. 481–491. 2 54 25 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Мочульский К.В. Владимир Соловьёв: Жизнь и учение // Вл.С. Соловьёв: pro et contra / Сост., вступ. ст. и примеч. В.Ф. Бойкова. СПб., 2000. C. 747–748. 26 Лосев А.Ф. Владимир Соловьёв и его время. М., 2000. С. 253. 27 См.: Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В.С. Соловьёва. Т. 1. С. 546. 28 Соловьёв В.С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 8. С. 509–510. 29 См.: Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В.С. Соловьёва. Т. 1. С. 537–545. 30 Соловьёв В.С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 5. С. 203. 31 См.: Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В.С. Соловьёва. Т. 1. С. 557. 32 См.: Сербиненко В.В. Владимир Соловьёв: Запад, Восток и Россия. М., 1994. С. 139–140. 33 Соловьёв В.С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 8. С. 6. 34 См.: Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В.С. Соловьёва. Т. 2. С. 42–45. 35 Соловьёв В.С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 10. С. 206. 36 Там же. С. 206–207. 37 См.: Сербиненко В.В. Владимир Соловьёв: Запад, Восток и Россия. С. 195. 38 См.: Трубецкой Е.Н. Избранное / Сост., послеслов. и коммент. В.В. Сапова. М., 1995. С. 322–323. 39 Бердяев Н.А. Проблема Востока и Запада в религиозном сознании ВЛ. Соловьёва // Сборник первый. О Владимире Соловьёве. М., 1911. С. 124. 40 См.: Максимов М.В. Владимир Соловьёв и Запад: невидимый континент. С. 189. 41 См.: Вл.С. Соловьёв: pro et contra. С. 59. 42 См.: Максимов М.В. Теократическое учение Вл. Соловьёва: оценки и интерпретации // Соловьёвские исследования. Вып. 8. Иваново, 2004. С. 168. 43 Носов А.А. История и судьба «Миросозерцания Вл.С. Соловьёва» // Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В.С. Соловьёва. Т. 2. С. 573. 44 См.: Там же. С. 574. 45 См.: Максимов М.В. Владимир Соловьёв и Запад: невидимый континент. С. 205. 46 Соловьёв В.С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 6. С. 336. 47 Там же. С. 345–360. 48 Там же. Т. 9. С. 349. 49 Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В.С. Соловьёва. Т. 2. С. 288. 50 См.: Соловьёв В.С. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 10. С. 45. 51 Там же. Т. 5. С. 413. 55 А.П. Глазков. К вопросу о религиозных основаниях эсхатологии УДК 2-184 ББК 86.210.2 А.П. ГЛАЗКОВ Астраханский государственный университет К ВОПРОСУ О РЕЛИГИОЗНЫХ ОСНОВАНИЯХ ЭСХАТОЛОГИИ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЁВА Для адекватного понимания философии В.С. Соловьёва в целом или в каких-либо аспектах необходимо, прежде всего, исследовать сущность религиозных оснований его метафизики. Предпринимается попытка рассмотреть вопрос религиозного измерения эсхатологии В.С. Соловьёва в его «Краткой повести об антихристе». Показывается, что в поздний период своего творчества русский философ сохранил в неизменности религиозные основания своей философии, которые сформировались под влиянием гностицизма. For adequate understanding of V.S. Solovyov’s philosophy on the whole or in any aspects it is necessary, first of all, to investigate the essence of religious foundations of his metaphysics. The article is devoted to the examination of the problem of religious level in V.S. Solovyov’s eschatology in his «Novel on antichrist». The author concludes, that in the last period of V.S. Solovyov’s creative work, the Russian philosopher kept in invariability the religious basis in his philosophy, which had been formed under influence of Gnosticism. Ключевые слова: эсхатология, гностицизм, философия всеединства, историософия, эсхатология, исторический процесс, религиозные основания философии. Key words: eschatology, Gnosticism, all-unity philosophy, historiosophy, eschatology, historical process, religious foundation of philosophy. «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» с включенной в нее «Краткой повестью об антихристе» относятся к числу самых известных произведений В.С. Соловьёва. Этому труду посвящено большое количество публикаций, рассматривающих самые различные идеи и аспекты этой работы. Несмотря на это, «Три разговора» продолжают притягивать внимание исследователей творчества знаменитого русского философа, продолжают сохранять научный и актуальный для нас интерес. В немалой степени это внимание связано и с присутствующей в работе эсхатологической проблематикой. Эсхатологическая тема, которая представлена философом в этом произведении, обширна сама по себе, и она успешно изучалась различными исследователями. Однако до сих пор сохраняет свою дискуссионность вопрос о религиозном основании эсхатологии Соловьёва. Нами предпринимается попытка рассмотреть некоторые аспекты, касающиеся религиозного измерения эсхатологии Соловьёва, в его «Краткой повести об антихристе». Изучение этого произведения, которое всецело посвящено эсхатологической проблематике, позволяет нам уточнить внутренние, религиозные основания историософских взглядов философа в поздний период его творчества и тем самым приближает нас к адекватному пониманию философии Соловьёва в целом. «Краткая повесть об антихристе» представляет собой прогноз будущих исторических событий, который Соловьёвым был соотнесен с концом истории, точнее с одним из эпизодов конца истории. Этот прогноз будущего учи- 56 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 тывал в некоторых деталях современную мыслителю геополитическую ситуацию, а также результаты и обозначившиеся тенденции развития в целом так называемого «христианского мира». Пессимистический настрой этого прогноза имел резонанс, вызвал неоднозначную реакцию среди образованной части общества и дал повод говорить о пессимистическом настрое мироощущения Соловьёва в 90-е гг., а следовательно, об «оптимистической» (теократической, утопической) и «пессимистической» версиях историософии в разные периоды творчества Соловьёва. Однако представляется, что его так называемые «оптимистическая» и «пессимистическая» интерпретации истории вполне соответствуют религиозному духу его мистической метафизики в целом и всего лишь подчеркивают разные стороны или даже сопряженные полюсы одного и того же изначально заданного, то есть с логической необходимостью выведенного из метафизических оснований, хода истории. На наш взгляд, различия между оптимистическим и пессимистическим вариантами развития истории не являются следствием какой-либо коренной перемены в существенной, религиозной части его метафизики всеединства и не имеют принципиального характера. Речь идет лишь о вариациях, о возможных сценариях этого детерминированного в определенных узловых пунктах исторического пути, о том, каким образом он будет осуществляться в будущем в том случае, если проявятся те или иные факторы или, например, если предупреждение философа о грядущей опасности не будет услышано и благоприятная перемена в общественном самосознании (умонастроениях) не произойдет. Сам же результат истории, предусмотренный в историософских представлениях Соловьёва и логически обоснованный всей его метафизической системой онтологического всеединства, предопределен и является окончательно «оптимистическим» оправданием Добра. Оптимистический финал истории априорно уже задан, и он не имеет какихлибо иных вариантов. Текст раннего трактата В.С. Соловьёва «София» показывает, что в историософской части метафизики всеединства с самого начала, то есть когда она лишь начала обретать свои отчетливые контуры, предполагался (на онтологическом уровне и в общем виде) именно тот путь исторического развития, крайний вариант которого, выраженный в «Краткой повести об антихристе», получил потом название «пессимистического». Для оптимистического завершения исторического процесса с неизбежностью и даже, можно сказать, с предопределенностью с самого начала предполагалась так называемая «пессимистическая» версия, а точнее трагическая фаза, представляющая собой «растянутый на пять актов» финал истории. В «Краткой повести об антихристе» Соловьёвым был образно представлен предопределенный еще в момент зарождения его философии всеединства один из вариантов исторической «оптимистической трагедии». Поэтому, думается, что для адекватного понимания и оценки «Краткой повести об антихристе» было бы методологически верным, несмотря на использование в этой повести некоторых элементов и имен, соответствующих религиозному христианскому учению, рассматривать это произведение не в контексте православного предания «исторического» христианства, с которым эта повесть входит в явное противоречие, а в контексте мистической метафизики всеединства. Иными словами, «Краткая повесть А.П. Глазков. К вопросу о религиозных основаниях эсхатологии 57 об антихристе» является произведением все той же религиозной системы всеединства и не означает поворот Соловьёва к православному христианству. При таком подходе мы не увидим в ней существенных внутренних логических противоречий, так как в этой повести нет ничего необычного в плане религиозноонтологическом и историософском для мистической метафизики всеединства, которая в итоге только четче конкретизируется включением имени антихриста в своей эсхатологической части. Реальность, которую Соловьёв выразил через антихриста, была задолго до этого им предусмотрена как необходимый, закономерный элемент с определенной историософской функцией в системе всеединства. Философия всеединства, несмотря на известные поправки, которые вносил в нее с течением времени Соловьёв, является удивительно целостной системой, пронизанной единым духом и покоящейся на неизменном, едином религиозно-онтологическом фундаменте. Формальное различие периодов творчества Соловьёва характеризуется по большей части лишь новизной в представлении ее разных аспектов, отдельных граней, отказом от крайностей, необычностью форм изложения. Философ достраивал контуры своей системы, менял акценты, добавлял в нее новые штрихи и детали, от чего-то отказывался, но основания своей системы, которые он сформулировал в самом начале своего творческого пути, особенно в период работы над рукописью «София», он не пересматривал. В.С. Соловьёв не сделал никаких заявлений по поводу коренной перемены своих религиозных взглядов в печати, нет этих перемен и в его поздних фундаментальных трудах, и у нас, таким образом, нет достаточных оснований, судить о том, что он отказался от своих основополагающих идей и в последний период его творчества. Можно полностью согласиться с утверждением, что известное указание на «особую перемену в душевном настроении» если и свидетельствует об определенном выборе, то он «не может считаться «отречением» философа от его прежних умонастроений»1. Речь, скорее всего, здесь может идти лишь об уточнении собственной позиции в попытке конкретизировать ход будущих событий, который учитывал бы новые факты и намечавшиеся тенденции исторического развития, попадавшие в поле зрения философа в поздний период его творчества. Его фраза о «перемене душевного настроения» может соотноситься в таком случае действительно лишь с намерением «отказаться от утонченно-философского исследования онтологии зла ради более популярного изложения этой проблемы»2. И вполне возможно, что это намерение, как сам говорит об этом Соловьёв, было связано с его душевным состоянием усталости и предчувствия близкой своей смерти. Те идеи, которые Соловьёв разрабатывал и обосновывал теоретически в рамках своей мистической метафизики всеединства, были им показаны теперь в более свободной художественной образной форме, так как именно эта форма позволяет донести их до общественности («публики») более доступным и, как рассчитывал философ, более эффективным образом. Следовательно, В.С. Соловьёв во время работы над «Тремя разговорами» продолжал еще пребывать в рамках своей метафизики всеединства. Если мы примем во внимание историософские положения, которые выразил мыслитель еще в своей ранней рукописи «Со- 58 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 фия», в процессе работы над которой зародились идеи, «составившие затем основание многих его философских работ»3, и сравним их с историософией уже позднего его фундаментального трактата «Оправдание добра», одного «из типичных соловьевских произведений и из всех их, может быть, наиболее соловьевского»4, то мы увидим совпадения, вплоть до терминологических, в том числе, например, такое важное для историософской эсхатологии Соловьёва совпадение понятий о единстве в человеке индивидуальности и универсальности. А ведь второе переиздание «Оправдание добра», дополненное, выходит в 1899 году, то есть фактически уже в период раздумий и работы над «Тремя разговорами». В этих работах (ранней – «София» и поздней – «Оправдание добра») можно увидеть мистическое и философско-теоретическое обоснование так называемого «пессимистического» хода развития событий «Краткой повести». Думается, что резонансно «пессимистическим» его делает больше указание на приблизившийся вплотную конец истории, своего рода «сжатость» времени и детализированная, образная, конкретная художественная форма изложения материала, которая «скрывалась» за всеми абстрактно-теоретическими рассуждениями Соловьёва. Мы можем лишь предположить, что попытка зримо представить, как это будет происходить на самом деле, увлечение конкретными деталями в какой-то степени, может быть, помимо воли автора могли повлиять и на религиозное мировоззрение Соловьёва, и это, в свою очередь, могло привести в будущем к определенным сдвигам в принципиальной религиозноонтологической части его учения, стать импульсом к пересмотру самих религиозно-метафизических оснований историософии. Однако скоропостижная смерть философа оставляет нас в неизвестности в отношении реальности этого возможного существенного изменения и в его религиозно-онтологических взглядах. Мы только знаем, что скончался он как православный христианин. Для понимания религиозных оснований эсхатологии Соловьёва необходимо учитывать, как это уже подчеркивалось в литературе, что в его учении «космический процесс переходит в исторический, – история, по существу, имеет в основе своей то же начало, что и жизнь космоса»5. Историософия Соловьёва, таким образом, тесно связана с его мистической по духу софиологией и не может быть понята в отрыве от нее. Итог истории, по Соловьёву, – это восстановление богочеловеческого единства. Мистически это выглядит как осуществление Богом самого себя в Софии, материи абсолюта. Как пишет М.В. Максимов, «онтологический и гносеологический аспекты Софии, олицетворяющей неразрывную связь сущего и бытия, конкретизируются в историософии Вл. Соловьёва. История мыслится им как продолжение космического процесса и рассматривается как этап его эволюции, как особый этап отношений бытия и сущего на пути к восстановлению богочеловеческого единства»6. А восстановление в историческом плане богочеловеческого единства сопряжено с космическим всеединством. София, условно говоря, – поле борьбы между двумя полюсами, добром и злом. Если сатана является персонификацией сил зла в космическом измерении, то антихрист есть персонификация сил зла в историческом плане этого космического измерения. И то и другое долж- А.П. Глазков. К вопросу о религиозных основаниях эсхатологии 59 но существовать, если следовать логике Соловьёва, с закономерной неизбежностью, так как без них невозможно проявление и конечное в исторической перспективе торжество абсолютного добра. Как уже указывалось в исследованиях, впервые тема антихриста в контексте собственных эсхатологических воззрений философа появляется у Соловьёва в 1888–1889 гг.7 Судя по всему, в это время Соловьёв начинает продумывать тот вариант развития событий, при котором этому лицу отводилось бы свое историческое место в историософии всеединства. Но еще в трактате «София» на уровне личных мистических размышлений дается, можно сказать, предвосхищающее это продумывание космологического обоснования антихриста. В этом черновом наброске его религиозно-философской системы мы видим гностическую религиозно-онтологическую основу исторического процесса, в котором уже просматривается место для антихриста. Соловьёв рассуждает в трактате о двух потенциально возможных видах единства. Вот, что он пишет во втором диалоге этого трактата («Космический и исторический процесс»): «Вообще, дух есть начало единства. Как начало истинного, то есть вселенского единства, как начало цельности, это божественный Дух; как начало ложного, исключительного единства, или эгоизма, это дух сатанинский, дух зла»8. Представлено это было в виде космологического наброска. Но дело в том, что это положение органично включено в систему мистической метафизики Соловьёва и занимает в нем свое определенное место. Соловьёв, как бы подчеркивая этот момент, утверждает, что «космическая вражда должна повториться в человеческом мире»9. Антихрист в таком случае становится уже в поздний период творчества философа литературно-исторической конкретизацией этого тезиса. Если с необходимостью существуют два единства: истинное и ложное, то в историческом плане истинным будет Христова Всемирная монархия, а ложным – антихристова. Собственно, в «Краткой повести» и показано, что вначале появляется ложная, антихристова монархия, а потом, не без участия людей, чудесно победившее ее Царство Христово. Иными словами: «пессимистический» ход исторических событий сменяется «оптимистическим» чудесным финалом. Вся историософия Соловьёва имеет своим основанием мистически-софийную и гностическую, по сути, космологию, которая имплицитно присутствует в ней как религиозное измерение. Целью космического процесса является «порождение наисовершенного единства в наисовершенном множестве, или совершенно целостного и в то же время в высшей степени различенного существа: порождение совершенного организма»10. Таковым организмом является человек, но человек не индивидуальный (животный организм), а взятый универсально как человечество (социальный организм)11. И далее Соловьёв делает вывод: «Таким образом, вселенской задачей является произведение совершенного социального организма. Части этого организма должны быть в высшей степени различенными; для этого они должны взаимоисключать друг друга и только через процесс должны прийти к единству, к внутреннему свободному, добровольному, сознательному единству; они не могут сознательно утверждать (желать) единства, реально не зная его противоположности, то есть не претерпев эту противоположность, не пройдя через нее»12. 60 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Итак, мы видим здесь несколько важных для понимания эсхатологии Соловьёва идей. Во-первых, цель истории – создание совершенного (имеется в виду в нравственном смысле) социального организма, то есть Царства Божия, понимаемого как совершенный нравственный порядок на земле. Взаимоисключение говорит о борьбе (между добром и злом) как содержании процесса создания этого организма. Какое-то определенное количество людей придет к «внутреннему свободному, добровольному, сознательному единству». Речь здесь может идти и не о всем человечестве, а только о тех, кто достойно пройдет испытание «противоположностью», точнее о тех, в ком какое окажется преобладающее влияние (добро или зло), кто к какому типу людей будет причислен. Так как совершенный организм (то есть Царство Божие) – это, по Соловьёву, Церковь, Царство Христа, значит, противоположностью ей будет своего рода ложная перерожденная (или выродившаяся) церковь, царство антихриста. Соловьёв пишет: «Цель мирового процесса – произведение совершенного социального организма, Церкви. Началом этого организма является внутреннее, или свободное, единство. Это единство может быть произведено лишь через подчинение [мировой] души своему божественному началу – Логосу»13. Логос как Личность – это воплотившийся Иисус Христос. Конечное, последнее, то есть «эсхатологическое», в историческом плане испытание в таком случае будет Его противоположностью – антихристом. Как замечает Е.Н. Трубецкой, «где абсолютное Добро является как Личность, там должно быть личностью и крайнее проявление зла: абсолютное зло есть полная и всесторонняя фальсификация добра. Зло, достигшее крайнего своего напряжения, должно быть кощунственной пародией на самое дорогое, святое и возвышенное, что есть в мире»14. Так как место сатаны в человеке – это его эгоистическая воля, то человек, отчуждающий себя от Христа, тем самым подчиняет себя Сатане. Соловьёв пишет: «Человек, самоутверждаясь в исключительности, находится под действием Сатаны. Сатана стремится [объединить] подчинить себе наибольшее число людей и посредством этого создает видимое единство»15. Таким образом, в лице антихриста как ставленника сатаны произойдет «последнее» («эсхатологическое») в истории человечества искушение, произойдет окончательное разделение людей на «светлых» и «темных», то есть окончательно избравших либо добро, либо зло. Соловьёв описывает это в «Краткой повести» как разделение на соборе на ложную соединенную церковь, подчинившуюся антихристу, и истинное всеединое соединение церквей в единую Церковь, исповедание Христа этой избранной светлой части, и ее на деле свободный выбор, в пользу Христа. Точнее, произошло разделение между теми, кто осуществил свободный выбор в пользу антихриста, и теми, кто остался верен Христу. Мы видим образное, эсхатологическое решение проблемы сочетания детерминации предопределения («оптимистического» финала) и свободой выбора, в котором видится «пессимистический» ход исторических событий. Уже само это свободное разделение и соединение истинных христиан в единую церковь предопределяет и подготавливает грядущее явление Христа. К сожалению, повесть обрывается, и мы не знаем действительного конца истории, который мыслил Соловьёв в последний период своего творчества. Собственно, мы ви- А.П. Глазков. К вопросу о религиозных основаниях эсхатологии 61 дим лишь здесь один из эпизодов эсхатологии, правда, судя по всему, ключевой, но не саму эсхатологию в целом. Согласно же христианской эсхатологии, Второе Пришествие Иисуса Христа не обусловливается онтологическим процессом всеединства и историческим его исполнением в виде преодоления разделения церквей и их объединения на основе свободного выбора верности Христу. То, что является центральным, ключевым моментом «Повести об антихристе», на самом деле, с позиции православного вероучения не имеет никакого значения для завершения истории. И вообще перед человеком не ставится всеобъемлющая задача создания необходимых исторических условия для Второго Пришествия Иисуса Христа. Нигде в христианском Откровении не говорится о синергии Бога и человека в историческом плане. Спасение исключительно индивидуально и совершается на путях соблюдения заповедей Божиих, то есть личного аскезиса. Церковь создается в помощь именно этому индивидуальному спасению, а не для решения каких-либо космологических или исторических задач. Другое дело, что покаяние каждого (то есть изменение образа жизни в соответствии с заповедями) имеет, как следствие, и социальный эффект, то есть значимо для всех социальных слоев общества и может изменить духовную атмосферу общества. Но специально, как цель и задача, о создании какого-то идеального общества в Священном Писании ничего нет. Речь идет о проповеди Царства Божия, веры в Иисуса Христа и покаянии. Церковь, которая была создана апостолами, является своего рода Ноевым Ковчегом, спасающим каждого верующего в любую историческую эпоху и из любой нации, социального класса, кто слышит слово истинной веры, обращается с покаянием к Богу и соблюдает спасительные заповеди. Эта Церковь есть, была и будет, так как по слову самого Иисуса Христа «врата ада не одолеют ее»16. Таким образом, если мы поставим «Повесть об антихристе» как бы между двумя полюсами: христианским православным учением и ранним соловьёвским трактатом «София», то мы увидим, что она не противоречит гностической составляющей софийной мистической метафизики всеединства Соловьёва, а скорее всего конкретизирует ее положения, и в то же время сюжет этой повести вступает в своем ключевом моменте в явное противоречие с традиционной христианской эсхатологией. Во всех работах Соловьёва просматривается общий, судящий и оценивающий все критерий – истинное всеединство. Под истинным всеединством у него имеется в виду единство в абсолютном значении, с Богом. Это единство становится религиозным измерением всех планов бытия, от космологического до исторического. Всеединство – понятие максимально общее, абстрактное, и как любое общее понятие оно может пониматься по-разному. Поэтому важно с методологической точки зрения знать, как именно понимал этот термин Соловьёв. По вопросу о всеединстве Соловьёва существует большое количество критической литературы. Хотелось бы подчеркнуть только один момент, на наш взгляд, наиболее существенный для понимания тех религиозных оснований, из которых исходил Соловьёв и которые присутствуют как измерение во всех работах мыслителя, в том числе и в эсхатологических. Это его особого рода «религиозный материализм». Соловьёв стоит на религиозно-материалистичес- 62 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 ких позициях, вернее понимает и исповедует религиозность материалистически. На «духовный материализм» софийной эстетики обратил внимание в свое время еще Е.Н. Трубецкой. А.Ф. Лосев, рассуждая о причинах «пленения» Соловьёва образом Софии, заметил, что Соловьёву «было присуще материалистическое понимание божества, но только без пантеизма и с полным сохранением христианской догматики»17. С этим мнением можно согласиться полностью. Соловьёв создал философскую систему, которая растворила в себе, в своих нехристианских по происхождению принципах христианскую догматику. Благодаря этому действительно трудно квалифицировать философию всеединства Соловьёва как пантеистическую. Но в результате этого произошла «материализация» понимания смысла христианских догматов и понятий. Как пишет далее А.Ф. Лосев, «это и заставляло его подчеркивать материальный характер того боговоплощения, о котором толковало христианство»18. Материальный характер проявился в полной мере в историософии Соловьёва. То, что в православном христианстве понимается в духовном смысле, Соловьев неосознанно, думается, перетолковывал «духовно-материалистически», а значит, как историческое и социальное действие, личное спасение у него рассматривалось в контексте общественного. Конечно, это материализм особого рода, «духовный», это скорее всего материализм, подобный тому, который Лосев видел в платонизме. А.Ф. Лосев отмечал, что в платонизме господствовала интуиция тела, что он «не знает идеального мира в его чистой идеальности», а «учит о разных типах телесности»19. Тело в платонизме может сжиматься и расширяться и по самому своему пространству, то есть может становиться даже совсем «бесплотным», не занимать никакого пространства, но это все относится к форме бытия и форме проявления вещи, а не к самому смыслу или идее ее. «Идея вещи остается всегда же телесной»20. Думается, что «духовный материализм» В.С. Соловьёва имеет много общего с этим замечанием о платонизме Лосева. Подобный соловьёвскому религиозный, духовный материализм наиболее ярко и последовательно выражен в гностицизме. В настоящее время, особенно после выхода в свет монографии А.П. Козырева «Соловьёв и гностики», вряд ли могут быть сомнения в том, что гностицизм сыграл решающую роль в формировании религиозных взглядов Соловьёва. Очень много оказывается общих характерных черт между гностическими религиозно-философскими системами и тем вариантом философии всеединства, который создал Соловьёв. Интересно в этой связи привести характеристику особого гностического умонастроения (речь идет о древних гностиках), которую дает М.К. Трофимова: «Гностическое умонастроение выражает себя на языке мифов и философских спекуляций, в особенностях поведения людей. Но именно потому, что это для данного умонастроения только средство его выражения, гностицизм легко допускал в своих текстах смешение понятий, образов и представлений, восходящих к самым разным истокам: христианству и иудаизму, платонизму и первобытной культуре, пифагорейству и зороастризму и т.д. Всему этому, взятому из первоисточников или из чужих рук, частично переиначенному, придавался в гностических памятниках особый настрой, особый смысл»21. Отчасти мы видим сходный с этим, во всяком случае, в отношении христианства, процесс философс- А.П. Глазков. К вопросу о религиозных основаниях эсхатологии 63 кого синтеза, который осуществлял Соловьёв. Христианские образы и понятия, в том числе и образ антихриста, размещаются в чуждой им по смыслу системе координат-принципов. В результате мы получаем уникальную и богатую на размышления философскую систему всеединства Соловьёва и одновременно с этим искажение христианства в сторону гностическо-платонической материализации его смысла. Что мы и можем наблюдать на примере эсхатологической по смыслу «Краткой повести об антихристе». Примечания 1 Межуев Борис. Перемена в душевном настроении Вл. Соловьёва 1890-х годов // Эсхатологический сборник. СПб., 2006. С. 260. 2 Там же. С. 259. 3 Козырев А.П. Парадоксы незавершенного трактата // Логос. 1991. №2. С. 152. 4 Лосев А.Ф. Владимир Соловьёв и его время. М., 1990. С. 261. 5 Зеньковский В.В. История русской философии. Т.2. Ростов-н/Д. С. 71. 6 Максимов М.В. Метафизические основания историософии Вл. Соловьёва // Соловьёвские исследования: Период. сб. науч. тр. / Отв. ред. М.В. Максимов. Иваново, 2001. Вып. 1. С. 67. 7 Межуев Борис. Перемена в душевном настроении Вл. Соловьёва 1890-х годов // Эсхатологический сборник. СПб., 2006. С. 260. 8 Соловьёв В.С. София //Козырев А.И. Соловьёв и гностики. М., 2007. С. 474. 9 Там же. С. 481. 10 Там же. 11 Там же. 12 Там же. С. 481–482. 13 Там же. С. 485–486. 14 Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьёва. Т.2. С. 277. 15 Соловьёв В.С. София // Козырев А.И. Соловьёв и гностики. М., 2007. С. 482. 16 Мф.16:18. 17 Лосев А.Ф. Владимир Соловьёв и его время. М., 1990. С. 250. 18 Там же. С. 250. 19 Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С. 868 20 Там же. С. 869. 21 Тимофеева М.К. Гностицизм и христианство // Апокрифы древних христиан. М., 1989. С. 168–169. 64 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 УДК 17 ББК 87.73(2) С.Г. ПИЛЕЦКИЙ Ярославская государственная медицинская академия ИДЕЯ ВОЗМЕЗДИЯ И УЧЕНИЕ В.С. СОЛОВЬЁВА Поставлена задача вычленить и высветить в творчестве В.С. Соловьёва идею возмездия, божественного и людского, как проекцию акта высшей справедливости. Идея возмездия – основной регулятор межличностных отношений и фундаментальный принцип социального гомеостазиса. Обосновывается положение о том, что окончательное своё разрешение он может найти лишь в цельной метафизической системе, в рамках теодицеи. Принцип возмездия анализируется через призму сопоставления с полярным ему учением «непротивления злу насилием», доказывается утопичность и практическая опасность этого учения. This article has an aim of isolating and enlightening in V.S.Solovyov’s works the idea of retribution, divine and human, as the projection of the act of high justice. The idea of retribution – the main regulator of the interpersonal relationships and the fundamental principle of the social homeostasis. The author agrees with Vladimir Solovyov that the final decision of it can be found only in complete metaphysical system, in the frame of the theodicy. In the article the principle of retribution is analyzed through the prism of comparison to the polar teaching «non-resistance to evil», where its utopian and practical danger are proved. Ключевые слова: метафизика, добро, зло, возмездие, христианство, теория «непротивления злу насилием». Keywords: metaphysics, the good, the evil, retribution, the Christianity, the theory of «nonresistance to evil». Помнится, в школе мы писали сочинение на тему: «Должно ли быть добро с кулаками?» Не знаю, как другие, но я горячился, пытался доказать, что да – должно. Для меня это было совершенно ясно: пусть и не как аксиома, так, по крайней мере, как многократно доказанная теорема. Никакие доводы, что, мол, добро, когда оно «с кулаками», превращается в свою противоположность – не убеждали. И, естественно, в те годы я, как мог, рассматривал эту архиважную мировоззренческую проблему не просто со светских, но и с атеистических соображений. Но знал, что есть и другая система нравственных координат, другая система межличностных отношений – евангелистская, «краеугольным камнем» и знаменем коей высилась Нагорная проповедь Христа. Следует заметить, что своего мнения с тех времён я на данный сакраментальный вопрос ничуть не изменил. Мало того, ещё более окреп в нём, взирая на него как с высоты прожитых лет, так и с высоты приобретённых с тех пор знаний. Скажу даже больше: знания эти позволяют с полным на то основанием утверждать, что в вопросе сем я приобрёл весьма авторитетного союзника – Владимира Сергеевича Соловьёва. В его «Трёх разговорах», – на мой взгляд, его лучшем произведении – даётся предельно обстоятельный и практически безупречный анализ стародавней проблемы соотношения и немирного сосуществования добра и зла в мире. И что немаловажно: уже исключительно с христианских позиций. Буквально в самом начале предисловия он пишет: «Есть ли зло только естественный недостаток, несовершенство, само собою исчеза- С.Г. Пилецкий. Идея возмездия и учение В.С. Соловьёва 65 ющее с ростом добра, или оно есть действительная сила, посредством соблазнов владеющая нашим миром, так что для успешной борьбы с нею нужно иметь точку опоры в ином порядке бытия? Этот жизненный вопрос может исследоваться и решаться лишь в целой метафизической системе»1. Как известно, остриё соловьёвской критики по этому вопросу направлено в первую очередь против нового к тому времени и становившегося всё более популярным учения «царства Божия на земле» – «нового евангелия», христианства без Христа. Автор его в «Трёх разговорах» напрямую не указывается, но мы-то хорошо знаем, что речь идёт о Льве Николаевиче Толстом и его многочисленных на рубеже XIX–XX веков идейных сподвижниках. Вот с чего Владимир Сергеевич начинает своё исследование: «Много лет назад прочёл я известие о новой религии, возникшей где-то в восточных губерниях. Эта религия, последователи которой назывались «вертидырниками» или «дыромоляями», состояла в том, что, просверлив в каком-нибудь тёмном углу в стене избы дыру средней величины, эти люди прикладывали к ней губы и много раз настойчиво повторяли: «Изба моя, дыра моя, спаси меня!» Никогда ещё, кажется, предмет богопочитания не достигал такой крайней степени упрощения. Но если обоготворение обыкновенной крестьянской избы и простого, человеческими руками сделанного отверстия в её стене есть явное заблуждение, то должно сказать, что это было заблуждение правдивое: эти люди дико безумствовали, но никого не вводили в заблуждение; про избу они так и говорили – «изба», и место, просверленное в её стене, справедливо называли «дырой». Но религия дыромоляев скоро испытала «эволюцию» и подверглась «трансформации». И в новом своём виде она сохранила прежнюю слабость религиозной мысли и узость философских интересов, прежний приземистый реализм, но утратила прежнюю правдивость: своя изба получила теперь название «царства Божия на земле», а дыра стала называться «новым евангелием», и, что ещё хуже, различие между этим мнимым евангелием и настоящим, различие совершенно такое же, как между просверленной в бревне дырой и живым и целым деревом, – это существенное различие новые евангелисты всячески старались и замолчать, и заговорить»2. И чуть дальше идёт ещё одно существенное место: «Если даже по немощи человеческой эти люди испытывают неодолимую потребность опереть свои убеждения кроме собственного «разума» на какой-нибудь исторический авторитет, то отчего бы им не поискать в истории другого, более для них подходящего? Да и есть такой давно готовый – основатель широко распространённой буддистской религии. Он ведь действительно проповедовал то, что им нужно: непротивление, бесстрастие, не-делание, трезвость и т.д., и ему удалось даже без мученичества «сделать блестящую карьеру» для своей религии, священные книги буддистов действительно возвещают пустоту, и для полного их согласования с новою проповедью того же предмета потребовалось бы только детальное упрощение; напротив того, Священное Писание евреев и христиан наполнено и насквозь проникнуто положительным духовным содержанием, отрицающим и древнюю и новую пустоту…»3. 66 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 В «Трёх разговорах» задействованы пять персонажей, и В.С. Соловьёв спешит расставить все точки над «i», чтобы не было никаких двусмысленностей и разночтений в смысле идентификации его собственной позиции. «С полемическою задачею этих диалогов связана у меня положительная: представить вопрос о борьбе против зла и о смысле истории с трёх различных точек зрения, из которых одна, религиозно-бытовая, принадлежащая прошедшему, выступает особенно в первом разговоре в речах генерала; другая, культурно-прогрессивная, господствующая в настоящее время, высказывается и защищается политиком, особенно во втором разговоре, и третья, безусловно религиозная, которой ещё предстоит проявить своё решающее значение в будущем, указана в третьем разговоре в рассуждениях г(-на) Z и в повести отца Пансофия. Хотя сам я окончательно стою на последней точке зрения, но признаю относительную правду и за двумя первыми и потому мог с одинаковым беспристрастием передавать противоположные рассуждения и заявления политика и генерала. Высшая безусловная истина не исключается и не отрицает предварительных условий своего проявления, а оправдывает, осмысливает и освящает их… Поэтому и генерал, и политик перед светом высшей истины оба правы, и я совершенно искренно становился на точку зрения и того, и другого»4. Что характерно: и лишь за князем – типичным выразителем «толстовства» и носителем его идей – Владимир Сергеевич Соловьёв никакой правоты и даже сколь-нибудь мало-мальски относительной истины не признаёт. Что лично меня вполне устраивает. А чреватая принципиальнейшими философскими следствиями дискуссия, по сюжету В.С. Соловьёва, начинается с без обиняков поставленного генеральского вопроса: существует теперь или нет христолюбивое и достославное воинство? Вот как он это поясняет: «Я хотел и хочу сказать вот что. Спокон веков и до вчерашнего дня всякий военный человек – солдат или фельдмаршал, всё равно, – знал и чувствовал, что он служит делу важному и хорошему – не полезному только или нужному, как полезна, например, ассенизация или стирка белья, а в высоком смысле хорошему, благородному, почётному делу, которому всегда служили самые лучшие, первейшие люди, вожди народов, герои. Это наше дело всегда освящалось и возвеличивалось в церквах, прославлялось всеобщею молвою. И вот в одно прекрасное утро мы вдруг узнаём, что всё это нам нужно забыть и что мы должны понимать себя и своё место на свете Божием в обратном смысле. Дело, которому мы служили и гордились, что служим, объявлено делом дурным и пагубным, оно противно, оказывается, Божьим заповедям и человеческим чувствам, оно есть ужаснейшее зло и бедствие, все народы должны против него соединиться, и его окончательное уничтожение есть только вопрос времени»5. И тут генерал выкинул «фортель». Была насмешническая издёвка князя: «Неужели вы, однако, раньше не слышали никаких голосов, осуждающих войну и военную службу как остаток древнего людоедства?» Было и весьма умеренное дипломатичное пояснение политика: «Это всё ужасно преувеличено. Никакого такого радикального переворота во взглядах не намечается. С одной стороны, и прежде всегда все знали, что война есть зло и что чем меньше её, тем лучше, а, с другой стороны, все серьёзные люди и теперь понимают, что это есть такого рода зло, которого полное устранение в настоящее время ещё невозможно. Значит, С.Г. Пилецкий. Идея возмездия и учение В.С. Соловьёва 67 дело идёт не об уничтожении войны, а об её постепенном и, может быть, медленном введении в теснейшие границы. А принципиальный взгляд на войну остаётся тем же, что и был всегда: неизбежное зло, бедствие, терпимое в крайних случаях». А он вдруг возьми и заяви: «А что, вы в святцы заглядывали когда-нибудь?» Чем, надо сказать, вызвал немалое смущение политика. «Политик. То есть в календарь? Приходилось справляться, например, насчёт именинниц и именинников. Генерал. А заметили вы, какие там святые помещены? Политик. Святые бывают разные. Генерал. Но какого звания? Политик. И звания разного, я думаю. Генерал. Вот то-то и есть, что не очень разного. Политик. Как? Неужели только одни военные? Генерал. Не только, а наполовину. Политик. Ну, опять какое преувеличение! Генерал. Мы ведь не перепись им поголовную делаем для статистики. А я только утверждаю, что все святые собственно нашей русской церкви принадлежат лишь к двум классам: или монахи разных чинов, или князья, то есть по старине, значит, непременно военные, и никаких других святых у нас нет – разумею святых мужского пола. Или монах, или воин»6. Великолепно, не правда ли. Бывает такая деталь, такой «штришок», который бьёт наповал, который многих страниц текста и многих десятков аргументов стоит. Каким бы это, спрашивается, образом могло туда попасть столько воинов предпочтительно перед всеми мирными, гражданскими профессиями, если бы всегда смотрели на военное дело как на всего лишь терпимое зло? Сдаётся, пацифисту, не обременённому атеизмом, будет ответить крайне сложно. Но дальше события пошли разворачиваться стремительно. В разговор вступил г (-н) Z и тут же вызвал страстное недоумение князя: «Как? Вы сомневаетесь в том, что война и военщина – безусловное и крайнее зло, от которого человечество должно непременно и сейчас же избавиться? Вы сомневаетесь, что полное и немедленное уничтожение этого людоедства было бы во всяком случае торжеством разума и добра? Г (-н) Z. Да, я совершенно уверен в противном. Князь. То есть это в чём же? Г (-н) Z. Да в том, что война не есть безусловное зло и что мир не есть безусловное добро, или, говоря проще, что возможна и бывает хорошая война, возможен и бывает плохой мир»7. Потом шёл «толстовский» силлогизм, безупречный, по мнению князя: «Всякое убийство есть безусловное зло; война есть убийство; следовательно, война есть безусловное зло». На что Г (-н) Z некстати заметил, что обе посылки, и большая, и малая, ещё должны быть доказаны, так что и заключение ещё висит пока на воздухе. Анализ данного затруднительного положения привёл к показательнодидактической ситуации, сформулированной, кстати, самим князем: когда в пустынном месте какой-нибудь отец видит разъярённого мерзавца, который бросается на его невинную дочь, чтобы совершить над ней гнусное злодеяние, и вот 68 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 несчастный отец, не имея возможности защитить её, убивает обидчика. Таким образом, большая посылка действительно зависла. Стали дотошно разбираться в мотивациях поступка и апеллировать к совести. И тут уже в дискредитацию малой посылки свою лепту внёс генерал, опять совершенно неожиданно заявив: «Ну, если дело в личной совести, так позвольте вам доложить вот что. Я человек в нравственном смысле – как и в других, конечно, – совсем средний, не чёрный, не белый, а серый. Ни особенной добродетели, ни особенного злодейства не проявлял. И в добрых-то делах есть загвоздка: никак не скажешь наверно, по совести, что тут в тебе действует, настоящее ли добро или только слабость душевная, привычка житейская, а иной раз и тщеславие. Да и мелко всё это. Во всей моей жизни был только один случай, который и мелким назвать нельзя, а, главное, я наверное знаю, что тут уже никаких сомнительных побуждений у меня не было, а владела мною только одна добрая сила. Единственный раз в своей жизни испытал я полное нравственное удовлетворение и даже в некотором роде экстаз, так что и действовал я тут без всяких размышлений и колебаний. И осталось это доброе дело до сих пор, да, конечно, и навеки останется, самым лучшим, самым чистым моим воспоминанием. Ну-с, и было это моё единственное доброе дело – убийством, и убийством немалым, ибо убил я тогда в какие-нибудь четверть часа гораздо более тысячи человек… Дама. Quelles blagues! А я думала, что вы – серьёзно. Генерал. Да, совершенно серьёзно: могу свидетелей представить. Ведь не руками я убивал, не моими грешными руками, а из шести чистых стальных орудий, самою добродетельною, благотворною картечью»8. И следом шла совершенно потрясающая история, являющаяся эпизодом кавказской кампании русско-турецкой войны 1877–78 годов. История, право слово, жуткая, связанная со зверством башибузуков в армянских сёлах, но одновременно, соглашусь с генералом, неимоверно вдохновляющая исходящим изнутри нравственным чувством – читаешь её и испытываешь истинный катарсис. Естественно, на князя, в отличие от меня, она должного впечатления не произвела. Но тут на помощь пришёл г (-н) Z. «Князь. Кто в самом деле исполнен истинным духом евангельским, тот найдёт в себе, когда нужно, способность и словами, и жестами, и всем своим видом так подействовать на несчастного тёмного брата, желающего совершить убийство или какое-нибудь другое зло, – сумеет произвести на него такое потрясающее впечатление, что он сразу постигнет свою ошибку и откажется от своего ложного пути… Г (-н) Z. Вы в самом деле так думаете? Князь. Нисколько в этом не сомневаюсь. Г (-н) Z. Ну, а думаете ли вы, что Христос достаточно был проникнут истинным евангельским духом или нет? Князь. Что за вопрос? Г(-н) Z. А то, что если я желаю знать: почему же Христос не подействовал силою евангельского духа, чтобы пробудить добро, сокрытое в душах Иуды, Ирода, еврейских первосвященников и, наконец, того злого разбойника, о котором обыкновенно как-то совсем забывают, когда говорят о его добром то- С.Г. Пилецкий. Идея возмездия и учение В.С. Соловьёва 69 варище?.. Выходит, по-вашему, что он не был достаточно проникнут истинным евангельским духом, а так как дело идёт, если не ошибаюсь, о Евангелии Христовом, а не чьём-нибудь другом, то у вас оказывается, что Христос не был достаточно проникнут истинным духом Христовым, с чем я вас и поздравляю»9. И уже в третьем разговоре, поскольку во втором все словесные баталии шли по преимуществу относительно вопросов внешнеполитических, привязанных к событиям того времени, наступает развязка. Толчком к ней послужила мысль г (-на) Z, что прогресс, то есть заметный ускоренный прогресс, есть всегда симптом конца. Не медля поясняя, что имеет в виду конец человеческой истории. И тут князь повёл себя в высшей степени странно. «Князь. Вероятно, вы и антихриста не оставите без внимания? Г (-н) Z. Конечно – ему первое место. Князь (к даме). Извините, пожалуйста, у меня ужасно много дел совсем неотложных, так что, при всём желании послушать о таких интереснейших вещах, я должен отправиться к себе… Генерал (смеясь). Знает кошка, чьё мясо съела! Дама. Как вы думаете, что наш князь – антихрист? Генерал. Ну, не лично, не он лично: далеко кулику до Петрова дня! А всётаки на той линии. Как ещё у Иоанна Богослова в писании сказано: вы слышали, детушки, что придёт антихрист, а теперь много антихристов. Так вот из этих многих, из многих – то…»10. А затем уж настала очередь г (-на) Z вставить и своё слово: «Генерал. Положение в самом деле тяжёлое: Духа Христова не имея, выдавать себя за самых настоящих христиан. Г (-н) Z. За христиан по преимуществу при отсутствии именно того, что составляет преимущество христианства. Генерал. Но мне думается, что это печальное положение и есть именно положение антихристово, которое для более умных или чутких отягощается сознанием, что ведь в конце концов кривая не выведет. Г (-н) Z. Во всяком случае, несомненно, что то антихристианство, которое по библейскому воззрению – и ветхозаветному, и новозаветному – обозначает собой последний акт исторической трагедии, что он будет не простое неверие, или отрицание христианства, или материализм и тому подобное, а что это будет религиозное самозванство, когда имя Христово присвоят себе такие силы в человечестве, которые на деле и по существу чужды и прямо враждебны Христу и Духу Его»11. Далее следовали представленные г (-ном) Z саркастически-сатирические стихи Алексея Константиновича Толстого, посвящённые человеку, не знавшему пределов своей кротости и не только прощавшему всякую обиду, но и отвечавшему на всякое новое злодеяние новыми и большими благодеяниями – камергеру Деларю. О технико-поэтической их части – судить не берусь, но философский смысл в них и значителен, и доходчив. Ну, и в заключение – «фанфары» и апофеоз – краткая повесть об антихристе, сильная своей эсхатологией и несильная своими историческими привязками и подробностями. Словом, цельная и стройная концепция метафизики зла и оправдания добра, совершенно перпендикулярная учению «толстовства». 70 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Завершить статью вознамерился, в свою очередь, явным и недвусмысленным выражением личной позиции в адрес толстовской теории «непротивления злу насилием». Ясно, что это социальный романтизм, идеализм, но идеализм, на мой взгляд, весьма небезопасный. Возьмёшь его как руководство к действию, наберёшь сподвижников, захочешь через какое-то время подравнять ряды, но так и не сможешь найти грудь четвёртого человека – выкосят население. Бывают, конечно, такие тонкие и воздушные натуры, что даже тени не отбрасывают, но вот именно таких романтиков злые реалисты порешат в самую первую голову. Уж тогда лучше «донкихотство», пусть себе иронизируют, что, мол, он подвигов не совершил, но погиб, идя на подвиг. Уж лучше искренне с ветряными мельницами сражаться, чем искренне обречённо идти на заклание с понурой головой. В этой связи я тоже имею желание обратиться к творчеству Алексея Константиновича Толстого. Не к поэтической, правда, а вполне прозаической его части. Это роман «Князь Серебряный». Там есть один презанимательный диалог – прямо-таки дидактический диалог. Там выкристаллизовываются позиции если уж и не оформленного «донкихотства» и «гамлетизма», то очень близкие к ним. Это разговор молодого боярина князя Никиты Романовича Серебряного с боярином Борисом Фёдоровичем Годуновым. «…– Видишь ли, Никита Романович, – продолжал Годунов, – хорошо стоять за правду, да один в поле не воевода. Что б ты сделал, кабы примерно сорок воров стали при тебе резать безвинного? – Что б сделал? А хватил бы саблею по всем по сорока и стал бы крошить их, доколе б душу богу не отдал. Годунов посмотрел на него с удивлением. – И отдал бы душу, Никита Романович, – сказал он, – на пятом, много на десятом воре; а остальные всё-таки б зарезали невинного. Нет, лучше не трогать их, князь; а как станут они обдирать убитого, тогда крикнуть, что Стёпкаде взял более Мишки, так они и сами друг друга перережут»12. Здорово. Разумно, толково, прагматично. Обречённого (которому по-толстовски и сопротивляться даже не стоит) всё равно уже не спасти, так самому остаться живу для дальнейших славных дел и ряды лиходеев их же собственными руками изрядно поредить. Такие далеко идут и даже царями становятся. Всё вроде бы правильно, всё вроде бы резонно, но сына своего я не стал бы подобному учить и в пример ставить. Князь Никита Романович куда ближе. Но при этом ни тот, ни другой и в мыслях даже держать не могли, что перед ворами, сложив руки, надо вставать на колени. И что, мол, это хорошо. Читаем Льва Николаевича Толстого: «Непротивление злу не только потому важно, что человеку должно за себя, для достижения совершенства любви, поступать так, но ещё и потому, что только одно непротивление прекращает зло, поглощая его в себе, нейтрализует его, не позволяет ему идти дальше, как оно неизбежно идёт, как передача движения упругими шарами, если только нет той силы, которая погасит его. Деятельное христианство не в том, чтобы делать, творить христианство, а в том, чтобы поглощать зло»13. Неисправим Лев Николаевич: романтичен, идеализирует. Я всё же не так строг: не полагаю-таки его учение за антихристианство. Что ты будешь делать, С.Г. Пилецкий. Идея возмездия и учение В.С. Соловьёва 71 если неисправимого идеалиста поразила вдруг самая что ни на есть физическая качка просто обычных, упругих, вполне материальных, на одну ниточку привязанных, металлических шаров. Бум – себе – бум. Слева – направо, справа – налево. Забавно. Ну и пусть себе бы шатались, пока не успокоились бы. Но ведь делаются мудрёные, замысловатые выводы. Я бы сказал так: надо одуматься, опомниться, не стоит так верить сладко-вязкому, притягательному «абстрактному гуманизму». Во-первых, приторно, патко, не шатко, не валко; во-вторых, непременно подведёт. Если вы уж и впрямь – искренний, витающий в облаках, гуманист, так уж, по крайней мере, надлежит знать: поглотив зло, в лучшем случае сами станете злее, а в худшем – это будет последнее ваше поглощение. Да и потом зло, скорее, поглотит вас, нежели вы его – силы несоразмерны – не стоит тешить себя утопическими иллюзиями, лучше сразу утопиться. К сожалению, мир таков, история мира такова, да и сами мы таковы, что никак не даёт оснований обольщаться сей не по-детски опасной игрой «едока со съедобным». Получается почти как по Э. Фромму: выбирай, но аккуратно – иметь или быть… имеемым. Нельзя забывать, что зло имеет такую конституционную особенность, как концентрироваться, аккумулироваться, наращивать свою мощь и распространяться. Здесь не только слабость не прощают, «джентльменство» не ценят, но саму уступчивость и миролюбие воспринимают не как иначе, как показатель недееспособности и слабости. Хотя нет: готовый стойко переносить издевательства, мучения и самую смерть, опустивший руки перед злом миротворец, без всякого сомнения, будет взвешен, оценён и возблагодарён, но особым образом. Можно сказать, что такие злом даже искренне любимы (о такой любви говорят – «я вас любил, но странною любовью…»): из разряда потенциальных борцов с ним они переходят в разряд добровольно сложивших головы, из сражающихся в сражаемых, превращаются в съестное, переламываются, перемалываются, перекручиваются, перевариваются, наращивая тем самым энергетический потенциал зла, и уже недобровольно становятся пособниками его усиления и распространения. Сам же Лев Николаевич сокрушался по поводу того, что раз плохие люди в своих делах объединяются, то от чего же бы и хорошим не объединиться, ведь хороших-то в мире больше. Так вот и подумайте: если одна часть из хороших, нравственных, честных людей будет обречена на неминуемую смерть и без всякой жалости и пиетета истреблена, а другая часть разобщена, дезорганизована и деморализована, так извините за выражение – что ж в этом хорошего?! В противостоянии «беспринципной силы» и «бессильного принципа» кто одержит верх – догадаться не сложно. Кодекс непротивления злу насилием – кодекс с «остовом», «каркасом» нестойким, шатким, с «материей» в нём тончайшей, воздушной, быть может, даже безвоздушной, невесомой. Говоря словами Ф.М. Достоевского, из «неэвклидовой геометрии». Так к ней и следует относиться: умиляться, любоваться, восхищаться, даже гордиться где-то – ишь ведь до чего дух человеческий дойти может. Прямо-таки почти недосягаемая высота духовного роста! Но ни пробовать, ни повторять ни в коем случае не надо – чрезвычайно вредно для здоровья. Иногда даже несовместимо со здоровьем. Принцип этот надо воспринимать как некий исключительно умозрительный идеал и исключительно вос- 72 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 торженную мечту. Но если и мечту, соглашусь, то непременно несбыточную, а если и идеал, то непременно тот, о котором можно погрезить кое-кому в лунную безветренную ночь, но стремиться к которому, призывать к которому, пытаться хоть как-то реализовать который чрезвычайно и в высшей степени опасно. Как только начнёшь им руководствоваться, претворять в жизнь практически, да, не дай Бог, организованно и массово, он как мифический двуликий Янус хитро оборачивается своей противоположностью – натворишь таких бед, прольёшь столько невинной крови и материнских слёз, что никакому Навуходоносору и не снилось. Игры забываются, результаты остаются. Не будем и мы в свою очередь забывать избитую, «кряжистую», истину: «дорога в ад вымощена благими намерениями». Представляете, какое неимоверное количество мерзких, чудовищных, леденящих до жути душу кровавых преступлений (я даже не имею в виду малые и большие войны) за всю историю человечества разными подонками и негодяями совершено, какой неимоверной ценой за них заплачено. А представляете, какое неимоверное количество не менее чудовищных и кровавых преступлений не совершено и только исключительно из-за страха наказания, из-за страха справедливого возмездия. И хотя страх зачастую – плохой советчик, но в данном случае сыграл просто-таки неоценимую роль в спасении многих десятков, а то и сотен миллионов людей. Говорят: «кабы молодость знала, кабы старость могла…» Это же надо знать каждому – и стару, и младу. Подобное знание ведёт к здоровому консерватизму, а незнание – к могиле. Кстати, это отчасти перекликается с известным изречением сэра Уинстона Черчилля: «Кто в молодости не был либералом – у того нет сердца, тот же, кто в зрелом возрасте не стал консерватором – у того нет ума». «Сердечный» парадокс, однако, в том, что можно поступить правильно, а потом всю жизнь жалеть о принятом решении. Вот такие любопытные нравоучения получаются: мои и Владимира Сергеевича Соловьёва, а точнее – Владимира Сергеевича Соловьёва и мои. Примечания 1 Соловьёв В.С. Три разговора. М., 1991. С. 5. 2 Там же. С. 6. 3 Там же. С. 8. 4 Там же. С. 9. 5 Там же. С. 16–17. 6 Там же. С. 19–20. 7 Там же. С. 23–24. 8 Там же. С. 36–37. 9 Там же. С. 46–48. 10 Там же. С. 104–105. Там же. С. 107–108. 12 Толстой А.К. Князь Серебряный. Стихотворения. Баллады. М., 1988. С. 91. 13 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. В 190 т. М., 1953. Т. 53. С.197. 11 73 Н.П. Крохина. Эсхатологический символизм А. Белого УДК 801.73 ББК 83(2=Р)5 Н.П. КРОХИНА Шуйский государственный педагогический университет ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ СИМВОЛИЗМ А. БЕЛОГО Рассматривается эсхатологическое своеобразие философско-эстетической мысли А.Белого и важнейшие аспекты его эсхатологического символизма: тема кризисов, теория символизма как теория творчества и проблема символа, апокалиптическая борьба человека-творца, новая творческая эсхатология (сближающая Белого с Н.А. Бердяевым), «религия творчества жизни» и авангардный радикализм отношения к искусству. Идеи Белого сопоставляются с космоцентризмом и онтологизмом Вяч. Иванова. Мыслители определяют два аспекта русского «теургического» символизма, восходящего к идеям Вл. Соловьёва. The article deals with the eschatological identity of Bely’s philosophical and aesthetic thought and the key aspects of his eschatological symbolism: the Subject crises, the theory of symbolism as a theory of creativity and problem character, apocalyptic struggle of man creator, the new creative eschatology (Bringing Bely closer to N.A. Berdyaev), «religion is the life of creativity and avant-garde radicalism relation to art. Bely’s ideas are compared with V. Ivanov’s cosmocentrism and ontologism. The thinkers define two aspects of Russian «theurgic» symbolism, dating back to Vl.Solovyov’s ideas. Ключевые слова: активно-творческий эсхатологизм, апокалиптика, кризис культуры, символизм как миропонимание. Key words: active and creative eschatology, apocalyptic, the crisis of culture, symbolism as the view of the world. 1. Эсхатологический аспект мифомышления. Кардинальное свойство мифологического сознания, наряду с космоцентризмом, обострённым ощущением иррациональных первооснов бытия, основной антиномичности всех вещей, – эсхатологизм, бунт против времени, стремление вырваться за пределы малого времени, эмпирического существования, бытовой и конкретно-исторической действительности. Как писал М. Элиаде, «миф вырывает человека из его времени ..., реализует доступ к большому времени»1. Эсхатологический аспект мифомышления составляет ядро русского символизма, который создавали новые души, мыслящие глобально-историческими категориями, люди всемирной культуры, причастные всем векам и народам. Культура Серебряного века реализовала универсальность и всечеловечность русского человека, синтетическую природу русского национального склада. Человек рубежа веков был «охвачен чувством вознесённости над историей, потому что время свернулось», как патетически утверждал А. Белый2. «В душе нового человека перекрещиваются наслоения разных великих эпох: язычество и христианство, древний бог Пан и новый Бог, умерший на кресте, греческая красота и средневековый романтизм…Душа раздваивается, усложняется до последнего предела, идёт к какому-то кризису, желанному и страшному», – характеризовал своего современника Н.А. Бердяев3. Мировым, макроисторическим масштабом измеряется здесь личная и национальная судьба. Этот культурфилософский эсхатологизм был органической чертой личности и творчества Вяч. Иванова, который, по 74 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 определению Н.А. Бердяева, был «не столько “натура”, сколько “культура”, он жил в отражениях культурных эпох прошлого»4. Вслед за Ницше, его мысль питалась идеей нового возрождения Древней Греции, дионисийского мифа. Как теоретик нового театра, он помышлял о возобновлении форм античной драмы, о возвращении театра к своим мистериальным, религиозно-дионисийским первоистокам. А. Белый в высшей степени недоверчиво относился к новейшим теоретикам драмы с их «подозрительными» призывами к мистерии, с их попытками восстановить «священнодействие» в современном театре5. Для него заявления о новом театре как «храме», превращающем зрителя в участника действа и хора, о воскресении «свободного мифотворчества» – это «риторика», нелепая бутафория (Арабески. С. 26, 28, 30). Белый был прав в своей критике утопизма теоретиков соборного действа. Его позиция была более радикальна. «Человечество подходит к мистерии, которая никогда не снилась древним грекам»: «мифический символизм превращается в символизм эсхатологический» (Ар. С. 41, 34). Эсхатологический символизм Белого дополняет «мифический символизм» Вяч. Иванова. Колоссальный живой символ для Белого являл не Дионис, а Апокалипсис: «Солнечный град новой жизни…– вот колоссальный живой символ. И Апокалипсис, и огонь социал-демократии, и Ницше, и все религии по-разному подходили к этому обетованию» (Ар. С. 33). К раскрытию этого обетования обращена художественная и философско-эстетическая мысль Белого. В ощущении себя «на границе двух больших периодов развития человечества» (Ар. С. 242), в остром чувстве наступления нового катастрофического времени люди рубежа веков создают дионисийско-эсхатологический вариант художественного мифомышления. От Вл. Соловьёва через Д.С. Мережковского и А. Белого к Н.А. Бердяеву протягивается линия перехода от исторического к апокалиптическому христианству и эсхатологической философии свободного, творчески-активного духа. От Достоевского через В. Розанова и Вяч. Иванова идёт линия обращения к христианству мистическому, евангельскому, его дионисийским истокам и самому дионисийству. В символизме самым ярким выразителем эсхатологических настроений с их чувством конца и жаждой нового бытия, нового творчества был Белый с его пониманием культуры как теории творчества, творчества новой жизни. Противоположный полюс символистского мифомышления являл дионисизм Вяч. Иванова, для которого культура – это культ памяти, вечное возрождение всего жизненно-ценного в прошлом. Ивановская эстетика символа и мифа, предвосхищающая юнгианскую теорию коллективного бессознательного, обращена к бессознательным истокам творчества как началам коллективным, мифотворческим, архетипической памяти поэта-символиста. Она акцентирует дионисийские аспекты символамифа: его тяготение к сверхлично-универсальному самоопределению творческой личности и к антиномии, основной двойственности всех вещей. А. Белый связывает искусство с эсхатологической борьбой человека-творца. Своими программами Вяч. Иванов и А. Белый определяют два течения внутри русского «теургического» символизма, его дионисийские и эсхатологические аспекты. Ценности первого – универсализм, космоцентризм, возвращение к бытию, чувство бытийности с его трагическим антиномизмом, стихийная память по- Н.П. Крохина. Эсхатологический символизм А. Белого 75 эта-мифотворца, «органа Мировой Души», проникновение в сущность вещей. Теургический принцип для Иванова – принцип «наибольшей восприимчивости»6. Ценности второго – катастрофическое чувство жизни, жажда нового бытия, творческое преображение действительности, творчество, свобода, дух, человек-творец в его борьбе с роком и временем. В блоковском творчестве осуществляется синтез этих полюсов символистского мифомышления. Н.А. Бердяев называл А. Белого «самой характерной фигурой эпохи, более характерной, чем Вяч. Иванов, который был связан с культурными эпохами прошлого». Белый «отражал все духовные настроения и искания эпохи»7, и пошатнувшийся образ человека, и катастрофическое чувство конца, и новый, активно-творческий эсхатологизм. 2. Тема кризисов. Кризисное, апокалиптическое мироощущение было первичной данностью эпохи рубежа веков: человеческий мир идёт к концу и новому рождению. Но особенно сильно оно окрашивало искания русской культуры предреволюционного времени, что позволило Н.А. Бердяеву писать о русском человеке как апокалиптике и нигилисте. «Всё в современном мире находится под знаком кризиса», – писал Бердяев в 1931 г.8 Тема кризисов столь же важна для А. Белого, как и для Бердяева, – кризиса жизни, мысли, личности, культуры, тема распада и разложения. Первичная тема эсхатологического сознания с его катастрофическим чувством жизни – человечество на роковом рубеже; оно умрёт или воскреснет: «Человечество подходит к тому рубежу культуры, за которым либо смерть, либо новые формы жизни» (Ар. С. 59). Для Белого очевидно: «В человечестве идёт борьба вырождения с возрождением. Человеческий вид даст новую разновидность – или погибнет» (Ар. С. 64). Своих вдохновителей Белый называл «апокалиптиками», акцентируя в творчестве Ницше, Достоевского, Ибсена, Вл. Соловьёва, Д.С. Мережковского главную для него тему конца, кризиса, смерти или воскресения. «Смерть или воскресение: вот пароль Ницше» (Ар. С. 62) для Белого. Его творчество возвещает «гибель старых богов и ветхого человека» и предощущает «нового человека» (Ар. С. 77, 64). Ибсен, показывая своих Рубеков, говорит то, что знает: «будет день, и мёртвые проснутся» (Ар. С. 36). Вяч. Иванов называл душу русского символизма «пророчественной»9. «Пророчества» Иванова и Белого, по-разному переживаемые и формулируемые, – это была речь об одном. Это было равное, вслед за Ницше и Вл. Соловьёвым, ощущение конца сократического человека, конца аналитического периода. У Белого речь идёт прежде всего о кризисе рационализма, у Иванова – о кризисе индивидуализма, субъективистского отрыва от мира (порождающего субъективный символизм). Сократический человек подчинил «ритм жизни пустой форме» (Ар. С. 13). Аналитические методы науки привели к «великому, предельному разложению мира», «герой распался на созерцателя и делателя» (Ар. С. 46, 52). Современный человек разложился «на мертвеца и дикаря». «Творческая борьба распалась на жизнь и творчество изделий» (Ар. С. 14, 12), а личность на омертвевшее сознание и тёмную, иррациональную стихию бессознательного. «Остаётся сложить руки, комфортабельно усесться в своём кабинете – уснуть, умереть» (Ар. С. 46). Перед человеком и культурой стоит трагический выбор: 76 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 или смерть, или новые формы жизни и творчества. Апокалипсис для Белого при дверях: «Мы изменимся или умрём» (Ар. С. 41), «бестворческое знание господствует в нашей культуре. Стало быть, ей грозит смерть» (Ар. С. 43). Аналитическая культура делает всё более острым и недопустимым разрыв между бестворческим знанием, порождающим мёртвого человека от культуры, «мёртвую жизнь и мёртвые формы творчества» (Ар. С. 21), и хаосом бессознательного. «Человечеству грозит смерть…Человек вырождается» (Ар. С. 43) – Белый приковывает внимание к этому порубежному состоянию современного человека. Опасность смерти и вырождения двойная: это смерть от культуры, омертвение её форм, при котором «человек превращается в машину» (Ар. С. 19), становится функционером. «Механизм среды…вместо людей, выбросил миллионы марионеток» (Ар. С. 46). Всякое олицетворение образа и подобия героя, т.е. человека-творца исчезло из культуры, по Белому. Вторая опасность – реакция хаоса на это омертвение человека. Первая смерть современной культуры – её внутреннее омертвение, вторая опасность – опасность варваризации. Эти два кризиса современной культуры и человека – в центре внимания Белого-романиста, автора «Серебряного голубя» и «Петербурга». Опасности смерти и варваризации – реальные опасности человечества на заре цивилизации. «Теперь, на закате культуры опять закипела борьба» личности с напором хаоса и безличия за выход «за ограду культурного кладбища» (Ар. С. 15). Культурфилософская тема кризисов находила своё конкретно-историческое выражение в историософской концепции России у Белого, обречённой на гибель и жаждущей воскресения, развёрнутой в «Петербурге» в изображении всеобщего распада, разрушения личности и её связей с миром. В этом ощущении своей эпохи на роковом рубеже Белый проводит непереступаемую грань между старым и новым искусством, писателями XIX века и рубежа веков. «Всюду там – непрерывность и плавность и кинематографические скачки – здесь..., судорога душевных движений» (Ар. С. 6). Традиционное искусство – это искусство с «непроизвольным» символизмом. В новом искусстве появляется «сознательный» символизм, писатель становится символистомапокалиптиком: «Символическая драма не драма, а проповедь великой, всерастущей драмы человечества. Это – проповедь о приближении роковой развязки» (Ар. С. 30, 37). Но Апокалипсис – книга не только о конце света, но также книга о преображении, новой земле и новом небе, книга надежды, грядущего света. Важнейшее свойство эсхатологии Белого – её позитивная направленность, поиск новых ценностей, взамен рухнувших старых. «Мы подслушиваем в себе трепет нового человека; и мы подслушиваем в себе смерть и разложение..., наша душа чревата будущим: вырождение и возрождение в ней борются» (Ар. С. 242). Подобно Н.А. Бердяеву, он мог бы характеризовать свой эсхатологический символизм: «Я исповедую активно-творческий эсхатологизм, который призывает к преображению мира…Нужно творчески-активно понимать эсхатологию»10. Русская экзистенциальная мысль начала века создавала новую творческую эсхатологию, утверждая тем самым новое искусство и новую философию, осуществляя переход от истории к метаистории. Символ для Белого – «окно в Вечность» (Ар. С. 228). Н.П. Крохина. Эсхатологический символизм А. Белого 77 По мысли Н.А. Бердяева, «мы наиболее прорываемся к концу в катастрофические минуты нашей жизни и жизни исторической»11. Календарному времени противопоставляется «музыкальное» время (А. Блок). 3. Главная ценность – творчество. В центре внимания А. Белого – культурологическая проблематика: проблема ценностей, творчества, символа. Искомая им теория должна была их связать: «Теория ценностей есть теория творчества. Это и есть теория символизма» (Ар. С. 31). «Пророчественная» душа русского символизма в лице Вяч. Иванова, А. Белого, А. Блока устремлена к тем грядущим векам, реальностью которых станет новая стадия развития культуры, для которой у них находятся разные по формулировкам, но единые по сути определения, – это новая органическая эпоха синтетической культуры. По Белому и Бердяеву, главной ценностью этой грядущей культуры будет творчество, человек-творец. «Ценностью только и может быть энергия творчества» (Ар. С. 22). Насколько миф был главной категорией для Иванова (движение от символа к мифу), настолько главной категорией Белого является творчество. С творчеством связывался поиск новой жизни, абсолютной реальности и ценности. «Только в творчестве остаётся реальность, ценность и смысл жизни» – ядро позиции Белого12. Центральная тема эстетики Вяч. Иванова – «мифотворческое увенчание символизма», центральная тема Белого – увенчание творческое и жизнетворческое. Для Иванова поэт – это провидец, наделённый всемирным чувством, проникающий в онтологическую сущность вещей. А. Белый сочетает искусство с эсхатологической борьбой человека-творца, с пересозданием, преображением мира творчеством (во многом предвосхищая апокалиптический пафос русского авангарда, творчество В. Кандинского и К. Малевича с их поиском новых высших реальностей для искусства). В своём утверждении творчества как высшей ценности позиция Белого очень близка целостной эсхатологической философии свободного, творчески активного духа Н.А. Бердяева. Оба мыслителя – наследники теургических идей Вл. Соловьёва. В утверждении творчества Белый и Бердяев дословно перекликаются друг с другом, связывая подлинную жизнь с творчеством, а последнюю цель искусства с пересозданием жизни; обосновывая символическую сущность культуры и искусства, а также эсхатологическую сущность творчества. Постановка проблемы творчества вела Белого к культурологической проблематике, проблемам глубокой семиотики, а с другой стороны, свои главные устремления в атмосфере поисков нового религиозного синтеза переживались Белым как новое решение вечных религиозных вопросов: «Мы по-новому глядим в лицо религиозной проблеме...; смысл может иметь лишь оправдание во взгляде на жизнь как на творческий процесс: только такой трансцензус и возможен», «творчество предстаёт нам как действительный корень бытия» (Ар. С. 182, 167). В этом творческом оправдании человека и жизни, пронизывающем новоевропейскую культуру, выявлял себя потенциал христианской традиции. Новый трансцензус творчества, активно-творческий эсхатологизм вёл к новому пониманию природы искусства. 4. Художник – творец нового мира. Если Вяч. Иванов расслышал у Ницше призыв к Дионису, древу жизни, Белый – к новому человеку («к герою призывал 78 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Ницше» (Ар. С. 11)). Для него древо жизни обреталось в апокалиптической борьбе человека-творца. Этот героический пафос первоначально окрашен в его исканиях светом необычайного, теургического служения. Юные «аргонавты» видели «зори» близкого мирового преображения и начала новой эры. Глобальноисторический пафос обновления оказался преждевременным, но на волне этого небывалого творческого подъёма начала века Белый открывал для себя новое видение действительности. Личность-герой-творец противостоит «безлично несоединённой, разлагающейся жизни». Герой борется с ночью безобразного, хаосом и стихией безличного, «мёртвым ликом культурного человека» (Ар. С. 11) – двумя главными опасностями современной культуры. Не с праобразом Диониса, а с праобразами Прометея и Орфея связывает Белый культурную деятельность и искусство. «Свет культуры – отблеск Прометеева огня, действительного огня действительного героя» (Ар. С. 14). Орфей вызывает в мир действительности «новый образ, не данный в природе» (Ар. С. 24), творит новый мир. Жизнь для Белого – «трагедия» (Ар. С. 16), апокалиптическая борьба героя с роком, окружающей действительностью и временем. Эту борьбу и победу над роком призвано отобразить искусство. «Художник в борьбе с роком неустанно» (Ар. С. 20). Связывая искусство с эсхатологической борьбой человека-творца, Белый превращал свой первоначальный религиозно-ожидательный «аргонавтизм» в новую творческую эсхатологию, утверждающую новое понимание искусства: «Жизнь в творчестве побеждает рок…Пространством и временем задавил нас тяжёлый рок. Но в духе преодолели мы все пространства и в духе преодолели мы все времена…Искусство должно учить видеть Вечное» (Ар. С. 18–19, 226). Мир для Белого расколот на поверхность жизни, сон жизни, на жизнь безличную, стихийную, несоединённую и новый мир творчества. «Цель искусства – взорвать сон жизни» (Ар. С. 47). Белый и Блок зовут человека стать творцом. У Блока сну жизни противостоит тайный смысл, музыкальная сущность мира, доступная человеку-творцу. Центральная тема мифотворческой эстетики Вяч. Иванова – возвращение к бытию, чувство бытийности, мировое чувство. Центральная тема эсхатологической эстетики Белого – проблема бытия подлинного и ценного, новой жизни, преображённой творчеством. «В душе художника – новая земля и новое небо» (Ар. С. 48). Искусство – раскрытие творческой природы человека. Оно пробуждает человека-творца, развивает активно-преобразовательное отношение к действительности, творит новый мир. Эсхатологическое понимание искусства определяет творчество Белого, Блока, М. Цветаевой. Целостную эсхатологическую философию создаёт Н.А. Бердяев, развивая идеи Вл. Соловьёва. Космическая гармония в этом мире невозможна. Есть несовершенная историческая и природная жизнь и высшая сфера свободы и творчества, утверждаемая человеком. «Во всяком моральном акте, акте любви, милосердия, жертвы наступает конец этого мира, в котором царит ненависть, жестокость, корысть. Во всяком творческом акте наступает конец этого мира, в котором царит необходимость, инерция, скованность, и возникает мир новый, мир «иной». Человек постоянно совершает акты эсхатологического характера..., входит в иной мир»13, экзистенциальное время, метаисторию. Н.П. Крохина. Эсхатологический символизм А. Белого 79 Символизм как миропонимание, утверждаемый русскими символистами и теоретиками символизма, с их поисками неохристианского возрождения акцентирует двойственность христианской традиции: онтологизм и пафос мироприятия, восходящий к Ветхому Завету, и апокалиптика неприятия и преображения человека и мира. В теории эту двойственность воплотили Вяч. Иванов и А. Белый. В поэзии Серебряного века явственно присутствуют две линии архаистов и апокалиптиков . Эстетика А. Белого акцентировала субъективно-преобразовательный принцип творчества, эстетика Иванова – объективно-ознаменовательное начало. Для Иванова поэт – провидец сущности вещей, наделённый всемирным чувством, для Белого – творец нового мира. Теория Иванова раскрывает в художественном творчестве момент мифотворческий, откровение высших реальностей. Дальше идёт эсхатологический символизм Белого. Теургическое томление по преображению порождают эсхатологическое понимание искусства и жизнетворческий пафос его исканий. 5. «Религия творчества жизни». Идея творчества у Белого соединена с творчеством жизни. Его призыв к творчеству есть всегда призыв к творчеству жизни: «Жизнь есть творчество…Жизнь надо подчинить творчеству, творчески её пересоздать» (Ар. С. 46). Творческий акт – это не просто создание произведений искусства, для Белого – мёртвых форм, для Блока – «обрывков замыслов, гораздо более великих»14. Творческий акт творит новое бытие, подлинное и ценное. «Искусство есть начало плавления жизни» (Ар. С. 20). Соединяя жизнь и творчество в одно, выдвигая ультраромантический лозунг «Искусство перестаёт удовлетворять. Вместо бездонных образов душа просит бездонной жизни» (Ар. С. 133), Белый доводит до логического конца типично романтическое стремление к соединению творчества с жизнью. Для романтика искусство обладало реальной силой творческого преображения мира и жизни. Соловьёвский пафос синтеза идеала и действительности породил призыв к творческому преображению мира, пересозданию всего бытия, отношений человека и природы, общества и культуры. Силу преображения жизни он находил в искусстве: «Задача искусства в полноте своей состоит в том, чтобы пересоздать существующую действительность». «Аргонавты» пошли дальше. Речь уже идёт не только о преображении жизни искусством, но о творчестве жизни, о переливе творческой энергии из искусства в жизнь, новых творческих возможностях человека. Как человек эпохи заката культуры, Белый возвращается к её истокам, когда творчество жизни, ритм жизни существовали. «Мы разучились летать: мы тяжело мыслим, тяжело ходим, нет у нас подвигов, и хиреет наш жизненный ритм» (Ар. С. 59). В эту эпоху оскудения и жизненного, и мифологического творчества все жизнетворческие функции передоверяются искусству: «искусство – мать нашего устремления к преображению жизни»; «драматический вымысел заражает…творчеством жизни высокой и важной» (Ар. С. 35, 17). Высочайшее напряжение художественного творчества Белый находит в тех формах, которые наиболее непосредственно соприкасаются с жизнью. Таковы музыка и театр. Ритм жизни Белый связывает с «духом музыки» (Ар. С. 47), а драму – с «борьбой и победой над роком», с «призывом к творчеству жизни» (Ар. С. 21–22). Театр 80 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 для него – действительно храм: сценическое действие освещает человеческую жизнь отблеском необычайного, героического, мифического. «Люди здесь становятся существами мифическими…Творческая идея становится для всех жизнью более ценной, нежели данная нам жизнь…Быть может, последняя цель драмы содействовать преображению человека в таком направлении, чтобы он стал сам творить свою жизнь» (Ар. С. 17–18). В отличие от Вяч. Иванова с его идеей новой драмы, возвращающей театр к его древним, литургическим первообразам, для жизнетворческого пафоса Белого вполне достаточно возможностей традиционного театра Шекспира с его «непроизвольным» символизмом, который обязательно выявляет сценическое действие. Наоборот, символистская драма Ибсена с её «сознательным» символизмом не вмещается в пределы театра. Герои Ибсена – «алгебраические знаки какого-то апокалиптического уравнения жизни» (Ар. С. 32). Символистская драма изображает «преображение органов восприятия мира и через то перерождение мира необходимости в мир свободы» (Ар. С. 33). Жизненное задание здесь доминирует над художественной формой, разрушая её, как было в собственном творчестве Белого. В своей попытке, естественной в атмосфере поисков нового религиозного сознания, по-новому решить религиозную проблему через новый трансцензус творчества Белый даёт имя своей новой религии – «религия творчества жизни», призыв к новому человеку и новой жизни: «После Ницше мы уже больше не можем говорить ни о христианстве, ни о язычестве, ни о безрелигиозной культуре: всё объемлет в себе религия творчества жизни» (Ар. С. 78). Имя Ницше как «символиста, проповедника новой жизни…, новых ценностей» ставится Белым в ряд «творцов новых религий» (Ар. С. 76). Творцом или пророком этой новой религии ощущал он и себя. Поэтому задача подлинной жизни для него – первейшая задача. Для Белого новая «религия творчества жизни» была попыткой конкретизировать то теургическое томление, которое пришло в атмосферу рубежа веков с Вл. Соловьёвым, то обетование о Третьем царстве Духа и конце русской литературы, о чём проповедовал Д.С. Мережковский. В творчестве последнего Белый услышал «преждевременный призыв» к новым формам жизни и творчества, потаённо одушевляющий всю русскую классическую литературу. В статье «Апокалипсис в русской поэзии» и др. Белый, как и Бердяев, приходит к апокалиптическому пониманию русской культуры и литературы: «Вопрос, ею поднятый, решается только преобразованием Земли и Неба в град Новый Иерусалим», «рождением из глубин поэзии новой, ещё неведомой миру религии»15. Вслед за Соловьёвым и Мережковским о «новом религиозном сознании Третьего Завета» и неведомом ещё теургическом искусстве размышлял Бердяев в «Философии свободы» и «Смысле творчества». Белого «религия творчества жизни» привела к антропософии, тесно связанной с софиологией16, а Мария Сиверс (жена Р. Штейнера) стала для Белого в 1913 г. новым символом Софии17. Самым очевидным осуществлением этой новой религии, возникающей из глубин нового художественного сознания, является экзистенциальное чувство личности и реальности, которое утверждает искусство и философия ХХ века. К новому христианству как итогу исканий Серебряного века пришёл Б. Пастер- Н.П. Крохина. Эсхатологический символизм А. Белого 81 нак. Религия творчества жизни, лежащая в основе его романа «Доктор Живаго», стирает безысходную антиномию символистского сознания между временным и вечным, малым и великим, бытом и бытием. «Жизнь символична, потому что она значительна», утверждает Пастернак. Новое христианство поэта с его новой постановкой религиозной проблемы как веры в человека (о чём писали и Н. Бердяев, и Э. Фромм) воспринимает как актуальнейшие в жизни вечные евангельские заветы: любовь к ближнему, идею свободной личности, жизнь как жертву, жизнь как вечное возрождение, воскресение и бессмертие. Экзистенциальное чувство личности и реальности обращает человека на творчество своего мира, на жизнь подлинную в мире неподлинном. Но также очевидно, что экзистенциальные ценности не исчерпывают глобально-исторических устремлений русского символизма, русской мысли и литературы к вселенскому преображению жизни, космических чаяний, поисков вселенского сознания. 6. Теоретик авангардизма – конца искусства. Жизнетворческий пафос Белого означал для художника и вечный поиск новых форм творчества, и авангардное самоотрицание искусства. О грядущей гибели, конце мёртвых художественных форм Белый писал недвусмысленно и неоднократно: «Искусство есть временная мера…Формы искусства неудержимо стремятся расшириться…Искусство должно здесь взорваться, исчезнуть, не быть…Новое творчество сольётся с новой жизнью» (Ар. С. 21). Этот конец омертвевших форм начинается для него не в неопределённом будущем, а уже сегодня: «Лучшим из нас…пора распроститься с искусством», «свободное поле жизненного творчества» сменяет творчество форм (Ар. С. 35–36). Эсхатологический пафос творчества, переливающегося за грани художественных форм, вёл к обесценению и разрушению искусства. Теургизм Белого был не теорией, а органическим выражением его мятущейся личности. Его теоретические построения остались в отрывках, а художественное творчество – недовоплощённым (как и его софийный праобраз). Творческая энергия утекала в жизнь. В исканиях Белого эсхатологические настроения сочетаются с авангардным пересозданием действительности, экспрессивным, кубистским, разлагающим и распыляющим человеческий образ художественным сознанием. В своём ощущении кризиса культуры, великой неудачи Новой истории Белый и Бердяев близки теоретикам авангардизма. Кризис классических форм переживался как кризис культуры вообще. Эсхатологический поиск таил в себе авангардно-нигилистическое отношение к культуре, что так ярко выражено в переписке и полемике «из двух углов» 1920 г. Вяч. Иванова и М. Гершензона. В позиции Белого и Бердяева остаётся двойственность: эсхатологический пафос обновления через катастрофы и крест заключал в себе авангардное самоотрицание искусства («Творческий катастрофизм должен прийти к жертвенному отрицанию искусства, но через искусство и внутри искусства»18) и идеи нового искусства и культуры – «теургического искусства – синтетического…пан-искусства»19, которое противоположно редуцирующей сути авангарда. В этом новом синтетическом творчестве соединится субъект и объект, «творческий акт будет созидать новое бытие»20. Классическое искусство сменяется теургическим. Вместо выражения идеальных, символических ценностей перед искусством от- 82 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 крываются новые онтологические возможности. Но наиболее глубоким истолкователем теургического томления эпохи и этих новых онтологических потенций искусства был Вяч. Иванов с его движением от символа к мифу и утверждением мифотворческого искусства. Художественная практика Белого была противоположна этим синтетическим устремлениям и тесно связана с разлагающим авангардным искусством, с пошатнувшимся образом человека в нём. 7. Проблема символа. Двойственность позиции определяет не только концепцию искусства в теоретических исканиях Белого, но и его понимание символа. С символом связана традиционная идеальная природа искусства, которая определяется как символическая природа. У Бердяева: «Все достижения культуры – символические, а не реалистические»21 и у Белого: «Всякое искусство символично в вершинном и глубинном осознании художником своего творчества». И с символом связан поиск нового искусства и культуры: «Символизм…– стройное миросозерцание новой культуры»22, искомая теория творчества. Символ создаёт «связь…между ритмом внешних движений и ритмом движений внутренних» (Ар. С. 7). Символизм – это «метод выражения переживаний в образах», т.е. внутреннего во внешнем. «В этом смысле всякое искусство явно или скрыто символично» (Ар. С. 30). Традиционное искусство, драму Шекспира, например, характеризует «символизм непроизвольный или слишком аллегорический» (Ар. С. 32). Современное искусство, представленное, например, драмой Ибсена, отличает «сознательный» символизм, который для Белого апокалиптичен. Белый точно выделял основу языка символов – это выражение внутреннего во внешнем. Как писал Э. Фромм, вслед за К.Г. Юнгом, «символический язык – единственный универсальный язык, который знает человечество. Это язык древних мифов и язык снов наших современников». В древних обществах, где первой заботой было понимание внутренних переживаний человеческой души, на этом языке говорили и понимали его. Современная культура с утратой сакральности утратила его понимание. «Содержание символического языка принимается за реальные события в царстве вещей, их не трактуют как символическое выражение опыта души»23. Романтики и символисты стремились возродить этот забытый язык, вернуть культуру к её истокам. «Мы ныне как бы переживаем всё прошлое, – писал Белый о специфике культурных исканий своего времени. – Мы действительно осязаем что-то новое, но осязаем его в старом». Духом времени был «порыв создать новое отношение к действительности путём пересмотра серии забытых миросозерцаний»24, чтобы выйти из кризиса культуры в эпоху торжества материальной цивилизации. Идея символа как забытого языка, идея сверхличного символа-мифа, выражения народной души, его национальных традиций – в центре эстетики Вяч. Иванова. Белый не отвергал ивановский тезис о переходе от символа к мифу. Этот путь для него естественно вытекал из самой природы поэтической речи, из органической веры поэта-символиста в реальность своей метафоры-символа: «Творчество наделяет его (новый образ) онтологическим бытием…Символ становится мифом…Поэтическая речь прямо связана с мифическим творчеством»25. Но само слово миф было для него традиционно-архаичным и никак не актуализированным, в отличие от Иванова. Для Белого оно обозначало вчерашний день искусства, как завтрашний день был Н.П. Крохина. Эсхатологический символизм А. Белого 83 связан с эсхатологическим творческим актом. Мифотворчество для него – внешнее обозначение теургии, его собственного «эсхатологического символизма», как трагизм (о котором также много размышлял Иванов) – «формальное определение апокалиптической борьбы»26. Белый связывал символ с эсхатологической борьбой героя-творца: «Символ есть соединение двух порядков последовательностей: последовательности образов и последовательности переживаний, вызывающих образ…В тот момент, когда душа претворила бы видимость по образу и подобию своему, совершилась бы победа над роком» (Ар. С. 31). Из категории культурологической символ становится сакральным эсхатологическим знаком. Белый не принимал ивановского разделения символизма на объективно-реалистический и субъективно-ассоциативный («Две стихии в современном символизме»). «Символ всегда реален, потому что символ всегда музыкален» (Ар. С. 56), т.е. связан с музыкальным ритмом жизни, ритмами вечности. Проблема символа связывалась с сущностью не только искусства, но и всякого культурного творчества. Создание теории символизма означало для Белого замысел «невероятного синтеза», скрещение путей теории знания, этики, эстетики, религии – всех традиционных культурных ценностей и создание теории творчества. Создание философии культуры на символической, конкретно-синтетической основе было конечным идеалом Белого, предвосхищающим пансимволизм Э. Кассирера. Но эсхатологический символизм связывал проблему символа не только с сущностью культуры и искусства, но также с искомой новой культурой, новым бытием. Его обобщением можно считать капитальный труд Н.А. Бердяева «Смысл творчества» (М., 1916) с его пафосом новой творческой эпохи, в которой творчество будет творить не символические культурные ценности, а новую жизнь. Жажда перехода «от символического творчества продуктов культуры к реалистическому творчеству преображённой жизни»27 одушевляла творческие искания выдающихся русских мыслителей Серебряного века, ощущавших себя людьми далёкого будущего. Образом искомого синтеза, «востокозапада», «огромного храма мысли» и была для Белого София-Премудрость. «В ней по-новому соединимся мы все»28. Неудача нового ренессансного синтеза в эту переходную эпоху («Мы ищем церковь, в которую вошла бы вся полнота жизни»)29, как и в эпоху романтизма, пережившую разлад между реальностью поиска синтеза и возможностями его осуществления30, обостряла интерес к средним векам – эпохе противоречий, обострённого дуализма во всех сферах бытия. Мир вступал в «ночь нового средневековья»31. Примечания 1Eliade M. Images et symboles. Paris, 1979. P. 75. А. О теургии // Новый путь. 1903. №9. С. 122. 3Бердяев Н.А. О новом религиозном сознании // Вопросы жизни. 1905. №9. С. 150. 4Бердяев Н.А. Самопознание: опыт философской автобиографии. М., 1991. С. 156. 5Белый А. Арабески: Книга статей. М., 1911. С. 22, 25. Далее стр. в тексте. 6Иванов Вяч. Родное и вселенское. С. 185, 144. 7Бердяев Н.А. Самопознание. С. 195. 2Белый 84 8Бердяев Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Н.А. Духовное состояние современного мира // Новый мир. 1990. №1. С. 216. Вяч. Указ. соч. С.3 7. 10Бердяев Н.А. Самопознание. С. 301, 309. 11Там же. С. 306. 12Белый А. Символизм. М., 1910. С. 71. 13Бердяев Н.А. Самопознание. С. 309. 14Блок А.А. Собр.соч. В 8 т. Т.6. М.; Л., 1963. С. 109. 15Белый А. Апокалипсис в русской поэзии // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 417, 414. 16См.: Бонецкая Н.К. Русская софиология и антропософия // Вопросы философии. 1995. №7. С. 79–97. 17«…она стала для меня одно время всем: сестрой, матерью, другом и символом Софии…» (Спивак М.Л. Андрей Белый–Рудольф Штейнер–Мария Сиверс // Литературное обозрение. 1995. №4–5. С. 55) 18Бердяев Н.А. Смысл творчества. М., 1916. С. 238. 19Там же. С. 242. 20Там же. С. 115. 21Там же. С. 315. 22Белый А. Почему я стал символистом…// Белый А. Символизм как миропонимание. С. 446. 23Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. М., 1989. С. 216–217. (Ср. ещё ярче у традиционалиста А.Дугина: «Сакральное – это момент пробуждения, точка кипения души. В древних цивилизациях сакральное пропитывало все уровни жизни…Душа сегодня холодна и фрагментарна, расслаблена и, как правило, пуста…» Дугин А. Сакральное // Литературная газета. 2003. №11. С. 2). 24Белый А. Проблема культуры, Песнь жизни // Белый А. Символизм как миропонимание. С. 18, 172. 25Белый А. Символизм. С. 446–448. 26Белый А. Луг зелёный. М., 1910. С. 246. 27Бердяев Н.А. Самопознание. С. 216. 28Белый А. О Софии-Премудрости // Новый журнал. Нью-Йорк, 1993. №190–191. С. 426–427. 29Бердяев н.А. Христос и мир // Русская мысль. 1908. №1. С. 54. 30«Романтики все искали синтезов… Возможности Нового времени отделяются от его реальностей» (Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб., 2001. С. 133). 31 Бердяев Н.А. Идеи и жизнь // Русская мысль. 1917. №1. С. 71. 9Иванов Евгению Борисовичу Рашковскому 70 лет 85 К ЮБИЛЕЮ ЕВГЕНИЯ БОРИСОВИЧА РАШКОВСКОГО ЕВГЕНИЮ БОРИСОВИЧУ РАШКОВСКОМУ – 70 ЛЕТЫХ 23 сентября 2010 г. исполняется 70 лет Евгению Борисовичу Рашковскому, доктору исторических наук, профессору, ведущему научному сотруднику Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук, зав. отделом религиозной литературы Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино. Е.Б. Рашковский родился в Москве в 1940 г., в 1964 г. окончил Московский историко-архивный институт, в 1974 г. защитил докторскую диссертацию, с 1967 г. по настоящее время – научный сотрудник различных институтов РАН (АН СССР). Евгений Борисович – специалист в области библеистики, философии и истории, автор книг и статей по истории, философии, богословию, науковедению, политологии. Преподает религиоведческие курсы в Открытом православном университете им. о. А. Меня, опубликовал четыре стихотворных сборника. Е.Б. Рашковский – авторитетный исследователь наследия В.С. Соловьёва, принимает активное участие в научных проектах Соловьёвского семинара – Российского научно-образовательного центра исследований наследия В.С. Соловьёва. Доклады и публикации Евгения Борисовича составляют существенный вклад в развитие научного центра, а его встречи со студентами Ивановского государственного энергетического университета оставляют глубокий след в молодых умах и сердцах, ищущих, жаждущих соприкоснуться с духовной культурой и живой историей отечественного соловьёвоведения. Редколлегия журнала «Соловьёвские исследования», кафедра философии Ивановского государственного энергетического университета сердечно поздравляют Евгения Борисовича Рашковского с замечательным юбилеем, желают ему дальнейших творческих успехов в научной и преподавательской деятельности. 86 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 УДК [1+30](091):061.3 ББК [87.3]+60.0(2)лО «ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ – ФИЛОСОФ МОЕЙ ЖИЗНИ» На вопрос о месте Владимира Сергеевича Соловьёва в своей судьбе и творчестве Евгений Борисович ответил: Соловьёв – философ моей жизни. С разрешения Е.Б. Рашковского мы публикуем его письмо, написанное в ответ на просьбу рассказать читателям «Соловьёвских исследований» об отношении к Вл. Соловьёву. 24.04.10 Дорогие Лариса Михайловна и Михаил Викторович, Я благодарю вас за всё. Теперь – по пунктам. 1. Ко Владимиру Сергеевичу меня привела на третьем десятке жизни потребность каким-то образом навести мосты между собственными духовными поисками, напряженными историческими занятиями и философскими и поэтическими интересами. Да к тому же – и в трагическую эпоху крушения той нестойкой «шестидесятнической» человеческой формации, в условиях коей мне жилось одиноко. И особенно – после писательских процессов (Бродский, Синявский, Даниэль) и интервенции в Чехословакию. В те годы я легко находил общий язык и с учеными, и с философами, и с верующими людьми, и с поэтами, и с искателями гражданской правды. Но только – не с самим собою. И в этих условиях открытие текстов Соловьёва оказалось для меня якорем спасения, который позволил удержать на жизненном и духовном плаву мою раскалывавшуюся жизнь с ее угрозами душевной болезни и соблазнами самоубийства. Соловьёв дал мне то, что Макс Шелер именовал «методологией соотнесения»: я увидел в разрозненных и взаимно оспаривающих гранях жизни (и универсальной, и своей собственной) пусть помраченные, – но всё же «отблески» недосказанного Всеединого. И спасительной фигурой, понявшей и подкрепившей интерес к Соловьёву, выступил в моей жизни о. Александр Мень. И осталось лишь одно: «Не верь мгновенному, люби и не забудь». И сама жизнь моя оказалась предопределенной: но не механически, а многоцветно, и не только со всяческой болью, но и со множеством счастливых сюрпризов. Одним из таких сюрпризов моей жизни оказалось становление ивановского круга друзей (именно друзей, а не апологетов и кадильщиков!) Соловьёва. Соловьёв всегда открыт для сомнений и критических собеседований. Именно как настоящий друг, общение с которым всегда поучительно и интересно и подкрепляет интеллект и сердце. 2. Умоляю – никакого «юбилея»! Совпадение Соловьёвского и Меневского собеседований – превыше всех юбилеев. 87 «Владимир Соловьев – философ моей жизни» 3. Подготовить «список трудов» – уж смилуйтесь! – технически невозможно. Такая работа потребовала бы нескольких дней кряду. Единственное, что мог бы сделать, – так это послать перечень своих книг, что и делаю ниже. Научные издания Востоковедная проблематика в культурно-исторической концепции А. Дж. Тойнби (опыт критического анализа). – М.: Наука – ГРВЛ, 1976. – 198 с. Науковедение и Восток. – М.: Наука – ГРВЛ, 1980. – 169 с. Зарождение науковедческой мысли в странах Азии и Африки. 1960–1970-е годы. – М.: Наука – ГРВЛ, 1985. – 162 с. Научное знание, институты науки и интеллигенция в странах Востока XIX – XX века. – М.: Наука – ГРВЛ, 1990. – 203 с. «С высоты Востока…» Двунадесятый праздничный цикл в православном богослужении. – М.: Наука – ВЛ, 1993. – 141 с. Книга Притчей Соломоновых (В помощь изучающим Священное Писание) / Пер. с древнеевр., предисл. и коммент. Е.Б. Рашковского. – М.: Об-во друзей Священного Писания. – 73 с. (Великопостные чтения Русской Православной Церкви). На оси времен. Очерки по философии истории. – М.: Прогресс – Традиция, 1999. – 208 с. Основы религиоведения. Материалы к авторскому курсу. – М.: Московский гуманитарный ин-т им. Е.Р. Дашковой, 2000. – 45 с. Профессия – историограф. Материалы к истории российской мысли и культуры ХХ столетия. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – 248 с. Осознанная свобода. Материалы к истории мысли и культуры XVIII – XX столетий. – М.: Новый хронограф, 2005. – 253 с. Православные праздники. – М.: Эксмо, 2008. – 224 с. Смыслы в истории. Исследования по истории веры, познания, культуры. – М.: Прогресс – Традиция, 2008. – 376 с. Поэтические сборники Странное знанье. Стихи разных лет. – М.: УРСС, 1999. – 96 с. На сбивчивом языке: 101 зарисовка в пути. – М.: Рудомино, 2005. По белу свету… Книга стихов. – М.: Рудомино, 2007. – 167 с. Полярная звезда. Книга графики и стихов. – М., 2010. – 100 с. 4. 20 мая повидаться с вами уж как хотел бы – да не смогу: две работы да сплошные конференции… Словно с цепи сорвались… 5. Еще раз – спасибо за всё. И всего самого доброго. Ваш – Е. Рашковский 88 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 УДК 13(062) ББК 87.3(2)51я54 СПИСОК ОСНОВНЫХ ТРУДОВ Е.Б. РАШКОВСКОГО Рашковский, Е. О становлении двух тенденций культурной ориентации русской либеральной интеллигенции в семидесятые годы XIX в. / Е. Рашковский // Поэтика, история литературы, лингвистика: материалы XXII науч. студ. конф.; Тартуский государственный университет. – Тарту, 1967. – С. 76–84. Рашковский, Е.Б. Природное и историческое в русской культурологии конца прошлого столетия / Е.Б. Рашковский // Философские проблемы культуры. – Тбилиси, 1980. Рашковский, Е.Б. Вл. Соловьев: учение о природе философского знания / Е.Б. Рашковский // Вопр. философии. – 1982. – № 6. Рашковский, Е.Б. Запад, Россия, Восток: Востоковедные темы в трудах русских религиозных философов / Е.Б. Рашковский // Азия и Африка сегодня. – 1990. – № 9. – С. 53 – 55. Рашковский, Е.Б. Лосев и Соловьёв / Е.Б. Рашковский // Вопр. философии. – 1992. – № 4. – С. 141–150. Рашковский, Е.Б. Библейские темы в поэзии В.С. Соловьёва / Е.Б. Рашковский // Мир Библии. – М., 1993. – № 1. – С. 85–92. Рашковский, Е.Б. Вл. Соловьёв: христианское западничество? / Е.Б. Рашковский // Новая Европа. – Милан, 1994. – № 5. – С. 68–73. Рашковский, Е. Вл. Соловьёв: метафизика человеческого достоинства / Е. Рашковский // Страницы=Pages. Богословие. Культура. Образование. – 1996. – № 1. – С. 53–62. Рашковский, Е.Б. Современное мiрознание и философская традиция России: о сегодняшнем прочтении трудов В.С. Соловьёва / Е.Б. Рашковский // Вопр. философии. – 1997. – № 6. – С. 92–106. Рашковский, Е.Б. Три оправдания: стержневые темы философии Вл. Соловьёва 1890-х годов / Е.Б. Рашковский // Опыты. – 2000. – № 4. – С. 16–33. Рашковский, Е.Б. Владимир Соловьёв и гражданское общество / Е.Б. Рашковский // Связь времен: наука – традиции культуры – новое видение мира. – М., 2001. – Вып. 1. – С. 127–137. Рашковский, Е.Б. Владимир Соловьёв и гражданское общество / Е.Б. Рашковский // Соловьёвский сборник: материалы Междунар. конф. «В.С. Соловьёв и его философское наследие». Москва. 28–30 августа 2000 г. – М., 2001. – С. 398–408. Рашковский, Е.Б. Три оправдания: стержневые темы философии Вл. Соловьёва 1890-х годов / Е.Б. Рашковский // Вопр. философии. – 2001. – № 6. – С. 94–104. Рашковский, Е.Б. Владимир Соловьёв: Христианская ревизия «схоластики» позитивизма / Е.Б. Рашковский // Соловьёвские исследования: период. сб. науч. тр. / отв. ред. М.В. Максимов. – Иваново, 2007. – Вып. 14. – С. 125–150. Рашковский, Е.Б. Современное и библейское в наследии Вл. Соловьёва, или о духовных предпосылках соловьёвского «либерализма» / Е.Б. Рашковский // Соловьёвские исследования: период. сб. науч. тр. / отв. ред. М.В. Максимов. – Иваново, 2008. – Вып. 16. – С. 17–38. Список основных трудов Е.Б. Рашковского 89 Рашковский, Е.Б. Современное и библейское в наследии Вл. Соловьёва, или О духовных предпосылках соловьёвского «либерализма» / Е.Б. Рашковский // Соловьёвские исследования: период. сб. науч. тр. / отв. ред. М.В Максимов. – Иваново, 2008. – Вып. 19: Тезисы докладов Международной научной конференции «Философия В.С. Соловьёва в истории мысли и современных дискуссиях». 1–5 октября 2008 г., Россия, г. Иваново, ИГЭУ. – С. 7–8. Рашковский, Е.Б. Философ моей жизни / Е.Б. Рашковский // Соловьёвские исследования: период. сб. науч. тр. Специальный выпуск. К 10-летию Соловьёвского семинара / отв. ред. М.В Максимов. – Иваново, 2008. – Вып. 20. – С. 141–144. 90 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 УДК 130.2:7 ББК 87.8(2) Ю.Д. КУЗИН Ивановский государственный энергетический университет МЫСЛЬ В ЛИРЕ: ОПЫТ ЖИЗНИ, ВЕРЫ И ЛЮБВИ В ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ ОСВОЕНИИ БЫТИЯ (К 70-ЛЕТИЮ Е.Б. РАШКОВСКОГО) Рассматривается вопрос о специфике и содержании философской лирики в аспекте творчества проф. Е.Б. Рашковского. This article considers the question of specific and content of philosophical poetry in the aspect of creative work of prof. E.B. Rashkovsky. Ключевые слова: философия и поэзия, поэтический жанр «хайку», символ, смысл, всеединство. Keywords: philosophy and poetry, the poetic genre «haiku», symbol, sence, all-unity. Храните, о друзья, храните Ту ж дружбу с тою же душой, То ж к славе сильное стремленье, То ж правде – да, неправде – нет. В несчастье – г ордое терпенье. И в счастье – всем равно привет! А. Дельвиг. Прощальная песнь воспитанников Царскосельского лицея (финал) Цель человеческой жизни, видимо, заключается в том, чтобы дать себе – через самого себя – объективность в объективном мире, то есть реализовать, выполнить себя. Это положение фейербахианского антропологизма можно отнести вполне и к Евгению Борисовичу Рашковскому, чей высокий идеализм вдохновляет его творчество по меньшей мере на протяжении полувека. Человек сложен и многомерен: его самореализация неожиданна, порою непредсказуема и многослойна. Какой же мерой измеряется выполнение человеком своей земной миссии? Е.Б. Рашковский сам признаётся, что «обнаружил себя в трех постоянно пересекающихся жизненных потоках – академический исследователь с дипломом «доктора наук», поэт, школьный учитель. Многие упрекают меня в том, – продолжает он далее, – что я, мол, теряюсь, разбрасываюсь…Может, они и правы. Но, как мне кажется, эти три потока не только подавляют и блокируют друг друга, но, слагаясь в единый жизненный путь, входят в странный, непонятный мне резонанс»1. Слово «непонятный» отнесём на счет личной скромности автора процитированных выше строк. «Философ моей жизни» – именно Ю.Д. Кузин. Мысль в лире: опыт жизни, веры и любви 91 так озаглавил одну из своих статей, посвященных В.С. Соловьёву, профессор Е.Б. Рашковский. И в этой статье он отмечает, что Вл. Соловьёв вошел в его жизнь еще в 60-е годы прошлого столетия. «И с тех пор вся моя судьба, – пишет Е.Б. Рашковский, – судьба2 историка, философа, науковеда, педагога и поэта – как была, так и продолжает оставаться непрерывным собеседованием с Соловьёвым»3. Но творческая личность Вл. Соловьёва счастливо соединила в себе гений философа, поэтический талант и вдохновение Иоанна Предтечи, обращающего народ в новую веру. Многоцветие дарований – признак не только ушедшего Серебряного века, но и всей мировой культуры в целом. Истоки этого многоцветия, видимо, заключаются в стремлении постичь гармоническую полноту бытия, в желании всемерно облагородить его возвышенную идею. В тривиуме «философия – поэзия – красноречие» поэзия занимает особое место. Она фиксирует следы одухотворённой Вселенной, так сказать, держит свою руку на её пульсе. В поэзии Е.Б. Рашковского дидактика, естественно, отсутствует; эта поэзия лишена пафосной риторики и рождает поэтому особый ассоциативный ряд, далёкий как от аффектации идеи государственного величия, так и от торжественной архаики библейско-евангелических сюжетов. Нобелевский лауреат Андрэ Жид в предисловии к одной из своих книг писал: «…многие великие умы испытывали отвращение к … выводам»; «правильно поставить проблему не значит считать её заранее разрешённой»; «в искусстве нет проблем, достаточным разрешением которых не было бы само произведение искусства»4. Е.Б. Рашковский избрал весьма экзотическую литературную форму для выражения своего поэтического видения мира – хайку (хокку), – распространённую в дзен – буддийских монастырях Японии. Хайку – это трёхстишие с пятью слогами в словах первого и последнего ряда и семью слогами в середине стиха. Е.Б. Рашковский замечает, что «хайку – медитативный, по существу духовный жанр, смысл которого – выразить в простых и случайных образах и знаках человеческую интуицию многоединства Вселенной». В хайку фиксируется «некий отрывочный словесный след Вселенной, вечно недосказанной и неповторимой»5. Формальные границы этого стихосложения сами по себе диктуют непременное условие: чтобы стихам было тесно, а мысли просторно. Такая формально-математическая заданность обусловливает создание образа или образа-понятия с широким спектром культурно-исторических ассоциаций. Но чтобы вызвать эти ассоциации и осуществить активное движение в читательской душе, поэту потребуется пробудить к творческой жизни энергетику своей собственной души и потенцию своего таланта, совершить теургическое «делание». Обратимся еще раз к цитированному нами А. Жиду: «Если некоторые тонкие умы усмотрели в этой драме только описание странного случая, а в герое только больного человека; если они не признали, что несколько очень насущных и общеинтересных мыслей могут заключаться в ней, – в этом не виноваты ни мысли, ни драмы, но лишь сам автор, то есть его неловкость – несмотря на то, что он вложил в эту книгу всю свою страсть, все слезы и все старания»6. Надо признать, что Е.Б. Рашковский действительно вкладывает в 92 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 своё поэтическое творчество «всю свою страсть и все свои слёзы», прилагая все усилия к тому, чтобы избежать, так сказать, «неловкости», хотя его путь в поэзии самобытен и, стало быть, достаточно труден. У стихов хайку есть особенность: их нужно читать в совокупности, чтобы почувствовать их «аромат» и ощутить биение сердца Вселенной (хотя, разумеется, некоторые стихи, взятые в отдельности, могут представлять собой миниатюрные поэтические шедевры). Во всяком случае, при таком чтении вырисовывается цветовая палитра автора. «Жаркий и синий» («И снова август»); «лазоревые блёстки» («Дождь на асфальте»); «синее утро» («Весенний заморозок»); «в легкой лазури» («Весеннее небо»); «зеленью, синью, белыми облаками – буянит весна…» («Зюйд-вест»); «в жаркой синеве»; «в синие выси» («Июль»); «тяжкая туча на северо-западе – как синий язык»; «в синеве сверкающей» («Зной») – здесь царство синего (лазоревого, лазурного) цвета. «Серебристые блёстки» («Дождь на асфальте»); «осень светлая»; «полно снежинок и звезд в комнате ночной»; «первый снегопад» («На базаре»), «отлученье от света»; «белая шубка – словно снежная баба» («Зимний бульвар»); «солью живой, снеговой – трещит тротуар» («Предрассветное»); «белые смерчи» («Метель»); «перья облаков – над городом снеговым»; «ветхий город, засахаренный морозом» («Святки в Сибири»); «медленный-медленный снег» («Усталость»); «белого белей – задыхается город в тяжести снегов…» («Четвертый день бурана»); «притихший город- под набухшею шубой…Снегопад…» («Минус два по Цельсию»); «солнце…снегами вдруг ослепило» («Февраль»); «в сети снеговой» («В городе – метель…»); «притихли поля, затаились под снегом» («Предвесеннее»); «под тяжким снегом» («Прощеное Воскресенье»); «не помню в марте белых таких покровов» («Зима не уходит»); «за окном – снега…»; «под влажными снегами» («Март»); «снег…Весенний свет…» («В сибирской командировке»); «белый самолет» («Весеннее небо»); «город в серебре» («Париж»); «в крапинках серебристых» («Один в Париже»); «серебряные кристаллы» («Готика»); «в крапинках земля – ослепительно белых» («Вишни в мае»); «белая пена» («Ритмы июньского города»); «белый шиповник» («Июньский ветер»); «шиповник белый, жасмины в тёмной листве – как неожиданный реквием прошлогоднему снегу»; «самый светлый день, Светлее – не бывает» («Июньские холода») – здесь стихия светлого, белого, снегового, серебряного. В поэзии Е.Б. Рашковского, как видим, царствуют две стихии – синего (от неба) и белого (от света). Концептуальное содержание стихов – хайку Е.Б. Рашковского, таким образом, определяется субстанциальностью бытия в его двух ипостасях – небесно-божественной и духовно-светозарной. Мы видим, что в этих стихах философствующий поэт обращает свою мысль к тайнам мироздания и человеческого Я. Невольно вспоминаются слова И. Канта о том, что в мире есть две великие тайны: это звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. В стихах – хайку природа как бы приближается к человеку, формируя в нем непосредственные впечатления, направленные на самые конкретные проявления окружающей его действительности – от бытовых деталей до общезначимых культурных символов: Ю.Д. Кузин. Мысль в лире: опыт жизни, веры и любви 93 В чайнике моем беснуется кипяток… За дверью – мороз…7 * Потерял часы в городе чужедальнем… Снег…Весенний свет…8 (В сибирской командировке) * Колокол и дождьв перекличке…Троица… Зелень…Облака…9 * …бронзовый Ганди – заиндевелый – среди Москвы морозной…10 (Север и Юг) В ряде стихов достигается полное слияние единичного, конкретно-бытийного, привычного и преходящего с высоко духовным, нетленным и торжественно приподнятым: Утро. Кухня. Май. Половинка лимона – купол золотой…11 * Вяз над оврагом – строгий, ветвистый, свежий – икона Твоя…12 * Синее утро и высокое небо, – как мне молится?...13 (Весенний заморозок) В недосказанности хайку таится вечная недосказанность Вселенной. Е.Б. Рашковский отмечает, что «хайку в России…слагается и действует особо». В традиционной поэзии Японии наличествует «единство слова, образа, смысла и изображения». В странах сино-иероглифического ареала хайку выражает «красоту каллиграфической игры», которая в России, естественно, заменяется непроизносимыми, недосказанными созвучиями14. Надо признать, что Е.Б. Рашковский вслед за Верой Николаевной Марковой уверенно прикладывает путь развитию этого экзотического и уникального жанра в отечественной интеллектуальной и поэтической культуре. И все же поэзия хайку в силу самой своей сущности имеет свои собственные возможности и, увы, границы. Некоторая математическая заданность фор- 94 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 мы, предельная краткость, необходимость в обрусевшем хайку белого стиха, определенная ограниченность изобразительных и выразительных средств не позволяют в полной мере постичь в рамках философской лирики всю полноту, глубину и гармонию бытия. Этим, видимо, и объясняется переход Е.Б. Рашковского к классическому стиху, к русской традиционной поэзии. Генеральным принципом его творчества выступает – если можно выразится словами Т. Манна из знаменитой тетралогии «Иосиф и его братья» – «сожитие тела и духа, красоты и мудрости и взаимоусиливающее сознание того и другого». Иосиф, центральный персонаж этой тетралогии, «когда он хотел ощутить свое бытие и тайно ему порадоваться, он вспоминал о кровавом смешении земного с божественным, чувствовал…что и сам он состоит из этого вещества, и, улыбаясь, думал, что сознание тела и красоты должно быть улучшено и усилено сознанием духа и наоборот»15. Не этой ли идеей руководствуется в своем поэтическом «делании» и Е.Б. Рашковский? «Он (Иосиф. – Ю.К.) думал: подумать только, словом, свободным и сторонним словом сотворен мир, и даже сегодня ещё, если какая-то вещь и существует, то воистину она начинает существовать, собственно, только тогда, когда человек назовет ее и дарует ей словом бытие»16. И вот такие стихи Е.Б. Рашковского: …я с детства видел зло, но с самых первых лет, отравленных безверьем и войною, мне знание дано, что Слово – тоже Свет и говорит звезда с звездою…17 (Из дневника) При желании можно установить или предполагать творческие созвучия Е.Б. Рашковского с Тютчевым, Блоком, Вл. Соловьёвым, Апухтиным, Андреем Белым, Мандельштамом, Пастернаком… Поэтическая лаборатория Евгения Борисовича тщательно изучает наследие поэтов разных эпох, народов и стилей: тут мы находим грузинских мастеров слова, английских, французских, польских, еврейских и других литераторов; здесь мы встречаем Рабиндраната Тагора и Гийома Аполлинера, Леопольда Стаффа и Джеймса Джойса, Ежи Харасымовича и Овсея Дриза, Евгена Плужныка и Владислава Броневского… Вслед за Б. Паскалем и Ф.И. Тютчевым Е.Б. Рашковский задаётся вечными вопросами: что такое человек во Вселенной? и что такое человек в бесконечности? Паскаль выдвинул в своё время тезис: «человек – всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он – тростник мыслящий». Тютчев видит и силу и слабость человека, и его единство и его разлад с миром: Ю.Д. Кузин. Мысль в лире: опыт жизни, веры и любви 95 Откуда, как разлад возник? И отчего же в общем хоре Душа не то поет, что море, И ропщет мыслящий тростник?18 Как бы вторя Ф.И. Тютчеву, Е.Б. Рашковский пишет «Ответ Чаадаева Пушкину»: У нас в истории – какая благодать? Есть самовластие. Обломков не видать. А коли пристальней присмотрятся потомки, – то кто ж обломки? – Это мы – обломки…19 Судя по всему, автор ощущает какие-то пределы в общественно-историческом развитии России и, возможно, вмешательство в этот процесс определенных иррациональных сил. Собственно, уже само субстанцианирование автора как «академического исследователя c дипломом доктора наук» предполагает рационалистичность в подходе к анализу любого объекта исследования, требующую известной компенсации в виде игры творческого воображения, которая уравновешивает чрезмерные усилия научной рациональности. В центре внимания поэта – человек, его натура, его душа, вызывающие особый интерес именно в силу того, что в этой натуре и этой душе существуют элементы, не поддающиеся определению и трезвой интерпретации. В философской поэзии не должно быть ни избытка рассудочности, ни недостатка образности. «Хлад ума» имеет опасную тенденцию к «холодности философии», отчего размываются контуры зримых образов поэтического мышления. «Холодной философии» в стихах Е.Б. Рашковского нет. Самоуверенный разум не разрушает тайну, не отнимает иллюзию, не приводит к отчаянию, ибо он лишён своей самоуверенности, взамен которой приобретает ироничность, критическую самосоотнесённость, а стало быть, – мудрость. Вот что писал поэт на пороге нового тысячелетия: Целомудренная, беспутная, опороченная, неподсудная, неумолчная, как прибой, – в отраженьях своих запутанная, не разгаданная собой, – благочестная и безбожная, – сквозь победы и боли прошлого рвёшься в пропасти, рвёшься ввысь, всеобильная, безнадёжная, – Мысль!20 Логика мысли и разума в творчестве Е.Б. Рашковского выступает как логика гармонии, где понятие, чувство, мысль, образ, слово, звук, мелодия стиха, 96 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 художественная интуиция сплавлены в некую целостность, образующую совершенно новое качество. Поэта манит романтическое прошлое, он скорбит об ушедшей старой России, о том, что распалась связь времен и навсегда исчезли многие ценности человеческой жизни и культуры. Казалось бы, такие настроения должны рождать мортальные мотивы, постоянное погружение в прошлое, консерватизм образов и идей. Однако ничего подобного не происходит. Возможно, потому, что стихи Е.Б. Рашковского «о путешествиях души не только в пространстве, но и во времени», …и всесмывающий поток над головою все той же жаркою пронизан синевою, и в этой синеве – намек, что смерти нет 21. Поэта не оставляет проблема власти мёртвых над живыми. Эта проблема дихотомична. Культура, питающая наши души и творчество, создана людьми, которых уже нет давно среди нас, но дух их жив! В существовании полусонном с кем я стою плечом к плечу? С Гейне? с Феликсом Мендельсоном? С Гегелем? с Моцартом? – Умолчу22. (Warum?) Но, с другой стороны, мёртвые могут, как кошмар, тяготеть над душами живых людей. Если иметь в виду наличное социальное бытие, то его несоответствие идеалу очевидно; демократическое развитие «нового общества» идёт далеко не так, как это мыслилось в идеале, прежние пороки не только не исчезли, а, напротив, пышным цветом расцвели на новой почве российской действительности. Обеспокоенность за судьбы страны заставляет Е.Б. Рашковского писать такие строки: Когда безмолвие и тьма, – то ищет голоса и крова, чтоб не сойти вконец с ума, – в себя глядящееся слово 23. (И снова – поэтика…) Обаяние стиха заключается не столько в метафорических и аллегорических формах выражения его содержания, сколько в его суггестивности, так как метафора суть лишь развернутое сравнение, аллегория стремится к однозначной определенности, в то время как символ неоднозначен и тяготеет к неопре- Ю.Д. Кузин. Мысль в лире: опыт жизни, веры и любви 97 деленности. В чем же природа неопределенности символа? Сутью символа является не конкретная мысль, идея, эмоция, а их векторы, их общая направленность. Герменевтический анализ стиха предполагает отправляться от бесспорного и однозначно определенного. Если брать в целом стихотворения, представленные в сборнике «По белу свету…», то векторная их направленность будет, видимо, обусловлена следующими факторами. Первый: полет времени от расцвета к упадку, от гармонической мелодии к дискордам, от радости к «смеху без улыбки». Второй: великолепие старины, ее духа, ее веры, ее традиций и культурных ценностей в контрастном сопоставлении с бесцветной, неодухотворенной современностью. Третий: прошлое – некое идеальное бытие, противопоставляемое нашему жестокому, меркантильному и бездуховному веку. Казалось бы, такой подход предполагает определенную тональность восприятия поэзии Е.Б. Рашковского – тональность «тоски по идеалу», сожаления об утраченном «золотом веке», ностальгии по прошлым и канувшим в Лету временам. Тем не менее эту тональность читатель не улавливает. Мы имеем в виду рафинированную модификацию данной тональности. Она смягчается и преобразуется в читательском сознании благодаря историзму и эстетическому чувству меры автора, отдающему себе отчет в том, что Святая Русь не идентифицируется в обществе современной России XXI века, несмотря на известные общие основания и атрибутивные черты в развитии нашей страны в течение столетий и тысячелетий. Читая многие стихотворения Е.Б. Рашковского, мы ощущаем комплекс суггестивных символов, порождающих некое смутное ностальгическое чувство по утраченной гармонии, может быть, и не достигшей своего совершенства. Вообще подходить к философской лирике Е.Б. Рашковского следует, на наш взгляд, игнорируя самые всевозможные ассоциации, коннотации и обертоны, идущие от жизненного материала, преломленного в «магическом кристалле» его поэтического творчества. Мир символов в поэзии Е.Б. Рашковского богат, сложен, разнообразен и непредсказуем. Многочисленны и противоречивы его жизненные, бытовые, духовные и культурные источники. «Смысл лирической поэзии – в обращенности человеческой личности к своему языку во всем богатстве его понятий, внутренней музыки, жизненных знаков и непрерывно обновляющихся образных сцеплений, – пишет Е.Б. Рашковский. – Может быть, именно поэтому поэзия так насыщена темами времени, природы, любовного волнения, воспоминаний о друзьях, трапезы, вина. Темами того необъятного многообразия мiра, которое проницает каждого из нас»24. Человек живет в окружении символов; взгляд его упирается в некие условные знаки, каждый из которых воплощает комплекс определенных смыслов, эмоций, переживаний, идей, образных структур. Изначальный источник символов – природа. Как в свое время отмечал Э. По, 98 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 All Nature speaks, and ev’n ideal things Flop shadowy sounds from visionary wings. (Вся природа говорит, и даже идеальные созданья Издают призрачные звуки, хлопая воображаемыми крыльями)25. Или как писал русский поэт Ф.И. Тютчев: Не то, что мните вы, природа: Не слепок, не бездушный лик – В ней есть душа, в ней есть свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык…26 Смыслы расширяются и, сопричастные историко-культурному контексту, выходят на уровень универсальных обобщений и прозрений. Природная среда, благодатная аура культуры, взаимоотношения государств и этносов – всё входит в творческую атмосферу стиха, одновременно усиливая всемирность происходящего и микрокосмичность индивидуализированного поэтического опыта. Имена Пико делла Мирандолы, Фичино, Бенедетто Кроче, Пушкина, Батюшкова и Тютчева, кружась в каком-то странном мистическом хороводе, сливаются в общую единую систему социокультурных детерминант, заставляя читателя ощущать с трепетным восторгом звуки, ведомые горним сферам бытия. Не понимаю, какова причина: иные горизонты возлюбя, я не заметил Пико и Фичино и, стало быть, прошляпил сам себя. Но в старости все явственней и проще: когда живёшь и думаешь за двух, твой собеседник – Бенедетто Кроче, в себе несущий италийский дух. Когда-то – благозвучные игрушки… Но только лишь войдя в остаток дней – u-va, pensiero!27 – Батюшков и Пушкин стократ надёжней и стократ родней. И, тютчевским прозрением ясна, звенит италианская весна…28 Мотивы незавершенности, внутреннего драматизма и ранимости наличного бытия, присущие стихам Е.Б. Рашковского, соединяются с идеей должного, преобразующего этот мир – как в условно-идеальном, так и в реально-событийном его аспектах. Здесь речь идёт о всеединстве как философской идиоме Царства Божия, выраженной поэтическими средствами. Таким образом Е.Б. Рашковский Ю.Д. Кузин. Мысль в лире: опыт жизни, веры и любви 99 продолжает свое духовное общение с Вл. Соловьёвым в сфере литературно-художественного творчества. Мир преображается и воскресает в свободе, проходя через муки распадения и отторжения. В этом преображении и воскресении в мире истины, красоты и добра нас ведут к цели вера и разум, подчёркивает поэт. Из «сложной коллизии веры и разума, из коллизии недосказанного и изреченного слова, из коллизии умолчания и определения…и вытекает живое и вечно открытое богатство человеческого духа»29. И в этом позиции Вл. Соловьёва и Е.Б. Рашковского совпадают. Наконец, софийность Бытия и Вселенной есть «мы-в-мiре и мiр-в-нас – мы-в-Боге и Бог-в-нас», где всё «объято пламенем духовной коммуникации»30, важнейшей частью которой и является поэтическое Слово. Есть соблазн сопоставить поэтическое творчество В.С. Соловьёва и Е.Б. Рашковского на предмет выявления их общих истоков, образов-символов, художественных средств, поэтики, гармонии и алгебры стиха и т.п. Мы сознательно отказались от этого намерения во-первых, потому, что профессор Е.Б. Рашковский находится в самом расцвете своих творческих возможностей и как мыслитель, и как поэт, в силу чего завтра мы будем располагать куда большим материалом для подобного анализа, чем сегодня, и, во-вторых, потому, что присущие Евгению Борисовичу скромность и деликатность стали бы, скорее всего, препятствием к тому сопоставлению, которое мы первоначально замыслили… Среди философской лирики Е.Б. Рашковского есть чудесное стихотворение, посвященное В.С. Соловьёву. Примечательно, что эти стихи были созданы в Иерусалиме под непосредственным впечатлением от «вечного города», по улицам которого некогда ходил Христос: Вчера Иерусалим искрился солнцем и ветрами, искрился шелестящею листвою, искрился небом сапфирным. А нынче, от самыя ночи, город исхлестан дождями, а средиземноморские тучи, словно медведицы, сердитые и седые, переползают окрестные горы. И вот, бреду под ливнем в промокших кроссовках, перешагиваю ручейки городские, радуюсь, как ласкают небесные воды дерев освеженные кроны, забрызганные очки протираю, да поглядываю время от времени на небо: не вспыхнет ли лазурное око…31 100 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Так на перекрестке истории встретились два человека, две разные России, но осталась одна общая духовная культура, устремленная в «свободу и голубые небеса…»32. Примечания 1 Рашковский Е. На сбивчивом языке: 101 зарисовка в пути. Кн. 1. М.: Рудомино, 2005. С. 25. Слово «судьба» я употребляю в том смысле, в каком сам Соловьёв употребляет его в статье «Судьба Пушкина» (Прим. Е.Б. Рашковского). 3 Рашковский Е.Б. Философ моей жизни // Соловьёвские исследования: Период. сб. науч. тр. Вып. 20. Иваново. 2008. С. 141–142. 4 Жид А. Имморалист. Предисловие: Пер. с фр. // Жид А. Избр. произв. М.: Панорама, 1993. С. 7–8. 5 Рашковский Е. На сбивчивом языке: 101 зарисовка в пути. Кн. 1. М.: Рудомино, 2005. С. 24. 6 Жид А. Имморалист. Предисловие: Пер. с фр. // Жид А. Избр. произв. М.: Панорама, 1993. С. 8. 7 Рашковский Е. На сбивчивом языке: 101 зарисовка в пути. Кн. 2. М.: Рудомино, 2005. С. 17. 8 Там же. С. 9. 9 Там же. С. 16. 10 Рашковский Е. На сбивчивом языке: 101 зарисовка в пути. Кн. 2. М.: Рудомино, 2005. С. 19. 11 Там же. С. 13. 12 Там же. С. 18. 13 Там же. С. 9. 14 Там же. С. 24–25. 15 Манн Т. Избранное: Пер. с нем. М., 1975. С. 210. 16 Там же. С. 211. 17 Рашковский Е. По белу свету... Книга стихов. М.: Рудомино, 2007. С. 42. 18 Тютчев Ф.И. Стихотворения. М.: Правда, 1987. С. 127. 19 Рашковский Е. По белу свету... Книга стихов. М.: Рудомино, 2007. С. 58. 20 Там же. С. 28. 21 Там же. С. 24. 22 Там же. С. 43. 23 Там же. С. 92. 24 Там же. С. 3. См. фундаментальную работу Е.Б. Рашковского «Смыслы в истории: Исследования по истории веры, познания, культуры». М., 2008. 25 Цит. по: Ковалев Ю.В. Эдгар Алан По. Новеллист и поэт: Монография. Л.: Худож. лит., 1984. С. 154. 26 Тютчев Ф.И. Стихотворения. М.: Правда, 1987. С. 66 27 «Va, pensiero sull’ali dorate…» – «Взлети, мысль златокрылая…» – хор пленных иудеев из третьего акта оперы Верди «Набукко» (либретто Темистокле Cолеры) (Прим. Е.Б. Рашковского). 28 Рашковский Е. По белу свету... Книга стихов. М.: Рудомино, 2007. С. 97. 29 Рашковский Е. Философия моей жизни // Соловьёвские исследования. 2008. Вып. 20. С. 143. 30 Там же. С. 144. 31 Рашковский Е. По белу свету... Книга стихов. М.: Рудомино, 2007. С. 101. 32 Там же. С. 90. 2 Забытый Соловьёв: Поэзия В.С. Соловьёва в русской музыке УДК 784.3 ББК 85.94 101 ПУБЛИКАЦИИ ЗАБЫТЫЙ СОЛОВЬЁВ: ПОЭЗИЯ В.С. СОЛОВЬЁВА В РУССКОЙ МУЗЫКЕ Публикация М.В. Максимова Многогранное творчество Владимира Сергеевича Соловьёва – великого русского философа, поэта и публициста после многих десятилетий забвения в родном отечестве становится в последнее двадцатилетие объектом всесторонних исследований1. Однако до сего дня остается малоизвестной или вовсе забытой одна из интереснейших страниц жизни его творческого наследия. Речь идет о восприятии поэтического наследия В.С.Соловьёва в отечественной музыкальной культуре. Отдельные упоминания о том, что стихотворения поэта положены на музыку встречаются у историков музыки и исследователей поэзии В.С.Соловьёва – И. Глебова (Б.В. Асафьева)2, Г.К. Иванова3, З.Г. Минц4, на страницах специализированных интернет-ресурсов5. Очень скупо представлен в современных публикациях нотографический материал6, и совсем уж бедно – аудиозаписи исполнений вокальных сочинений на стихи В.С. Соловьева7. Между тем баллады и романсы на стихи В.С. Соловьёва написаны известными и выдающимися российскими композиторами, жившими в XIX и XX веках. Среди них А.С. Аренский, П.И. Бларамберг, Р.М. Глиэр, А.Т. Гречанинов, В.Г. Каратыгин, Г.Л. Катуар, Э.А. Купер, Л.Л. Лисовский, С.М. Ляпунов, А.А. Оленин, М.А. Остроглазов, И.А. Розенберг, А.А.Спендиаров, А.В. Таскин. Сочинения этих композиторов, связанные с поэтическим творчеством В.С. Соловьёва, заслуживают возвращения к жизни. Их исполнение на вечерах романсов в рамках культурных проектов Соловьёвского семинара – Российского научно-образовательного центра исследований наследия В.С. Соловьёва вызвало живой отклик у слушателей и продемонстрировало закономерный интерес исполнителей к произведениям, соединяющим философичность соловьёвской лирики с высочайшей музыкальной культурой. Одним из авторов, обратившихся к творчеству В.С. Соловьёва, является выдающийся российский музыкант и теоретик музыки Георгий Львович Катуар (1861–1926). Он родился в Москве в семье обрусевших французов 15 апреля 1861 г., умер в Москве 21 мая 1926 г. Г.Л. Катуар окончил математический факультет Московского университета. Получил серьезное музыкальное образование в Берлине у Карла Клиндворта. Был знаком с П.И. Чайковским, учился у Н.А. Римского-Корсакова, А. Лядова, был близок к А. Аренскому. После 1919 г. был профессором композиции в Московской консерватории. 102 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Как отмечают исследователи жизни и творчества Г.Л. Катуара, композитор жил практически затворником, «всю почти жизнь боролся за признание, переходя от периодов глубокого отчаяния к новым усилиям, среди равнодушия и невнимания к своему музыкальному дарованию сперва со стороны родных, а потом музыкантов разных толков (только в Чайковском Катуар встретил поддержку)»8. Обращение к поэзии В.С. Соловьёва произошло в период расцвета творчества Г.Л. Катуара – после 1906 г. В этот период им написан цикл лирических песен на стихи В.С. Соловьёва, опубликованных в 1922 г. Их републикация дается по изданию: Катуар Георгий Львович. Шесть стихотворений Вл. Соловьёва. Для голоса с ф-п. М., 1922. Примечания 1 В опубликованных М.В. Максимовым и Л.М. Максимовой «Материалах к библиографии В.С. Соловьёва (1990–2006)» упоминаются 2048 публикаций, посвященных различным аспектам творчества В.С. Соловьёва. См.: Материалы к библиографии В.С. Соловьёва (1990 – 2006) / Сост. М.В. Максимов, Л.М. Максимова // Соловьёвские исследования. 2007. Вып. 15. С. 6–234. 2 Глебов Игорь. Русская поэзия в русской музыке. Пг., 1921. С. 111; см. также второе издание этой работы (Пг., 1922). 3 Иванов Г.К. Русская поэзия в отечественной музыке (до 1917 года): Справочник. Вып. 1. М., 1966. С. 328. 4 См. примечания З.Г. Минц к стихотворениям В.С. Соловьёва в кн.: Владимир Соловьёв. Стихотворения и шуточные пьесы / Вступ. ст., сост. и примеч. 3.Г. Минц. Библиотека поэта. Большая серия. Второе издание. Л.: Сов. писатель, 1974. 5 См., напр.: http://imslp.org/ (International Music Score Library Project (IMSLP). 6 В издававшихся в советское время нотных альбомах, за редчайшим исключением, музыкальные произведения, связанные с именем В.С. Соловьёва, не публиковались. Курьезный и красноречивый факт: в альбоме А.С. Аренского, изданном в 1986 г., опубликован романс «Весной». По каким-то причинам издатель не указал автора текста – В.С. Соловьёва (стихотворение «Старую песню мне сердце поет»), заявив, что романс написан на «слова неизвестного автора». 7 В четырёхтомной CD – «Антологии русского романса» представлено только одно произведение («Весной» (А. Аренский – Вл. Соловьёв)) в исполнении Е. Катульской (сопрано) и Б. Юртайкина (фортепиано). См.: Антология русского романса. Диск 1. Изд. ООО «РМГ Рекордз», 2005. 8 Асафьев Б. Русская музыка. XIX и начало XX века. Л.: Музыка 1968. С. 84. О жизни и творчестве Г.Л. Катуара см. также: Георгий Львович Катуар. М., 1926; Катуар Г.Л. Романсы. М.: Музыка, 1972. 44 с. Г.Л. Катуару посвящена страница на International Music Score Library Project (http://imslp.org). Забытый Соловьёв: Поэзия В.С. Соловьёва в русской музыке 103 104 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Забытый Соловьёв: Поэзия В.С. Соловьёва в русской музыке 105 106 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Забытый Соловьёв: Поэзия В.С. Соловьёва в русской музыке 107 108 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Забытый Соловьёв: Поэзия В.С. Соловьёва в русской музыке 109 110 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Забытый Соловьёв: Поэзия В.С. Соловьёва в русской музыке 111 112 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Забытый Соловьёв: Поэзия В.С. Соловьёва в русской музыке 113 114 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Забытый Соловьёв: Поэзия В.С. Соловьёва в русской музыке 115 116 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Забытый Соловьёв: Поэзия В.С. Соловьёва в русской музыке 117 118 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Забытый Соловьёв: Поэзия В.С. Соловьёва в русской музыке 119 120 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Забытый Соловьёв: Поэзия В.С. Соловьёва в русской музыке 121 122 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Забытый Соловьёв: Поэзия В.С. Соловьёва в русской музыке 123 124 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Забытый Соловьёв: Поэзия В.С. Соловьёва в русской музыке 125 126 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Забытый Соловьёв: Поэзия В.С. Соловьёва в русской музыке 127 128 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Забытый Соловьёв: Поэзия В.С. Соловьёва в русской музыке 129 130 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Забытый Соловьёв: Поэзия В.С. Соловьёва в русской музыке 131 132 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 УДК 13(062) ББК 87.3(2)51я54 БИБЛИОГРАФИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА СТИХИ В.С. СОЛОВЬЁВА А.С. Аренский Аренский, А.С. Весной: оp. 17/2 / А.С. Аренский. – М.: Юргенсон, 1891. П.И. Бларамберг Бларамберг, П.И. Осенью: для хора с ф.-п. / П.И. Бларамберг; слова Вл. Соловьёва. – СПб.; М.: В. Бессель, 1901. Р.М. Глиэр Глиэр, Р.М. От пламени страстей: оp. 62. № 3. Александре Николаевне Шперлинг / Р.М. Глиэр; слова Владимира Соловьёва // Романсы. – М.: Юргенсон, б. г. А.Т. Гречанинов Гречанинов, А.Т. В мрачной келье замкнул я…: оp. 51. № 2 / А.Т. Гречанинов; слова В.С. Соловьёва // Po ème dramatique. Семь песен на слова Гейне и Вл. Соловьева. – Изд-во Ю.Г. Циммерман, б. г. Гречанинов, А.Т. Что-то здесь осиротело…: соч. 51. № 7 / А.Т. Гречанинов; слова Вл. Соловьёва // Избранные романсы. – М.: Музыка, 1964. Гречанинов, А.Т. Не мани меня ты, шейх…: оp. 76. № 1 / А.Т. Гречанинов; (Гафиз – Соловьёв) // Песни Гафиза; пер. А. Фета и Вл. Соловьёва. – М.: А. Гутхейль, б.г. Гречанинов, А.Т. Вопрос мудрены: соч. 76 / А.Т. Гречанинов; (Гафиз – Соловьёв) // Песни Гафиза; пер. А. Фета и Вл. Соловьёва. – М.: А. Гутхейль, б.г. Гречанинов, А.Т. Языков так много: оp. 76. № 4 / А.Т. Гречанинов; (Гафиз – Соловьёв) // Песни Гафиза; пер. А. Фета и Вл. Соловьёва. – М.: А. Гутхейль, б.г. Г.Л. Катуар Катуар, Г.Л. I. Милый друг. Олимпиаде Николаевне Кардашевй: оp. 33 / Г.Л. Катуар; слова В. Соловьёва // Шесть стихотворений Вл. Соловьёва: для голоса с ф.-п.: соч. 33. – М.: Гос. муз. изд-во, 1922. – С. 3–6. Катуар, Г.Л. II. Там, где семьей столпились ивы: оp. 33 / Г.Л. Катуар; слова В. Соловьёва // Шесть стихотворений Вл. Соловьёва: для голоса с ф.-п.: соч. 33. – М.: Гос. муз. изд-во, 1922. – С. 7–10. Катуар, Г.Л. III. Бедный друг!: оp. 33 / Г.Л. Катуар; слова В. Соловьёва // Шесть стихотворений Вл. Соловьёва: для голоса с ф.-п.: соч. 33. – М.: Гос. муз. изд-во, 1922. – С. 11–14. Катуар, Г.Л. IV. Земля владычица: оp. 33 / Г.Л. Катуар; слова В. Соловьёва // Шесть стихотворений Вл. Соловьёва: для голоса с ф.-п.: соч. 33. – М.: Гос. муз. изд-во, 1922. – С. 15–20. Библиография музыкальных произведений на стихи В.С. Соловьева 133 Катуар, Г.Л. V. Пора весенних гроз: оp. 33 / Г.Л. Катуар; слова В. Соловьёва // Шесть стихотворений Вл. Соловьёва: для голоса с ф.-п.: соч. 33. – М.: Гос. муз. изд-во, 1922. – С. 21–24. Катуар, Г.Л. VI. В тумане утреннем. Олимпиаде Николаевне Кардашевй: оp. 33 / Г.Л. Катуар; слова В. Соловьёва // Шесть стихотворений Вл. Соловьёва: для голоса с ф.-п.: соч. 33. – М.: Гос. муз. изд-во, 1922. – С. 25–31. Э.А. Купер Купер, Э. Пускай нам разлуку судьба присудила: на мотив из Мицкевича: для высокого голоса и ф.-п.: op. 5. № 1 / Э.А. Купер; слова В. Соловьёва; нем. текст Л. Эсбер. – М.: П. Юргенсон, [1914]. – 5 с. Купер, Э. Бедный друг: для высокого голоса и ф.-п.: op. 5. № 2 / Э.А. Купер; слова В. Соловьёва; нем. текст Л. Эсбер. – М.: П. Юргенсон, [1914]. – 7 с. Н. Ленц Ленц, Н. Бедный друг.... Посвящается памяти Е.А.Б.: для голоса с сопровожд. ф.-п. / Н. Ленц; слова В. Соловьёва // Романсы и песни. – М.: Лит. В. Гроссе, б. г. Л.Л. Лисовский Лисовский, Л.Л. Уходишь ты. Посвящается В.С. Лисовской: № 20 / Л.Л. Лисовский; слова В. Соловьёва // Песни, романсы и речитативы. – М.: Юргенсон, б. г. М.А. Остроглазов Остроглазов, М.А. На звезды глядишь ты: для одного голоса с аккомп. ф.-п.: оp. 2. № 5 / М.А. Остроглазов; слова В. Соловьёва (из Платона) // Вокальные сочинения М. Остроглазова. – М.; Лейпциг: П. Юргенсон, 1904. – С. 5. А.А. Спендиаров Спендиаров, А.А. Нет вопросов давно (1892) / А.А. Спендиаров; слова В. Соловьеёва. – Армения, 1943. А.А. Тарутин Тарутин, А.А. На звезды глядишь ты…: для голоса с сопровожд. ф.-п. / А.А. Тарутин; слова Влад. С. Соловьёва // Романсы и песни А.А. Тарутина. – СПб.: Циммерман, б. г. – С. 3. А.В. Таскин Таскин, А.В. Нет вопросов давно. Романс. Александре Карловне Рунге-Семеновой: романс: для сопрано или тенора, с сопровожд. ф.-п. / А.В. Таскин; слова Влад. Соловьёва. – СПб.: Ю. Циммерман, 1901. – 5 с. Таскин, А.В. Ветер с западной страны. Ф.Г. Орешкевичу: романс: для голоса с сопровожд. ф.-п. / А.В. Таскин; слова Вл. Соловьёва. – СПб.: К. Леопас, 1903. – 3 с. Сост. М.В. Максимов 134 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ Мы продолжаем публикацию статей, подготовленных авторами на основе докладов Международной конференции «Всеединство и универсализм», состоявшейся 22–25 октября 2009 г. в Спасо-Преображенском монастыре Бозе, Италия. УДК 1(091) ББК 87.3(2)51 NIKOLAOS ASPROULIS Volos Academy for Theological Studies, journal «Theologia», Greece CREATION AND CREATUREHOOD. THE NEO-PATRISTIC ALTERNATIVE WORLDVIEW TO THE «METAPHYSICS OF ALL-UNITY»? A BRIEF APPROACH OF G. FLOROVSKY’S THEOLOGY1 Георгий Флоровский – хорошо известный теолог русской диаспоры в ХХ веке. Будет предпринята попытка описать альтернативное предложение Георгия Флоровского как критику господствующего философского течения того времени в интерпретации данной проблемы, особо отмечая «Метафизику всеединства». В первой части будет кратко представлен подход к этим пересмотренным взглядам, чтобы понять контекст ответа Флоровского. После этого будет предприниматься попытка описать его предложение в основных аспектах, а затем оценить присущие его мысли проблемы и его ограниченное, в нашей интерпретации, отношение к «Метафизике всеединства». Georges Florovsky is a well-known theologian of the Russian Diaspora in the 20th century. In this paper an attempt will be made to describe Georges Florovsky’s alternative proposal, as a kind of criticism to the dominant philosophical stream of his time in interpreting this issue, focusing especially on the «metaphysics of All-unity». Hence, in the first part I will present a brief approach to this Russian revised worldview, in order to understand the context of Florovsky’s answer. After this I will try to describe his proposal in its basic aspects, and then I will evaluate the innate problems of his thought and his narrow –in my estimation, relation to the «metaphysics of All-unity». Ключевые слова: Соловьёв, «Метафизика всеединства», софиология, целостный взгляд, замкнутая онтология, Флоровский, синтез неопатристики, создание, свобода, диалектика. Keywords: Solovyov, «metaphysics of all-unity», sophiology, holistic view, closed ontology, Florovsky, neo-patristic synthesis, creation, freedom, dialectic The relationship between God and the world is diachronically a key-issue for the theological and philosophical thought. Especially the kind and the form, that this relationship can take, seems to be a crucial dimension for the very Christian and ecclesial character of the theological discourse, even in nowadays. It is well-known, the variety of the historical disputes on this problem from the origins of the classical philosophy and of the Christian patristic theology (e.g. Origen, Arius, Athanasius of Alexandria etc.). Asproulis N. Creation and creaturehood 135 The «metaphysics of All-unity» in European thought had existed «since Greek and Christian antiquity (cf. Plotinus, Pseudo-Dionysius) ….and it then travelled through all phases of Western tradition: Eriugena, Leibnitz…» etc. It seems that Allunity was the «leitmotif of all this worldview». The «orthodox sources of Russian philosophy and the ontological basis of the classical Western tradition found their meeting point»2 in the idea of All-unity. In this perspective the two basic philosophical concepts of the «All-unity» and «universality» attempt to describe, or in other words, to solve the above problem of the relationship between God and the world. If this task succeeded, it is outside of the purpose of this brief study. I. The philosophical idea of «All unity» (translation of the Russian term vseedinstvo) constitutes a key philosophical concept, which developed in the Russian religious thought of the 19–20th centuries. It is a term of «mixed etymology», half anglo-Saxon and half latin3, which very often assume many akin to each other meanings, such as «total-unity», «pan-unity», etc. Russian thinkers like Vl. Solovyov, S. Bulgakov, P. Florensky and others based their work primarily on this notion and developed the well-known metaphysics of «All-unity»4. Undoubtedly there are many differences in various aspects (e.g. different variants of «sophiology») among them, though their main task was to apply this important concept as a central element for describing the ultimate realities, finally the relation between God and the world. In this context, «All-unity» as a concept, is closely related to many others central ideas of the same Russian tradition, such as «Sophia», «God-manhood», even with «sobornost»5. All these ideas constitute the necessary parts of a broader metaphysical model for the explanation of the whole reality. It is noteworthy that the origins of this «metaphysics of All-unity» can be traced already back in the classical philosophical thought, and again in a broader sense, in the modern times, anticipating a popular issue in the whole intellectual history and especially in the thought of many thinkers as Hegel, Schelling and others. (See e.g. the close relation between the notions of «All-unity», on the one hand and Schelling’s «All-Einheit», «All-Einigkeit», on the other). For this reason it is not accidental, that Vl. Solovyov (1853–1900)6, for example, the so-called “father of Russian Sophiology”7 was strongly influenced according to many scholars by Spinoza, Boehme’s mysticism, Schelling’s panentheism and others8 attempted to present a synthesis in which philosophy, theology and science would be reconciled. Before diving into Florovsky’s view, I would like to describe in brief the main points or aspects of this «All-unity metaphysics», in order to understand where is the point and the possible difference between the two perspectives. Following two of the main representatives of the Russian sophiological tradition (Solovyov, Bulgakov) I have to pose a question which seems in my estimation at least to be a crucial one. What is the meaning of the All-unity and how does it functions as a hermeneutical-methodological key for the explanation of the relation between God and the world? It has been argued that the central feature in Solovyov’s system was that of «All-unity» or «unitotalité» (in its French version), by which he tried to explain the relation between the one and the many9. According to Solovyov, metaphysics in 136 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 general, aims at understanding the whole reality. In his understanding, reality is comprehended as «one»10, as a «unity which diversifies itself both internally, in the divine life and externally in the sense of the creation of actual individuals»11. This original unity was lost after the emergence of the variety of individuals. Solovyov tried to «grant some ...independence to the members of the All-unity... nevertheless they are as nothing outside their being within the whole»12. Hence the task is the restoration of this original or let’s say of this protological status and unity of the reality. As Solovyov puts it, religion concerned with the «reunion of man and the world with the unconditional and all-one principle»13. In this perspective the ultimate purpose of the universe «is the synthesis of the temporal and the divine-universal reintegration in a living All-unity»14. Expressing, the same idea in different words: «creation is a movement of recovery of the original unity that is manifested in the God-man/ Christ»15. What is the specific meaning of «All-unity» in Solovyov, metaphysics, it is not very clear, because, among other things, of the different phases of his career16. Daring an insecure comment, it could be noted that it is «composed» by two Absolutes or by two poles in one Absolute; the first is the existence or super - existence (=God?) and the other the so-called «kosmos noetos» of Platon, an ideal world, that is characterized by a short of duality; a material and an ideal-divine aspect17. «All-unity» desires to describe a broader reality than merely God, a reality that includes finally both the created and the uncreated into a holistic view. Quoting Solovyov himself «absolute unity is the first positive attribute of all that exists” and “true unity is a unity of multiplicity»18. In more theological terms it can be defined as the idea of «God in all and all in God19». It is necessary to note that the meaning of the «All-unity» could be better realized by using the relatives terms of «Sophia» and «God-manhood». In this context, Solovyov «presents Sophia as the universal substance that unites the tree persons in the Trinity, and is also (as divine) likewise operative in God’s ongoing act of creation and in Church»20. In other words «Sophia explains the particular understanding of the relation of God and the world: God is Sophia, which means that God eternally relates to creation and creation itself-that is created Sophia-is a movement of reconciliation toward divine Sophia»21. Besides P. Florensky, continued Solovyov’s metaphysics, developed farther his sophiology, attempted to place «the doctrine of Sophia in the orthodox liturgical tradition and patristic theology...as the fourth person»22 in God’s being. If this understanding of the «metaphysics of All-unity» (and the «Sophia», etc.) expresses more or less the spirit of Solovyov, and of the other Russian thinkers, one can hardly avoid the crucial question if exists some type of confusion at the relation between the world and God. I believe that this is the basic theological point concerning this study. This question involves the following observations: a. Even if many scholars attempt to overcome this ambiguity in the interpretation of the «All-unity»23, that is the somehow identification of the world with God; this evident holistic approach to the reality, is very difficult to avoid a pantheistic dimension. However in contradiction to this reading, Bulgakov states, trying to explain this issue that «if the world is capable of communion with God, then the world is already, Asproulis N. Creation and creaturehood 137 in some way, in God… (concluding that) this is not pantheism, but (a Christian) panen-theism»24. b. Certainly, Solovyov (and the other sophiologists) has a very strong sense of the reality of God, which implies, in my view, that probably it exists a confusion at some level between his philosophical presuppositions (e.g. German idealism) and his theological and Christian perspective. In spite of the double methodology of his thought, he tries very hard to found his theories on the Christian principles25. In any case, the basic interest of this Russian philosophical school is to render the reality of God, a «God for us», to recall the famous phrase of C. LaCugna, a God for the world, which means a living God who relates himself to the world in order to redeem it. In this respect Bulgakov «affirms the core meaning of Solovyov’s Sophiology=God is always God for me-creation»26. c. To put it directly the issue at stake here is if it is possible to think «God’s being as not in some way relating to creation»27. The real problem emerges when we are confronted with the question, if the creation is a constitutive element for God’s being, or in other words if the life of God is necessarily depended on his creative revelation in the world. In theological terms the issue takes the classic form of the relation between Theology and Economy. d. Despite the various and different aspects in the vision of the main Russian thinkers, I believe that the narrow connection between God and the world not only in intellectu (in metaphysics) but mainly in re (cf. the connection of the soul of the world with the divine Sophia, the view that reduces all the aspects of reality into a total-unity), is really problematic, and could lead into a holistic and closed view, into a perspective that confuses or better denies the ontological otherness between God and the world, between created and uncreated, between being and non being. In other words according to this philosophical worldview the world with the one or the other way presents itself as the necessary locus for God’s revelation. e. Otherwise, if we need to overcome this scheme, I think that we have only two alternative options; on the one hand we can approach God as an impassive being, like Zeus of the ancient Greeks, which was absolutely unrelated to the world, (something that it was the real fear for the Russian sophiology - cf. Bulgakov) or on the other hand we can conceive of a God that desires freely to create a new reality, the world and freely relates himself to this contingent reality, without limited his very being. f. Besides it should be noted that the idea of creation is totally absent especially from Solovyov’s system28, and even further there is a real lack of understanding the relation between the God and the world as a dialectical one, which presupposes the ex nihilo beginning of the created world. In this case the two realities, despite the opposite preoccupation of the Russian sophiology, («God’s being is not dependent on creation, nor is exhausted in God’ relation to creation» according to Bulgakov29) are inter-connected with a kind of an unbreakable ontological continuity and affinity at the level of being. These brief remarks show us that for the «metaphysics of All-unity» God and the world constitutes finally a close circle, a sort of a closed ontology30, without ontological otherness, but also without ontological freedom for the different parts of 138 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 this monistic reality. Everything, the many, have to referred and subordinated to the One, the En, in order to achieve the desired All-unity of the reality. Perhaps it is preferable to describe this worldview as a large circle, which contains within itself the two narrowly interrelated Absolutes, (or better a kind of two homocentric circles). II. In this case what is the possible alternative proposition for describing the relation between God and the world? Georges Florovsky a well known orthodox theologian of the 20th century gives us the means to think due to a different point of view, concerning this crucial issue. If he succeeded to his task is, as we shall see, an open question. He is considered as the father of the famous «neo-patristic synthesis», which constitutes a kind of an alternative (or better an opposite to sophiology) methodological program, based on pure (?) theological principles. By this he tried to explain theologically the whole reality. This program can be presented as an effort to formulate a Christian theological methodology («Christian Hellenism»), as a full theological model, which according to him could diachronically function as a protection for the Christian theology against any kind of philosophical misunderstandings and confusions. Florovsky’s neo-patristic synthesis also implies that «the advancement of thought demands its return….…into its origins…a living connection with these origins», that is the theological sources of Revelation. Before dealing with his thought, two things have to be mentioned. Firstly, it should be noted that Florovsky attempts to criticize the idealistic influences, or better the introduction of the idealistic methodology in the field of the Christian thought, as a return to the pre-christian pagan world. Based mainly on the patristic theology, he desires to construct a theology of creation of the world which was according to him the most urgent task for the entire theological discourse. Because this theology of creation is close related to the vision we have about God ad intra, it is a point of great importance that Christian theology have to deal with it, in order to overcome the further problems and clarify the whole subject. As Florovsky puts it «the idea of Creation is one of the main distinctive marks of the Christian mind. It was much more than the answer to the problem of origins. In this answer the whole further development is already implied»31. Besides, it is noteworthy that, although Florovsky never struggles openly against the leaders of the Russian Sophiology of his time (e.g. Bulgakov), at the same time all his work and especially his essays on creation, seems to be a deep criticism to this sophiological view. Finally which are the basic elements of his «neo-patristic synthesis», relative to our issue? a. The main effort of Florovsky, was the detachment of God from the world, in other words the break of the close holistic worldview of the classic thought, which keeps the whole reality in a close circle, without the sense of freedom, contingency and otherness. The philosophical term «cosmos» describes very well this tragic situation. In contradiction, Florovsky introduces the concept of creation, based mainly on the patristic theology of Athanasius of Alexandria. «The world is created» is a very sort phrase «which emphasizes the real contingency of the world». «A created world is a world which might not have existed at all…it is a derived and depended existence». Furthermore the world had been brought into existence by «the free act of God’»32 (his will), and not from God’s essence. It is a «surplus»33 at the ontological level. Asproulis N. Creation and creaturehood 139 b. This new understanding about the status of the world’s being that it was introduced by the Christian thought, opens a new perspective regarding the relation between God and the world. Firstly, the world does not constitute anymore a presupposed locus for God’s self-revelation or better for the very being of the God. There exists a «hiatus»34 between God and the world. In addition not only the creatures (e.g. the «podvig»=ascetical achievement) but also God in his relation to the world (ad extra) engaged freedom (to create or not). Furthermore for the Russian theologian the beginning of the existence of the world is indentified with the beginning of time. Hence the historical time and history in general acquire now a positive meaning for the human life (because «the begun being is eo35 ipso a historical being»), in contradiction to the utopian trends of the German idealism, seeking for its eschatological, meta-historic accomplishment. c. Since Florovsky had in mind the sophiological tradition, he tried to present a coherent theology of creation as an answer to this challenge. His antinomical (God#world) view offers to us the means to rethink on the relation between God and the world, or better between created and uncreated. Within a clear theological and not philosophical context, Florovsky attempted to overcome the close ontology and the monism of the Russian philosophical tradition, which evidently reflected according to his view the pre-christian Hellenism. Emphasizing the idea of the creation, which is a traditional biblical (Pauline) idea, he succeeded to present through his neo-patristic synthesis an alternative worldview, as an answer to the dominant in his time philosophical stream of Russian sophiology (especially against to Bulgakov). d. After this brief discussion on Florovsky’s thought, a question is still open if this program, the neo-patristic proposition, finally succeeded. In order to answer this question, we have to evaluate the basic difference between the two propositions (All-unity and neo-patristic synthesis). It is true, according to my reading at least, that Florovsky’s program constitutes on the one hand a different and certainly corrective proposal to the sophiology of the Russian thinkers, but on the other hand not also such a radical and really new interpretation and development regarding the relation between God and the world. Let me explain what I mean. III. a. Without exaggeration the key-idea of understanding Florovsky’s program is the idea of creation on which he based all his neo-patristic theology. On the contrary, it is also true that this notion is totally absent in the «metaphysics of the All-unity». Additionally, while the Russian sophiology makes reference very often to a kind of even relative freedom for the creatures (c.f. the different between «epigenesist» and «evolution» used by Florovsky to define the two totally different perspectives in relation to freedom) there is an evident lack of any kind of freedom (obviously an absolute freedom) in the field of God’s very being. Besides Florovsky, distinguishing between the essence and the will of God ad intra, attempts to safeguard God’s being from cosmological motifs, that was a usual situation in the first Christian centuries, and that seems to be repeated by the narrow connection between God’s being and the world. b. However, in spite of his new direction, he does not finally succeed to overcome his deep philosophical roots, that is the same problematic holistic Russian tradition against which he struggles with passion. Although he desires to break the ontological 140 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 affinity and continuity between God and the world, and for this reason he applies the idea of creation, at the same time he prefers to utilize an «ontology of energy»36, which ties up permanently God and the word at the level of being. This is clear when he states that there is no exit «out or from the existence»37 for the created order. To put it in another way, while Florovsky attains to detach the world from God’s being38, which means that he removes the world from its necessary connection or identification to the very being of God (cf. the above mentioned homocentric circles) he finally fails to fully disconnect God and the world at the level of being, provided that there is no any structural use of the ex nihilo concept as a radical and absolute concept concerning the beginning of the created world. The lack of a dialectical relation between God and the world relative to the nihilo as the absolute beginning of the world is of crucial importance for the acceptance of the full ontological transcendence and freedom of God both ad intra and ad extra to his relation to the creation39. Otherwise there is always the danger of some kind of confusion between the levels of Theology and Economy. Put it directly, we don’t have anymore two homocentric circles, but two successive circles at the field of being. References 1The paper is a revised version of a text read at the international conference on “All-unity and Universality” organized by the St Andrew’s Biblical-Theological Institute in Bose, on October 22–25, 2009. It is primarily based on my dissertation project (2008-till now) concerning a methodological comparison between G. Florovsky and Metropolitan John Zizioulas on the topic “Creation, History and Eschata”. 2 S. HORUZHY “Neo-patristic Synthesis and Russian Philosophy” SVTQ 44:3 – 4 (2000) 315. 3 KLINE “Religious roots of S.L. Frank ethics” in J. KORNBLATT-R. GUSTAFSON, Russian Religious thought, (Wisconsin Press, 1996), p.228. 4 Routledge encyclopedia of Philosophy vol. 9 ed. Ed. Graig (1998), col. 31b – 32a. 5 S. HORUZHY “Neo-patristic Synthesis and Russian Philosophy” SVTQ 44:3 – 4 (2000) 314. 6 Cf. F. C. COPLESTON Philosophy in Russia: from Herzen to Lenin and Berdyaev (Notre Dame University Press, 1986) 206 – 212, B. ZENKOVSKY Histoire de la philosophie russe vol. 2, trans. Const. Andronikof, (Gallimard: Paris, 1954) 12–16. 7 J.HAERS-P.D. MEY Theology and conversation: towards a relational theology (Leuven University Press, 2003) 324 (5). 8 F.L.CROSS-E.A LIVINGSTONE (eds) The Oxford Dictionary of the Christian Church (Oxford University Press, 31997) cl. 1517b. cf. the similarity between “All-unity” and the “Great being” of Comte. Cf. also W. BERCKEN-M. COURTEN-E DER ZWEERDE, Vl. Solov’ev: reconciler and polemicist, selected papers (2000) 193, M. CUNNINGHAM-EL. THEOKRITOFF, “Who are the Orthodox Christians?” in The Cambridge Companion to Orthodox Christian Theology (Cambridge University Press: Cambridge, 2008) 11. 9 Y. CONGAR, “Soloviev dans l’ Eglise universelle” in (Colloque Vladimir Soloviev) Nouvelles Institut Catholique de Paris, n.1 (mars-1979) 115, B.DUPUY “Soloviev Vladimir (1853-1900)” in J-Y. Lacoste (dir) Dictionaire critique de Theologie, (PUF: Paris, 1998) 1100. 10 F. C. COPLESTON Philosophy in Russia: from Herzen to Lenin and Berdyaev…op. cit. 222. 11 F. C. COPLESTON Philosophy in Russia: from Herzen to Lenin and Berdyaev…op. cit. 214. 12 W. BERCKEN-M. COURTEN-E DER ZWEERDE, Vl. Solov’ev: reconciler and polemicist, selected papers…op. cit. 194. 13 F. C. COPLESTON Philosophy in Russia: from Herzen to Lenin and Berdyaev…op. cit. 214. 14 Routledge encyclopedia of Philosophy vol. 9 (ed) Ed. Graig (1998), col. 29b. Asproulis N. Creation and creaturehood 15 141 A. PAPANIKOLAOU “Orthodox theology” in The encyclopedia of Christianity vol. 5 (Grand Rapids, Cambridge: Eerdmans Publishing-Brill, 2008) 415a. 16 B. DUPUY “Soloviev…” op. cit. 1100. 17 B. ZENKOVSKY Histoire de la philosophie vol. 2, …op. cit. 36. 18 As mentioned in P. GAIDENKO, “Russian philosophy in the context of European thinking: The case of Vl. Solovyov” Diogenes 222-223 (2009), 24-36 19 F. C. COPLESTON Philosophy in Russia: from Herzen to Lenin and Berdyaev… op. cit. 222. 20 J.HAERS-P.D. MEY Theology and conversation: towards a relational theology,…op. cit. 324. 21 A. PAPANIKOLAOU “Orthodox theology” … op. cit. 415a. 22 J.HAERS-P.D. MEY Theology and conversation: towards a relational theology,… op. cit. 325. 23 Cf. e.g. F. C. COPLESTON Philosophy in Russia: from Herzen to Lenin and Berdyaev…op. cit. 236, A. PAPANIKOLAOU, “’Sophia Orthoi’! The Trinitarian theology of Sergei Bulgakov”, (unpublished paper read at the conference of CTSA, in Romania, 2009). 24 A. PAPANIKOLAOU, “Sophia Orthoi”… op. cit. 11. 25 B. ZENKOVSKY Histoire de la philosophie russe vol. 2, … op. cit. 72. 26 A. PAPANIKOLAOU “Orthodox theology” in The encyclopedia of Christianity vol. 5… op. cit. 415b. 27 A. PAPANIKOLAOU “Sophia Orthoi”… op. cit. 12. 28 B. ZENKOVSKY Histoire de la philosophie vol. 2, …op. cit. 35. 29 A. PAPANIKOLAOU “Orthodox theology” in The encyclopedia of Christianity vol. 5…op. cit. 415b. 30 Cf. in this respect the close ontological view of the classic philosophical thought of Plato and others. 31 G. FLOROVSKY, “The idea of creation in Christian Philosophy” in Eastern Churches Quartely – Supplementary issue: nature and grace - VIII (1949) 53. 32 G. FLOROVSKY, “The idea of creation in Christian Philosophy” op. cit. 54–55, “Creation and Creaturehood” in Collected Works, vol. 3 (Norland Publishing Company: Belmont, Massachusetts, 1976) 43-51. 33 Cf. for instance G. FLOROVSKY “Creation and Creaturehood”… op. cit. 57, “The idea of creation in Christian Philosophy” op. cit. 55 34 Cf. for instance G. FLOROVSKY, “The idea of creation in Christian Philosophy” op. cit. 57 35 S. HORUZHY “Neo-patristic Synthesis and Russian Philosophy” SVTQ 44:3-4 (2000), 325. 36 S. HORUZHY “Neo-patristic Synthesis and Russian Philosophy” SVTQ 44:3-4 (2000), 326 37 Cf. for instance, G. FLOROVSKY, “The idea of creation in Christian Philosophy”…op. cit. 76. 38 Cf. Florovsky’s effort (Cf. for instance G. FLOROVSKY “Creation and Creaturehood”… op. cit. 56) to distinguish in God’s being between two shorts of eternity, relative to the divine plan of the creation of the world on the one hand and God’s essence on the other. Besides in this context it must be mentioned the radical difference between the divine plan as such and the realization in space and time of this plan. 39 It must be mentioned that Florovsky’s program appeared in the middle of a variety of theological trends. Beyond the dominant Russian philosophical theology, he also had to face the Barthian radically dialectic vision (at least his first period) concerning the relation between God and the world. In this respect Florovsky presents himself excessively hesitant to adopt such a radical understanding. 142 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 УДК 130.2:34 ББК 67.00(2) E. PRIBYTKOVA Рурский университет Бохума, Германия LAW AS A MINIMUM OF GOOD: THE CROSS-POINT OF ALL-UNITY AND UNIVERSALISM1 Рассматриваются этико-правовые аспекты идей всеединства и универсализма и их взаимосвязь с учением о праве как «минимуме Добра». Особое внимание при этом обращается на следующие проблемы: 1) правовая концепция всеединства, разработанная В. Соловьёвым и его последователями; 2) трактовка права как «минимума Добра», ставшая искомой формулой морального оправдания права в теории всеединства; 3) интерпретация теории этического минимума в различных христианских традициях и ее значение для понимания того, в чем сходны и различны право, нравственность и религия в современном обществе; 4) «минимум Добра» как универсальная формула примирения в плюралистическом обществе и точка пересечения идей всеединства и универсализма. In my paper I examine ethical-legal aspects of the ideas of all-unity and universalism and their interrelation with the doctrine of law as a “minimum of Good”. I will focus on several questions: 1) the legal conception of all-unity developed by Vl. Solov’ev and his followers; 2) the definition of law as a minimum of Good, which was the favored formula of the moral justification of law in the all-unity doctrine; 3) the interpretation of the theory of the ethical minimum in different Christian traditions and its meaning for an understanding of how law, morality, and religion intersect and diverge in contemporary societies; 4) “minimum of Good” as a universal formula of consensus in the pluralistic society and the crossing point of the ideas of all-unity and universalism. Ключевые слова: этико-правовые аспекты идей всеединства и универсализма, право как «минимум Добра», интерпретация теории этического минимума в различных христианских традициях, право, нравственность и религия в современном обществе. Key words: ethical-legal aspects of the ideas of all-unity and universalism, law as a «minimum of Good», interpretation of the theory of the ethical minimum in different Christian traditions, law, morality and religion in contemporary societies. 1. The first attempt to create an integral conception of law in Russia belongs to a philosopher and religious thinker, Vl. Solov’ev. The legal conception of all-unity he developed is a moral-religious interpretation of the integrative approach, which seeks to elaborate an integral (tselostnoe) knowledge of law and to show its correlation with the order of the absolute ends of a person. The legal theory of all-unity considers law as a polyphonic phenomenon. From Vl. Solov’ev’s point of view, legal ontology is not exhausted by rational and empirical elements of law. Legal philosophy as a system should first of all provide an insight into a spiritual idea (moral-religious foundations) of law. The epistemological aspect of the conception of all-unity was the theory of “integral knowledge“, which synthesizes religious, philosophical, and scientific methods of knowledge of law. In his works “The Justification of the Good” (1897) and “Law and Morality” (1897) Solov’ëv regarded law as a triune phenomenon constituted by psychological determinants, rational meaning, and a spiritual idea. The integrative approach in jurisprudence was developed by outstanding legal philosophers at the turn of the twentieth century. I. Il’in (1883–1954) supposed that Pribytkova E. Law as a Minimum of Good 143 the true definition of law unites the rational meaning of law and its moral idea (“the basic nature of law”, its “spiritual foundations”)2. According to the synthetic conception of A. Jaðèenko (1877–1934), the essence of law is determined by a combination of its several hypostases; law is simultaneously a kind of ethical norm realizing moral-religious values of the society, an internal collective-psychological fact and an objectified social phenomenon. In the opinion of N. Alekseev (1879–1964), legal values are a necessary element of the structure of law. In the pluralistic legal conceptions of B. Kistiakovsky (1868–1920), P. Sorokin (1889–1968), and G. Gurviè (1894–1965) law is considered to be a social, psychological, and normative phenomenon and it expresses the tendency to do what is right and just in the concrete social order. 2. An important peculiarity of the “Russian project” of the integrative conception of law was the accent on the internal connection between law and the ultimate basis of reality and an explanation of the involvement of law in the ethical world. The personification of this tendency was the definition of law as an “ethical minimum” adopted from Western legal philosophy (G. Jellinek, E. von Hartmann3) that received its moral-religious foundation in Solov’ëv’s works. This definition answered the main purpose of the doctrine of all-unity – to reconcile rival legal traditions. Vl. Solov’ev and his followers contributed to the recognition of the emancipation of law from morality, but then developed their own strategy for the moral justification of law. By offering the ethical minimum as a new criterion of the moral validation of law, they fulminated against “the senseless and pernicious experiments in compulsory righteousness and obligatory holiness”4. Vl. Solov’ev substantiates law as a necessary condition of the fulfillment of the “absolute Good”. He came to the conclusion that the amount of ethical requirements guaranteed by law in comparison with the entire field of ethical norms needed for human ‘perfection’ is minimal. Legal rules always make a modest demand on the fulfillment of good ends, which is “the lowest limit or the definite minimum of morality”. This thesis was the basis of his axiological definition of law: “law requires the realization of a certain minimum good; it is an order that does not admit of evil.”5. The ethical potential of law increases or diminishes in accordance with the moral standing of society. Law and morality are inseparable in their progress and decline: in any given legal order there occurs a constant realization of the moral convictions of the age. The fundamental norms of an ethical social order in the absence of which society could not live and develop must have legal protection. In other words, a publicly secured minimum of Good serves as a criterion for lawfulness. The limits of the minimum of Good protected by law and the legal aspect of justice are defined by the philosopher by appealing to the idea of an equitable balance between individual freedom and the common weal, which is a specific character of law6. Solov’ëv restates his conception in “The Basis of the Social Concept” of the Russian Orthodox Church (IV. 2): The law is called to manifest the one divine law of the universe in social and political realms. At the same time any legal system developed by the human community, being as it is a fruit of historical development, carries a seal of limitation and imperfection. <...> The law contains a certain minimum of moral standards compulsory for all members of society7. 144 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 3. A moral-religious explanation of the theory of the ethical minimum - “theology of moral minimum” (R. Hofmann) – is reproduced in the conception of the Austrian philosopher, a representative of the Catholic social doctrine Johannes Messner (1891–1984). He defined law as a “moral minimum necessary for the existence of society”8. The concept of the ethical minimum in law he considered to be a logical consequence of the religious interpretation of the theory of natural law, the best example of which was developed in Thomism. The doctrine of natural law theoretically considers a positive law to be a certain minimum of realization of morality necessary for the existence and life of society and in practice always held the opinion that a person meets a requirement of justice when she acts in accordance with the laws of her community so long as she has no reasons to consider them unjust9. According to Messner, law as a social order is always in complete agreement with the order of the existential ends of a person and is directly connected to her moral responsibility. By means of the natural law the natural moral-legal consciousness of a person reveals the fundamental requirements of the social order, which are elevated to the status of moral-legal principles10. In his opinion, legal rules cannot contradict the natural law of morals [Sittengesetz]. When law is incompatible with the existential ends of persons it conflicts with its moral nature and looses therefore its legal fundament (as stated in the doctrine of natural law)11. An interesting continuation the theory of the ethical minimum is found in the conception of justice as a “minimum of the demand of love” of the Belgian philosopher and a Catholic theologian, L. Janssens (1908–2001). Justice… has as its object the minimum of objective elements and relations needed to make love possible and to safeguard it12. The duties of justice, the philosopher supposes, are most urgent and must be fulfilled first. “This does not mean that justice ranks higher than love or can be separated from it. But justice deals with the strictly necessary minimum of love’s obligations.” The minimum of love thereby constantly changes. What formerly were considered acts of love are now viewed as duties of justice13. Because love knows no bounds, the legal order will be never “finished”14. These ideas were further developed in the works of the Dutch thinker W.A. Luijpen (1922– ). He agrees with Janssens that justice is a readiness to guarantee a minimal demand of love. “The minimum of the demand of love, the demand which human existence as co-existence itself is, can thus be formulated as the most fundamental right of the other.”15 This minimum is called a “right” and is understood as the moral force of the subject to fulfill her own individuality and her own world16. The other’s right is the minimum of my “yes” to his subjectivity, a “yes” called by my existence as a “having to be for the other”, as an “ought” on the level of co-existence17. Luijpen compares laws realizing a minimal demand of love with a “barrier which permanently robs the ‘wolf’ in man of his chances”18. The legal order is the first step on the effective humanization of society, the first success in taming the “wolf”, the first victory over barbarism. This allows the determination of law as a “minimum of humanity” whose boundaries constantly shift19. He emphasizes that dynamism of love changes the legal order. The ethical progress of the legal order is a true indicator Pribytkova E. Law as a Minimum of Good 145 of the level of love achieved in the society. It is evident that reciprocal love among persons is necessary for the effectiveness of the legal order. Moreover, it is evident that in a society where love is absent there is absolutely no real sense of rights20. 4. Since the second half of the twentieth century the accent has shifted to the discussion of the role of law and morality in the multicultural world, and the meaning of the central category of the doctrine – the ethical minimum – has been transformed from a social-ethical to the intercultural element of law (the “cultural minimum,” in the expression of A Uhle). In this regard the „ethical minimum” is considered to be the only possible form of the ethos and at the same time a fundamental value within legal communication in the pluralist society (J. Messner, R. Hofmann, G. Küchenhoff, R. Marcic, A. Kaufmann and G. Deussen). The great achievement of the theory of the ethical minimum consists in the fact that it manages to express a crucial rule: law does not lay claim to something other than the realization of the “ethical minimum”; this function of law, as noted by Marcic, is important in a modern pluralist society in which law is now the most predominant basic condition for existence on Earth21. The first serious investigation of the notion of “minimum” in jurisprudence belongs to G. Küchenhoff (1907–1983) – a German lawyer and professor of the University of Würzberg. In the article “The concept ‘minimum’ in jurisprudence” (1959), he describes „the general minimum” as “the general minimum in interests, values, and ideas“22. This general minimum is „the foundation of the unity in diversity of communities of different types and the bonding medium in the pluralist society.”23 From his point of view, „the unity“ in multicultural society can be imagined as „a minimal unity”24. In as much as law does not make high moral demands and contains only an “ethical minimum” it is possible in principle to come to an agreement concerning the fundamental practical norms of human behavior25. This minimal basis should not be a kind of compromise, but a thorough recognition of the foundation of values of legal communication26. In his article “The moral minimum in the plural society“ (1969) a professor of the moral theology in Freiburg, Rudolf Hofmann (1904–1994), formulates important ideas concerning the methodology of the determination of the moral minimum as well as the role of the Catholic Church in the contemporary multicultural world. He describes the moral minimum as “the core of the value and the obligatory meanings of morality in seeking to protect, preserve, and favour the development of society as the main condition of their existence and ordered co-existence as well as their function to serve the common good”27. That is why the moral minimum as the core of general morality is an unremovable necessity in the multilevel pluralism of our society28. Three levels constitute the moral minimum: (1) concrete norms, (2) fundamental moral values, and (3) a basic world outlook29. In determining the moral minimum quantative methods should be avoided as well as the reduction or minimization of moral responsibility and ideological interpretations. The moral minimum cannot be discerned by means of calculation, compromise or an induction from concrete values, but solely by understanding the profound value foundations of human life and coexistence30. The formulation of the moral minimum is possible only within the bounds of an equal and free dialogue and the internal harmonization of all three levels. The starting point is recognition of the absolute value of a person and her inalienable dignity. 146 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Hofmann formulates a categorical imperative for society as follows: exert every effort to achieve full-fledged integral substantiation of the moral minimum. The role of the Church does not consist in formulating or prescribing these norms but in contributing to a free dialogue, mutual understanding, recognition and integration of values. Thus, in the inter-confessional and secular discussions of the correlation of law and morality in contemporary pluralist society, the doctrine of law as the “minimum of Good,” seeking the common basis of diverse conceptions of values which is “indifferent to the difference of cultures” (O. Höffe), seems to be the meeting point of the ideas of all-unity and universalism. References 1 The Research is supported by Russian Humanitarian Scientific Fund (RGNF), research project № 08-03-00662а – “The theory of the ethical minimum in history and the present”. 2 I. Il’in. O suð ènosti pravosoznanija. In Sobranie soèinenij (Vol. 4). Moscow: Russkaja kniga. 1994. P. 188, 191, 208, 212 ff. 3 G. Jellinek. Die sozialethische Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe. II. durchgesehene Auflage. Berlin. 1908. S. 45; E. von Hartmann. Das sittliche Bewusstsein. Eine Entwickelung seiner mannigfaltigen Gestalten in ihrem inneren Zusammenhange mit besonderer R ücksicht auf brennende soziale und kirchliche Fragen der Gegenwart. 2. Aufl. Berlin, 1886. S. 427–428. 4 V.S. Solov’ev. [V. Solovyof] The Justification of the Good: An Essay in Moral Philosophy. London. 1918. P. 455. 5 V.S. Solov’ev. Pravo i nravstvennost’ [Law and Morality]. Minsk, 2001. P. 33, 35. 6 Ibid. P. 40. 7 The Basis of Social Concept” of Russian Orthodox Church”. See: Official Web Server of the Moscow Patriarchate: URL: http://www.mospat.ru/index.php?mid=90. 8 J. Messner. Das Naturrecht. Handbuch der Gesellschaftsethik, Staatsethik und Wirtschaftsethik. 4. Aufl. Berlin. 1960. S. 202. 9 Ibid. S. 199. 10 Ibid. S. 201. 11 Ibid. S. 202-203. Compare with: V.S. Solov’ev. [V. Solovyof] The Justification of the Good. P. 380; A. Jaðèenko. Teorija federalisma. In Filosofija prava Vladimira Solov’eva. Teorija federalisma. Opyt sintetic∨eskoj teorii prava i gosudarstva. Saint-Peterburg: Aletejja. 1999. P. 135, 118. 12 L. Janssens. Naastenliefde en rechtvaardigheid // Kultuurleven. Vol. XIX (1952). P. 12. Цит. по: W.A. Luijpen. Existential phenomenology. Pittsburg. 1962. P. 244. 13 Compare with: “Today’s justice is yesterday’s love; today’s love is tomorrow’s justice”. M. Gillet. Justice et Charite // Semaine sociale de France. 1928. P. 132. 14 Ibid. P. 15, 18-20. Cit.: W.A. Luijpen. Existential phenomenology. P. 246, 258. 15 W.A. Luijpen. Phenomenology of Natural Law. Pittsburgh. 1967. P. 180. 16W.A. Luijpen. 1) Existential phenomenology. P. 244, 250; 2) Phenomenology of Natural Law. Pittsburgh. 1967. P. 181. 17 W.A. Luijpen. Phenomenology of Natural Law. P. 180. 18W.A. Luijpen. 1) Phenomenology of Natural Law. P. 207; 2) Existential phenomenology. P. 250. In harmony with this expression is the following thought of A.I. Solzhenitsyn: “Law is a minimum of moral requirements to a person, below which she is dangerous for the society”. See: A.I. Solzhenitsyn. Kak nam obustroit’ Rossiju. Posil’nye soobra þenija // Special’nyj vypusk. Broðura k gazette “Komsomol’skaja Pravda”.18 September 1990. – URL: http://www.lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/ s_kak_1990.txt. Матушанская Ю.Г. Мессианское движение в Российской Империи 147 19W.A. Luijpen. Existential phenomenology. P. 248. Existential phenomenology. P. 258–259. 21Marcic R. Um eine Grundlegung des Rechts. Existentiale und fundamentalontologische Elemente im Rechtsdenken der Gegenwart // Kaufmann A. (Hrsg.) Die ontologische Begründung des Rechts. Darmstadt. 1965. S. 547. The Austrian lawyer characterizes Vl. Solov’ev’s position as a “universalpolitical standpoint”. 22G. K üchenhoff. Der Begriff des „Minimum“ in der Rechtswissenschaft // Neue Juristische Wochenschrift. 1959. 12. Jhrg. 2. Halbband. S. 1254. 23G. Küchenhoff. Rechtsbesinnung. Eine Rechtsphilosophie. Göttingen. 1973. S. 15–16. 24 Ebd. S. 19. 25See also: Maritain J. Man and the State. Chicago. 1951. P. 76-77. 26 G. K üchenhoff. 1) Der Begriff des „Minimum“ in der Rechtswissenschaft. S. 1254; 2) Rechtsbesinnung. Eine Rechtsphilosophie. S. 17-18; G. Küchenhoff, E. Küchenhoff. Allgemeine Staatslehre. 8. überarb. u. erg. Aufl. Stuttgart. 1977. S. 27, 223–224. 27R. Hofmann. Das sittliche Minimum in der pluralen Gesellschaft // Theologische Quartalschrift. 1969. Nr. 149. S. 30. 28Ebd. S. 29. 29 Ebd. S. 31. 30 Ebd. S. 29. 20W.A. Luijpen. УДК 1(091) ББК 87.3(2)51 Ю.Г. МАТУШАНСКАЯ Казанский государственный технологический университет МЕССИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНТЕКСТЕ ИДЕИ ВСЕЕДИНСТВА В. СОЛОВЬЁВА В конце XIX – начале XX в. во всем мире возникают национальные движения, идеология которых обращается к легендам и мифам своего народа. Для евреев таким легендарным прошлым стало время библейских пророков. Это явление М. Бубер назвал еврейским романтизмом. К данному ряду можно отнести и мессианский иудаизм, который вписывается в идею положительного всеединства Соловьёва как одно из осуществлений всеобъемлющей цели исторического процесса, со-деятельность Бога и людей и приближение к идеалу Богочеловечества. At the end of the XIX century and the beginning of the XX centuries all over the world the national movements began, and their ideology addresses to legends and myths of their nation. For Jews the time of Biblical prophets became such a legendary past. M. Buber called this phenomenon the Jewish romanticism. The Messianic Judaism is included into the idea of Solovyov’s positive all-unity, as one of realization of all-embracing purposes of the historic process, co-activity of God and people and approaching the ideal of God-Manhood. Ключевые слова: мессианский иудаизм, сионизм, Израиль, всеединство, библейские пророки, Богочеловечество. Keywords: the Messianic Judaism, the Zionist movement, Israel, all-unity, Biblical prophets, God-Manhood. Традиционно считается, что у западной цивилизации три основных источника: Библия, греко-римская культура и варварская культура. Тенденции универсализма и национально-религиозной обособленности, существовавшие внут- 148 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 ри еврейской культуры и нашедшие отражение в Ветхом Завете, в эпоху эллинизма привели еврейский народ к внутреннему конфликту. Именно этот конфликт и послужил возникновению ощущения «конца света» в еврейском обществе I в. н. э, породившего множество мессианских движений в Иудее, одним из которых было раннее христианство. Конфликт греко-римского рационализма и библейской картины мироздания раскрыл философ русского зарубежья Л. Шестов1, вслед за Тертуллианом противопоставив Афины – Иерусалиму. Согласно философии истории А.Тойнби, движение истории определяется полнотой и интенсивностью «Ответа» на «Вызов», мощью «Прорыва», направленного навстречу божественному Призыву. Каждый раз человечество дает разные «Ответы» на «Вызов» истории. Поскольку «Вызовы» и «Ответы» в различных цивилизациях – различны, и сами цивилизации оказываются непохожими одна на другую2. Внутренний конфликт в культуре также является вызовом в данном контексте. В конце XIX – начале XX в. в России назревает ситуация, близкая к той, что была в Иудее начала нашей эры. Ситуация внутреннего конфликта, которая привела к революциям и смене власти. Этот конфликт не могли не чувствовать философы Серебряного века, такие как Владимир Соловьёв. Ответом на этот Вызов истории в философии Соловьёва стала идея положительного всеединства, которая выражает органическое единство мирового бытия, взаимопроникновение составляющих его элементов при сохранении их индивидуальности. Положительное всеединство, согласно Соловьёву, предстает как благо, истина и красота. Соловьёв пишет: «Нет, правда, такой мерзости, которая не признавалась бы где-нибудь и когда-нибудь за добро; но вместе с тем нет и не было такого людского племени, которое не придавало бы своему понятию добра (каково бы оно ни было) значение постоянной и всеобщей нормы и идеала»3. Таким образом, во главе всегда стоит этический идеал. Однако, «оправдавши добро как таковое, – пишет Соловьёв, – в философии нравственной, мы должны оправдать добро как Истину в теоретической философии»4, т. к. «абсолютное осуществляет благо через истину в красоте». На убежденности в том, что человек участвует в мировом процессе, строится вся онтология добра Соловьёва5. Это же убеждение составляет основу его идеи Богочеловечества6. Поскольку наиболее актуальными на тот период были назревающие исторические перемены, интересно отношение Соловьёва к истории. Соловьёв так обосновывает философию истории: «У истории (а следовательно, и у всего мирового процесса) есть цель, которую мы, несомненно, знаем, – цель всеобъемлющая и вместе с тем достаточно определенная… Это идеал «всеобщей солидарности», осуществление «истинного всеединства»… Я называю истинным, или положительным, всеединством такое, в котором единое существует не за счет всех или в ущерб им, а в пользу всех. Ложное отрицательное единство подавляет или поглощает входящие в него элементы и само оказывается, таким образом, пустотою; истинное единство сохраняет и усиливает свои элементы, осуществляясь в них как полнота бытия»7. В конце XIX – начале XX в. во всем мире возникают национальные движения, идеология которых обращается к легендам и мифам своего народа. Для Матушанская Ю.Г. Мессианское движение в Российской Империи 149 евреев таким легендарным прошлым стало время библейских пророков. Именно обращением к социальным ценностям пророков М. Бубер объясняет интерес многих евреев к утопическим идеологиям, таким как марксизм. С обращением к временам славы еврейского государства связано и сионистское движение. Это явление Бубер назвал еврейским романтизмом. К данному ряду можно отнести и мессианский иудаизм, появившийся на территории Российской Империи в конце XIX века в Кишиневе. Иосиф Рабинович, еврейский общественный деятель, посетил землю Израиля в 1882 году. Иосиф приехал в Эрэц Исраэль по поручению еврейских организаций, чтобы увидеть собственными глазами, каким образом идут дела у еврейских поселенцев. Проблемы оказались сложными. И вот Иосиф, сидя на склоне горы, размышлял о судьбе евреев. Далее по стенограмме из книги К. Кьер-Хансена: «Неожиданно одно слово из Нового Завета, слово, которое он прочитал 15 лет назад и на которое тогда не обратил внимания, как луч света пронзило его сердце: “Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете” (Ин.8: 36). С того самого момента его душе открылась истина, что Иисус есть Царь, Мессия, Единственный, Кто может спасти Израиль. Он был глубоко затронут своим открытием, вернулся в свою комнату и достал с полки Новый Завет. Когда он читал Евангелие от Иоанна, следующие слова глубоко поразили его: «Без Меня не можете делать ничего» (Ин.15:5). Таким образом, через провидение Всемогущего Бога он был просветлен евангельским светом. С тех пор его девизом стали слова «Иешуа Ахину» (Иисус – брат наш), эти слова были с ним, когда он возвратился в Россию»8. Надо сказать, что первые христиане также не считали себя приверженцами новой религии. Они существовали в пространстве еврейской культуры и рассматривали свое религиозное движение как исполнение иудейских пророчеств, начало эсхатологического Израиля9. В этом смысле обращение Рабиновича было возвращением к варианту иудаизма I в.н.э. В Кишиневе Рабинович познакомился с лютеранским пастором Фалтиным, который помог ему с организацией общины, так как на проповедь Рабиновича откликнулось множество евреев. Так как всякое крещение в царской России происходило только по разрешению правительства с последующей регистрацией крещенного как прихожанина той деноминации, в лоне которой произошел обряд, и так как мессианского движения в официальных документах не существовало, все крещенные из общины Рабиновича автоматически становились лютеранами в государственных списках. Не избежал этой участи и сам Рабинович. Так, община Рабиновича формально исчезла, однако все последующие мессианские общины во всем мире считают себя его последователями. Независимо от Рабиновича раввин Леопольд Коэн, выходец из Венгрии, к 1937 г. создал в Бруклине в Нью-Йорке общину верующих в Иешуа евреев. Его семья продолжила его деятельность, положив начало миссионерской работе в этом направлении10. В догматике мессианского движения признается роль Иисуса Христа как Мессии. Принимается догмат об искуплении грехов посредством жертвоприношения на кресте и воскресения Иисуса. При этом мессианские евреи придерживаются и типично иудаистских положений, таких как кашрут (не 150 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 всегда), и празднуют еврейские религиозные праздники. Многие христианские понятия переведены на иврит. Это обосновано тем, что христианство изначально возникло в лоне иудаизма и все основополагающие христианские понятия, такие как крещение или причастие, имеют иудейское происхождение. Так, причастие – это воспоминание о Тайной вечере, которая является Пасхальным седером, проведенным Иисусом, скорее всего по ессейской традиции за день до официальной еврейской Пасхи. Ритуальное омовение, называемое крещением, близко по форме к иудейской микве, хотя наполнено новым смыслом, так как это – « не плотской нечистоты омытие, а обещание Богу доброй совести» (1 Пет. 3:21). Проблема отношений иудеев и христиан занимала мыслителей Серебряного века. Одно из наиболее сочувственных, возможно, отношение В.Ф. Марцинковского11. Однако и он смотрел на проблему с точки зрения христианства. Погромы в России показали нетерпимость православного населения того времени к иноверию, однако теоретического понимания диалога, такого, каким мы видим его у Мартина Бубера12, еще не было разработано. Тем более не существовало еврейского варианта христианства, сохраняющего ценность, как христианской веры, так и иудейской традиции. Сам феномен мессианского движения на фоне катаклизмов российской истории православной церковью практически не был замечен. Исключение составляют Вл. Соловьёв и о. А. Мень. О. Александр Мень высказался об И. Рабиновиче так: «Я не думаю, что такие опыты, которые предпринимал Иосиф Рабинович и другие проповедники, имели смысл. Деятельность Рабиновича была попыткой все-таки ассимилировать еврейские группы. Она была очень непоследовательна. Будущее разрешение конфликта должно быть иным»13. Мнение Соловьёва относительно деятельности И. Рабиновича было более позитивным. Иосиф Рабинович и Владимир Соловьёв были знакомы. В 1885 г. Соловьёв написал статью «Новозаветный Израиль», в которой положительно отзывался о миссионерской деятельности Рабиновича14. В некрологе И. Рабиновичу (1899) Соловьёв в качестве причины, приведшей, по его мнению, к неудаче общины Рабиновича, назвал христианский антисемитизм. В «Чтениях о Богочеловечестве» Соловьёв пишет, что Бог открылся евреям как универсальная идея, как всеобъемлющая любовь. При этом именно еврейские пророки были величайшими патриотами, проникнутыми национальной идеей. Именно поэтому они и должны были понять ее как всеобщую, предназначенную для всех, внутренне объединяющую все человечество и весь мир. По мнению Соловьёва, истинный патриотизм свободен от народной исключительности и эгоизма, а истинный универсализм должен быть расширением или универсализацией народной идеи. Так, в контексте деятельности И. Рабиновича само по себе возвращение на Сион, ставшее национальной идеей евреев, начиная с Вавилонского пленения, – это возвращение к месту святости Храма Единого Бога. А обращение к Христу – это в то же время и возвращение Рабиновича к своим еврейским корням. Именно поэтому оно произошло на Земле Израиля. В curriculum vitae 1887 года Соловьёв пишет, что после прекращения профессорской деятельности он сосредоточил свои занятия «на вопросе о соединении церквей и о примирении христианства с иудейством». Первое его сопри- Матушанская Ю.Г. Мессианское движение в Российской Империи 151 косновение с еврейским миром происходит в 1881 году: он задумывает статью об иудействе и знакомится с Файвелем Бенциловичем Гецом, который снабжает его книгами по еврейскому вопросу. Дружба Соловьёва с Гецом продолжается до самой смерти философа. Соловьёв читает Библию и Талмуд. В статье «Еврейство и христианский вопрос» автор пишет, что еврейский вопрос есть вопрос христианский. Иудеи всегда относились к христианам, согласно предписаниям своей веры, по-иудейски; христиане же доселе не научились относиться к иудейству по-христиански, пишет Соловьёв. Еврейству и его истории посвящен ряд других статей Соловьёва: «Талмуд и новейшая полемическая литература о нем в Австрии и Германии», «Евреи, их вероучение и нравоучение», «Когда жили еврейские пророки?». «История и будущность теократии» распадается на две части. Историческая часть – свободная экзегеза Ветхого Завета. Замысел Соловьёва проследить развитие теократической идеи на протяжении всей истории еврейского народа представляется значительным и плодотворным. Теократическая концепция Соловьёва связана с изучением истории «боговластия» Ветхого Завета15. Таким образом, тенденции универсализма и национально-религиозной обособленности, существующие внутри еврейской культуры, а также возвращение к культурным аллюзиям эллинистического иудаизма в контексте романтических настроений привели в конце XIX – начале XX в. к коллизии, давшей начало новому культурному феномену. Мессианский иудаизм вписывается в идею положительного всеединства Соловьёва как одно из осуществлений всеобъемлющей цели исторического процесса, со-деятельность Бога и людей и приближение к идеалу Богочеловечества. Примечания 1 Шестов Л.И. Афины и Иерусалим. СПб., 2001. Уколова В.И. Арнольд Тойнби и постижение истории // Тойнби А.Дж. Постижение истории. М., 1991. С. 11–13. 3 Соловьёв В.С. Оправдание добра // Соловьёв В.С. Соч. В 2 т. М., 1990. Т.1. С. 98. 4 Там же. С. 547. 5 Горелик К.В. Этика всеединства в философии Владимира Соловьёва // Минувшее и непреходящее в жизни и творчестве В.С. Соловьёва: Материалы междунар. конф. 14–15 февраля 2003 г. Серия “Symposium”, вып. 32. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. С. 189–196. 6 Бердяев Н.А. Основная идея Вл. Соловьёва / Н.А. Бердяев о русской философии. Ч. 2. Свердловск, 1991. 7 Соловьёв В.С. Соч. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 552. 8 Кьер-Хансен К. Иосиф Рабинович и мессианское движение. СПб., 1997. С. 17–18 9 Данини Д.Д. Единство и многообразие в Новом Завете. Исследование первоначального христианства. М., 1997. С. 270. 10 Sevner H.A. A Rabbi’s Vision. Charlot, 1994. 11 Марцинковский В.Ф. Христос и евреи. СПб., 1992. 12 Бубер М. Два образа веры. М., 1995. 13 Мень А. Возможно ли иудеохристианство? // Континент. 1998. № 95. 14 Соловьёв В.С. Собрание сочинений. В 10 т. СПб., 1911–1914. Т. IV. С. 207. 15 Мочульский К.В. Владимир Соловьёв. Жизнь и учение. Париж, 1936. 2 152 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 НАШИ АВТОРЫ Роцинский Станислав Борисович д-р филос. наук, профессор кафедры философии Российской академии государственной службы при Президенте РФ, E-mail: [email protected] Евлампиев Игорь Иванович д-р филос. наук, профессор кафедры истории философии философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета, E-mail: [email protected] Парилов Олег Викторович д-р филос. наук, доцент, декан философскотеологического факультета, профессор кафедры философии и теологии Нижегородского государственного педагогического университета, E-mail: [email protected] Треушников Илья Анатольевич д-р филос. наук, доцент, начальник кафедры философии Нижегородской академии МВД России, E-mail: [email protected] Глазков Александр Петрович канд. филос. наук, доцент кафедры философии Астраханского государственного университета, E-mail: [email protected] Пилецкий Сергей Григорьевич канд. филос. наук, доцент кафедры философии и истории Ярославской государственной медицинской академии, E-mail: [email protected] Крохина Надежда Павловна канд. филол. наук, доцент кафедры культурологии и литературы Шуйского государственного педагогического университета, E-mail: [email protected] Кузин Юрий Дмитриевич доцент кафедры философии Ивановского государственного энергетического университета, E-mail: [email protected] Максимов Михаил Викторович д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой философии Ивановского государственного энергетического университета, руководитель Соловьёвского семинара, гл. редактор журнала «Соловьёвские исследования», E-mail: [email protected] 153 Наши авторы Nikolaos Asproulis PhD (candidate), member of the Volos Academy for Theological Studies, collaborator of the official scientific journal «Theologia» of the Church in Greece, E-mail: [email protected] Прибыткова Елена Анатольевна канд. юрид. наук, доцент, науч. сотр. Рурского университета г. Бохума, Германия, E-mail: [email protected] Матушанская Юлия Григорьевна канд. филос. наук, доцент кафедры философии Казанского государственного технологического университета, E-mail: [email protected] 154 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛ «СОЛОВЬЁВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» Подписка на ежеквартальный научный журнал «Соловьёвские исследования» осуществляется в любом почтовом отделении Российской Федерации. Условия подписки – в Каталоге Агентства «Роспечать» (раздел «Журналы России»). Индекс для подписчиков – 37240. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ Для публикации в журнале «Соловьёвские исследования» принимаются научные статьи, обзоры, рецензии, соответствующие тематике журнала. Стоимость публикации 150 руб. за 1 страницу. Подписчики журнала «Соловьёвские исследования» и аспиранты публикуют свои статьи на бесплатной основе. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 1. Текст подается на электронном носителе в редакторе WORD с распечаткой либо по электронной почте [email protected] Шрифт – Times New Roman, кегль – 11, формат страницы – А4. Поля: верхнее – 1,5 см, нижнее, правое и левое – 2 см, размер бумаги: ширина – 16,5 см, высота – 23,5 см. Сноски – в конце статьи, выполняются вручную (без применения автоматической расстановки сносок), заголовок – «Примечания», шрифт – Times New Roman, кегль – 9. Кавычки по всему тексту только угловые. Автоматический перенос слов включён. Межстрочный интервал по всему тексту – одинарный. Отступ абзаца – 1 см. 2. Файлы с материалами должны быть названы по фамилии автора. 3. Структура текста статьи должна быть следующей: - ФИО автора/авторов (инициалы ставятся перед фамилией) должны быть напечатаны в правом верхнем углу прописными (заглавными) полужирными буквами без указания степени и звания, кегль – 11, интервал – 1.0.; - через 1.0 интервал строчными буквами указывается полное название организации и город, кегль – 9; - через 1.0 интервал печатается название статьи посредине строки прописными (заглавными) буквами, полужирный шрифт, кегль – 11, интервал – 1.0, перенос запрещен; - через 1.0 интервал печатается аннотация (не более 6 строк) на русском языке, кегль – 9, курсив; О подписке на журнал 155 - через 1.0 интервал печатается аннотация на английском языке, кегль – 9, курсив; - через 1.0 интервал печатаются ключевые слова на русском и английском языках, кегль – 9, курсив; - через 1.0 интервал печатается текст статьи, кегль 11, интервал 1.0; - через 1.0 интервал печатаются примечания, кегль – 9. 4. Отдельным файлом представляется авторская справка по следующей форме: – ФИО полностью; – ученая степень и ученое звание; – должность, название кафедры, отдела, сектора и др.; – название организации (полное) – места работы; – почтовый индекс и адрес организации – места работы; – почтовый индекс и адрес для переписки; – телефон; – E-mail Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей. При отклонении материалов рукописи не возвращаются. 156 Соловьёвские исследования. Выпуск 3(27) 2010 Главный редактор МАКСИМОВ Михаил Викторович СОЛОВЬЁВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Вып. 3 (27) 2010 Редактор Н.С. Работаева Компьютерная верстка и макетирование Н.В. Королева Обложка А. Лебедев Подписано в печать 25.08.2010. Формат 70х100 1/16. Печать плоская. Усл. печ. л. 12,68. Уч.-изд. л. 13,52. Тираж 350 экз. Заказ № ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34. Типография «ПресСто» 153025, г. Иваново, ул. Дзержинского, 39.