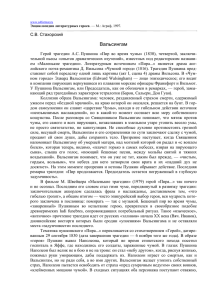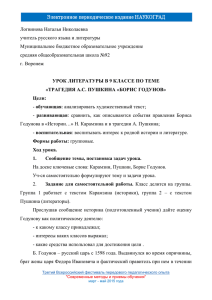ОСОБЕННОСТИ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ И ДИАЛОГИЧЕСКОЙ
реклама
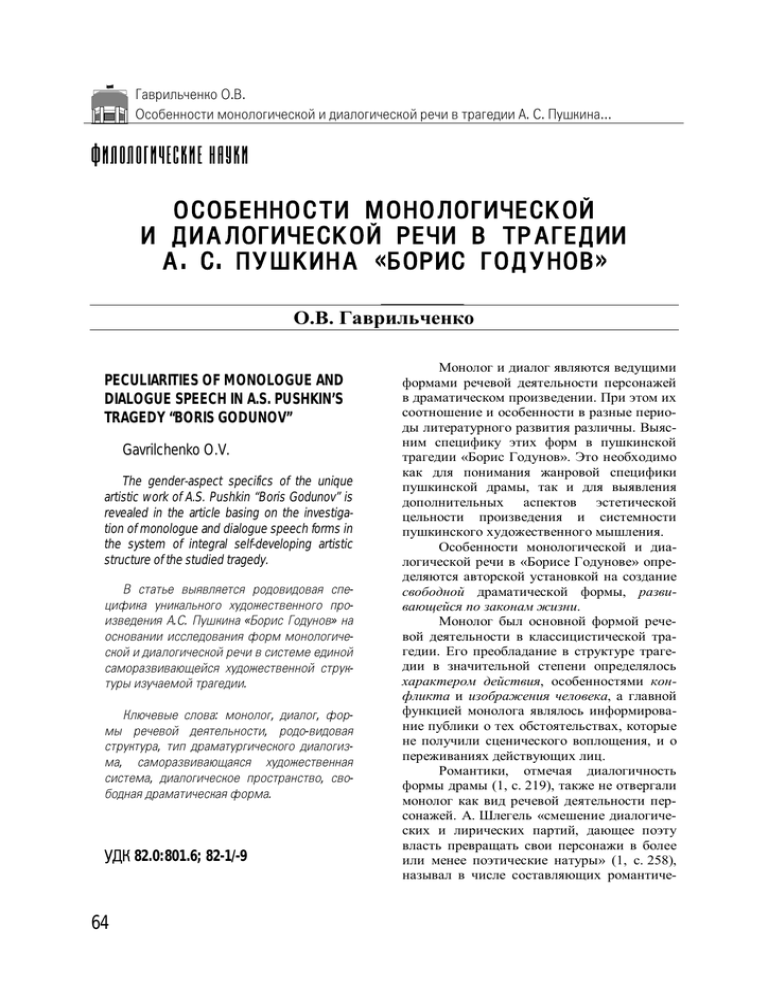
Гаврильченко О.В. Особенности монологической и диалогической речи в трагедии А. С. Пушкина… Филологические науки ОСОБЕННОСТИ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ И ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ В ТРАГЕДИИ А. С. ПУШКИНА «БОРИС ГОДУНОВ» О.В. Гаврильченко PECULIARITIES OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN A.S. PUSHKIN’S TRAGEDY “BORIS GODUNOV” Gavrilchenko O.V. The gender-aspect specifics of the unique artistic work of A.S. Pushkin “Boris Godunov” is revealed in the article basing on the investigation of monologue and dialogue speech forms in the system of integral self-developing artistic structure of the studied tragedy. В статье выявляется родовидовая специфика уникального художественного произведения А.С. Пушкина «Борис Годунов» на основании исследования форм монологической и диалогической речи в системе единой саморазвивающейся художественной структуры изучаемой трагедии. Ключевые слова: монолог, диалог, формы речевой деятельности, родо-видовая структура, тип драматургического диалогизма, саморазвивающаяся художественная система, диалогическое пространство, свободная драматическая форма. УДК 82.0:801.6; 82-1/-9 64 Монолог и диалог являются ведущими формами речевой деятельности персонажей в драматическом произведении. При этом их соотношение и особенности в разные периоды литературного развития различны. Выясним специфику этих форм в пушкинской трагедии «Борис Годунов». Это необходимо как для понимания жанровой специфики пушкинской драмы, так и для выявления дополнительных аспектов эстетической цельности произведения и системности пушкинского художественного мышления. Особенности монологической и диалогической речи в «Борисе Годунове» определяются авторской установкой на создание свободной драматической формы, развивающейся по законам жизни. Монолог был основной формой речевой деятельности в классицистической трагедии. Его преобладание в структуре трагедии в значительной степени определялось характером действия, особенностями конфликта и изображения человека, а главной функцией монолога являлось информирование публики о тех обстоятельствах, которые не получили сценического воплощения, и о переживаниях действующих лиц. Романтики, отмечая диалогичность формы драмы (1, с. 219), также не отвергали монолог как вид речевой деятельности персонажей. А. Шлегель «смешение диалогических и лирических партий, дающее поэту власть превращать свои персонажи в более или менее поэтические натуры» (1, с. 258), называл в числе составляющих романтиче- 60/2009 Вестник Ставропольского государственного университета ской драмы, наделяющих ее «истинной красотой». Таким образом, монолог для романтиков – прежде всего средство «поэтизации» персонажей, вносящее лирическую струю в драматический текст. Не отказывается полностью от монологов и Пушкин, но они не занимают доминирующего положения в структуре «Бориса Годунова». Среди них мы в соответствии с существующей в отечественном литературоведении традицией выделяем обращенные, произносимые в присутствии других персонажей, и уединенные, адресованные себе. К обращенным можно, например, отнести речь Щелкалова во второй сцене трагедии, монологи Бориса в момент вступления на престол и в сцене «Москва. Царские палаты» (наказ сыну), Самозванца в сцене «Краков. Дом Вишневецкого», Гаврилы Пушкина («Лобное место»). В числе уединенных – монологи Бориса «Достиг я высшей власти…» («Царские палаты») и «Ух, тяжело!.. дай дух переведу…» («Царские палаты»), Пимена и Григория в начале сцены «Ночь. Келья в Чудовом монастыре», Басманова («Москва. Царские палаты», «Ставка») и др. Некоторые из них соединяют в себе элементы и обращенных, и уединенных. Таков, например, монолог Афанасия Пушкина в сцене «Москва. Дом Шуйского», с одной стороны, произносимый в присутствии другого персонажа – Шуйского, причем в ответ на его реплику, связь с которой вполне очевидна (2), а с другой – не предполагающий какого-либо отклика и обсуждения затронутой в нем темы. Спонтанно высказанный, он не адресован никому. Пушкинские монологи естественно вплетаются в словесную ткань произведения. Их связь с остальным текстом может быть содержательной, определяемой развитием драматической ситуации, и формальной, основанной на использовании ассоциативных рядов, лексических повторов, других языковых средств. Появление обращенных монологов обычно подготовлено ходом действия, поэтому они остаются в составе диалогической речи и более естественно подаются героями. Так, во второй сцене трагедии «верховный дьяк» Щелкалов извещает народ о решении Боярской думы в связи с отказом Бориса Годунова принимать венец. Его монолог представляет собой необходимый элемент в развитии действия. При этом органична и формальная связь речи Щелкалова с предшествующим и последующим текстом. Ее предваряет реплика, в которой прямо сообщается о появлении думного дьяка: «Да вот верховный дьяк // Выходит нам сказать решенье Думы» (VII, с. 10). Завершающие монолог Щелкалова слова предопределяют финал сцены: «Идите же вы с Богом по домам, // Молитеся – да взыдет к небесам // Усердная молитва православных» (VII, с. 11). После этого народ, как отмечается в ремарке, расходится. Сходным образом включается в текст речь Самозванца в сцене «Краков. Дом Вишневецкого», адресованная его русским и польским сторонникам. Обращенные монологи в «Борисе Годунове» появляются и как отклик на слова собеседника. Монолог Пимена, начинающийся словами: «Не сетуй, брат, что рано грешный свет // Покинул ты…» (VII, с. 20– 21),– возникает в ответ на реплику Григория и в полемике с ней, а поэтому входит в общее смысловое поле диалога героев. Дальнейшее направление беседы и характер высказываний персонажей обусловлены завершающими этот монолог словами (3). Большинство уединенных монологов тоже непосредственно связаны с действием и представляют собой размышления героя, вызванные беседой с другими персонажами или необходимостью совершения решительных шагов. Самозванец в сцене «Ночь. Сад. Фонтан» в ожидании Марины говорит о своих переживаниях, вызванных предстоящим объяснением. Басманов («Москва. Царские палаты») обдумывает прозвучавшее в беседе с царем. Есть и формальные сцепления уединенных монологов с остальным текстом. Так, размышления Бориса Годунова в сцене «Царские палаты» («Достиг я высшей власти…») на первый взгляд не связаны с предваряющим их диалогом. Между тем они возникают словно в ответ на вопрос одного из стольников, беседующих между собой: «Желал бы знать, о чем гадает он?» 65 Гаврильченко О.В. Особенности монологической и диалогической речи в трагедии А. С. Пушкина… (VII, с. 25), и соединяются с предшествующим им текстом посредством лексического повтора (слово «кудесники» из реплики стольника «переходит» в монолог Бориса). В то же время такая формальная связь высказываний персонажей имеет реалистические основания: и вопрос стольника, и «ответ» царя вызваны его встречей с «колдуном». Монолог Годунова начинается с мыслей о несоответствии предсказаний кудесников истинному положению дел. Таким образом, его появление в этой сцене не только подготовлено формальными сближениями, но и психологически оправданно. Традиционно монологи, произносимые персонажами наедине, имеют условный характер, поскольку в них прямо высказываются скрытые в реальной действительности мысли и чувства. Нередко они являются саморазоблачительными: в системе драматического речеведения предполагается, что герой, будучи один, может наиболее откровенно говорить о себе. Однако уединенные монологи в «Борисе Годунове» – это не объяснение персонажем своих намерений или состояний читателю, а его саморефлексия. Включенность монологов пушкинских героев в общий ход действия и существующая между ними и остальным текстом драмы формальная связь позволяют рассматривать их как своего рода реплики в некотором внешне не выраженном диалоге. Так, монолог Пимена в сцене «Ночь. Келья в Чудовом монастыре», не адресованный никому, тем не менее связан со следующим за ним (тоже безадресным) монологом проснувшегося Григория и в формальном, и в смысловом отношении. Слова Григория: «А все перед лампадой // Старик сидит, да пишет…» (VII, с. 18),– перекликаясь с авторской ремаркой к речи Пимена: «Пимен (пишет перед лампадой)» (VII, с. 17),– возвращают нас к фигуре летописца. Но это не просто формальное соединение двух высказываний. Связь между ними возникает очень естественно и психологически достоверно: склонившийся над своим трудом Пимен – первый, кого видит Григорий (так же психологически верны первые слова пробудившегося от сна Григория: «Все тот же сон! возможно ль? в третий 66 раз! // Проклятый сон!..» (VII, с. 18)). Можно назвать целый ряд перекличек в высказываниях двух героев. Кроме того, оба монолога связаны со всей разворачивающейся в этой сцене речевой ситуацией. В сцене «Царская Дума» три монолога – царя, патриарха и Шуйского – образуют диалогическое единство. Здесь обсуждаются известия о Самозванце и меры, которые бы позволили противостоять ему. При этом Борис спрашивает совета, патриарх его дает, а Шуйский предлагает другой способ «уничтожить» «слух, рассеянный расстригой» (VII, c. 72). В результате оформленные как монологи высказывания персонажей оказываются развернутыми репликами диалога, сливаются в общий поток живого слова. Отметим также, что все монологи в «Борисе Годунове» в большей или меньшей степени связаны с предшествующими и последующими репликами и введены в общее диалогическое пространство пьесы. Таким образом, даже монологи пушкинских героев «диалогичны». В этой связи представляется очень точной мысль С. Т. Ваймана о том, что Пушкин «мыслит не линейными фрагментами диалога, а диалогическим полем – броуновским сочленением реплик и слов в масштабах всей трагедии» (4, с. 96). Добавим, что это диалогическое поле, в которое вовлечены все реплики персонажей и которое рождает новые, надтекстовые контакты и смыслы, некое диалогическое «между» (5), не следует воспринимать как результат преднамеренных действий автора. Скорее, это следствие стремления поэта к созданию свободной драмы, не предполагающей активного авторского участия и развивающейся по своим внутренним законам. Отсюда и та органичность пушкинского слова, о которой пишет С. Т. Вайман (4, с. 99–100). Диалог как форма речевой деятельности персонажей составляет основу текста пушкинского «Бориса Годунова». О полноценном диалоге в классицистической трагедии говорить нельзя. В ней, по словам Г. О. Винокура, «даже спорадически появляющийся <…> частый обмен репликами сохраняет всю природу монологического строения речи» (6, с. 351). Реплики 60/2009 Вестник Ставропольского государственного университета характеризуются строгой метрической замкнутостью, полной синтаксической самостоятельностью. Нередко собеседники «не слышат» друг друга: каждый произносит то, что должен произнести, без всякого внимания к словам другого участника беседы. Обычно классицистический диалог имеет характер диспута по социально-политическим и морально-этическим вопросам, и его роль сводится к уточнению позиций героев. Романтики понимают диалог уже совершенно иначе. В их представлении это не просто обмен репликами, а совместная речевая и мыслительная деятельность персонажей, в ходе которой их взгляды и суждения подвергаются некоторым изменениям. По А. Шлегелю, «если один из участников высказывает мысли и мнения, не влияя при этом на воззрения своего собеседника, если оба в конце беседы находятся в том же состоянии, что и в начале, то разговор, хотя бы и значительный по содержанию, не вызывает <…> драматического интереса» (1, с. 219). Именно живое движение мысли и, как следствие, напряжение, с которым читатель ожидает развязки, делают диалог драматическим. В то же время в художественном творчестве романтикам, по мысли Пушкина, не удалось преодолеть односторонность в изображении характеров, а это, в свою очередь, не позволило достичь «правдивости диалога», заставить героев «говорить с полнейшей непринужденностью, как в жизни» (XIII, с. 198 и 541; оригинал на франц. языке): «Вспомните Озлобленного у Байрона (ha pagato!) – это однообразие, этот подчеркнутый лаконизм, эта непрерывная ярость, разве все это естественно? Отсюда эта принужденность и робость диалога» (там же). Между тем сам поэт стремится именно к его непринужденности, естественности, «правдивости», которая возможна только тогда, когда автор «в надлежащую минуту и при надлежащих обстоятельствах» находит для героя «язык, соответствующий его характеру» (XIII, с. 198 и 541; оригинал на франц. языке). Герои пушкинской трагедии не формально, в соответствии с требованиями рода и жанра, а реально общаются друг с другом. Они действительно ведут беседу, вступая в контакт не с читателем, а с другими персонажами. Реплики в «Борисе Годунове» не замкнуты, не статичны, а даны в движении. Каждое высказывание не является завершенным с точки зрения говорящего, а предполагает продолжение, следующее за встречной репликой. Именно это обеспечивает развитие беседы. Обратимся к диалогу Шуйского и Воротынского в первой сцене трагедии. Шуйский <…> Какая честь для нас, для всей Руси! Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, Зять палача и сам в душе палач, Возьмет венец и бармы Мономаха… Воротынский Так, родом он незнатен; мы знатнее. Шуйский Да, кажется. Воротынский Ведь Шуйский, Воротынский… Легко сказать, природные князья. Шуйский Природные, и Рюриковой крови. Воротынский А слушай, князь, ведь мы б имели право Наследовать Феодору. Шуйский Да, боле, Чем Годунов. Воротынский Ведь в самом деле! Шуйский Что ж? Когда Борис хитрить не перестанет, Давай народ искусно волновать, Пускай они оставят Годунова, Своих князей у них довольно, пусть Себе в цари любого изберут. (VII, с. 7–8) «Лукавый царедворец» Шуйский очень умело подводит своего собеседника к желанной для него самого теме – возможности наследования русского престола ими, князьями «Рюриковой крови». Его короткие и, казалось бы, незначительные реплики, с одной стороны, побуждают Воротынского 67 Гаврильченко О.В. Особенности монологической и диалогической речи в трагедии А. С. Пушкина… первым затронуть эту тему, а с другой – позволяют самому Шуйскому сказать то, ради чего он и затеял эту «диалогическую игру». Пушкин тонко чувствует подлинную природу диалогической речи, где «смена реплик происходит так, что один “еще не кончил”, а другой “продолжает”» (7, с. 35). По словам Л. П. Якубинского, «хотя каждая реплика и есть нечто своеобразное, обусловленное репликой собеседника, но вместе с тем она есть элемент общего моего высказывания в обстановке данного диалога <…>» (7, с. 35). Отсюда неразвернутость диалогов в «Борисе Годунове», где реплики, в отличие от традиционной драмы, могут прерываться. Это признак живой разговорной речи, обычно насыщенной неполными, эллиптическими предложениями, обращениями, повторами. В то же время такая особенность пушкинских диалогов связана и с тем, что поэт разворачивает их по законам характера, внутренней логики события. Переход от слов одного персонажа к словам другого осуществляется при помощи различных лексических, синтаксических и интонационных средств. Одним из таких средств, по наблюдению Г. О. Винокура, является повторение слов, составляющих вопрос одного из собеседников, в ответе другого (8). Причем, как отмечает исследователь, такого рода переходы «являются не столько намеренным, сколько непроизвольным внешним выражением чисто смыслового, а не декламационного принципа сочетания реплик» (6, с. 353; в оригинале вместо курсива разрядка). Связь есть и между репликами, не предполагающими прямого реагирования, вопросно-ответных сцеплений. Мужик на амвоне Народ, народ! в Кремль! в царские палаты! Ступай! вязать Борисова щенка! Народ (несется толпою) Вязать! топить! Да здравствует Димитрий! Да гибнет род Бориса Годунова! (VII, с. 96) Очевидно, «топить» возникло как следствие ассоциации, порожденной словом 68 «щенок»,– это еще один способ соединения реплик в пушкинской пьесе. Особенностью драматической речи Пушкина, неоднократно отмечавшейся исследователями, является также сугубо реалистическая мотивировка реплик действующих лиц: его герои говорят в каждом положении так, как они стали бы говорить в действительной жизни (9). В этом отличие монологов и диалогов, произносимых персонажами пушкинской трагедии, не только от реплик героев классицистических и романтических пьес, но и от речей шекспировских персонажей. У Шекспира, пишет А. А. Аникст, драматическое слово не претендовало на то, чтобы воспроизводить живую речь действующих лиц,– прежде всего оно служило самовыражению персонажа. «Все основные действующие лица драматического конфликта не просто выражают свой характер, но описывают его. Если это делают не они сами, то эту задачу выполняют близкие к ним люди»,– отмечает ученый (10, с. 11). Поэтому монологи шекспировских героев имеют не чисто реалистический, а «условный» характер: они «с необыкновенной яркостью, силой и тонкостью вскрывают сложное и противоречивое развитие данного характера, страсти, переживания <…> но таких речей, таких слов в реальной действительности человек в данном положении не стал бы произносить» (11). Из речей персонажей читатель узнает и все необходимое для понимания действия. Причем этим не исключается необходимость действия как такового: оно в пьесах Шекспира столь же обильно, как и речи. Кроме того, драматическая речь в театре Шекспира красочна и образна. У Пушкина она почти лишена риторических украшений, логически стройна и психологически точна (10, с. 31–32). Но именно достоверность, мотивированность общения, гениальное угадывание поэтом реакций и откликов собеседников придают драматическому действию «Бориса Годунова» непринужденность жизни. В пьесе Пушкина не менее, чем развернутые диалоги, значимы единичные реплики, передающие национальные черты, 60/2009 Вестник Ставропольского государственного университета приметы времени или особенности характера персонажа. Так, калейдоскопично построенная сцена «Девичье поле. Новодевичий монастырь» наряду с чередующимися фрагментами диалогов и принадлежащими «народу» как действующему лицу словами содержит две реплики бабы с ребенком, не связанные с высказываниями других персонажей: «Агу! не плачь, не плачь; вот бука, бука // Тебя возьмет! агу, агу!.. не плачь!» и «Ну, что ж? как надо плакать, // Так и затих! вот я тебя! вот бука! // Плачь, баловень! <…>» (VII, с. 12 и 13). Ее слова важны здесь так же, как и остальные высказывания: все вместе они создают общую картину участия народа в избрании царя. В числе таких на первый взгляд необязательных, а в действительности чрезвычайно важных реплик – слова Годунова, обращенные к дочери и сыну («Царские палаты»), не требующиеся для развития основных конфликтных линий трагедии, но позволяющие увидеть героя в кругу семьи, в его отношениях с родными, изображающие Бориса в его частной жизни и в то же время дополняющие представление о нем как государственном деятеле («<…> Учись, мой сын, и легче и яснее // Державный труд ты будешь постигать» (VII, с. 43)). Очень точно передают особенности русского национального характера слова пленника Рожнова в сцене «Севск», завершающие его диалог-спор с ляхом: «Наш брат русак без сабли обойдется: // Не хочешь ли вот этого (показывая кулак), безмозглый!» (VII, с. 82). Не случайно в сцену «Москва. Дом Шуйского» включена реплика Шуйского, обращенная к слугам и предваряющая его диалог с Афанасием Пушкиным: «Вы что рот разинули? Все бы вам господ подслушивать.– Сбирайте со стола да ступайте вон. <…>» (VII, с. 38). Уже в следующей сцене («Царские палаты») Семен Годунов докладывает царю о дворецком князя Василия и слуге Пушкина, пришедших «с доносом» (VII, с. 44). Вспомним также заключительную реплику Григория Отрепьева в сцене «Ночь. Келья в Чудовом монастыре», где впервые звучит слово «донос», правда, в от- ношении самого царя: «<…> А между тем отшельник в темной кельи (12) // Здесь на тебя донос ужасный пишет <…>» (VII, с. 23), – и рассказ пленного московского дворянина Рожнова о «лазутчиках». Все эти фрагменты формируют облик эпохи, отличительной особенностью которой была жесткая внутренняя политика, поощряющая шпионов и доносчиков. Отметим также, что такие непосредственно не сопряженные, но дополняющие друг друга реплики и создают единое диалогическое поле трагедии «Борис Годунов» (13). Итак, основу текста пушкинской трагедии составляет диалог, в который включаются также монологические высказывания персонажей, порой даже очень пространные. Диалог в «Борисе Годунове» развивается в соответствии с логикой характеров и «положений», что рождает ощущение его совершенной естественности и «правдивости». Это связано с общей установкой поэта на предельную объективность изображаемого и создание произведения, «живущего» по своим внутренним законам. Не менее органично в диалогическом пространстве трагедии Пушкина существуют монологи. Вводимые в наиболее важные в развитии конфликта или драматической ситуации моменты, они уточняют и проясняют «знание» о персонажах, выраженное в диалогах. Общее диалогическое поле пушкинской пьесы позволяет говорить о ее единстве, нередко отрицавшемся современниками поэта: все элементы речевой структуры в «Борисе Годунове» связаны друг с другом, представляют собою целое. Разрушая формальные мотивировки строения драматического произведения, они реализуют в новой художественной системе иные, более древние традиции народной уличной драмы (живость, естественность диалога, калейдоскопичность монологического высказывания) и эпического повествования (логика, строгая внутренняя мотивировка события). Эти качества на фоне общей авторской задачи воссоздания «судьбы человеческой» внутри «судьбы народной» и формируют новый тип драматической речи, обладающей уже и жанровым, и художественным единством. 69 Гаврильченко О.В. Особенности монологической и диалогической речи в трагедии А. С. Пушкина… Произведение Пушкина, в сущности, создало новый тип драматургического диалогизма. Четко обозначенные структурные элементы, существовавшие в драматургической традиции и до «Бориса Годунова», сохраняя свои формальные признаки, приобрели качественное единство саморазвивающейся художественной системы, в которой присутствует органическая взаимосвязь и крупных монологических высказываний, и мелких диалогических реплик. При этом внутренние сюжетные импульсы тех и других одинаково важны. 8. 9. ЛИТЕРАТУРА 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 70 Шлегель А. Чтения о драматической литературе и искусстве // Литературная теория немецкого романтизма: Документы / Под ред. Н. Я. Берковского.– Л., 1934. «…быть грозе великой»,– говорит Шуйский, и Афанасий Пушкин подхватывает его слова: «Такой грозе, что вряд царю Борису // Сдержать венец на умной голове <…>» (VII, с. 40). Здесь и далее цитирование произведений А. С. Пушкина ведется по изданию: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т.– М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1949. В скобках указываются номер тома и страница. «О страшное, невиданное горе! // Прогневали мы Бога, согрешили: // Владыкою себе цареубийцу // Мы нарекли» (VII, с. 21). Вайман С. Драматический диалог.– М.: Едиториал УРСС, 2003. Выражение С. Т. Ваймана. Винокур Г. О. Язык «Бориса Годунова» // Винокур Г. О. Собрание трудов: Комментарии к «Борису Годунову» А. С. Пушкина.– М., 1999. Якубинский Л. П. О диалогической речи // Якубинский Л. П. Избранные работы: Язык и его функционирование.– М., 1986. С. Т. Вайман отмечает удивительную способность самого Пушкина к «общению с адресатом как партнером по диалогу: в смысловом наклоне и тональности своего слова учитывать его манеру думать и говорить – “вписываться” в него, сохраняя атмосферу 10. 11. 12. 13. равноправия и “взаимовыгодного” духовного сотрудничества». См.: Вайман С. Указ. соч. С. 95. См., например, диалог Шуйского и Воротынского в первой сцене: «…Как думаешь, чем кончится тревога?» – «Чем кончится? Узнать не мудрено…» (VII, с. 5); «…Что ежели Правитель в самом деле // Державными заботами наскучил // И на престол безвластный не взойдет? // Что скажешь ты?» – «Скажу, что понапрасну // Лилася кровь царевича-младенца…» (VII, с. 6). См. об этом, например: Бонди С. М. Драматургия Пушкина // Бонди С. М. О Пушкине: Статьи и исследования.– М., 1978. С. 206– 207; Аникст А. А. Эволюция драматической речи в хрониках и трагедиях Шекспира // Шекспировские чтения. 1990.– М., 1990. С. 32. Аникст А. А. Эволюция драматической речи в хрониках и трагедиях Шекспира // Шекспировские чтения. 1990.– М., 1990. Бонди С. М. Драматургия Пушкина // Бонди С. М. О Пушкине: Статьи и исследования.– М., 1978. С. 207. Написание слова приводится по академическому собранию сочинений А. С. Пушкина. Примером подобных диалогических отношений не столько на уровне прямых речевых контактов, сколько в рамках пьесы в целом выступают также монолог Басманова в сцене «Москва. Царские палаты», в котором он выражает надежду «стать первым» у престола, и слова Гаврилы Пушкина, уговаривающего полководца перейти на сторону Самозванца: «Тебе свою он дружбу предлагает // И первый сан по нем в московском царстве» (VII, с. 92). Думается, обещание «первого сана» в значительной степени определило решение Басманова «изменить присяге». Об авторе Гаврильченко Оксана Владимировна, Московский педагогический государственный университет (МПГУ имени В.И. Ленина), аспирант кафедры русской литературы. Сфера научных интересов – русская классическая литература, проблемы поэтики. Опубликовано 10 работ. [email protected]