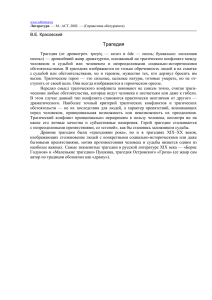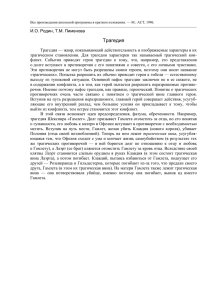Понятие трагедии в работе Л. С. Выготского «Трагедия о
реклама
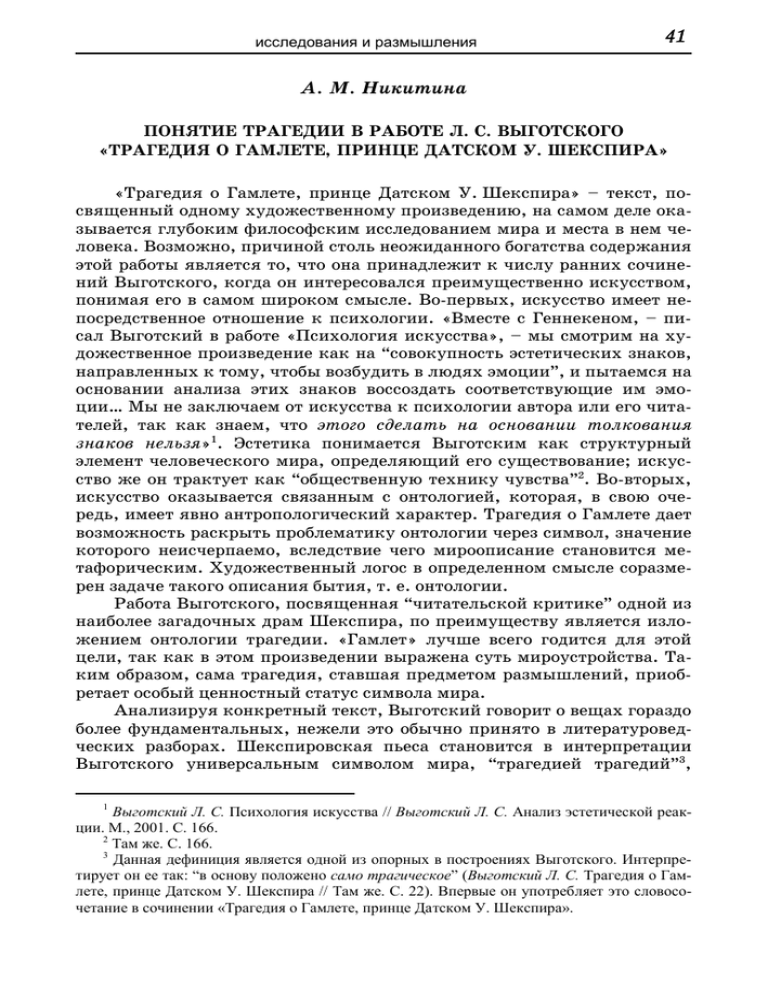
исследования и размышления 41 А. М. Никитина ПОНЯТИЕ ТРАГЕДИИ В РАБОТЕ Л. С. ВЫГОТСКОГО «ТРАГЕДИЯ О ГАМЛЕТЕ, ПРИНЦЕ ДАТСКОМ У. ШЕКСПИРА» «Трагедия о Гамлете, принце Датском У. Шекспира» – текст, посвященный одному художественному произведению, на самом деле оказывается глубоким философским исследованием мира и места в нем человека. Возможно, причиной столь неожиданного богатства содержания этой работы является то, что она принадлежит к числу ранних сочинений Выготского, когда он интересовался преимущественно искусством, понимая его в самом широком смысле. Во-первых, искусство имеет непосредственное отношение к психологии. «Вместе с Геннекеном, – писал Выготский в работе «Психология искусства», – мы смотрим на художественное произведение как на “совокупность эстетических знаков, направленных к тому, чтобы возбудить в людях эмоции”, и пытаемся на основании анализа этих знаков воссоздать соответствующие им эмоции… Мы не заключаем от искусства к психологии автора или его читателей, так как знаем, что этого сделать на основании толкования знаков нельзя»1. Эстетика понимается Выготским как структурный элемент человеческого мира, определяющий его существование; искусство же он трактует как “общественную технику чувства”2. Во-вторых, искусство оказывается связанным с онтологией, которая, в свою очередь, имеет явно антропологический характер. Трагедия о Гамлете дает возможность раскрыть проблематику онтологии через символ, значение которого неисчерпаемо, вследствие чего мироописание становится метафорическим. Художественный логос в определенном смысле соразмерен задаче такого описания бытия, т. е. онтологии. Работа Выготского, посвященная “читательской критике” одной из наиболее загадочных драм Шекспира, по преимуществу является изложением онтологии трагедии. «Гамлет» лучше всего годится для этой цели, так как в этом произведении выражена суть мироустройства. Таким образом, сама трагедия, ставшая предметом размышлений, приобретает особый ценностный статус символа мира. Анализируя конкретный текст, Выготский говорит о вещах гораздо более фундаментальных, нежели это обычно принято в литературоведческих разборах. Шекспировская пьеса становится в интерпретации Выготского универсальным символом мира, “трагедией трагедий”3, 1 Выготский Л. С. Психология искусства // Выготский Л. С. Анализ эстетической реакции. М., 2001. С. 166. 2 Там же. С. 166. 3 Данная дефиниция является одной из опорных в построениях Выготского. Интерпретирует он ее так: “в основу положено само трагическое” (Выготский Л. С. Трагедия о Гамлете, принце Датском У. Шекспира // Там же. С. 22). Впервые он употребляет это словосочетание в сочинении «Трагедия о Гамлете, принце Датском У. Шекспира». 42 исследования и размышления единственным способом выразить сущность бытия человека в мире. Естественно, такое понимание «Гамлета» не вписывается ни в одну из существующих традиций, и поэтому Выготский сводит методологию исследования к читательской критике, которую он характеризует как “область художественной критики”, как “область непосредственного, ненаучного творчества, область субъективной критики”1. Отсюда закономерное определение жанра его произведения – этюд, то есть запись непосредственных художественных впечатлений, полученных “из бесчисленного множества заметок, сделанных за много времени в процессе чтения о Гамлете и размышления о нем в течение нескольких лет”2. Выготский, осознавая новизну своего подхода, намечает несколько принципиальных черт читательской критики: она абстрагируется от личности автора произведения, не ставит своей задачей опровержение предыдущих критиков избранного текста и исходит из презумпции абсолютной ценности данного произведения, таким способом включая его в универсум критического рассуждения на правах глубоко укорененного в мире структурного момента. Уже из самого этого подхода можно сделать некоторые выводы об онтологическом статусе искусства в миропонимании Выготского. Текст как символ властен выявить определенные моменты бытия, невыразимые в точных, логических дефинициях. Тем самым он открывает возможность для творческого импульса критика, следующего за мыслью автора. Более того, такой подход включает критика во всемирный философский диалог, поскольку предметом заботы (в хайдеггеровом смысле этого слова) критика становятся вопросы, касающиеся бытия человека в мире, а не крохоборческие проблемы аутентичности текстуальных вставок, датировки и т. п., характерные для профессионального литературоведения. Выготский отмечает, что “основные допущения читательской критики, ее априорные постулаты… создают совершенно новые условия для работы над исследованием о «Гамлете»”3. Она ограничена только текстом, что сообщает ей особого рода целостность. Выготский не стремится объяснить какие-либо элементы трагедии как результат определенных внешних условий, а подходит к ней как к единому символу, смысл которого он стремится раскрыть в своем этюде. Сам метод, избранный им, обеспечивает ему творческую свободу в понимании, а, следовательно, и в интерпретации предмета. И единством, обеспечивающим целостность взгляда Выготского, становится фундаментальное понятие трагедии. Ближайшая задача, сформулированная Выготским в тексте – “опыт истолкования трагедии как мифа”4. Миф определяется им как мистическая реальность, как “религиозная (по категории гносеологии) 1 Выготский Л. С. Трагедия о Гамлете, принце Датском У. Шекспира // Там же. С. 4. Там же. С. 13. 3 Там же. С. 11. 4 Там же. С. 12. 2 исследования и размышления 43 истина, раскрытая в художественном произведении (трагедии)”1. Такое определение со всей ясностью указывает на онтологический статус ключевых для данного этюда понятий трагедии и мистики. Иначе говоря, ближайшая задача, определенная автором, при чуть более подробном рассмотрении открывает необозримые, а значит, и почти невыразимые горизонты. Как будет видно из дальнейшего изложения идей Выготского, касающихся непосредственно трагедии «Гамлет, принц Датский», одним из ключевых моментов анализа станет усмотрение диалектики говоримого и невыразимого, слов и молчания. Подобную игру сказанного непосредственно и раскрытого через это можно усмотреть и в самом тексте Выготского, что в данном случае представляется мне глубоко принципиальным для его концепции и восприятия реальности. Выготский не только словами описывает символическую природу языка, но и являет ее своим текстом. Сам стиль и жанровая специфика работы «Трагедия о Гамлете, принце Датском» обусловлены ее творческим характером и глубиной раскрытых в ней идей. Язык Выготского метафоричен; текст построен таким образом, что самые фундаментальные заключения он “выводит на сцену” лишь в “финале”, соблюдая законы развития “интриги”. Причину “драматизации” критического исследования можно, конечно, усмотреть в непосредственном влиянии гениальной драмы Шекспира, но не связано ли такое художественное построение нехудожественного текста с философской концепцией языка как способа раскрытия невыразимого (гораздо более значимого, чем непосредственно обозначенное словом)? Тематически работу Выготского можно структурировать следующим образом: 1) описание метода и темы работы; 2) раскрытие понятия трагедии через диалектику слов и молчания; 3) описание специфики «Гамлета» как драмы проекций; 4) анализ образа Гамлета, выявление его основного свойства – скорби; 5) мистика в «Гамлете» (природа трагического); 6) Гамлет как выразитель трагического; 7) механизм трагедии в поведении Гамлета; 8) механизм трагедии в поведении прочих героев; 9) «Гамлет» как религия трагедии; 10) онтология трагедии. Все эти темы существенным образом связаны друг с другом, они свидетельствуют о постепенном расширении и углублении проблематики трагедии в работе Выготского, а также о постепенном раскрытии, выговаривании его мировоззрения. В итоге «Гамлет» превращается из простого сценического произведения в глубочайшую метафору мира, в универсальную трагедию, своего рода художественную онтологию. “Это самая мистическая трагедия, где нить потустороннего вплетается в здешнее, где время образовало провал в вечности, или трагическая мистерия, произведение единственное в мире”2. 1 2 Там же. С. 13. Там же. С. 161. 44 исследования и размышления В «Гамлете» Выготский слышит, если можно так выразиться, голос невыразимого. “Как Гамлета нельзя передать словами, так же точно нельзя его и воплотить в зрительных и слуховых образах”1. Есть в этой трагедии нечто, что никак не поддается последовательному доказательному изложению, по самой сути своей противится словам. Выготский неоднократно апеллирует к известной реплике Гамлета из беседы с Полонием: “Слова, слова, слова…” (собственно, они вынесены в качестве одного из эпиграфов к этюду). Таким образом, в тексте самой трагедии выказывается негативное отношение к поверхностности слов. За словами в «Гамлете» всегда стоит нечто невыразимое, гораздо более значимое, чем то, что можно высказать. “Этот образ нельзя уложить в слова, это – мука глубинная и интимнейшая рана души, и ее боль – боль неизреченная, неизглаголанная, несказанная”2. Выготский прибегает к языку метафоры, чтобы высказать то, что он видит за словами трагедии «Гамлет»: “в ней за каждым словом и положением открывается как бы провал, нащупывается, ощущается такая беспредельная и пугающая – может быть, последняя? – глубина, которую знает только ночь, когда с бездны сорваны все покровы”3. Специфической чертой «Гамлета» можно назвать и отсутствие в трагедии драматического действия. Этот тезис не принадлежит Выготскому. Он является “общим местом” в шекспироведении. Действительно, в «Гамлете» нет борьбы героя, но тем глубже подчеркивается провал между словесным действием и тем, что по ту сторону слов, – их не связывает последовательная и сознательная деятельность персонажей. На этой бездеятельности основывается один из важнейших пунктов философии трагедии, как ее понимает Выготский. С этим же пунктом связан и другой интересный момент: действие в «Гамлете» все-таки присутствует, но за сценой. “Весь «Гамлет» насыщен рассказами о событиях, все существенное в пьесе происходит за сценой, кроме катастрофы (что особенно подчеркивает резкий контраст стиля бездейственной трагедии и невероятной по насыщенности действия последней сцены и придает этой последней особый смысл)”4. Бездеятельный, словесный характер «Гамлета» делает его исключением – эта трагедия не подчинена законам драматического представления, но именно этим приемом вскрывается глубина трагического: события, преломленные в словах, обретают пугающий характер нездешнего, кажутся голосом потустороннего. «Гамлет» – трагедия отражений, теней. Действие, по мнению Выготского, строится по следующей схеме: рассказ, предчувствие, намек предвосхищают последующую сцену (на1 Там же. С. 17. Там же. С. 20–21. 3 Там же. С. 21. 4 Там же. С. 30. – Тут можно возразить, что это не совсем верно – в частности, Гамлет убивает Полония на глазах королевы и зрителей. Впрочем, этот момент можно интерпретировать так: убийство Полония не было целью Гамлета, и сам этот невольный поступок символизирует провал между словами и ходом трагедии. 2 исследования и размышления 45 пример, борьба Гамлета и Лаэрта в могиле Офелии предвосхищает их поединок в финальной сцене). Так возникает оппозиция слов, принадлежащих этому миру, и действия, несущего в себе момент трагического, неподвластного словам. Важной в трагедии является также оппозиция слов и молчания, указующего на то, чего не могут выразить слова. О молчании говорит еще один эпиграф этюда Выготского: “Дальнейшее – молчанье…” (последние слова Гамлета). Вся трагедия распадается на внешнее, словесно обрамленное действие, и внутреннее, протекающее в молчании. «Трагедия происходит на самой грани, отделяющей тот мир от этого; ее действие придвинуто к самой грани здешнего существования, к пределу его (“кладбищность” пьесы – смерть, убийство, самоубийство, “могильность”); она разыгрывается на пороге двух миров, и действие ее не только придвинуто к краю здешнего мира, но часто переступает по ту сторону его (потустороннее, загробное в пьесе). И эта грань двух миров заложена на такой глубине действия трагедии и душ ее героев, что сливается с той трагической бездной, которая и есть последняя глубина “Гамлета”»1. Чтобы выразить остроту противостояния двух миров, на грани которых ведется трагическая игра, Выготский прибегает к метафоре предрассветного часа, когда “утро приходит раньше, чем уходит ночь”2. В этот час открывается провал, таящийся от дневной жизни, этот час – вне времени, дихотомического мышления, однозначности слов, говоримых днем. “Сама трагедия означена этим часом, сходна с ним: у них одна душа”3. Эти черты «Гамлета» позволили Выготскому характеризовать шекспировскую пьесу как “трагедию трагедий”, о чем уже говорилось ранее. “В ней уловлено то, что в трагедии составляет трагедию; самое начало трагическое, самая сущность трагедии, ее идея, ее тон: то, что обычную драму превращает в трагедию; то, что есть общего у всех трагедий; та трагическая бездна и те законы трагического, на которых все они построены”4. Таким образом, говоря о «Гамлете», Выготский ставит себе целью обнаружить сущность трагедии, чтобы раскрыть самую суть мира, его религиозно-мистический аспект. Очевидно, что дать точное определение трагедии нельзя, но зато можно явить ее сущность, найти ее место у истоков человеческого существования. Подобное философское понимание трагедии встречается и у Л. И. Шестова5, который тоже делает трагедию основанием религиозномистического видения мира в его целостности, подчеркивая онтологи1 Там же. С. 22. Там же. С. 20. 3 Там же. 4 Там же. С. 21. 5 См.: Шестов Л. Достоевский и Ницше (философия трагедии) // Шестов Л. Философия трагедии. М., 2001. 2 46 исследования и размышления ческий статус трагического. Как и Выготский, Шестов отказывается от попыток рационально определить его сущность. Трагедия по сути своей сопротивляется дефинициям, поэтому ее понимание постепенно вырастает из текста. Этого можно достичь с помощью метафор: Выготский говорит о “бездне”, о символизирующем ее черном цвете и т. д. Трагедии свойственна некая двойственность: с одной стороны, “трагическое как таковое вытекает из самых основ человеческого бытия, оно заложено в основании нашей жизни, взращено в корнях наших дней”1; с другой же стороны, трагическое являет собой отрицание жизни, оно не приемлет ничего земного (в начале трагедии, во второй сцене король и королева упрекают Гамлета в том, что его скорбь неестественна; с точки зрения Выготского, это подлинная скорбь, тогда как признание смерти элементом обыденности превращает скорбь в ее знаки). Таким образом, трагедия является и “зерном жизни”, и она же отторгает жизнь: Гамлет, вступив в “гибельный зачарованный круг трагедии”2, теряет связь с естеством, что символизируется разрывом с Офелией и потерей связи с матерью. Можно предположить, что жизнь по отношению к трагедии есть в некотором смысле то же, что слова по отношению к невыразимому – дымка, скрывающая подлинную суть и лишь намекающая на ее существование. Другой важный момент в характеристике трагического – наличие некоего подобия последовательности. Выготский характеризует это как механизм или силу трагедии: “чувствуется темная и слепая, но уже заведенная, уже пущенная в ход сила трагедии, которую уже ничем нельзя остановить, которая подчиняет себе все поступки действующих лиц и приводит к результатам, обратным их намерениям, нужным трагедии”3. Она, трагедия, продуцирует второй, глубинный смысл всех сценических реплик, делая их отражением грядущих событий. Гамлет, предавшийся чувству трагического, полностью утрачивает свою волю, все его поступки продиктованы законом “так надо трагедии”4. Выготский говорит о Гамлете как о медиуме трагедии, приоткрывая мистический характер трагедии. “Точно вся она – магнитное поле сил, где совершает предопределенное движение свое попавшая в водоворот их магнитная стрелка”5. Тут сила трагедии выступает разрушительницей причинно-следственной связи – дневного образа времени, она преодолевает те силы, которые кажутся неодолимыми в обыденности, открывая тем самым их слабость и вторичность по сравнению с ее реликтовой мощью. Трагедия обращает время вспять (“Распалась связь времен”). Смысл трагедии мистичен, он говорит о неотвратимости, неискупимости. Тут можно говорить об особого рода религии – религии траге1 Выготский Л. С. Трагедия о Гамлете, принце Датском У. Шекспира. С. 21. Там же. С. 85. 3 Там же. С. 49. 4 Там же. С. 100. – Это определение принципа, диктующего развитие сюжета «Гамлета». В тексте этюда Выготского оно встречается неоднократно. 5 Там же. С. 107. 2 исследования и размышления 47 дии, “у которой один обряд – смерть, одна добродетель – готовность, одна молитва – скорбь”1. Выготский отвергает возможность отстраненного созерцания трагедии: она призвана заразить человеческую душу скорбью, показать поверхностность жизни в нашем смысле этого слова, приоткрыть бездны, таящиеся за этой тонкой поверхностью. Вот почему Выготский пылко отстаивает тезис о религиозности «Гамлета». “Трагедия есть определенная религия жизни, религия жизни sub specie mortis или, вернее, религия смерти; поэтому вся трагедия уходит в смерть; поэтому ее смысл сливается с загробной тайной”2. Конечная цель трагедии – восстановить единство, преодолеть вечную отъединенность “я”, бесконечное одиночество каждого человека. Именно это одиночество составляет изначальную скорбь бытия, “зерно трагедии”, так как “мы оторваны от круга, как когда-то оторвалась земля”3. Когда же приходит воссоединение, трагедия переходит в молитву и открывает возможность ее истолкования в контексте мифа, т. е. мистической реальности. Трагедия оказывается принципиально важным моментом мифа, основополагающим для жизни человека в ее приобщении к всеобщности. “Трагическое как таковое вытекает из самых основ человеческого бытия, оно заложено в основании нашей жизни, взращено в корнях наших дней. Самый факт человеческого бытия – его рождение, его данная ему жизнь, его отдельное существование, оторванность от всего, отъединенность и одиночество во вселенной, заброшенность из мира неведомого в мир ведомый и постоянно отсюда проистекающая его отданность двум мирам – трагичен”4. Но человек предпочитает не замечать трагичности своего существования. Обыденная жизнь человека протекает в мире понятного и рационально познаваемого, где нет места трагическому, и этот мир спасает человека от ужаса мистического знания, влекущего к скорби. Основные черты этого внешнего мира – его постигаемость и, как следствие, выразимость. Как таковой, он весь состоит из знаков, обусловливающих его постигаемость и выразимость. В частности, знаки скорби замещают в нем саму скорбь, дают возможность встроить ее в целостность этого “мира поверхности” (Лакан). Мир внешнего, или мир знаков (слов), диалектически связан с миром молчания (трагедии). Как бы уверенно ни чувствовал себя человек в мире знаков, созданном его волей и сознанием, он в то же время носит в себе семя изначальной подлинности, недоступной в знаковом мире. Дабы не соскользнуть в скорбное осознание трагедии своего существования (т. е. обреченности на вечное одиночество), человек вынужден бережно хранить целостность совокупности знаков, образующих его внешний мир (“связь времен”). Жизнь в ее общепризнанной, легализованной форме – просто смерть, от которой отвернулись. Слова стремятся стать жизнью, но выражают 1 Там же. С. 162. Там же. 3 Там же. С. 160. 4 Там же. С. 21. 2 48 исследования и размышления только признание смерти. Только в молчании возможно стать перед подлинной жизнью – трагедией. Иными словами, внешний мир возводится в ценность, и условия сохранения его целостности (логика, этика и т. п.) становятся непреложными правилами, стоящими на страже бездны, таящей от человека его трагедию. В шекспировской трагедии таковыми являются все персонажи, кроме Гамлета. Но зерна трагического дают свои всходы, как только рушится система ценностей, конституирующая этот мир в его шаткой целостности. Разрушить ее может, к примеру, грех, образующий чудовищную воронку, которая вовлекает в себя не только виноватых, но и свидетелей этого греха (из всех действующих лиц трагедии остается в живых лишь Горацио, и то лишь по просьбе Гамлета: жизнь для него обесценена зрелищем трагедии). Грех уничтожает целостность покрова, и нам является трагедия в качестве последней черты между миром этим и тем, обнаруживая точки их слияния. Крушение шаткой и в буквальном смысле условной системы обыденных ценностей открывает трагизм нашей тотальной отъединенности. Становится ясно, что в мире поверхностей видимость общности создается с помощью единства знаковой системы, но знак условен, а единство, даруемое им, поверхностно. «Мы все испытываем, созерцая трагедию, то, что король, глядя на пьесу “Убийство Гонзаго”: мы, все рожденные, причастны трагедии и, созерцая ее, видим на сцене воспроизведенной свою вину – вину рождения, вину существования, и приобщаемся к скорби трагедии. Трагедия нас, как и Клавдия, уловляет в сети собственной совести, зажигает трагический огонь нашего “я”, и ее переживание поэтому делается для нас глубоко мучительным вместо ожидаемого эстетического “наслаждения”. Вот почему мы, как Клавдий, прерываем восприятие трагедии, не выдерживая ее света до конца; вот почему всякая трагедия, как и представление в “Гамлете”, обрывается до конца – на молчании, и есть поэтому оборванная, неоконченная трагедия»1. Единственное, что остается человеку – это восполнить трагедию в своем переживании, приняв таким образом религию трагедии и отринув внешний мир. 1 Там же. С. 163.