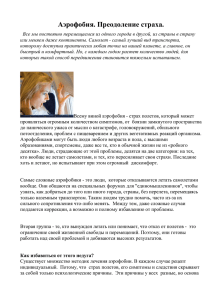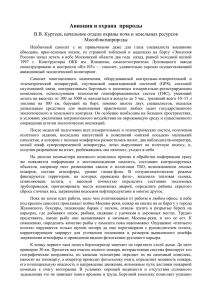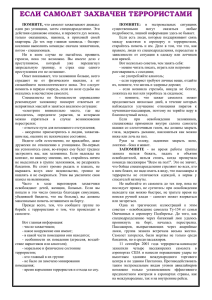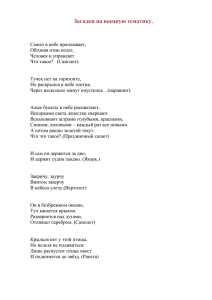ВЫСОКОГО НЕБА ГЛОТОК - Федерация планерного спорта России
реклама

1 2 Нонна Орешина Высокого неба глоток Сборник очерков МОСКВА Издательство ДОСААФ СССР 1988 3 Содержание К читателю ........................................................... .4 МЕЧТОЮ ОКРЫЛЁННЫЕ Прямо по курсу – гроза .......................................... .7 Под белым куполом ................................................13 Гореть или тлеть ―Факелу‖? ............................. .... 16 Надѐжное плечо........................................................19 Начало взлѐта.............................................................24 Верность мечте................................................. ........28 Право на крылья ................................................ ..... 31 АКРОБАТЫ НЕБА (документальная повесть)......39 ОРЛЯТА УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ Высокого неба глоток ......................................... .... 65 Образ полѐта............................................................. 67 Время сжатых секунд ......................................... .... 70 Становление ........................................................ .... 76 Призвание – инструктор........................................... 81 БУДНИ МУЖЕСТВА Ночная атака ........................................................ .... 85 Языком воздушного боя .......................................... 86 Идѐм на перехват ...................................................... 88 Цельность ................................................................... 91 Учения ....................................................................... 94 За ведущим ............................................................ ... 97 Крейсер к полѐтам приготовить! ........................... 100 Мгновения .......................................................... ..... 102 ИСПЫТАНО В НЕБЕ Глубокий поиск ........................................................107 Величие малых высот ..............................................109 «Глиссада» ................................................................112 Режим – предельный ................................................115 ПОД КРЫЛОМ – ЗЕМЛЯ Подруги .................................................................... 127 Три из тысяч .............................................................129 Эхо далѐкой войны ..................................................133 Ожидание ................................................................. 136 Дочь Родины ............................................................ 139 ЦЕЛЬ ВИЖУ (документальная повесть) ................143 4 К читателю Несколько лет тому назад в одном из номеров «Правды» моѐ внимание привлѐк очерк, посвящѐнный военным лѐтчикам-инструкторам. По мере чтения всѐ больше хотелось узнать, кто же с таким знанием дела и смелостью дерзнул поднять эту сложную, проблемную тему? Не удержался, посмотрел на подпись – Н Орешина. Кто такая? Откуда столь детальное знание военной авиации? Ведь без воинского звания, к тому же женщина... Невольно стал следить за еѐ публикациями в газетах и авиационных журналах. Потом прочѐл одну из еѐ книг, посвящѐнных авиаторам. Удивляла глубина проникновения в суть лѐтной работы, умение передать атмосферу полѐтов, подметить то, что порой перестаѐм замечать мы сами – лѐтчики. А вскоре очередная тема (Н.Орешина собирала материал о курсантах военных училищ) привела Нонну Николаевну в мой служебный кабинет, и на стол, рядом с корреспондентским блокнотом, легла Лѐтная книжка с необычной записью: в графе «Лѐтная специальность» стоит прочерк, а рядом – член Союза писателей СССР. На месте названия авиационного училища – пометка об окончании химико-технологического института... С любопытством просматриваю записи, сделанные в Лѐтной книжке по всей форме: полѐты на планерах и учебных спортивных самолѐтах, на спарках сверхзвуковых истребителей и бомбардировщиках, боевых вертолѐтах и даже самолѐте вертикального влѐта и посадки – более тридцати типов летательных аппаратов! Здесь и записи о сдаче зачѐтов по знанию авиационной техники, особым случаям и вынужденному покиданию самолѐта, парашютные прыжки, тренировка на тренажѐрах и многое другое, без чего даже во вторую кабину сверхзвукового истребителя, да и в любой военный самолѐт не допустят. Более чем восемьсот полѐтов, хоть и не самостоятельных, но дающих ясное представление о характере и трудности их. Здесь есть всѐ: сложный пилотаж и полигонные стрельбы, воздушные бои и перехваты, даже испытательные полѐты и полѐты с палубы корабля. Причѐм, днѐм и ночью, в простых и сложных метеоусловиях... Так вот в чѐм «секрет» понимания Н.Орешиной лѐтного дела – сопричастность, упорное желание прочувствовать и понять особенности нашей работы в воздухе. Спрашиваю: «И обо всѐм этом Вы написали?» Нонна Николаевна улыбается: «Разве обо всѐм напишешь? Материал не на очерки – на романы набрался. А очерков об авиаторах более полусотни опубликовала...» «А почему не объедините в сборник? Интересно может получиться: вся авиация как бы в разрезе...» Она задумалась. Так родилась книга, которую ты, читатель, держишь сейчас в руках. И хотя она состоит из отдельных очерков, написанных в разные годы, в целом же – это взволнованный и правдивый рассказ о лѐтчиках-спортсменах, военных лѐтчиках, о пилотах гражданской авиации и лѐтчиках-испытателях. О мастерах высокого класса и тех, кто только ещѐ становится «на крыло». Не забыты конструкторы и авиационные психологи и, конечно же, наши боевые подруги – жѐны и невесты лѐтчиков, служащих в дальних гарнизонах. Всех героев книги объединяет одно – любовь к Небу, причастность к нему, как к судьбе. Книга многоплановая, но построена таким образом, что читатель вместе с автором как бы растѐт в своих познаниях авиации, отсюда и впечатление целостности всего повествования. Герои очерков показаны в различных жизненных ситуациях. Они любят, мечтают, шутят. В сложной, подчас критической обстановке, где секунды – жизнь, они 5 проявляют невиданную волю и характер. Таков, например, герой очерка «Мгновения» капитан В.Кубраков, обыкновенный советский человек, во имя жизни многих пожертвовавший собой. Я написал «обыкновенный» и подумал: нет, в том и дело, что необыкновенный. О таких говорят: «Он жил для людей и во имя их счастья». Правдиво, откровенно показаны и те, кто в суровой борьбе за право подняться в небо уже на первом этапе, в авиационном училище – дрогнул, не выдержал жестоких законов лѐтной службы. Не поверил в себя и своѐ призвание. Ну, а какая из женщин не утрѐт украдкой слезу при чтении очерков «Подруги», «Ожидание»? Юношам же, уверен, захочется полетать на планерах, спортивных самолѐтах, потом и к сверхзвуковым истребителям потянет... Нам же, опытным авиаторам небезынтересно вместе с автором заглянуть в психологию нашей работы, прочувствовать ещѐ раз напряжение в полѐте на предельно малых высотах и на критических режимах. Не буду больше интриговать читателя. Книгу надо прочитать, а может, даже и перечитать. Уверен: равнодушных не будет. Нонне Орешиной много пишут лѐтчики, их жѐны, офицеры и курсанты. Они благодарят, советуются, делятся сокровенным. И нет письма, на которое писательница не ответила бы так же искренне. Как-то Нонна Николаевна призналась: «В авиацию я пришла как писатель, хотя втайне надеялась осуществить и несбывшуюся мечту своей юности. Но только в авиации нашла свою главную тему, она на всю жизнь. И если мне действительно удалось познать, понять и написать правдиво, то всѐ это благодаря самим лѐтчикам, их дружеской помощи и требовательности, «без скидок» в небе и на земле, их искренности и уважению к моему труду. Огромное всем спасибо!» А мне, человеку много полетавшему и пережившему, в свою очередь хочется поблагодарить Нонну Орешину за еѐ преданность нашему делу и писательское мужество, пожелать ей новых творческих успехов. ГРИГОРИЙ ДОЛЬНИКОВ, Генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза, Заслуженный военный лѐтчик СССР. 6 7 Прямо по курсу — гроза Гроза надвигалась стремительно. Щупальца дождя тянулись к лесу, короткие молнии гвоздили горизонт, пришивая тучи к земле. – Всем «Бланикам»! Уходить по маршруту в сторону Павловска, – прозвучал приказ со стартового командного пункта, и последний планер на тысячеметровой высоте скользнул над красно-белыми полотнищами. Мы едва успели свернуть рацию – налетевший шквал оглушил дождем и громом. Когда добежали до ближнего домика, по бетонной полосе аэродрома забарабанил град. Кажется, отсиживаться, пережидая непогоду, придется долго. Летчики-буксировщики подтрунивают над нами: – Судьи, а кто же будет фиксировать финиш? Шутка явно не получается – всем ясно, что ни одному из планеров трехсоткилометровый треугольник пройти не удастся. А если грозовой фронт все же сомкнѐтся и зажмет планеры в тиски? Даже опытные синоптики не могли предположить, что местные атмосферные образования так быстро разовьются в грозу. Я сижу у самой двери, поджав промокшие ноги, и смотрю на небо. По его белесому фону проносится серая рвань облаков, тонны воды обрушиваются из перезревших мощнокучевых облаков – этой круговерти восходяще-нисходящих воздушных течений, грозящих засосать, разломать неосторожно приблизившийся планер. Ветер путает водяные нити, хлещет по крыше и окнам дома барабанной дробью... Смотрю в дождь и думаю о планеристах. Как они там – Валентина Желтова, Татьяна Долгова, Юрий Пронин, Владимир Шайманов, Борис Керопян?.. Ловлю себя на мысли, что беспокоюсь больше о своей команде, и становится неловко – там сейчас тяжело всем. Начинаю вспоминать спортсменов из других городов, но в памяти упрямо всплывает знакомый пятачок озера, зажатый кустистыми холмами, родной аэродром с залысинами полянок в соседнем реденьком лесу, изученный до мелочей бисер домов поселка, словно нанизанных на нить дороги. И я невольно возвращаюсь в свой первый день знакомства с планеристами Казанского аэроклуба... Талый мартовский снег грязью расползается под ногами, в глубоких колеях дороги, огибающей аэродром, отблескивают радужные пятна бензина. На подсыхающей целине стоянки – бескрылые фюзеляжи. Ещѐ мутные от складской пыли плоскости планеров тускло отражают низкое, сумрачное небо. Спортсмены говорят о предстоящих полетах, кучевке, термиках, парящей погоде. А человеку постороннему трудно поверить, что эти бескрылые, беспомощные аппараты когда-нибудь станут легкими и прекрасными. На душе тревожно: «Сумею ли написать обо всем этом?» «Поживете на аэродроме, полетаете с нами и все поймете, – угадывая мои мысли, утешает инструктор клуба Валентина Желтова. – Рассказать обо всем невозможно. Надо почувствовать, как ветер по утрам на аэродроме травой пахнет, как облако «держит», как на переходе плоскости поют...» У Вали тепло светятся голубые глаза и задорно топорщатся из-под вязаной шапочки короткие, по-мальчишески стриженые волосы. «И как спина взмокает под парашютом, и от бесконечных спиралей становится муторно... Как, не наскребя высоты, на площадке сидеть, когда другие над тобой с песнями пролетают...» – в тон Валюше добавляет инструктор Юрий Логвин, насмешливо щуря узкие, с монгольским разрезом глаза. «И верно, – смеется Валя, – без этого не обходится». Наконец май украсил землю зеленью, а небо – белыми шапками облаков. 8 Зарокотали моторы самолетов, бесшумно заскользили в вышине планеры. Тренируясь перед предстоящими соревнованиями, планеристы оттачивали мастерство парящего полета, и я, сидя где-нибудь на поворотном пункте с рацией, чувствовала, что соединяет меня со спортсменами не просто четкий пунктир радиосвязи, но что-то большее. Потом мы летели в Пензу на соревнования Северо-восточной зоны Российской Федерации, буксируя планеры. На маршруте небо хмуро давило облаками, прозрачные фонари долбили крупные капли дождя. Спортивный аэродром Пензенского аэроклуба со смешным названием Чемодановка гостеприимно встретил нас ослепительной синью над ромашковым полем и четкой линией старой бетонки, над которой уже кружили «Бланики» – прилетели спортсмены из Горького, Кирова, Йошкар-Олы, Чебоксар, Иванова. Внизу – крыло к крылу – усталыми птицами застыли уже пришвартованные планеры – притихшие, смирные. Заправившись, самолеты снова улетели в Казань, чтобы перегнать еще четыре планера. На аэродроме нас осталось трое. Молчаливый техник Виктор Мясников с солидной неторопливостью размерял стоянку. Судья Вадим Баканов перетаскивал рации. Я, налегая на лом, ввинчивала штопоры для швартовки «Блаников». Неожиданно динамик стартового командного пункта передал тревожное: «Надвигается гроза. Ветер до девятнадцати метров. Немедленно крепите планеры. Казанцы, прилетевшие последними, поторопитесь!» Нас – трое. Планеров – четыре. Это значит, надо ввернуть еще восемнадцать штопоров... Проволочная привязь, лохматясь, колет пальцы до крови. При каждом порыве ветра крыло планера норовит вскинуться, рвется из рук. Теперь – закрепить фюзеляжи. Если не успеем – ураган сорвет планеры с привязей и пойдет крушить, кромсая блестящую гладь плоскостей, превращая все в груду смятого, жеваного металла. Воздух – сырой и тяжелый – налит угрюмой силой стихии. Сейчас ударит ветром, хлестнет по ногам землей. Неужели не успеем? Кто-то бежит на помощь. Чьи-то руки придерживают крыло, перехватывают привязь, накидывают на рули струбцины. Мы успели. Дождь брызнул зло, ветер бессильно рванул плоскости. Стоянка опустела. Только Вадим еще кутал рации в брезент. А к вечеру снова солнце – яростное, желтое, тревожное – торопливо слизывает лужи. Паром дышит мокрая трава. В первые дни соревнований погода баловала. Небо – высокое. Казалось, все тянется вверх – зеленые факелы деревьев, стебли цветов и колосьев. А над обожженными солнцем макушками пригорков – густое, дрожащее марево. Нагретый воздух устремляется в прохладную синь, и выстраиваются прозрачным частоколом столбы термиков. С раннего утра все – планеристы, летчики, судьи – спешат к транзисторам: что обещает метеосводка? Небо еще безоблачно, лишь кое-где вспыхивают первые огоньки зарождающейся кучевки. Аэродром оживает, наполняется звуками. Потом все перекрывает многоголосый рокот двигателей. Проехала машина со стартовым нарядом. Сейчас раскинется в траве посадочное «Т», запестрят флажки с номерами взлета, и за деловито тарахтящим трактором покорно потащатся медлительно-неповоротливые планеры, тонко вызванивая струнами натянутых тросов. «Бланики» рядами застыли на взлетной полосе. Справа – шеренга буксировщиков Як12. Сейчас руководитель полетов Н. П. Федоров и главный судья В. В. Рождественский уточнят маршрут, дадут метеосводку, сверят время. И, наконец, команда: – По планерам! Самолеты подруливают, разворачиваются. Теперь – зацепить фал, выбрать слабину. Сопровождающий вскидывает руку вверх – пошел! Буксировщик словно выдергивает планер из общего ряда, и тот, качнув крылом, скользит по траве и первым легко отрывается от земли. Потом полого, с набором уходит за самолетом, упруго натянув фал, и по большому кругу вписывается в высоту восьмисотметровой отметки. 9 А по земле уже скользит следующий планер, и кто-то сосредоточенно следит за стремительно несущимся навстречу горизонтом, сжимая ручку управления. Никогда не думала, что облако может «держать», что оно может быть сильным, как большие, добрые руки, позволяя «Бланикам» легко, плавно накручивать бесшумные спирали в восходящем потоке и набирать высоту. Вот и облако... Молочная пелена заливает фонарь кабины. Теперь – переход к намеченной точке. Воздух плотно обтекает фонарь, гудит разноголосо. Взгляд невольно следит за нервной стрелкой вариометра, хотя тело чувствует все раньше, чем успеет зафиксировать прибор. Вот стрелка вздрогнула, поползла на «подъем» – термический поток упруго поддержал планер. Теперь пройти чуть вперед, с небольшим креном ввести «Бланик» в спираль и снова карабкаться по невидимому стержню потока. Земля, распахнув горизонт, сплетает речушки, пестрит причудливыми массивами леса, зеленью полей, и надо не запутаться в хаосе деревень-близнецов, паутине дорог, не проскочить перекрестие красно-белых полотнищ поворотного пункта. Потом – финиш. Планер идет на долете, шасси в полуметре скользят над четкой линией на краю летного поля – отметка! Упражнение – облет стокилометрового треугольника – разыграно дружно, сжато по времени. Двадцать семь заявок на мастеров спорта! Команда нашей республики заняла второе место, уступив команде Ивановской области. Первое место среди женщин – у Валентины Желтовой. А вот с облетом трехсоткилометрового треугольника не повезло. ...Гроза над аэродромом выдохлась, сместилась к востоку. Руководитель полетов торопливо включил рацию, связался с планерами. – Еще летят. Прошли первый поворотный. Погода на маршруте отличная. Потом стали поступать тревожные сведения. Планеры падали... Есть такой термин в планеризме: «упасть», иначе говоря, произвести посадку вне аэродрома. Это значит, что на безопасной высоте, когда, кажется, еще можно надеяться на чудом подвернувшийся термик, надо все же заставить себя заняться только землей – выбрать место для посадки. Вот когда оттачиваются глазомер, чувство высоты, расстояния и скорости! Как только ветер растащил над аэродромом тучи, на выручку планерам поднялись самолеты. Болтанка сильная, «яки» то резко проваливаются вниз, то взмывают вверх. Планеры где-то близко, надо только отыскать крохотные светлые крестики, а вокруг них – россыпь точек: это из соседней деревни набежали ребятишки и взрослые. «Бланики» сидят, как прихваченные бурей чайки. Вон два на пахоте, за лесом еще три. В наушниках настойчивое: – Борт! Борт! Пять градусов левее. Нас тут трое. Площадка нормальная. Облет площадки. Присмотреться, определить направление взлета с планером, почву. К вечеру буксировщики вытащили всех. Всех, кроме одного. Не было Владимира Шайманова. Последней его видела Татьяна Долгова. – Все обложило, – рассказывала она, то и дело поправляя завитки волос, падающие на глаза. Румянец на щеках вспыхивал пятнами, пальцы чуть вздрагивали. – На севере черно, на востоке тоже. Только к западу – светлая брешь. Хотела проскочить – какое там! Накрыло, планер корежит... Казалось, еще порыв и развалится. Подъем такой, что приборы зашкаливало. Дождь, молнии рядом, тащит куда-то в сторону, рули тяжелые, не сдержать. Думала – прыгать придется... Потом землю увидела – села. А Володя, пока грозой не накрыло, чуть выше и левее был. Ему крепче досталось... – Вылет двух экипажей в район Кузнецка. Прочесать леса. Если не найдем – завтра общий поиск, – приказал руководитель соревнований. Голос негромкий, ровный, но каждый понимает, что скрыто за этим спокойствием. Один из самолетов ведет Юрий Пронин. 10 Пронин и Шайманов – друзья, оба летчики-испытатели Опытно-конструкторского бюро спортивной авиации. Много лет они работают вместе, в полете понимают друг друга с полуслова. Как-то мне довелось быть свидетелем любопытной посадки. Шайманов пилотировал самолет, на буксире за ним шел на планере Пронин. Добродушный трудяга Ан-2 – неуклюжий, громоздкий по сравнению с изящно-хрупким «Блаником» – уверенно вел планер на аэродром. Отцепка... Самолет, задрав в крене крыло, отвалил в сторону, вниз; «Бланик» – с превышением, влево. Разворот... Планер идет на долете, чуть ниже Ан-2, медленно теряя высоту. «Сядем?» – коротко звучит в наушниках. Несколько мгновений они идут параллельно, потом планер чуть вырывается вперед, заслоняет собой самолет. Осмотрительное: «Видишь?» И так же коротко: «Вижу». Теперь чуть отойти в сторону, уточнить расчет, выпустить закрылки... Самолет и планер коснулись земли одновременно и покатились по траве крыло к крылу. Сейчас Юрий хмурит густые светлые брови. Достав планшет, протягивает его мне, ждет, пока я разверну карту. – Вот попомните: сидит где-нибудь на аэродроме местных воздушных линий, нас ругает. Он что, дурной, что ли, на лес шлепаться? – И чуть тише, про себя: – Если можно было выбирать, куда шлепаться... Летим над примелькавшимися деревушками. Потом долго над лесом. Самолеты расходятся, стараясь захватить большую площадь обзора. Летчики молчат. Лишь изредка: – Доверни десяток градусов. – Пройду над той поляной. И, когда самолет в резком снижении идет на бреющем, сдержанное: – Что-нибудь видишь? – Нет, показалось, – и чуть помедлив: – Когда сегодня заход солнца? В двадцать тридцать? Надо уходить. Каждый раз, услышав рокот мотора, все, кто оставался на аэродроме, поднимали головы, присматриваясь, как разлапистый Як-12 торжественно, словно за руку, ведет легкокрылого сына. Деловито качнув крылом – отцепка – отворачивает в сторону, следит, как планер заходит на посадку. Сегодня самолеты шли одни и как-то виновато, без традиционной коробочки, с ходу садились на бетонку, торопливо заруливая на стоянку. – Завтра день отдыха, – устало сказал Фролов, когда доложили о безрезультатности поисков. – Если будет какое-нибудь сообщение, полетят за планером... – Можно нам? – Хорошо. Полетит Пронин. ...Телеграмму принесли утром: «Сижу на площадке гражданской авиации юговосточнее Павловска. Шайманов». Пронин торжествующе смеялся. ...Летное поле аэродрома замерло. Самолеты дремлют на швартовке. На взлетную полосу выруливает только один. Мы летим поднимать Володю. Местами на маршруте – сплошная тягучая бахрома дождя. Серая мгла заползает в форточку, низкая облачность придавливает к земле. Непривычно близкие деревья мрачно топорщат вершины, боковой ветер сбивает с курса. И только в конце пути, пройдя ворота радуги, самолет попадает в голубое, отмытое небо. Всю дорогу молчим. Я чаще, чем нужно, поглядываю на карту. Прошли реку Суру – словно кружевом обвязанную песчаными отмелями, железную дорогу – тонкую, как нить стекляруса. Леса кончились, внизу поля разделенные рощами, деревни, пригоршнями семечек брошенные к дорогам. И вдруг под самым крылом – бурый четырехугольник аэродрома, коробочка домика, посадочный знак «Т» и распахнутые серебристые крылья... С ходу – крутой разворот, выпущены закрылки, убран газ – посадка. 11 Не дожидаясь, пока заглохнет мотор, открываю дверцу кабины. Она поддается туго, прижатая потоком воздуха от винта. Вон Шайманов стоит – невысокий, угловатый, насмешливый. Порыжевший от солнца шлемофон надвинут на брови. Шайманов молча стискивает руку, говорит ворчливо: – Чего копались? Куда уж проще... Ну, чего улыбаешься? Давай, крепи фал. Потом выкатываем планер, выдирая колеса из грязи. Взлет будет трудным: земля, набухшая водой, ползет, засасывает. Наконец Пронин говорит: – Тебя под Кузнецком искали. Татьянка рассказывала... – Ерунда. Потрепало немного, думал, пройду. Потоки? Нормальные, зашкаливало, правда. На лес шлепнуться? Вот еще... Те же деревни облепили нити речушек и дорог, та же Сура плетет кружево отмелей. Но оглянешься – заднее стекло кабины самолета перечеркивают светлые крылья планера и сквозь выпуклый фонарь виден порыжевший шлемофон со смешно оттопыренными наушниками. – Борт тридцать второй, где находитесь? – запрашивают со стартового командного пункта. – Прошли траверз Чаадаевки. Пауза, потом сдержанное: – С планером идете? – Обязательно. Через несколько дней соревнования закончились. После итогового подсчета очков главный судья объявил решение судейской коллегии: первое место присуждается команде Ивановской области (капитан команды В. Громов), второе – команде Татарской АССР (капитан команды Б. Керопян), третье – команде Пензенской области (капитан А. Мазин). В личном первенстве среди мужчин первое место завоевал В. Домрачев (Марийская АССР), среди женщин – Т. Пошехонова (город Иваново). Наша команда увозила диплом второй степени и серебряную медаль, Валентина Желтова — серебряный жетон за второе место среди женщин, летчики-буксировщики и судьи – почетные грамоты за отличное обслуживание соревнований. И все же осталась неудовлетворенность: без трехсоткилометрового треугольника или полета на открытую дальность нельзя было подтвердить и присвоить звания мастеров спорта. А если... Капитан нашей команды Борис Керопян доказывал неторопливо, вдумчиво. Судьи совещались недолго – предложение было дельным: перелет на дальность с посадкой в Казани. Я следила за выражением лица Бориса – удивительное, не свойственное южанину спокойствие. Наверное, именно оно помогло ему в те часы, когда ставил рекорд Советского Союза на высоту в двойном варианте без кислородного прибора. Однажды я попросила его рассказать, как это было. Он пожал плечами: «Обыкновенно. Погоду подобрали, выпаривали...» Ребята говорили об этом иначе. В Душанбе на спортивном аэродроме стоит «Бланик». На нем тренируются, летают на соревнования. Он ничем не отличается от остальных. И только на приборной доске – лаконичная надпись: «Открыть интерцепторы!» Летчики тоже иногда пишут памятки, но чаще: «Выпустить шасси!» А при чем здесь интерцепторы – воздушные тормоза? Борис знал: там, на высоте более четырех тысяч метров, когда разреженный воздух наполнит легкие и наступит кислородное голодание, может придти веселое опьянение и захочется крутить бесконечные спирали, лезть в высоту, пока не потеряешь сознание. И если там, на высоте, за невидимой чертой рекорда, станет вдруг все нипочем –значит, пора рвануть рукоятку воздушных тормозов, выходить из потока и «сыпаться» вниз, потому что через минуту будет поздно. 12 ...Качнув крылом, ушли самолеты-буксировщики. Последний раз мелькнула под плоскостью бетонная полоса – до свидания, гостеприимная Чемодановка, мы идем домой! Земля далеко и словно вымерла. Только небо, расцвеченное облаками, осталось нам. Спираль за спиралью, словно накручивая на прозрачный карандаш витки невидимой пружины, а потом – нестись с пологой горки, изредка подрагивая на кочках восходящих потоков. И снова спиралями медленно наскребать высоту... Перед вылетом ребята подтрунивали надо мной и Прониным: – Ну, сидеть вам где-нибудь под Инзой. И номер роковой – сто тринадцать, и женщина на борту... Опасения были не напрасны: затяжелѐнный планер выпаривает в слабых потоках неохотно и нужен очень точный расчет. Чтобы не отстать от основной группы, сейчас нельзя допустить ни единой ошибки. Вижу, как взмокает у Юры затылок, он ерзает спиной, пытаясь поудобнее пристроить парашют – лететь предстоит часов пять-шесть. Въедливым червячком начинает точить мысль: «Без меня ему было бы легче». Но долго заниматься угрызениями совести мне некогда – надо работать. Надо рассмотреть, записать, запомнить, как серебристой фольгой отливает озеро, как осторожно прильнула к угрюмому массиву леса нежная полоска незапаханной травы. Как величественными султанами дыма дотронулись до бирюзы неба трубы завода на горизонте. Как распахивается во всем своем раздолье родная земля, до мелочей знакомая и необычно новая. – Штурман, маршрут, – выдергивает меня из зачарованности голос Юрия. – Проходим реку Инзу, на траверзе... – приглядываюсь к карте, стараясь прочитать крохотные буквы населенного пункта. – Считай, что уже заблудились, – подшучивает Юра. Потом начинает что-то напевать, путая мотив. Переливчатое гудение воздуха на плоскостях аккомпанирует ему. Заработала рация: – Где находитесь? Какие условия? Потоки? – заботливо интересуются с Пензенского командного пункта. – Над Инзой. Тысяча четыреста. В наборе – два. Все нормально. Все нормально было до Ульяновска. Волга дохнула встречным ветром. Облака ушли за горизонт, и пустынное небо знойно повисло над планерами. Последнее, не растаявшее облако заманивало и тут же исчезало на глазах, оставляя тонкий туманный след. Теперь надежда только на потоки воздуха, идущие от нагретой земли. Их не увидишь, их надо угадать, «нащупать» среди десятков квадратных километров полей. Даже если знаешь свойства, как принято говорить в метеорологии, подстилающей поверхности, и учитываешь все особенности рельефа местности, все равно нужна удача. И там, где никогда не пройти одному, пройдет группа. Пожалуй, только альпинисты могут так ощущать локоть товарища. Но там первопроходцем – один, закрепляя высоту для тех, кто идет следом. А в планеризме первопроходцем должен быть каждый. В наушниках звучат голоса. – Подъем три метра, пристраивайтесь, ребята. – Набрал полторы, попробую разведать западнее. – Сто тринадцатый, переходи ко мне, у меня тащит. Мы идем на пределе. Высота падает – восемьсот, шестьсот метров. Неужели не дотянем? Еще немного и придется подыскивать площадку для посадки... Крохотная деревушка по курсу. По дороге, растянув султан пыли, едет мотоциклист. За лесопосадкой – луг, вижу, как бредут на водопой к реке овцы. Значит, сидеть где-то там? И вдруг над деревушкой стрелка вариометра дрогнула – метр, полтора, два метра в секунду... 13 Он был большим и добрым, этот поток теплого, сильного воздуха. Он нес планер вверх медленно, но уверенно – тысяча, полторы, две... Под нами, сбежавшись как цыплята к клуше, уже выпаривали остальные планеры. Теперь дотянем! Сейчас только перемахнуть Волгу, а там – белоснежные стены Кремля, словно пришпиленные к холму красным пальцем – башней Сююмбеке, и алое от гвоздик поле старого аэродрома. Встречай нас, Казань! Летят новые мастера спорта! 1968 г. Под белым куполом Пели песни. Разные. Мотив знакомый, а слова – другие: про парашютистовдесантников, про секунды, когда человек становится птицей, про запасной парашют и обрезанные стропы. Машину заносило на поворотах, талый мартовский снег веером разлетался из-под колес и даже сюда, под брезент, ветер доносил брызги. Они оседали на парашюты, плотно уложенные в кузове, били в лицо, делая всех одинаково веснушчатыми. А девчатапарашютистки продолжали петь, и длинная дорога до аэродрома, казалось, сокращалась, мелькая деревушками и частоколом берез. ... Мы можем приземлиться в крест и даже вне аэродрома. Нам нет непроходимых мест, под белым куполом мы – дома... – подхватывали ребята. А мы – перворазники, молчали. Мы еще знали этих слов, не испытали свободного падения, полета под куполом и встречи с землей. Мы ещѐ не имели права петь эти песни. Аэродром. Парашюты надеты, затянуты лямки подвесной системы. Первый «взлет» выстраивается, самолет подруливает к старту. Смотрю на ребят – волнуются. У одних замкнутые лица, у других возбужденнотревожные глаза. Первый прыжок... Потом их могут быть десятки, сотни, но первый прыжок останется в памяти открытием прекрасного или разочарованием. Он родит ликование или страх, сделает человека на всю жизнь преданным Небу или оттолкнет остротой ощущений. ...Мы сидим в самолете, неуклюжие от тяжести двух парашютов, пристегнутые фалом к стальному тросу. Самолет пологой спиралью набирает высоту. Взгляд невольно тянется к иллюминаторам, где словно съеживаются, уменьшаются в размерах черные полотнища, на снегу, а лес на краю аэродрома, наоборот, расползается темным пятном, отодвигая линию горизонта. Звук мотора стихает. Сейчас пилот докладывает по радио: «Выхожу на боевой», нажимает кнопку сигнализации. Ярко вспыхивает красная лампочка на переборке, требовательно звучит гудок зуммера – приготовиться. Три шага по рифленой резине, а дальше – пустота. Почти километровая пустота, подернутая легкой дымкой. Бесконечно далеко внизу выбеленная снегом земля с темными прожилками оттаявших дорог. В лицо бьет поток воздуха. Это так непривычно – видеть в самолете открытую дверь в облака. Рука выпускающего загородила выход. Потом отдернулась, легонько коснулась ранца парашюта. Двойной гудок зуммера и ободряющее: «Пошел!» Три шага... Четвертый обрывается в пустоту. 14 Поток воздуха ударил, крутанул, душа словно ахнула, сжалась. Ослепило белизной, ошеломило падением. Секунда кажется бесконечной и будто дробится мгновениями: вот дернуло несильно – оранжевым факелом метнулся вверх чехол, и над головой стремительно взмыл белый комок, в тишине отчетливо прошуршал, расправляясь, купол. Потом хлопок и – сильный рывок. Белизной шелка захлестнуло небо, качнувшись, замерла земля, и пустоту затопило солнце. Солнце везде – под ногами, над головой, липнет к лицу, пронизывает тело. Стропы натянуты струнами, хочется сказать, что в них звенит ветер. Но это неправда – ветра не чувствуешь, потому что скользишь вместе с ним. Кажется, что и мороз остался выше или на земле, а рядом – безмолвие и мягкий, плавный покой. И странное ликующее чувство: «А все-таки он раскрылся!» Так, значит, было где-то глубоко, под спудом логики и внешнего спокойствия, было это маленькое и колкое: «А вдруг?..» Неожиданно неподвижность кончается. Земля набегает сначала плавно, потом движение становится быстрее, тело подбирается, как перед ударом, чувствуешь упругость строп, и купол пружинит податливо, точно воздух под ним спрессован. Горизонт сужается, замыкаясь кромкой леса, под ноги, укрупняясь, несутся широкие полосы от лыж самолета, перепутанные цепочки следов, наплывы мелких сугробов. Вот еще немного... Сейчас! Ноги врезаются в снег, он ослабляет удар. Падаешь на бок мягко, над головой проплывает, опадая, купол прижимается к земле. Неожиданно вздрогнув от порыва ветра, раздувается снова, как будто ему тоже трудно расстаться с небом, и он борется, отстаивая свое право быть живым и сильным. Теперь собрать парашют. С непривычки руки запутываются в стропах, снег липнет к шелку купола, и кажется невозможным впихнуть все это в брезентовую сумку. Потом взвалить сумку на плечо и шагать до старта, по колено увязая в мартовском снегу, чувствуя, как взмокает спина. Шагать и думать, что надо было стараться подтянуться поближе к знаку приземления. В следующий раз... В том, что «следующий раз» обязательно будет, уже не сомневаешься. Две минуты полета... Им предшествуют часы тренировок и длинный зал, устланный брезентовыми «столами»: на них укладывают парашюты. Аккуратно, кромочка к кромочке, стропа к стропе, так, чтобы при раскрытии не получился перехлест. У новичка на укладку парашюта уходят часы. Накануне прыжка, изрядно устав в борьбе с тугими резинками и шпильками на ранце и уложив, наконец, парашют, я сочувственно спросила инструктора – мастера спорта Олега Ращупкина: – У вас тысяча прыжков. Это тысячу раз вот так? Олег ерошит густые черные волосы, угольки глаз под тяжелыми бровями смягчаются улыбкой: – Гораздо больше. Показать перворазникам, запаски переложить, да и вообще... Олег умолкает и улыбается чуть смущенно. Втянуть его в длинный разговор практически невозможно. Например, о его увлечении фотографией и киносъемками я узнала случайно – выдала каска со специальным приспособлением для крепления аппарата. Альбом большой. Открываешь его, и в комнату проливается дымчатая голубизна неба, мелькает пестроцветье парашютов. Лица парней и девчат – напряженные в момент затяжного прыжка, когда тело устает от напора воздуха, а глаза слезятся даже под защитными очками. Лишь потом, на земле – расстегнутая каска, улыбка и непогашенный еще купол. Снимки цветные, черно-белые, портретные, групповые. И чаще других на этих снимках – девушка с солнечно-светлыми волосами, как одуванчик. – Она тоже парашютистка? Олег смотрит через мое плечо, медлит с ответом. – А сейчас она где прыгает? 15 Не вижу выражения его лица, но по тому, как замерли и напряглись его пальцы, придержавшие страницу альбома, понимаю, что задавать вопросы было нельзя... – Она погибла... И разом вся радужная, внешне нарядная красота этого спорта отступила. Ярче, значимее обозначилось то большое и сильное, то главное, что заставляет оттачивать в человеке характер и выдержку. Риск? Да, риск. Не надо бояться этого короткого, емкого слова. Без него человек никогда не вышел бы из пещеры, не взлетел в космос. Свести риск до минимума – эта задача сквозит в каждой фразе инструктора, когда он проводит теоретические занятия с перворазниками, когда на тренажере заставляет новичка десятки раз выбрасывать запасной парашют, разворачиваться, перехватывая стропы. И все возможные и невозможные особые случаи, которые могут произойти в воздухе, разбираются детально, а необходимые действия отрабатываются до автоматизма. Уже на старте, перед прыжком, – одна проверка, вторая... Чаще всего их проводит инструктор парашютного звена Г.Д. Дмитриев. Невысокий, чуть насмешливый, спокойный, он не спеша расстегивает клапаны, осматривает положение шпилек, закрепление тросика. Мельком, но внимательно заглядывает в лицо парашютиста, по глазам стараясь понять моральную готовность к прыжку. Ведь в воздухе, уже в первом прыжке, ты — один на один со случайностью, и помочь тебе не может никто. Хотя... Слушаю неторопливый рассказ командира звена В.Д. Смольникова и ясно представляю себе такое же, как сейчас, морозное зимнее утро. Привычно бьется в фюзеляже рокот мотора, резкий ветер из распахнутой двери треплет комбинезон. Высокий, сухощавый, крепко расставив ноги на рифленом полу, Смольников стоит выпускающим у самого проема. Заход над крестом. Отделяется четверка. Белыми огоньками вспыхнули раскрывшиеся купола – все нормально. Второй заход – прыгнули двое, третий приготовился. «Пошел!» Спортсмен исчезает за бортом, и в то же мгновение что-то с силой ударяет Смольникова в голову, отбрасывает в хвост самолета. Глаза заливает чернотой... – Очнулся я через несколько секунд, с трудом встал, провел рукой по лицу – кровь. Огляделся... Один конец стального троса, на котором крепятся кабины парашютов, вырвался с куском переборки, а за бортом, на фале, с наполовину сдернутым чехлом – парашютист. Сила динамического удара была так велика, что шапка, унты, рукавицы с него слетели. Руки, все тело парня окоченели, лицо режет ледяной ветер. Опытный спортсмен обрезал бы ножом стропы и раскрыл запасной парашют. Но этот прыгает в первый раз, запаски ему не раскрыть. Попробовали втащить в салон – невозможно: поток встречного воздуха слишком плотен. Смотрю на пилота: «Надо садиться. Дольше тянуть нельзя – замерзнет...» С земли было видно, как самолет заходил на посадку – желтый фюзеляж непривычно зиял открытой дверью. В ней вытянувшись насколько позволяет рост и, прихватив рукой металлический трос, почти висит Смольников, пытаясь дотянуться до ременного фала, на конце которого – застывшая фигурка человека. Высота пять, четыре, два метра... Смольников полоснул кинжалом по фалу – парень упал в рыхлый снег. Смольников – чуть дальше. Сразу вскочил, побежал, увязая в снегу, стаскивая на ходу варежки, куртку. Потом оттирал парню ноги, натягивал свои унты... Глубокие морщины бороздят впалые щеки, усталое, уже немолодое лицо, только в глазах колкая искра задора. Полторы тысячи прыжков! Смольников ловит мой взгляд, его тонкие губы трогает еле заметная усмешка. – Только не вздумайте писать, что парашютный спорт – удел отчаянных. Сейчас автолюбителям в городе ездить опаснее, если верить статистике. А что говорить о мотогонщиках, прыгунах с трамплина? Парашютный спорт – это красота. И познание себя. Моя бы воля – каждого, кого медкомиссия допустит, по окончании десятилетки хоть раз прыгнуть обязал. Вы меня понимаете?.. 16 Да, понимаю... Пережить волнение, страх и преодолеть его – значит стать сильнее. Одним взглядом окинуть ничем не заслоненный белоснежно-зимний или зеленоголубой летний простор, почувствовать себя частицей этой необъятности – значит лучше познать себя. А потом – обостренный пережитым, покой на земле... И все это едино, спрессовано в две минуты, все слито и усилено контрастом чувств. Неважно, чему потом ты посвятишь жизнь – авиации, поэзии или медицине. Главное, что в эти минуты ты заглянешь в себя. И может быть, лишь годы жизни высветят то, что познал наедине с небом в те секунды, когда был самим собой – до конца. 1969г. Гореть или тлеть «Факелу»! – Ну, чего тебе? Отчаливай, а то... – мальчишка маленький, взъерошенный зло щурит глаза. Что с ним делать? Прочитать очередную нотацию? Плюнет в сторону и уйдет. Дать затрещину? Не педагогично. На взлетную полосу спортивного аэродрома выруливает Як-12. Спортсмены крепят фал к двухместному планеру «Приморец». Облачность, ветерок – будет болтанка. Ну что же, это полезно... – А ну, садись. Мальчишка недоверчиво оглядывается, потом торопливо забирается в кабину планера, для солидности цедит сквозь зубы: — Подумаешь, техника... Взлет стремительный, вжимает в сиденье, воздух со свистом обтекает кабину, аэродром ныряет вниз, сменяясь синевой. Оглядываться, проверяя впечатление мальчишки, нет нужды — ясно, что рот до ушей, глаза распахнутые, восторженные и пальцы тянутся к ручке управления. Планер входит в спираль с большим креном, земля словно валится под крыло. Мальчишка плотнее вжимается в сиденье, невольно пытается схватиться за борта кабины. — Посмотри, какая там высота? — спокойный голос инструктора встряхивает. Мальчишка торопливо убирает руки, присматривается к стрелкам приборов. — Восемьдесят пять, кажется, — говорит неуверенно. — Это же скорость, чудак, а высота — триста. Сейчас на посадку пойдем. Как ты там? — Нормально! — мальчишка замолкает, сидит тихо, как мышь, и лишь когда планер прижимается к земле и трава, приминаясь, перестает шуршать под фюзеляжем, спрашивает неуверенно: — А это очень трудно, чтобы самому?.. Несколько лет назад по инициативе второго секретаря Советского райкома ВЛКСМ Н. Данилевской и главного конструктора Опытно-конструкторского бюро спортивной авиации М. Симонова в Казани организовали летний лагерь «Факел». Долго ничего путного не получалось. Потом-то поняли: нельзя замыкать «трудных», нельзя им вариться в собственном соку. Надо включить в здоровый коллектив, а главное, увлечь интересным делом. Не просто рытьем траншей или уборкой картофеля, а тем, что помогло бы ребятам почувствовать радость труда, найти свое призвание. Когда я приехала знакомиться с «Факелом», над полем аэродрома висела хмурая рвань облаков. Полетов не было и все — пилоты-спортсмены, техники — занимались осмотром самолетов и планеров. Им помогали ребята — кто инструмент подает, кто плоскости протирает, кое-кому и посерьезнее работа доверена. 17 Михаил Петрович Симонов — высокий, крупный, удивительно, как вмещается в кабину планера, — на мои вопросы отвечал рассеянно, присматриваясь к тому, как стыкуют спортсмены плоскость к фюзеляжу планера. – Что же, собственно, рассказывать? Тут всем заправляют комсомольцы из конструкторского бюро и аэроклуба. Они с пацанами возятся. Как эта мысль пришла в голову? Да разве не самое главное — с детства выявить у ребят склонность к той или иной профессии? К примеру, авиация и авиационная промышленность. Ведь нужны здесь люди не случайные, не просто отбывающие рабочее время... — лицо Михаила Петровича оживляется, он продолжает: — Сами знаете — в аэроклубы принимают с определенного возраста. А куда подросткам деваться? Пионерские лагеря уже не для них — взрослые. Вот и болтаются по улице, ищут себе приключений. Так почему бы не начать знакомство с авиацией с учебного планера? Тогда пять — шесть лет их жизни не пройдут впустую. Опасно? Но ведь рядом инструктор. А разве не больше риска кататься в половодье на льдинах, футбол на улице или самодельные «пугачи»? Ребят, окончивших такой клуб, можно было бы с большим правом рекомендовать в авиационный институт, технические и летные училища. И проверка летных способностей сберегла бы немалые государственные средства... Первый отряд мальчишек и девчонок, первая попытка подарить им крылья. Шестьдесят пять ребят из школ — это лучшие из желающих. И тридцать пять «трудных» — по списку из детской комнаты милиции. — Как жили? — начальник лагеря Володя Живетин (он работает в бригаде аэродинамики Опытно-конструкторского бюро, секретарь комсомольской организации) улыбается чуть смущенно и неопределенно пожимает плечами. — Да разве так, в двух словах, расскажешь? По-разному жили: хорошо и трудно. Порой – нервы на пределе, что чаще с радостью... Легкая атлетика, велосипед, малокалиберка, походы, спартакиада — как в других лагерях. Только со своей особенностью... Авиамодельным кружком руководили сами ребята: перворазрядники Шамиль Мухаметов и Виктор Ларин. Но главное, конечно, — планеры. Рано утром, по холодку — курс теоретической подготовки. Читали его спортсмены: Наташа Бортник — теорию полета. Конструкцию планеров — Володя Гуваков, а Коля Шуклин — технику безопасности на аэродроме. Слушая начальника лагеря, я приглядываюсь к тому, как работают спортсмены с техникой: неторопливо, деловито, смекалисто — ребятам есть чему у них поучиться. И разве здесь, в совместной работе по сборке планеров, которые подарили ребятам спортсмены, отличишь «трудных» от комсомольцев — одинаково жадные к работе руки, внимательные глаза. Пусть будут потом и споры — кому лететь, если выдастся полет сверх запланированных. И высота на подлете всего пять — десять метров, и планер в воздухе лишь несколько секунд... Но именно в эти секунды познается и овладевает всем существом подростка ни с чем не сравнимое ощущение полета — упругость воздуха, бьющего в лицо, чуткость ручки управления. Быть может, именно в эти мгновения рождается в юной душе чувство силы и гордости, сопричастности с делами мужественных... Была в отряде девочка Наташа. Правда, себя она девчонкой не признавала, дралась отчаянно, в школе грубила. Родители только руками разводили: «Ну что с ней поделаешь?» Но однажды Наташа увидела планер. Серебристая птица парила под облаками, закручивая тугие спирали, резко скользила вниз, к земле, выгнув чуть приметно тонкие крылья, — так родилась мечта... Мечта — она не просто озаряет жизнь человека, она дает силы, целеустремленность. Она ломает инерцию закоснелых взглядов, формирует характер, она возвышает над будничной повседневностью и заставляет совсем иными глазами взглянуть на мир и на себя. 18 К концу лета Наташу приняли в комсомол. После окончания школы она хочет поступать в авиационный институт, стать инженером, чтобы строить самолеты, а если посчастливится — принимать участие в их испытаниях... Тогда, осенью, двадцати восьми ребятам из «Факела» вручили значки планеристов. Награда заслуженная, хотя права на самостоятельный полет юные авиаторы еще не имели: надо подрасти. Станут ли юные авиаторы в будущем асами Пятого океана — предсказать трудно. Но они познали цену настоящей дружбы, коллективного труда, стойкости. Казалось бы, все прекрасно: оправдались самые смелые замыслы воспитателей. Но опустимся с небес на землю... Чтобы организовать на пустом месте, вдалеке от города лагерь, нужны средства. Тех, что были выделены, хватило бы только на питание. Суворовское училище и Высшее инженерное командное училище дали палатки. Интернаты помогли с матрацами, бельем, кухонным инвентарем. Откликнулась городская больница и институт ортопедии. Райздрав обеспечил врачом с аптечкой. Большую помощь оказали Балтасинский райком партии и райисполком, обеспечив лагерь стройматериалами и продуктами питания. Гостеприимными оказались хозяева, на земле которых расположился спортивный аэродром. Вот только Областной комитет ДОСААФ отвернулся... А как быть с воспитателями? Не любой согласится на такую работу, поняв ее специфику. И хотя районо направило несколько воспитателей, занимались с ребятами в основном сами комсомольцы, на общественных началах: Александр Ломоносов — студент университета, Сергей Чернявский — ведущий инженер Опытно-конструкторского бюро, Алла Живетина — студентка авиационного института, Анна Ильичова — повар интерната и другие, чью полезность делу определяли не столько возраст, педагогический опыт, образование, сколько искренность, терпение и душевная доброта. Были, конечно, и трудности, порой самые непредвиденные и обидные: то нет машины, чтобы подвезти продукты, и ребята неделю едят только сметану, а то зарядят дожди, и снова — несколько дней всухомятку: ведь готовить приходилось на кострах, под открытым небом. Но через год вновь рядом со спортивным аэродромом выстроились палатки лагеря юных планеристов «Факел». Вся зима ушла на то, чтобы изыскать средства, доказать сомневающимся, кого-то уломать, что-то выпросить... Однако есть ли гарантия, что не всплывут прошлогодние проблемы, и организационные трудности не лягут на плечи энтузиастов, подавляя необъективностью своей, убивая инициативу и вдохновение, мешая сосредоточить усилия на главном — воспитании в подростке лучших человеческих и гражданских качеств. А ведь открытия лагеря ждали. Ждали ребята, уже познавшие романтику неба, ждали те, кто слушал их рассказы и стал посещать занятия, которые проводили со школьниками комсомольцы-планеристы, их будущие инструкторы. И все-таки временный летний лагерь — это не выход. Два месяца в году ребята увлечены делом, остальное же время после школы предоставлены себе. Опять их затягивает улица, поиск острых ощущений. Эмоциональность, энергия ищут применения, оборачиваясь порой самыми дикими выходками. И снова — детская комната милиции... Так что же будет с «Факелом»? Гореть ему суждено или тлеть? Сама жизнь требует реорганизации. Необходимо открыть юношеский планерный клуб, функционирующий круглый год. Похозяйски, не на одно лето, построить лагерь, ввести штатных начальников клуба и двух-трех инструкторов, сшить ребятам форму, выдать спецовки — все это можно сделать на средства, которые в состоянии выделить каждое предприятие города. Об этом не раз поднимали разговор комсомольцы на областной и городской конференциях, а спортсмены уже приготовили для учебного класса наглядные пособия, настоящий самолет в разобранном виде, тренажер для тренировок. И занятия зимой стали проводить с ребятами по собственному почину, понимая, что с этой первой ступеньки 19 шагнут их мальчишки и девчонки к спортивному самолету, к кульману инженера, к истребителю — в большую авиацию, в большую жизнь. 1968г. Надежное плечо – Девятьсот шестьдесят второй! Взлет парой. – Взлет разрешаю. Гул усиливается плавно, просачиваясь сквозь шлемофон, притеняя напряженный диалог в эфире: кто-то запрашивает запуск, кто-то посадку — летний день напряженно и точно отсчитывает секунды полетов. Белая головка буйка на краю взлетно-посадочной полосы отодвигается назад, самолет вздрагивает на неровностях почвы, потом толчки становятся реже, мягче и земля уходит вниз, расползаясь тонким узором дорог, речушек, колкой зеленью лесов. За высоким заголовником катапультного кресла мне не видно инструктора П. Полякова. И только в тот момент, когда он резко поворачивает голову и смотрит назад, на машину ведомого, на фоне неба вырисовывается его профиль с незнакомо напряженными морщинами на лбу и плотно сжатым ртом. Видеть его лицо серьезным, без улыбки, непривычно, и я тоже смотрю назад. Ведомый идет с небольшим принижением, то «вспухая», то проседая. Внизу, раскинув квадраты полей, замерла земля. Темные куски пахоты, по ним оранжевыми жуками — тракторы. Только чуть приметная гривка пыли выдает их движение. Помню, как однажды после полетов Петр сказал задумчиво: «Знаешь, если бы не летчиком, то обязательно трактористом стал. Земля за плугом упругая, блестит на срезе. Травами пахнет. И жаворонок какой-нибудь настырный... Когда летаю, невольно на тракторы поглядываю, как они там ковыряются». — Левый вираж. Марш! — Четкий профиль, морщинка на лбу. Нет, сейчас Полякову не до тракторов. Смотрит, как ведомый вводит машину в разворот. Воздух — точно масло, плоскости врезаются в него плавно, земля будто сдвигается, подставляя ладонь далекого аэродрома с чуть приметным серебристым крестиком самолета на взлетной полосе. Сейчас услышу, как чей-нибудь знакомый голос запросит взлет, и чувство щемящей радости заполнит душу... Порой бывает так, что слышишь о человеке часто, думаешь: «Надо познакомиться», но заедают дела и все откладываешь на потом. И вдруг однажды нечаянно встречаешься с ним и с горечью думаешь, что это знакомство могло состояться много раньше, и в жизнь твою уже давно вошел бы хороший друг. Тем более, если это не один человек, а целый коллектив — летчики-инструкторы Казанского аэроклуба. Мы познакомились на аэродроме во время парашютных прыжков. Снег ослепительно блестел на солнц е — словно плавился, ветер задувал следы, цепочками расписавшие бесконечность летного поля. Новенький Ан-2 настойчиво карабкался в высоту, торопясь украсить небо белоцветьем куполов. Давно подметила, что многие летчики не любят прыгать с парашютом. «Доверять свою жизнь тряпке? Нет уж...» — шутливо ворчат они, с уважением поглядывая на спортсменов-парашютистов. Под шелковым куполом им, привыкшим чувствовать себя защищенными металлом и скоростью, ненадежно и пусто. Наверное, поэтому к моему стремлению прыгать с парашютом летчики отнеслись чуть иронически, но узнав, что работаю над очерком о парашютистах, одобрили: «Все правильно, чтобы написать по-настоящему, надо прочувствовать самой». Потом, после прыжков, водили меня по стоянке, показывая реактивные самолеты. 20 «Элочки», как ласково называют везде Л-29, — непривычно прямокрылые, припорошены снегом, только ярко-красные законцовки неожиданно дерзко цветут среди сугробов. Посматриваю на машины с завистью, расспрашиваю, как выглядят в полете. Инструкторы рассказывают охотно, приглашают: «В мае начинаем летать. Приходите, увидите». Но я пришла раньше. ...Летное поле неприютно раскисло, промозглый ветер прошивает до костей. Спортсмены — совсем мальчишки, вчерашние школьники. Все они с детства мечтали о небе, но о летной работе судили только по книгам, кинофильмам. И вот настал день, когда они впервые увидели аэродром, самолеты, на которых предстояло летать. Можно было потрогать плоскости, залезть в кабину, почувствовать в ладони незнакомый холодок ручки управления и присмотреться к десяткам приборов, которые с непривычки показались непреодолимо сложными, хотя на плакатах в классах все было давно разобрано и понятно. В этот же день состоялось и первое знакомство с наземной катапультной установкой. — Молодец! Открыл замок привязных ремней, а заодно и парашют решил сбросить? — инструктор Ю. Анисимов говорит хлестко, с издевкой. — Единственное спасение, а ты от него избавиться хочешь? Спортсмен растерянно глядит вниз с высоты направляющих рельсов, потом начинает неловко выбираться на площадку. Вид сконфуженный, в ушах еще ощущение пустоты после грохота выстрела пиропатрона, а руки от напряжения кажутся вялыми. Тогда резкость инструктора показалась мне неоправданной. Только позже я поняла, что в такие моменты необходимо именно жесткое слово, чтобы ошибка запомнилась, чтобы с первых шагов удалось искоренить наивную уверенность, что в воздухе в нужный момент сделаешь лучше, чем при подготовке на земле. И если на земле существует пятибалльная система оценки знаний, в небе — только «хорошо» и «отлично». Свыкаешься с этим не сразу. И еще много привычных понятий приходится пересмотреть. Доброта, например. Здесь она проявляется в самой высокой требовательности, без скидок на молодость. Но все это оценится позже, наверное, только тогда, когда ты уже сам поднимешь в воздух своего первого ученика. Когда поймешь, как трудно научить летать, рассчитывать секунды, метры. Как долго приходится прививать умение выхватывать из хаоса эфира свои позывные, а, идя по маршруту, приглядываясь к причудливому переплетению рельефа земли и карты, не забывать о приборах. Но впппсе-таки самым сложным станет момент, когда на смену восторгу первых полетов с инструктором придет совсем другое — труд. Скучное познание, что полет — это, прежде всего, дотошная точность, когда время словно расчерчено на секунды, а в наушниках звучит настойчивое: «Доверни, скорость держи... не заваливай». Один заход по коробочке, второй — как две капли воды, третий... И только посадки всегда неожиданно разные, иногда обнадеживающие случайной легкостью, и всегда — в напряжении мускулов и воли. Только когда на смену скованной собранности и мучительной мысли «Не забыть, успеть, суметь...» придет автоматизм, когда не нужно будет думать о том, как делать, а только — что делать, лишь тогда начинается настоящее понимание полета и приходит чувство машины, как второе дыхание... Первый самостоятельный полет. В эфире звучит: — Девятьсот шестьдесят четвертый! Взлет по кругу. Сам. Коротко и четко — «сам». Руководитель полетов цепко схватывает взглядом самолет, говорит подчеркнуто спокойно: – Взлет разрешаю, девятьсот шестьдесят четвертый. Гул, нарастая, рвет воздух, машина привстает, как спринтер, потом начинает медленно скользить, незаметно ускоряя движение. Сейчас, поравнявшись со стартовым командным пунктом, мелькнет тревожным блеском плоскостей, и под прозрачным фонарем двойной 21 кабины на мгновение зачернеет только одна точка шлемофона — спортсмен ушел в небо один. Что он чувствует в этот момент, восемнадцатилетний паренек? Неуверенность, ликование, страх? Спокойно вспоминает заученное в десятках полетов или холодеет от мысли, что вторая кабина пуста и некому заметить допущенную ошибку? Крохотную ошибку: чуть-чуть зазевался на третьем развороте, а исправлять — на посадке, когда земля требовательно притягивает к себе, но самолет, теряя скорость, становится словно чужим, и никто не сможет помочь. Только в наушниках настойчивый голос руководителя полетов: — Не тяни. Задержи ручку! Еще... Или совсем наоборот: четкая собранность, мысли спокойны, волнение упрятано в чуть прищуренных глазах. И только когда колеса шасси коснутся земли и самолет покатится, замедляя движение, только тогда заметишь, что ладонь, сжимающая ручку управления, влажна, и на лбу — капельки пота. — Молодец, отлично. Заруливай. На душе становится светло, радостно. И еще один человек облегченно переведет дыхание – твой инструктор. Не забуду один день. В сущности, не произошло ничего необычного, но именно тогда я поняла, почему у всех инструкторов слишком рано появляются седина и морщинки у глаз. ...На аэродроме — пропыленная, сожженная июльским солнцем трава, земля на взлетнопосадочной полосе выбита реактивными струями до красновато-желтой глины. Плотная оранжевая пыль, курчавясь, вьется за самолетом, затягивая горизонт тонкой, долго не оседающей дымкой. К концу дня дымка становится непробиваемой, летное поле под ней просматривается с трудом. С инструктором Г. Арюхиным стою в «квадрате». Сквозь гул запускаемых двигателей пробиваются голоса из динамика: четкие команды руководителя полетов и приглушенные ответы работающих в зоне. Я о чем-то спрашиваю Геннадия, но он отвечает невпопад, прислушиваясь к донесениям. Ясно — кто-то из его подопечных в воздухе. Я уже научилась за внешним спокойствием инструктора различать его внутреннюю собранность, какую-то замкнутую нацеленность в себя. И только когда машина со знакомым номером зарулит на стоянку, в лице что-то меняется, расслабляется, как будто инструктор все это время был в полете и только сейчас может спокойно закурить, заговорить о чем-то постороннем. Ведь самое трудное — ждать. — Пятьсот тридцать четвертый! Шасси, закрылки полностью. К посадке готов. — Посадку разрешаю, пятьсот тридцать четвертый! — Мой, — Арюхин щурит глаза с выгоревшими ресницами, стараясь рассмотреть на горизонте темную точку самолета. Машина появляется всегда бесшумно, разрастается от крохотной, чуть приметной черточки сначала медленно, потом наплывает стремительно, четко вырисовываясь на фоне облаков. А если встать в створе посадочных знаков — обрушивается разом, заслоняя плоскостями небо, придавливая тенью, и земля на мгновение точно захлебывается лавиной грохота... — Пятьсот тридцать четвертый! Уходите на второй круг. Все ясно — пыль. Плотная, рыжеватая, долго не оседая, она стоит над полосой, и, если нет бокового ветра, уже после четвертого разворота земли не видно. Геннадий провожает взглядом набирающую высоту машину, подходит ближе к динамику. Сухощавое, до черноты загоревшее лицо его заостряется разом обозначившимися скулами, и подбородок твердеет, а складки на лбу становятся еще резче. Пыль рассеялась, но на посадку уже заходят другие машины. Струи газов бьют из сопел, и глина, заплетаясь в тугие косы, тут же треплется ветром, взмывает вверх, и снова над полосой — стена пыли. – Пятьсот тридцать четвертый! Сколько горючего? 22 Небольшая пауза. – Триста. – Уходи на второй, пятьсот тридцать четвертый. И машина со знакомым номером в третий раз уходит по кругу! Только бы у парня не сдали нервы. Теперь на полосу не выруливает никто. Самолеты стоят, растянувшись по рулежной дорожке. Пыль медленно оседает — становится видна клетчатая будка командного пункта и в створе посадочных знаков полосатые «матросы». – Садись, пятьсот тридцать четвертый. Спокойнее... Великоват угол... Хорошо... Заруливай на заправку. Все. Арюхин медленно, очень медленно отходит от динамика, натягивает шлемофон. Лицо бесстрастное, а вот руки... Он идет сначала неторопливо, потом быстрее. На угловатых плечах топорщится куртка комбинезона, короткий шланг от противоперегрузочного костюма бьет по бедру в такт шагам. Догоняю. Несколько минут идем молча. — Понимаешь, в десять раз легче самому из любого переплета выскочить. Да какое там в десять... — Арюхин хмурится. И вот так каждый раз, из года в год. Железные должны быть здесь нервы. Железные нервы, железные руки, железное терпение... Недаром иногда спортсмены между собой шутливо и уважительно называют инструктора «железным пассажиром». Небо над летным полем захороводили звезды. Слабый ветер тревожит яркие фонари, и тени от домов, оживая, вздрагивают. Из окна неторопливо и нежно льется осторожный перебор гитары. Инструктор В. Гаврилов и я сидим на шаткой скамейке. Пытаюсь рассмотреть еще что-то в схеме захода на посадку, начерченной на песке в качающемся круге света от фонаря. Виктор прутиком подправляет свой рисунок. Потом рядом с квадратом коробочки появляется самолет и — заяц с длинными, острыми ушками. — Устал? — Есть немного, — Гаврилов улыбается. Улыбка у него хорошая, по-детски добродушная. Энергичные, крупные черты лица чуть расплываются, взгляд становится мягче. — Очень нравится работать с ними. Виктор закуривает, прикрывает огонек большими ладонями осторожно, словно ловя диковинную бабочку. — Самое главное, – продолжает он задумчиво, – научить не бояться. Что ни случится — без паники. Чтобы руки не дрожали, и мозг работал обостренно точно — такое не каждому дано. А научить этому нужно всех... Иногда бывает, что и в зоне работает хорошо, и посадка нормальная, пока кто-то рядом. А как один — нервничает. Случается и наоборот: с инструктором небрежничает, надеется, а в одиночку соберется в кулак и – порядок. Неторопливо, чуть вразвалочку направляется в нашу сторону Лев Попов. С шутливым «Можно на огонек?» на скамейку подсаживается Владимир Сережкин. Единственная в клубе девушка-инструктор Светлана Тимофеева — молчаливая, очень сдержанная, садится на лавочку напротив. Потом подходят другие инструкторы, и извечная нескончаемая тема педагогических наблюдений захватывает в разговоре всех. — Они же все подмечают! Не поверишь — походку копируют, манеру говорить... Однажды я у своих заметил: начали слова при докладе растягивать, а в воздухе, наоборот, конец фразы рубят, кнопку рации раньше времени отпускают. «Стоп, — думаю, — надо за собой последить». И точно! — Попов обводит всех смеющимся взглядом. Удивительный человек — летал в военной авиации на всех типах поршневых самолетов, трижды падал на взлете с остановившимся двигателем, дважды его, как он сам шутя говорит, «стыковали из полуразрозненных деталей», но неиссякаемый оптимизм всегда помогал ему даже на трагическое смотреть жизнеутверждающе и светло. 23 — А в полете! Первое время пытаются копировать... И самое важное — помочь им найти свою собственную манеру пилотирования, — неожиданно включается в разговор Светлана. Думая о ней, я представляю себе, как трудно, наверное, когда заботливо и в то же время немного обидно руководитель полетов спрашивает на разборе: «Не очень тяжело сегодня было? Погодка-то...» А ведь по летному мастерству, настойчивости, умению воспитывать она не уступает мужчинам. Летное мастерство... О нем говорят, пишут, оно — характеристика лѐтчика, показатель работы. Оно оттачивается сотнями часов предполетных занятий, разборов, годами тренировок. Наиболее полно оценить мастерство летчика можно только в зоне, и не просто глядя на пилотаж с земли, а участвуя в нем. И хотя каждая фигура имеет свои законченные, выверенные до секунды параметры, а критерием красоты служит именно скрупулезная точность их выполнения, ощущаются еще и гармоничность, целесообразность каждого элемента комплекса, где все оправдано, как вдохновение строго продуманного танца, только много сложнее. ...Четыре тысячи метров. Зона. Глаз выхватывает землю кусками — слева, справа, то рассеченную крылом, то перевернутую, то сумбурно набегающую навстречу, словно разорванная в клочья карта. Небо — беспокойное, мечущееся — обрушивает на фонарь синеву, прошивает ослепительным солнцем. Первые минуты в зоне оглушают, заставляют собрать все тело в комок и сделать какуюто молниеносную переоценку времени, усилиям. Потом все приходит в норму. Перестраиваешься, привыкаешь к броскам от невесомости до максимальных перегрузок и уже заранее чувствуешь момент, когда на грани допустимого должна вспыхнуть красная лампочка акселерометра на щите и резкий сигнал сирены приглушит все остальные звуки. Ощущения разрознены и в тоже время слиты воедино — расчленить их невозможно. И только позже, когда спадает наплыв оглушительно ярких впечатлений, когда начинаешь, не глядя на указатель скорости, предугадывать очередную фигуру, улавливать пластичность и чистоту ее исполнения, только тогда понимаешь всю отточенность, филигранность полета. Земля уже не кажется в клочья разорванной картой, она застывает внизу, а небо нависает над ней, замкнув четкую линию горизонта. И здесь, в невидимых границах условной зоны, талант и мастерство рождают то, что ложится потом в основу воздушного боя. Двадцать минут. На земле это время, за которое можно успеть позавтракать или пройти пару километров.. А в небе это — кусок жизни, потому что каждая секунда, словно растягиваясь, заставляет вбирать в себя груз новых впечатлений и требует сил, которых на земле хватило бы на несколько часов работы. Самолет выскальзывает из последней петли и со снижением выходит из зоны. — Ну, как? — голос Владимира Никитина по самолетному переговорному устройству звучит слегка искаженно, но за этот полет я уже привыкла отличать его от десятка других голосов в эфире. — Здорово все! Я сказала правду, все было действительно здорово. И максимальные перегрузки оказались переносимыми, и после всех этих бочек, переворотов и петель голова осталась ясной. Только гудели ноги, как будто прошла длинный путь. Но тут же я представила себе, что сейчас, после короткого стартового осмотра машины, надо снова взлетать, чтобы проделать все это еще раз и еще... И почувствовала, как нелегко инструктору — четыре, пять зон в один день, и не просто пилотаж, а предельное внимание, постоянное: «Крен убери... Не заваливай... Ногу, ногу давай!» Учить человека летать — значит десятки раз показать одно и то же движение, уловить ошибку, найти причину, породившую ее. Это совсем не то, как учат в школе за партой: не знаешь урока — получай двойку. Оценку здесь ставит сама жизнь — двойка может обернуться катастрофой. И если в школе преподаватель слаб, бездарен и долгие годы с этим 24 мирятся, то в летной работе он не продержится и года, потому что экзаменует здесь небо. Оно редко прощает ошибки. В небе двое — ученик и учитель. Учебники, наглядные пособия остались далеко на земле. С тобой только то, что усвоил, понял и еще — надежное плечо старшего, хотя разница в годах, возможно, какие-нибудь пять — шесть лет. Но эти пять лет летной работы можно засчитать десятью годами земной. Как летит время, как быстро мужают молодые люди в обстановке аэродромной жизни! Еще год назад они были мальчишками, несобранными, болтливыми. Весной, в день своего первого знакомства с аэродромом, они шумно строились, ходили вразвалочку, и взгляд их с бесцельным любопытством скользил по точным очертаниям машин, о которых они знали только то, что самолетам положено летать. А сейчас... Вот спортсмен четким, привычным движением открыл фонарь кабины и несколько секунд, пока техник зачеканивает рукоятку сброса, сидит неподвижно. Секунды неосознанные, случайные, когда можно расслабить плечи, уставшие, как от большой и трудной ноши. Одним движением сброшены привязные ремни. Теперь — подтянуться на руках, легко спрыгнуть на землю перемахнув прямо через борт, и подойти к инструктору со скрытой улыбкой или хмуро, заранее зная, что тот скажет. — Разрешите получить замечания. И это неважно, что сегодня в полет он уходил «сам», а инструктор ждал его на земле — в небе они были вместе 1969 г. Начало взлета За окном темнеет. Серые тени скрадывают объемность большой комнаты. Позолота кубков, блеск медалей тускнеют, пропадает холодный отсвет стекол на портретах летчиков. Пустынность зеленого сукна, покрывшего длинный стол, сковывает, путает мысли. Трудно спрашивать, еще труднее отвечать. Насколько проще было бы там, у самолетов, комкая в руках промасленную ветошь или получая последние советы перед полетом. Но идет снег, рыхлые тучи наглухо забили небо над Тушином, над Москвой, кажется, — над всей планетой. — А дальше? — говорю тихо, стараясь не порвать ниточки доверия, связавшей нас за этот час разговора. Светлана молчит. Нет, не от смущения. Просто трудно позволить другому вторгнуться в сокровенные мысли, и она, обходя потаенное, начинает говорить о прыжках, самолетах, об инструкторах. И мы снова «уходим в полет». Зеленое сукно стола становится аэродромом, сгущающиеся сумерки – ночным небом. И девушке, шагнувшей к люку на четырнадцатикилометровой высоте, снова восемнадцать Кислородная маска облепила лицо, меховой комбинезон сковал движения, лямки подвесной системы парашюта стянули тело. И самое трудное уже не прыжок. Прыжок — это избавление от двухчасовой бездеятельности, когда мысли, расползаясь, невольно бродят в голове и только упорное: «Не спать! Не размякать, не расслабляться...» — заставляет держать себя в руках. Самолет медленно карабкается в высоту, наскребая трудные метры стратосферы. Сейчас — сирена, глазок сигнальной лампочки. Плавно разойдутся створки, и осколок ночного неба четырехугольником ляжет под ноги... — Какое ощущение на такой высоте? Что поразило? — выпытываю я, стараясь представить особенность этого прыжка. 25 — Обыкновенно все, — Светлана поводит плечом, помолчав, поясняет: — Если затяжным идешь, то на спину ложишься, чтобы лицо не обморозить. Тогда перед глазами звезды. Облака проходишь — сырая пелена. А когда с немедленным раскрытием парашюта прыгала — почти полчаса под куполом. Холодновато, минус пятьдесят два. Ночь была, что тут смотреть? Огни городов, реки светлые. Везло, все три раза на пахоту приземлялась. Потом сидела, ждала вертолета. Рассказать о человеке... Как это непросто — вторгаться в мир сокровенный, не всегда понятный другому. Что главное в этой, на первый взгляд ничем не выделяющейся среди других, девушке? Пучок волос небрежно завязан на затылке пестрой ленточкой, лохматая челка. Толстый свитер, шея в громоздком вороте кажется по-детски нежной, а руки маленькие, слабые на вид. И только иронический прищур внимательных глаз и острые, совсем взрослые морщинки у рта заставляют задуматься и по-другому пересмотреть двадцать два года ее жизни. На первый взгляд может показаться, что Светлане Савицкой здорово повезло. Даже сухая хронология поражает стремительностью ее взлета. 1965 год, январь, 3-й Московский аэроклуб — первый парашютный прыжок. Осень того же года — за плечами около восьмидесяти прыжков и три групповых рекордных прыжка из стратосферы. Через год — выполнен норматив мастера спорта и сданы экзамены в Московский авиационный институт. А еще через год — первый полет на Як-18. 1968 год — соревнования в Ставрополе; занятое место — последнее. Но уже в следующем году на чемпионате Советского Союза — тринадцатое место. И, наконец, 1970 год, Англия. Светлана Савицкая — чемпион мира по высшему пилотажу, хотя налет всего около трехсот часов и она самый молодой участник чемпионата. Что помогло этому удивительному по своей собранности и результатам взлету? Везение? Но удача сопутствует только талантливому и упорному мастеру. Переоценка своих возможностей в лѐтном деле наверняка приведет к большой беде. Небо вошло в жизнь Светланы, дочери маршала авиации Е. Я. Савицкого, естественно. С детства она чувствовала немногословное, сдержанное, но постоянное влияние авиации. Оно создавало определенный настрой, впитывалось детским умом и становилось не романтическим порывом, а потребностью. Делом, без которого немыслима вся дальнейшая жизнь. И в школе, не докучая наставлениями, давая возможность творчески подходить к выполнению комсомольских поручений, учителя сумели привить желание делать все на совесть. Созрела убежденность: если есть призвание — не отступай, борись за него. Иди только этим путем, как бы труден он ни был. Только тогда — счастье себе и польза Родине. А если говорить о везении, то Светлане действительно повезло — повезло в людях, которые вели ее трудной дорогой в небо. «Главное, не занятое место. Запомните это, девчата, — часто повторял заслуженный мастер парашютного спорта С. Киселев. — Добивайтесь уверенности, отточенности, совершенства. А рекорды приложатся». Слова падали на благодатную почву: Светлана думала так же, и понять первого тренера ей было нетрудно. Почему, стремясь к самолетам, Светлана начала с парашюта? Нет, не только потому, что прыгнуть можно на год раньше, чем взлететь. Она понимала, что в большую авиацию надо подниматься с первой ступеньки. Только тогда все последующее будет понятно и надежно. Парашют дал Светлане не только умение владеть своими чувствами, заглушить страх, но и умение «видеть» землю, в любом положении тела схватывать краем глаза и моментально фиксировать ориентиры. Он оттачивал координацию движений, приучал тщательно готовиться к каждому прыжку. 26 «Не надейтесь всему научиться только в воздухе. Там — считанные секунды. В прыжке надо проверить, завершить то, что отработано до автоматизма на земле. Только тогда сможешь уловить ошибку и потребуется меньше времени, чтобы ликвидировать ее», — эти советы тренера Светлана перенесла потом и на полеты. При всей кажущейся легкости Светлане на самом деле ничего легко не давалось. Но она умела преодолевать трудное. А началось оно с самого первого шага в авиацию. «Не проси, не могу,— врач смотрит сочувственно и непреклонно. — Исполнится шестнадцать — пожалуйста. А сейчас — нет!» Потом — после очередной просьбы — зыбкое: «Ну, ладно, посмотрим». И так до самого первого прыжка. Эмоций на прыжок уже не остается, все волнения съедает тревога: вдруг не разрешат? Первые месяцы прыгать новичкам удавалось не часто. И только самые упорные настойчиво штурмовали подвесную систему, с завистью поглядывая, как прыгают старшие. Зато потом сразу удалось. Почувствовала и упругость потока, и свободу своего гибкого, сильного тела, которое словно не падало, рассекая воздух, а парило над нереально далекой землей. Теперь всѐ, Светлана знала это, зависело от ее упорства, способностей, желания. И окружающие с удивлением смотрели, как девочка, самая младшая в команде, упорно работая, жадно вбирая опыт старших, уверенно покоряет небо. За два с половиной года — пятьсот прыжков, и одновременно — школа, экзамены, институт. А потом — самолеты, теперь уже в Центральном аэроклубе СССР имени В. П. Чкалова. Но и здесь все начиналось не гладко: почти год ушел на сдачу зачетов. Спрашивали требовательно, только матчасть инженер заставлял пересдавать три раза. Потом по разным причинам не было полетов, потом снова перерыв... Светлане опять повезло: ее инструктором стал заслуженный мастер спорта А. И. Талалакин. Они как-то удивительно подошли друг другу. Он ничего не навязывал, в полете старался дать больше свободы, приглядывался. Поправлял тонко, неназойливо. Если пилотажная фигура не получалась, искал, придумывал новый метод отработки, заставлял репетировать каждое движение на земле. И не в кабине, а где-нибудь за ангаром, не смущаясь, что со стороны это выглядит довольно нелепо: два человека крутят головой, изгибаются, делают руками непонятные движения. А у них перед глазами было небо, земля, горизонт — все фиксировалось так, как должно быть при выполнении определенной фигуры. Умение глубоко, отстраняя окружающую обстановку на земле, уйти в себя. Заставить все мышцы сгруппироваться и работать так, как будут работать в полете, почти явственно ощущая возникающие при этом перегрузки, представляя всѐ сложное переплетение земли и неба... Вот это и помогло много позже, при отработке произвольного комплекса и особенно неизвестного, «темного» комплекса на чемпионате. И хотя с Талалакиным Светлана тренировалась сравнительно недолго, опыт первого инструктора стал залогом ее дальнейших успехов. Он научил подчинять весь уклад жизни одному — полету. ...В комнате уже совсем темно, только окна синие, в блестках далеких огней города. Сколько времени мы сидим одни, забыв про обед, про то, что нас могут искать? Но разве важно это сейчас? Почему-то волнуюсь. Так бывает всегда, когда, встретив человека, неожиданно распахнешь его, почувствуешь, как соединяют тебя с ним незримые связи, поймешь, что никогда он уже не станет безразличен, что будешь следить за его судьбой, огорчаясь неудачам, радуясь успехам. Понимая много больше, чем было сказано при встрече. — А потом начались срывы, – темный силуэт на фоне окна шевельнулся. Светлана подперла голову руками, помолчала, вспоминая: — С уверенностью пришла вдруг неожиданная жесткость. Хотелось добиться энергичности мужского почерка, но это перерастало в резкость: работала на больших углах атаки, 27 злоупотребляла скоростями. И начались досадные клевки, фигуры смазывались, терялась четкость исполнения... — И как же ты? — перебиваю невольно, стараясь уловить в темноте выражение девичьего лица. — Ребята помогли. У нас неписаный закон: более опытный внимательно следит за новичком. На разборах полетов говорили много, да и сама чувствовала: что-то не то... На магнитофонную ленту записывали. Как? Очень просто: когда работаешь в зоне, кто-нибудь за полетом следит, комментирует. Потом прослушиваешь — и все ошибки как на ладони. Многое на «тренере» показывали, потом уже сама на «яке» отрабатывала. Одно время тренировал Валентин Пономарев, потом Игорь Егоров. Светлана начинает рассказывать о победе Игоря на чемпионате мира в Англии, а я вспоминаю мой недавний разговор с ним. Разговор шел о Светлане. Невысокий, собранный Егоров умеет как-то удивительно точно уловить в человеке и явлении главное и сформулировать сжато, без бутафорских определений. — Многих удивила победа Светланы на чемпионате, но не нас. Успех выступления складывается из умения отстранить сопутствующие раздражители и зависит от глубины системы «я — самолет — воздух». Светлана умеет в зоне забыть обо всем, очень активна, осмотрительна, без инертности привычек. И еще ценно ее стремление сохранить нервную энергию, не растрачивать по пустякам на земле. Соревнования в Англии для всех нас явились отличной проверкой не только мастерства, но и психологической готовности. Для Светланы проверка сил началась много раньше, еще весной, когда тренировалась сборная Союза, в состав которой она еще не входила и была, как говорится, на подхвате. Тренировались много все. Но Светлана умела не показать усталость. Если не пускали в зону — нет машины или тренер считал, что на сегодня достаточно, — уходила за клетчатую будку стартового командного пункта и моделировала полет мысленно. А на стоянке, протирая самолет, снова прикидывала, на что способна эта сильная, красно-белая машина. И все время искала, спрашивала, пробовала. Долго работала над составлением произвольного комплекса. И здесь опять помогли старшие, научив полюбить, врасти в свой пилотажный комплекс, почувствовать его красоту и гармоничность. Болела рука. У всех девчат от длительных тренировок болели руки — фигуры высшего пилотажа требуют немало мускульных усилий. Но Светлана терпела, потихоньку бинтовала руку, скрывая растяжение, и снова – в зону, методично отрабатывая, оттачивая каждое движение. И верила... верила в себя. — При всех равных условиях побеждает тот, кто может настроить себя лучше, собраться, — сказал мне при встрече старший тренер сборной СССР по высшему пилотажу Заслуженный мастер спорта СССР К. Г. Нажмудинов. — Савицкая была в резерве. Но она сумела так потрудиться, что вошла в первую тройку на прикидочных соревнованиях в Москве. То, что мы не ошиблись, включив Светлану в сборную, доказала ее победа в Англии. ...Аэродром английской военной базы Халлавингтон насупился низкой облачностью, в разрывах которой проглядывает высокое холодное небо. Полетов нет. На аэродроме спортсмены изнывают от безделья. Неопределенность — вот что выматывает больше всего. И когда у более старших и опытных сдавали нервы, Светлана настраивала себя так, что никакие неурядицы земли не могли ее отвлечь. Она насильно уводила себя от бесполезных споров, в часы бесцельного ожидания пыталась уснуть. Она опять сумела в нужный момент подчинить себя единой цели, и это стало ее преимуществом даже перед заслуженными мастерами. – Если откровенно, то почувствовала себя свободно только на третьем комплексе. Мне кажется, Светлана улыбается в темноте. И голос у неѐ тѐплый, доверительный: – Влеталась... Да и следом по очкам Зина Лизунова шла. Если не я, то все равно первое место было бы наше. 28 Кто-то заглядывает в комнату. Резкий, как прожектор, луч света раскалывает темноту, безжалостно обнажая ряд пустых стульев, угол стола, покрытого зеленым сукном... И потускнело, исчезло холодное небо Англии, смолк торжествующий рокот мотора, и тупоносый дерзкий «як» скользнул куда-то в недоступную высоту. Лишь на столе светлым пятном — лист бумаги с четким рисунком пилотажного комплекса Светланы, единственного комплекса, который я, несмотря ни на что, все- таки отлетала вместе с ней. Пусть мысленно, но от этого для нас обеих он не стал легче. – А какие планы, Светлана? Яркий свет из коридора бьет ей в лицо, и глаза снова становятся настороженными. Наш совместный полет окончен, и мы опустились на землю. – Не знаю, – отвечает уклончиво, отводя в сторону глаза. – Зачем говорить раньше времени? Может, ничего не получится... Получится, Светлана. У тебя — обязательно получится. 1970 г. Верность мечте Человек стоял, напряженно вскинув голову, и заворожено смотрел в небо. Там, в подернутой льдинками облаков синеве, летел маленький самолетик, склеенный из папиросной бумаги. Он плыл торжественно, вбирая в себя все самые светлые краски дня и, казалось, заслонял печные трубы, косые срезы темных крыш. Порыв ветра — и самолетик, светящейся точкой мелькнув над городом, растаял в небе. Теплая влага слепила ресницы, человек перевел дыхание и зажмурил глаза. Было человеку четыре года и звали его Леней Алдошиным. А потом началась война. Тряская телега, зарево горящего города, тяжелые тени «мессеров», врезающиеся в вереницу обозов жала свинцовых очередей, и вздрагивающее тело матери — раскинув руки, она пыталась прикрыть собой троих сыновей... Все постепенно стерлось в детской памяти, а бумажный самолетик, хрупкой мечтой ворвавшийся в воображение, остался, рождая удивление и тревогу. ...Одним из первых из руин освобожденного Советской Армией города поднялся Дом пионеров, и стосковавшиеся по интересным делам мальчишки атаковали руководителей кружков. Только Леня неприкаянно бродил по коридорам, вчитываясь в надписи на дверях — авиамодельного кружка почему-то не было... Как часто вспоминаем мы с робкой улыбкой о несбывшемся, удивляясь подчас дерзости фантазии и горению, которого, казалось, могло бы хватить на целую жизнь. Но проходили годы, другие увлечения и заботы уводили иным путем, и мало кому удавалось сохранить верность детской мечте, сделав ее своей профессией. Леня был настойчив. Долгие поиски, расспросы, пыльные полки библиотек, и наконец, пальцы бережно листают потрепанную книжку — пособие для юных авиаконструкторов. Что с того, что нет папиросной бумаги? Можно склеивать листочки курительной. Выпросив у матери горсть муки, сварить клейстер. Вместо фанеры приспособить дранку. И чудо — первый же планер полетел! Позже появятся десятки других моделей: кордовых, радиоуправляемых, сделанных из дорогой эквадорской бальзы и стекловолокна, нарядно поблескивающих лаком и майларовой пленкой. Но самой прекрасной останется все-таки та, невзрачная модель, впервые выпущенная из рук... В каждом деле есть скептики и энтузиасты. «Взрослый парень уже, а ровно маленький, непутевым делом балуется», — осуждающе качали головами соседи, а ребятня липла, подбадривая советами. Со временем появилось и «конкурирующее КБ» — мальчишки с соседней улицы. Планеры, резиномоторные 29 самолеты, запускаемые с крыш, на пустыре... И неожиданно — приглашение председателя районного комитета ДОСААФ: «Приходите, ребята, бензиновые моторчики дам». И вот — первый слет... Много лет спустя будут международные соревнования, союзные и мировые рекорды, часы парения и сотни километров пути, но первый официальный полет закончился неудачей: движок заглох над лесом, и самолет спланировал в заросли. Долгие поиски, горькие размышления на месте аварии... Будут и еще ошибки, срывы, разбитые, уже не подлежащие восстановлению модели. Неудачи ломают слабых и утверждают сильных. Любой вид спорта требует выдержки — авиамоделизм требует еще и терпения, редкого сочетания усидчивости ювелира, выносливости спортсмена, быстроты и самообладания пилота. И самое привлекательное в этом виде спорта то, что ты сам изобретаешь, соединяя фантазию и конструкторскую смекалку, сам строишь и сам испытываешь модель в полете. Но если летчик управляет самолетом, не отделяя себя от него, телом чувствуя крен, перегрузки, видя положение свое относительно земли визуально или по приборам, то пилот радиоуправляемого аппарата может лишь зрительно анализировать эволюцию объекта, удаленного на сотни, а то и тысячи метров. И только в счастливые минуты, когда безукоризненно послушная модель подчиняется командам, когда возмущения атмосферы и помехи в эфире не выбивают из установленного ритма, когда пальцы, сжимающие рукоятки управления на передатчике, совершают безошибочные движения, только тогда почти физически начинает проявляться связь спортсмена с самолетом-моделью. ...Человек стоит, чуть откинувшись всем корпусом назад, обратив лицо к небу и пристально следит за тем, как плавно, повинуясь его желанию, скользит в вышине телеуправляемая модель самолета. Руки спокойно лежат на желтой коробке передатчика, чуть покачивается длинная стрела антенны. Человеку за сорок, но лучи морщинок около глаз не возрастные, а от привычного прищура. Леонид Тихонович Алдошин — руководитель авиамодельной лаборатории студенческого конструкторского бюро Казанского авиационного института, мастер спорта международного класса. На его счету тринадцать союзных и пять мировых рекордов. Один из них — на дальность по кругу для модели планера установлен в 1974 году, равен пятистам двадцати двум километрам и еще никем не побит. Принято считать, что авиамоделизм — это только спорт. Но сейчас Алдошин управляет телепилотируемым летательным аппаратом, предназначенным для метеорологических исследований. Под сине-красным фюзеляжем виден продолговатый контейнер, несущий приборы для регистрации температуры, влажности воздуха, давления. Самолет то набирает высоту и его затуманивает скользящая дымка слоистых облаков, то полого снижается и прогоняет площадку, то, подчиняясь командам, проносится у земли, рядом с группой людей, придирчиво следящих за полетом. Что-то записывает в свой блокнот представитель Главной геодезической обсерватории. Ведущий темы руководитель студенческого конструкторского бюро Казанского авиационного института Е. И. Русаковский дает пояснения. В данном случае Алдошин выступал в основном как пилот. Но в трудах обсерватории не раз встречались его оригинальные статьи об аэрологических исследованиях пограничного слоя атмосферы радиоуправляемыми измерительными комплексами. Эти дешевые, высоко маневренные, портативные аппараты способны летать на предельно малых высотах, стартовать с катапульт или с рук, садиться на ограниченные площадки. Все это делает их незаменимыми в картографии труднопроходимых районов, наблюдении за животными в заповедниках, контролем за лесными пожарами, в поисковых операциях, химической обработке посевов — везде, где можно заменить дорогостоящие вертолеты и самолеты, и в случаях, когда полеты опасны для человека. 30 – Хотим заняться изучением турбулентности. Самолет, способный выдержать большие перегрузки, готов. Еще не ясно, как ускорить обработку результатов измерений, ведь на минуту полета приходится сейчас несколько часов расчетов, — поделился своими планами Леонид Тихонович, показывая на рабочем столе самолет необычной формы. Мы разговаривали в лаборатории, остро пропахшей древесиной, клеем, растворителями. Тонко свиристел сверлильный станок, дружно шаркали напильники, авиамоделисты — студенты и сотрудники Казанского авиационного института — готовились к поездке в Крым, планируя поставить несколько рекордов. По стенам лаборатории, на подвесках, стеллажах — всюду посвечивали лаком летающие копии гражданских и военных самолетов, рекордные модели торжественно застыли рядом с бойцовскими — кордовыми, похожими на гигантских бабочек. И неожиданно, среди радостного пестроцветья — серое крыло с черно-белым крестом... — Это для фильма, — перехватив мой недоумевающий взгляд, пояснил Алдошин. — Проводились съемки художественного фильма, надо было разыграть бой У-2 с «мессером». Я «пилотировал» немецкий истребитель. На экране все получилось естественно — выход на цель, атака, падение... Один раз действительно чуть не приложил «мессера» за пригорком при выводе после имитации взрыва: увлекся, да и устал — дублей много было. Крым, Планерское. Отдыхающие у моря ждут солнца, а мы — свирепого ветра, что дует здесь в марте, обтекая крутой южный склон легендарной горы Клементьева, воспитавшей не одно поколение летателей. В ожидании ветра на укрывшемся среди возвышенностей озерке опробуем модель гидросамолета — А. Смоленцев и П. Васяков собираются поставить новый рекорд Советского Союза. Модель хороша — прозрачная пленка, обтянувшая ажурное плетение лонжеронов и нервюр, и по-осиному тонкий фюзеляж придают легкость конструкции, а красные поплавки — солидность. Высоким дискантом взвивается мотор, самолет напрягается как живая, рвущаяся в полет птица. Павел опускает модель на воду, и она, выскользнув из рук, несется в каскаде брызг, распахивая гладь озера серебристой бороздой. Потом взлетает и начинает выписывать широкие круги. Подвижные губы Смоленцева плотно сжаты, взгляд сосредоточен, большие ладони, прикрывшие коробку передатчика, неподвижны, и только пальцы, прихватившие рукоятки, живут своей, обособленной жизнью. Леонид Тихонович стоит чуть в стороне, всем своим видом давая понять, что ничего советовать не намерен и совершенно спокоен за своего ученика. И лишь когда гидроплан, зайдя против бегущей навстречу мелкой волне, касается, наконец, воды и устойчиво утюжит ее поплавками, Алдошин оживляется и начинает подсказывать, как на малом газу подтянуть самолет к берегу. Только ближе к вечеру задул настоящий ветер. К ночи пригнулись деревья, и море судорожно забилось о причал. — То, что надо, — сказал Алдошин, взглянув на показания анемометра, и мы начинаем собираться. Предстоит побить мировой рекорд по продолжительности полета на планере, равный почти двадцати шести часам. Алдошин должен превысить это время на два процента. Это значит, надо больше суток держать модель в воздухе, не отрывая от нее глаз ни на секунду... – Ничего, — угадывая мое беспокойство, улыбается Леонид Тихонович, — выстою, высижу, вылежу. Кстати, лежа пилотировать даже удобнее, шея не затекает. Сейчас я могу выбрать подходящий темп, безопасную высоту... А вот когда пятьсот двадцать два километра отлетывал и до темноты оставалось мало времени, когда базовый отрезок приходилось пролетать с максимальной скоростью, тут уж точность в пилотировании требовалась безукоризненная. Глаза от напряжения туманились, шея, спина одеревенели. Пальцы, те, что не заняты в управлении, переставали чувствовать коробку передатчика, и 31 терялось ощущение положения рукояток, – Алдошин прищуривается, вспоминая, и, чуть помедлив, продолжает рассказ: – Где-то на четырехсотом километре прошли в эфире помехи, планер бросило к земле... Странное впечатление — словно управляют моделью двое, один из которых — злодей. Все же я успел выхватить планер и, только набрав высоту, почувствовал, как пересохло во рту... А сейчас что, сейчас лишь бы не утих ветер. К горе Клементьева мы подходим лишь в полночь. Смутно белеет тропинка, круто взбираясь вверх. Осклизлые камни срываются из-под ног, стылая морось в воздухе становится все плотнее. Ветер стелется по длинной, плоской вершине тяжелыми, плотными волнами и соскальзывает с кручи, издавая странный громыхающий звук, как будто где-то встряхивают тонким листом железа. Динамический поток поднимается, должно быть, высоко над горой и планер сможет парить устойчиво. Лишь бы взлететь... Но темнота, пронизанная мечущейся взвесью тумана и зыбким светом тусклой луны, белеса, непроницаема. Ее не пробьют мигающие навигационные огни, вмонтированные в законцовки крыльев и хвост планера. Нам ничего не остается, как городить стену из камней и, укрывшись за ней, ждать, надеясь, что ветер к утру разгонит низко опустившиеся облака. Но на следующий день идет дождь, и взлететь удается лишь после обеда. Как странно выглядит небо, когда видишь его вторым планом, фоном, на котором то контрастно, то сливаясь с палевым цветом дождливой бахромы, выписывает четкие овалы скромной рабочей окраски планер. Плоскости и стабилизатор его оклеены светоотражающей пленкой, и когда станет совсем темно, луч карманного фонарика, дотянувшись с земли, высветит их голубоватым свечением. Без этого определить положение планера трудно. ... Солнце тяжелой огненной каплей медленно стекает к горизонту и так же неумолимо сникает ветер. Когда сумерки заливают низины и в густой синеве неба проклевываются первые звезды, становится очевидным, что полет сорвался опять. Планер парит все ниже, временами он бесшумно проходит почти у ног Алдошина, стоящего у края склона. Фигура пилота, гибкий ус антенны и тихо льнущий к земле планер... — Ну что же, — говорит Леонид Тихонович, — значит, завтра начнем все сначала. 1978 г. Право на крылья — Как научить молодого рабочего видеть не просто детали конструкции, а «живую» летающую машину? Как вырастить инженера, знающего законы поведения самолета в воздухе не по формулам и графикам, а в реальности полета? В голосе одного из руководителей авиационного завода В. Н. Мизгера озабоченность: ведь создание современного самолета требует заинтересованности, а не только умелых рук, постоянного горения творческой мысли, даже одержимости. — Мы создаем при нашем предприятии авиационный клуб. В нем будут самолеты, планеры, дельтапланы, — продолжает Виктор Николаевич. — Кроме работников завода, для которых полет — прежде всего, способ повышения квалификации и подъема творческой активности, мы будем привлекать в клуб учащихся школ, ПТУ. Наша идея — охватить занятиями авиационным спортом, авиамоделированием и авиаконструированием самый широкий круг молодежи. Кадры авиаторов надо растить с детства... Слушаю Виктора Николаевича, и память переносит к событиям пятнадцатилетней давности, на аэродром Казанского аэроклуба. Зелено-голубой простор, белыми чайками в нем — планеры. Молодой инженер Витя Мизгер широким шагом идет к самолету, залезает в 32 кабину... С уважением глядят на своего технического руководителя воспитанники летнего лагеря «Факел», преобразованного позже в юношескую планерную школу. – Где они сейчас — эти мальчишки и девчонки? – Кое о ком знаю, улыбается Виктор Николаевич. — Валера Кузьмичев окончил авиационный институт и руководит аэроклубом в Казани. Валишев Рустем — инженер, Рустем Шафигуллин — конструктор, оба работают на авиационном заводе. Юра Гурьянов на партийной работе, Николай Андреев стал летчиком, служит в авиационном истребительном полку, а Виктор Ларин — мастер спорта по планеризму. Летают ребята и в гражданской авиации. Да их же сотни — питомцев «Факела». И для нас, его руководителей, он стал отличной школой жизни. Примерно в те же годы начали возникать юношеские планерные школы и в других городах. Казалось бы, интересному и необходимому начинанию — широкую дорогу! Но... — Организация юношеских планерных школ сейчас приостановлена, а те немногие, что еще существуют, под угрозой ликвидации: нет материальной базы, планеры для первоначального обучения приходится покупать самим, а цена немалая, — с горечью рассказывает руководитель планерного кружка при одном из заводов Вологды В. Н. Янусов. — Мы бы рады купить любые планеры, правление колхоза поддерживает нас и средства выделяет, да где приобрести? — у военрука Золотопольской средней школы Крымской области капитана запаса П. И. Макарова те же заботы. Несколько лет назад на Пренайском экспериментальном заводе спортивной авиации был прекращен выпуск простого и надежного планера для подростков конструкции Б. О. Ошкиниса. Планер, который пришел ему на смену, дорог и нуждается в серьезных доработках. Между тем в студенческих конструкторских бюро Харьковского, Куйбышевского, Казанского авиационных институтов есть уже летающие планеры для первоначального обучения. Есть отличный учебный планер, сделанный под руководством водолаза спасательной станции города Каунаса Ч. Кишонаса, который, по заключению специалистов, можно почти без доработок пускать в серийное производство. Да, есть десятки модификаций планеров, самодельных самолетов и самых различных летательных аппаратов оригинальной конструкции, построенных умельцами. И это не удивительно: техническое творчество сегодня приобретает все большее развитие. Не останавливает и то, что работать порой приходится в сараях, подвалах, необорудованных мастерских, используя случайный, зачастую бросовый материал. Строят везде — в городах и в сельской местности, группами и в одиночку, молодежь и люди зрелого возраста. Здесь судостроители, шоферы, колхозники, студенты, сотрудники институтов разного профиля — люди с высшим и без высшего технического образования. И мотивы творческого поиска различны. Одни, страстно мечтая летать, создают простейшее, что способно поднять их в воздух. Других увлекает сам творческий процесс. Они разрабатывают собственные конструкции, тщательно исполняют их, но летать не стремятся. Большинство же строят и пилотируют сами, стараясь в воздухе оценить летные качества аппарата, пытаясь совместить в себе конструктора и летчика-испытателя, что требует не только желания, но и специальных знаний, навыков. Но вот, воплотив свои знания, мечты, свой талант в конкретном и нередко необходимом для нужд народного хозяйства летательном аппарате, конструктор-любитель сталкивается с одними и теми же проблемами: где облетывать эти конструкции, как обеспечить безопасность испытаний и дальнейших полетов, где найти применение творению своих рук, ума и сердца? — Любители — это армия энтузиастов, которая может все. То, что они делают, решая сложнейшие конструкторские задачи, удивляет даже профессионалов. Я бы всех их забрал в свое конструкторское бюро и дал им возможность работать, — говорил Генеральный конструктор О. К. Антонов на первом Всесоюзном смотре-конкурсе любительских летательных аппаратов. 33 Смотр-конкурс был организован по инициативе редакции журнала «Техника — молодежи» при содействии группы работников Министерства авиационной промышленности СССР, Федерации дельтапланерного спорта и конструкторского бюро О. К. Антонова. Он был приурочен к шестидесятилетней годовщине планерного спорта и состоялся в Крыму в 1983 году. ...Это было удивительное зрелище. Вдоль высокого железного забора, отгородившего популярный некогда у планеристов тренировочный аэродром на легендарной горе Клементьева, выстроились почти два десятка самодельных летательных аппаратов. По-рабочему надежный самолет воронежского клуба «Пульсар», бело- голубой двухместный мотодельтаплан ростовского клуба «Синяя птица», изящный микросамолет куйбышевского молодежного конструкторского бюро «Аэропракт», сверхлегкий мотодельтаплан А. Лекиса, спортивный самолет «Дельфин» кронштадтских конструкторовлюбителей, завоевавший главный приз смотра-конкурса. Поражала тщательность изготовления и техническая грамотность. Особенно хорошо смотрелись ―самоделки‖ в полете. Самый волнующий момент — облет техники. Старейший летчик-испытатель, Герой Советского Союза С. Н. Анохин садится в мотопланер Ч. Кишоноса и, наверное, не у меня одной от волнения перехватывает горло: мастерство легендарного летчика и талант конструктора-любителя сейчас сольются в полете... Короткий разбег, мотопланер уходит в коктебельское небо, воспитавшее знаменитых планеристов, летчиков, авиаконструкторов в те, двадцатые — тридцатые годы, когда призыв комсомола «Трудовой народ, строй воздушный флот!» сделал страну крылатой. — То, что происходит здесь, — говорил после полета Сергей Николаевич, — как бы повторение нашей юности: такое же увлечение конструированием, полетами, но только на новом, более высоком техническом уровне. Необходимо поддержать конструкторов-любителей, чтобы энтузиазм, которого у молодежи предостаточно, не глушился, а дальновидно организовывался и направлялся с пользой для общества. Подводя итоги и наградив победителей призами и грамотами, жюри конкурса предложило ряд летательных аппаратов и конструкторских решений запатентовать в качестве промышленных образцов. Микросамолеты могут быть использованы в самых разных отраслях народного хозяйства. К ним и мотодельтапланам уже сейчас проявляют интерес работники рыбного и сельского хозяйства, патрульной службы, лесного хозяйства и санавиации. Трудно перечислить все сферы человеческой деятельности, где в настоящее время особенно остро возникла потребность вот в такой мобильной, экономичной микроавиации. Однако суть не только в технике и экономике. Не менее важно формирование человека в атмосфере творческого поиска и самых высоких нравственных устремлений. Но как создать условия, в которых человек, независимо от своей основной профессии и уже определенного жизнью места работы, мог бы полностью раскрыть свои дарования, не всегда проявляющиеся с детства? Какая форма организации поможет осуществить наиболее плодотворные контакты технически одаренных людей с институтами и производством, как найти наиболее простой и короткий путь реализации их труда и вдохновения в народнохозяйственных делах? Не так давно в Министерстве авиационной промышленности СССР был издан приказ о создании отраслевого центра научно-технического творчества при одном из научнопроизводственных объединений. Создавая центр и систему ведомственных аэроклубов, министерство взяло на себя нелегкую, но благородную задачу: объединить и взять на учет с точки зрения творческих возможностей целую армию энтузиастов авиаконструирования; обеспечить их необходимыми материалами из отходов авиационной промышленности; разработать методические пособия для конструкторов-любителей, выработать нормы летной годности и правила облета. 34 Потребуются технические комитеты для технической оценки летательных аппаратов, в их работе примут участие специалисты авиационных учреждений и предприятий. Необходимо продумать с участием соответствующих организаций, разработать и внедрить систему облета летчиками-испытателями новых конструкций, решить вопрос предоставления летных прав любителям-конструкторам, допуска их к выполнению полетов на созданных ими аппаратах. Итак, просматривается комплексное решение назревших проблем. Расширение сети авиатехнических спортивных клубов и юношеских планерных школ при институтах и предприятиях авиационного профиля. Создание Центра научно-технического творчества и его филиалов в ряде крупных городов поможет в решении вопросов профориентации и профотбора. Авиационное творчество войдет в русло четкой организации, обретет права, квалифицированный контроль и помощь. Прошло два года с момента, когда были написаны эти оптимистичные строки. И вновь – летное поле, теперь уже киевского спорткомплекса «Чайка». Оно отдано минисамолетам и вертолетам, необычного вида мотопланерам, нарядным мотодельтапланам. И все это рулит, подлетывает, поднимается в воздух — живет напряженно и празднично. Проводится третий Всесоюзный смотр-конкурс самодельных конструкций летательных аппаратов — СЛА-85. Трудно забыть эти лица, изумление, восторг в глазах мальчишек и девчонок — учеников школ, ПТУ. Они классами приезжали на аэродром, собирались то шумными стайками, обсуждая заинтересовавшую их крылатую машину, то замирали, разглядывая что-то особенно поразившее их. Тем, кто побойчее, перепадало и посидеть в самодельном пилотском кресле или подержать инструмент, помогая хозяину самолета-крошки еще раз: что-то подкрутить, проверить. — Вот она — наша смена... В этом, изначальном, в малой авиации — элементы будущего нашей авиации большой, — задумчиво поглядывая то на ребят, снующих между летательными аппаратами на стоянке, то на конструкторов-любителей, работающих возле них, говорил П. В. Балабуев – Генеральный конструктор Опытно-конструкторского бюро имени О. К. Антонова. Три всесоюзных смотра сломали лед недоверия к любительскому авиастроению. Тому, кто участвовал в первом смотре (два года назад), очевидна разница в масштабах мероприятий. Девятнадцать летательных аппаратов и шестьдесят участников тогда, а теперь — свыше семидесяти аппаратов и двигателей, прошедших предварительный тур конкурса, сто семьдесят приглашенных конструкторов-любителей и более трехсот «неаккредитованных» из двенадцати союзных и автономных республик. И если первый смотр был проведен полуофициально, то вторым и третьим вплотную занимались ЦК ВЛКСМ, Министерство авиационной промышленности СССР и ЦК ДОСААФ СССР. — Нынешний смотр заложил основу для будущей серьезной работы, — считает А. Н. Дашивец, начальник одного из отделов ОКБ имени О. К. Антонова, на базе которого проводился смотр. — Изучены возможности студенческих конструкторских бюро и самодеятельных клубов, заключены договоры о техническом содружестве с наиболее перспективными коллективами. По предложению оргкомитета два самолета, автожир и мотодельтаплан переданы в исследовательский институт для изучения характеристик и особенностей аэродинамической компоновки... Конкурсы показали: любительские коллективы могут стать своего рода творческой лабораторией большой авиации. Они уже стали настоящей школой общения — профессионального и духовного — для конструкторов-любителей. – Но они не могли, увы, решить всех проблем. Желание, идея находятся нередко в противоречии с техническим уровнем исполнителя — недостает опыта, специальных знаний и надо незамедлительно переходить от эпизодической работы с конструкторами-любителями к постоянной и вдумчивой помощи им. Это станет возможно лишь при объединении групп и 35 одиночек в клубы авиационного научно-технического творчества, — убежденно доказывают члены технической комиссии. На смотрах-конкурсах стал возможен облет самодельных, по существу экспериментальных, аппаратов летчиками-испытателями. Лишь специалист высокого класса, выступая как эксперт, на основе своего опыта может сделать объективную сравнительную оценку летных характеристик. — Мы даем конструктору свои рекомендации, а как он воспримет их, зависит, прежде всего, от его знаний. Слабо подготовленный может просто не понять, о чем идет речь, и надо обратить особое внимание на летное обучение пилотов-любителей — в этом залог безопасности и успех дальнейшей конструкторской работы, — не без основания рекомендуют летчики-испытатели. Полеты, специфика их организации и проведения — вот то существенное, что отличает положение создателя летательных аппаратов от строителей, скажем, автомобилей и яхт. Правовая сторона дела требует здесь особого подхода и решений. Идя навстречу конструкторам-любителям, органы Единой системы управления воздушным движением СССР разрешили им с учетом конкретных условий использовать воздушное пространство страны. В свою очередь управление летной службы Минавиапрома, зная, как неумело организуются и проводятся иногда полеты, поручило своим летчикамиспытателям написать «Памятку пилоту-любителю». Надо было видеть, с каким напряженным вниманием слушали текст чернового варианта участники смотра. Кто, как не сами конструкторы-любители, дорогой ценой расплачивались за неправильные расчеты, некачественное изготовление аппаратов, за нарушение элементарных правил безопасности полетов, а чаще всего — за незнание методики облета экспериментальной конструкции. Да и просто — отсутствие пилотажных навыков. — Я увлекаюсь авиацией с детства, неоднократно пытался поступить в аэро клуб, но безуспешно. Вот и решил сам строить самолет. Через четыре года само летик был готов. Не буду описывать, сколько было поломок и травм, скажу только, что самолет я разбил, так и не научившись летать. Второй аппарат я построил за два года восемь месяцев. Приступив к испытаниям, понял, что если не подучусь летать — разобьюсь. Но где у нас можно научиться летать энтузиасту, построив шему самолет? Ведь для этого он его и строил... — под этими словами токаря И. Пастуха могло бы подписаться большинство конструкторов-любителей. Так кто же будет готовить пилотов-любителей? На чем учить их летать? Послушаем специалистов. Заместитель начальника управления летной службы Минавиапрома В. П. Селиванов: «Первоначальное обучение пилотов-любителей должно проводиться на серийной учебной технике. Только после получения ус тойчивых навыков можно говорить о допуске к полетам на самодельных конструкциях, предварительно облетанных летчиками-испытателями и имеющих уточненное руководство по летной эксплуатации». А кто у нас располагает серийной учебной техникой? Конечно, ДОСААФ. Вот мнение заместителя начальника Управления авиационной подготовки и авиационного спорта ЦК ДОСААФ СССР Ю. Ф. Новикова: «Мы готовы содействовать в этом вопросе, сможем подготовить группу инструкторов, которые в дальнейшем будут работать с конструкторами. Но взять на себя полностью обучение пилотов-любителей, видимо, не сможем: готовим молодежь для поступления в летные училища, занимаемся спортивной работой... Быть может, есть смысл использовать ведомственные клубы? Ведь в том же Минавиапроме их шесть...» Полеты на самодельной технике — у нас в стране это вроде бы в новинку. И первое, естественное желание — втиснуть их в рамки, установленные для большой 36 авиации. Справедлив ли такой подход? Ведь большинство любительских аппаратов летает на скоростях... автомобильных. Заместитель председателя технической комиссии двух смотров Е. Н. Коваленко считает: «Есть смысл обобщить опыт полетов и методики первоначального обучения на самодельных планерах, мотопланерах и самолетах, созданных самими конструкторамилюбителями в Каунасе, в клубе авиационного конструирования Харьковского авиационного института... Но сначала надо провести четкую грань между достаточно безопасной техникой и более скоростной, к которой и подход нужен иной. Это позволило бы сформировать четкие требования к классу сверхлегких летательных аппаратов, которые можно пилотировать с самой элементарной подготовкой и с минимальными требованиями по здоровью. То, что большинство любителей сами научились летать на таких машинах, говорит в их пользу. Для скоростных и маневренных машин экспериментального класса требования должны быть, конечно, по всем статьям намного выше». На первый взгляд может показаться: речь идет о делах летно-методического порядка. А по сути — решаются творческие судьбы одаренных людей. Не так давно достигнута договоренность об использовании аэродромов клубов ДОСААФ для организации полетов коллективно построенных аппаратов. Более того, специальным постановлением предписано организовать планомерное освоение полетов на мотодельтапланах и моторных сверхлегких летательных аппаратах. Однако ДОСААФ может взять под свое крыло сверхлегкие летательные аппараты, имея в виду развитие технических видов спорта, но не технического творчества в целом, оставляя самодельные конструкции экспериментального типа и те, что не входят в класс сверхлегких или предназначенных для использования в народном хозяйстве, на попечение Министерства авиационной промышленности. Таким образом, сделана «отдушина» для тех, кто строит с целью полетать. И когда появятся сверхлегкие мотопланеры и самолеты, мотодельтапланы промышленного изготовления, когда будут сняты возрастные ограничения и снижены медицинские требования, необходимость в «самоделках» для этой части авиалюбителей отпадет. Хотя случится это, по всей видимости, не так скоро, как хотелось бы, но перспектива налицо. А как быть тем, кто обладает ярко выраженными конструкторскими способностями и потребностями? Для них полет – не самоцель, а важный этап работы, который складывается из разработки проекта, постройки, испытаний, доводок, штатной эксплуатации и снова проектирования... В этом смысл творческой работы. Два этих направления нельзя противопоставлять друг другу. На практике четкую грань провести между ними невозможно. Значит, все «самодельщики» по-прежнему нуждаются в оперативной помощи Министерства авиационной промышленности, а дело там подвигается медленно. Не определен еще порядок строительства самодельных летательных аппаратов, материально-технического обеспечения, финансирования и организации полетов. Нет и положения, регламентирующего обучение и полеты самодеятельных конструкторов на созданных ими летательных аппаратах. Не решена проблема организации полетов в клубах научно-технического творчества, да и сами клубы не имеют пока никакой правовой основы. Нужно создавать базу для подготовки инструкторов клубов, решать вопрос о промышленном производстве учебных планеров, сверхлегких летательных аппаратов, двигателей, парашютов, авиаприборов, агрегатов, комплектующих изделий к ним для продажи самодеятельным коллективам, предприятиям, учреждениям и организациям, при которых создаются клубы авиационного творчества. А ведь разговор об этом идет на разных уровнях уже несколько лет. — Мы озабочены проблемами развития малой авиации, авиационного спорта и творчества, ибо эти проблемы затрагивают многие стороны жизни нашей молодежи, — сказал в беседе со мной секретарь ЦК ВЛКСМ И. Н. Орджоникидзе. — Нет сомнения в том, что проблему технического творчества надо рассматривать с позиций не только 37 сегодняшнего, но и завтрашнего дня, и мы готовы сделать все для координации усилий. Комсомол не снимает с себя ответственности, он был и остается шефом авиации. И ЦК комсомола последователен в своих решениях: в проекте разработанной им системы научно-технического творчества молодежи предусмотрено место и для конструкторовлюбителей, сделана попытка учесть специфику постройки и эксплуатации самодельных летательных аппаратов. Но как вольѐтся все это в жизнь, не выхолостятся ли особенности авиационного творчества при корректировке и доработках? А время идет, армия конструкторов-любителей растет, появляются десятки новых аппаратов. Одни «самодельщики», как и раньше, вынуждены строить из неавиационных или бывших в употреблении материалов, что недопустимо для летательных аппаратов. Другие, почувствовав поддержку специалистов и прессы, получив моральное право на творчество, доверчиво раскрыли свои замыслы и души, и в поисках шефов потянулись к руководителям предприятий, общественных организаций. И вот тут-то... «Мы организовали клуб авиационно-технического творчества, построили летательный аппарат, но директор завода требует разрешения на полеты...». «Первый секретарь обкома комсомола требует документы, регламентирующие деятельность любительских коллективов...» — это выдержки из писем, десятками приходящих в редакции центральных газет со всех концов страны. Сложная возникает ситуация: с одной стороны, дальновидные и отзывчивые руководители понимают стремление любителей, готовы поддержать их деятельность и помогают практически. Но лишь до тех пор, пока дело не доходит до полетов. Дать разрешение на полеты и взять ответственность за их исход на себя — таких прав у директора завода или другого руководителя нет. Пустить же на самотек, делая вид, что ничего не знают, — не позволяет совесть: сколько уже было летных происшествий среди «самодельщиков»... Если научить конструктора-любителя летать, создать условия для полетов и разрешить их у нас пока некому, то запретить — охотников предостаточно: от председателя колхоза, на травяном поле которого намереваются летать, до случайного милиционера, усмотревшего здесь нарушение общественного порядка. Вот и получается: постановления партии и правительства нацеливают на повышение самодеятельности, инициативы и творчества населения, рекомендуется шире использовать любительские объединения и клубы по интересам. Но как только интересы эти выходят за рамки привычных бытовых увлечений, некому оперативно пересмотреть и разумно расширить их. «Стройте, летайте!» — призываем мы. Но летать нельзя, да и строить по-прежнему не из чего. Так когда же конструкторы-любители, по сей день отлученные от неба, получат право на крылья? Ведь техническое творчество в авиации невозможно без полетов, без создания новых инструкций и летных законов. Обоснованные пункты постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ЦК ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ от 5 февраля 1987 года «О мерах по дальнейшему развитию самодеятельного технического творчества»... Читая их, вникая в каждое слово, формулировку, мысленно переносишь все в жизнь, примеряешь к конкретной обстановке и видишь перед собой людей — конструкторов-любителей, энтузиастов авиации, знакомых по смотрам-конкурсам, по личной переписке, по публикациям — и окрыляющее чувство радости наполняет душу. Постановление касается не только самодеятельных авиаконструкторов. Оно поднимает активность всех видов технического творчества, решая творческие судьбы тысяч одаренных, инициативных людей. Определяет будущее сегодняшних подростков, направляя в нужное для общества и народного хозяйства русло творческие способности тех, кто еще не нашел применения своей энергии и природным дарованиям. И хотя для авиалюбителей даже такое емкое и многогранное постановление не снимает пока еще ряд проблем, затрагивающих специфические летные вопросы, хотя прекрасно 38 понимаешь, что еще много трудных боев предстоит провести с перестраховщиками, недальновидными канцеляристами и просто безразличными, бескрылыми людьми, но залогом скорейшего и успешного решения их стоит в постановлении фраза: «...Любой факт невнимания к нуждам и проблемам самодеятельных авторов, уклонения от реализации их предложений и разработок, представляющих практический интерес, должен рассматриваться партийными, советскими и хозяйственными органами как грубое нарушение партийной и государственной дисциплины». Творите, дерзайте, увлекайтесь, созидайте! И пусть новый вид авиации — спецназначения, учебной, туристической, деловой — расправит свои крылья в небе, помогая земле, в необъятных просторах страны нашей. Из очерков, опубликованных в газете «Правда»: «Крылья молодых» – 3.04.1984г. «Право на мечту» – 28.10.1985г. «Отлучение от неба» – 17.12.1986г. 39 40 О них говорят: «Ну, это — элита!..» В голосе слышится восхищение и нотки зависти, даже обиды: элита — значит, и условия тепличные, и отношение исключительное, и о себе мнение высокое. Да и потребовать могут, если что не так. Чего же, мол, удивляться, что летают хорошо? И мне в голову приходили те же мысли, быть может, поэтому ехала я к спортсменам — членам сборной команды страны по самолетному спорту со сложным чувством уважения, любопытства и настороженности: как-то примут, как мне казалось, избалованные вниманием прессы и почестями лучшие из лучших пилотажников мира? Найдем ли общий язык, сумею ли понять то особенное, что выводит их в ранг мастеров международного класса? Перелистываю спустя время рабочий блокнот — имена, фамилии, лишь мне понятные торопливые записи, сокращения, цифры, а в памяти встают дни, насыщенные событиями как месяцы, и за каждой страницей блокнота — своеобразная летная жизнь... Страница первая Много приходилось видеть аэродромов, закованных в бетон, словно простреливаемых грохотом взлетающих истребителей или бомбардировщиков... Там испытываешь восхищение, гордость. Но предчувствие счастья полета особенно остро вот на таком, усыпанном цветами спортивном аэродроме. Пряно пахнет нагретая солнцем трава, от ближнего леса тянет влагой. Посвист птиц временами перекрывает рокот моторов. Подчеркивая вращение на бочках, урчит в небе двигатель. При наборе высоты он звенит напряженно, на снижении — весело. На штопорных фигурах звук притихает — самолет словно прислушивается к себе, а в высшей точке колокола на секунду совсем умолкает и тишина кажется долгой, томительной. Звук рождается, как вспышка, и будто подхватывает падающий на нос самолет. Мгновениями видно, как тонкая щель отчеркивает элероны от плоскости крыла. Отклоняясь, они словно отталкиваются от воздуха, вкручивая самолет во вращение. Рули направления и высоты шевелятся, как живые. Неубирающиеся шасси точно усики с узелками колес. Су-26М отблескивает серебром, темной чечевицей высвечивается фонарь кабины. Невозможно оторвать взгляд от неба. Самолет то вяжет кружево штопорных вращений, то сплетает венок из бочек на вираже, то затягивает узел обратной петли, завершив ее в верхней точке бантиком фиксированной бочки. То вдруг взмывает свечой, и распускается фантастический цветок, напоминающий цветок неприступных круч — эдельвейс. Какая из птиц, природой созданная летать, способна на такое? Разве что турман, дерзая играть с воздухом, получает наслаждение от владения своим телом и каждым пером. А здесь — машина, металл, дикие знакопеременные перегрузки и такое ранимое, все чувствующее живое тело. Радость полета, романтика... Это они соленым потом пропитали майки, что сушатся на солнце, заострили носы и скулы, красной сеткой подернули глаза летчиков — ребят и девчат. ...За тренерским столом идет обычная работа. В руках старшего тренера сборной Касума Гусейновича Нажмудинова два микрофона. Черный — связь с самолетом, светлый сетчатый — для видеозаписывающей аппаратуры. Телекамера на треноге стоит тут же. Николай Тимофеев — член сборной — вращает ее, пытаясь не выпустить из объектива самолет. Когда Николай летает, съемку ведет кто-нибудь из товарищей. Помогает Касуму Гусейновичу тренер Александр Григорьевич Шпиговский. Еще недавно он был членом сборной и по привычке, а может, потому, что большие серые глаза его лучатся юношеской непосредственностью, все называют его просто Сашей. Карандаш в его руке делает быстрые пометки в журнале, фиксируя замечания по каждой фигуре пилотажного комплекса. 41 Лицо Касума Гусейновича, сухощавое, до черноты загоревшее, привычно обращено к небу. Глаза надежно затеняет длинный козырек синей шапочки. — Клевок при выходе на вертикаль... минусовая страховка, потом чудом перетянул, — в голосе Нажмудинова недовольство. — Выход с левым креном на вертикаль, в конце плюс... Срыв вялый, резче надо, резче! Фиксация хорошо, по времени — хорошо... По элеронам спокойнее работай. Пла-а-внее... воронка на вращении. А неопытному глазу кажется, что Сергей Боряк выполняет все идеально. Когда Касум Гусейнович уходит летать — и самому надо форму поддерживать, на тренерской станции его заменяет Александр Шпиговский. – Уголок на солнце не видно было и рисунок фигуры не просматривается... Бочка на петле норма, петля вытянутой получилась. – Вытянута вверх? – голос Юргиса Кайриса чуть сдавлен перегрузкой. — Уголок посмотри. – Я бы посмотрел, да ты у меня как раз над головой. Кайрис энергично меняет направление движения самолета, уходя в центр зоны. Нередко спортсмены сами комментируют полеты друг друга и в тоне голоса, направленности внимания появляется новый оттенок: – Ось в нисходящих хорошо установил, только на первой фиксации угол отрицательный... Вяло штопорная, а что хотел? – следя за пилотажем Николая Никитюка, спрашивает Кайрис. – Штопорные в горизонте, на угле и по вертикали посмотри, – просит Никитюк. Сейчас самолет в перевернутом положении и голос Николая чуть искажен. – И вот это: с «ножа» – абракадаброй завершаю... Еще новая связка – кажется, интересное нашел. Самолет на вертикали покачивается, как маятник. – А как эта комбинация? – фантазирует в небе Никитюк. – Нет, так хуже смотрится, – возражает Кайрис. Взлетают, садятся, приходя из разных зон, самолеты. Меняются позывные летчиков в эфире. Над точкой – над аэродромом – появляется то Як-50, то новый самолет Су-26М, прозванный за суровый нрав «сучком». Спортсмены машину хвалят, но сдержанно, оценивая, как молодого солдата, неплохо показавшего себя в первых боях, но не зная, каким бойцом он будет в дальнейшем. А на земле — земная жизнь. Аэродром Центрального аэроклуба СССР имени В. П. Чкалова расположен в райском уголке — лес, река. Старожилы уверяют, что и солнечных дней в году здесь больше, чем в Москве. Старая взлетно-посадочная полоса из латаных–перелатаных бетонных плит растянулась в прямоугольнике аэродрома, обрамленного лесом. У северной кромки его, ближе к поселку, высится недостроенный корпус летного общежития. Тоскливо торчит труба котельной, среди штабелей железобетонных плит и груды строительного мусора обозначился фундамент еще какого-то здания — возможно, командно-диспетчерского пункта. – Это и есть центр мировой акробатики, – проследив за моим взглядом, насмешливо говорит Елена Климович – высокая, чуть угловатая девушка с лукавыми глазами и помальчишески коротко стриженными светлыми волосами. Мы стоим рядом с машиной стартового командного пункта и начальник Центрального аэроклуба СССР Петр Павлович Беливанцев – сегодня он руководит полетами – слышит наш разговор. – И долго все это строится? – выбрав момент, когда в полетах наступает недолгое затишье, спрашиваю я. – Да уже лет десять, – лицо Беливанцева тускнеет. – Удивляюсь терпению летчиков, ведь даже самого элементарного нет... Отдохнуть в перерыве между полетами, переодеться, умыться негде. А ведь летаем здесь и зимой... И в самом проекте не все предусмотрено: зачем, к примеру, огромная столовая? Где обслуживающий персонал возьмем? А спортивный комплекс с гимнастическим залом, бассейном, сауной позарез нужен, но в проекте этого нет. 42 –У нас же есть сауна! – смеясь, поправляет Лена. – Смолин с летчиками из самолетных ящиков соорудили. А ведь здесь тренируются и сборные Союза по парашютному, вертолетному спорту, отряд клуба. Можно развернуть работу по переучиванию на новую технику, но базы нет... Летный домик — приземистое сборно-щитовое строение, заставленное старыми ученическими столами и стульями, — насквозь прожарено солнцем. В проходе между столами развернуты две раскладушки. Еще можно прилечь отдохнуть на длинном железном ящике, где хранятся парашюты. Валентина Яикова, в голубой косыночке, так не вяжущейся с летным комбинезоном, чтото напевая, по-хозяйски старательно вытирает пыль со столов. А пыли предостаточно: спасаясь от грязи, траву на стоянке и возле домиков засыпали песком. И стоит подуть ветру, как разыгрывается локальная буря. Песок хрустит на зубах, режет глаза, забивает дыхание. Сейчас ветра нет, и голубой флаг на крыше домика успокоенно замер на древке. Из крохотного строения — столовой, где умещаются титан, рукомойник и четыре пластиковых столика, — выглядывает Анна Мотеюнайте. Она и Елена Климович самые молодые в команде. Юное, с нежным румянцем лицо Ани озабочено, глаза в ободке светлых ресниц смотрят чуть обиженно: только что привезли обед из поселковой столовой, она разобралась в содержимом кастрюль и лотков, нарезала хлеб, разложила посуду, но никто не идет, а есть одной не хочется... Помахала Витасу Лапенасу. Но Витас, такой же светловолосый и светлоглазый, как его землячка, только пожал плечами, кивнул в сторону дальней зоны: следит за кем-то из товарищей. Необходимо держать под наблюдением все самолеты в воздухе, даже если связь с летчиком устойчивая и все идет нормально. Самолет ведь не скажет, что устал. При таких перегрузках, на которых здесь работают, и металл иногда не выдерживает. Халидэ Макагонова в ожидании времени своего вылета выложила из щепок угловые знаки, осевую линию, крест — так видится «квадрат» с высоты полета — и полностью ушла в себя. Вот запрокинула голову, приподняла руки, резко кренит их вместе с корпусом — петля, бочка... А сейчас связка и штопорное вращение. Теперь ручка управления идет на себя, сосредоточенное лицо Халидэ поднято вверх: там, в наивысшей точке — пик колокола... Тем временем взлетела Яикова и начала работать над точкой. Халидэ закрутилась вместе с ней, поглядывая то в небо, то в «шпаргалку» с комплексом, мысленно пролетывая с Валентиной каждое движение. Обычно так прорабатывают с земли «неизвестный» комплекс, который дают за сутки до соревнований, но что выполняет Валя сейчас — не знаю. Я еще многого не знаю здесь и все — открытия... Ирина Адабаш и Наталья Сергеева, зайдя за угол дома, тоже «летают», но как поразному! Крепкая фигурка Ирины нацеленно энергична, движения порывисты, губы сжаты. А на лице Наташи мечтательное выражение, руки порхают плавно. Узкая ленточка, пересекая лоб, стягивает длинные шелковистые кудри. Летный комбинезон, утянутый в талии широким ремнем — он помогает на перегрузках — выглядит даже модно, хотя Наташа вряд ли стремилась к этому. Любовь Немкова сидит на лавочке возле дома, кажется, отдыхает. Но это обманчивое бездействие: она «проигрывает» комплекс в уме. Запоминает последовательность фигур, прикидывает, в какую сторону получится выход из связки и как лучше начать следующую фигуру. Боясь помешать, останавливаюсь, но Люба меня замечает. Начинается разговор о полетах, тренировках, соревнованиях. Люба и Валя Яикова в команде уже четырнадцать лет. В самый разгар летного дня на аэродром приехал нарядный автобус, из которого горохом посыпалась малышня. Молоденькая воспитательница детского сада построила ребят попарно и повела к стоянке самолетов. Вторая, постарше, поспешила к летному домику, и по тому, как здоровалась она со спортсменами, как смело забралась на стартовый командный пункт, было видно, что она здесь не впервые и все летные законы знает. 43 По громкоговорителю прозвучал голос руководителя полетами: «Люборец, Климович!» Лена, поняв, в чем дело, поспешила к ребятам, уже облепившим крайний самолет, а Саша Люборец приостановился возле стартового командного пункта. – У тебя полет в конце смены, – Петр Павлович высунулся из окна. – Часик с ребятами побудешь? Он не приказывал, Спрашивал. Люборец согласно кивнул. Я пошла вместе с ним. – Когда хорошая погода, чуть ли не каждый день приезжают. И школьники, и молодежь с предприятий. – У Александра мягкий голос, тихая улыбка. В команде он недавно, но уже чувствуется – свой. – Не надоели гости, не мешают? В спокойных серых глазах Саши мелькнуло удивление и легкий укор. – Я и сам когда-то вот так же... – он кивает в сторону мальчишки, уже забравшегося в кабину самолета. Мальчишка дергает ручку управления и гудит. Девочка с озорными косичками хнычет, стоя на красно-белом крыле. Кто-то из ребят пытается забраться верхом на фюзеляж, кто-то изучает хвостовое оперение, ловя шевелящийся руль высоты. Молоденькая воспитательница напрасно умоляет ребят ничего не трогать и не ломать. Люборец быстро наводит порядок: выстроив очередь, приказывает выбросить из карманов железки, камни. Потом начинает объяснять, как летчик управляет самолетом. Ребята слушали, заглядывали Саше под руки, иногда до слез спорили за право примерить шлемофон. Девочки собирали между делом цветы. А в небе, высвечиваясь то одной гранью плоскости, то другой, танцевал самолет и с крыльев его срывались белые штрихи уплотненного воздуха, похожие на мгновенно высыхающие пенные струи. И по тому, как безупречно были выписаны фигуры, чувствовалось — работает Виктор Смолин. Но дети редко поднимали головы — они были увлечены землей. Лишь одна девочка, забыв про цветы, не отрывала глаз от самолета... Есть такой отрезок времени перед полетами, когда предполетные указания уже даны, техники сняли с самолетов привязи, струбцины, но двигатели еще не запущены и над аэродромом нависает особенная, настороженная тишина, словно бегун замер на старте в ожидании сигнального выстрела. В конце летного дня, когда гул двигателей смолкает, тишина кажется другой — усталой, умиротворенной. Густые лучи предвечернего солнца отдают свой последний жар, ветер, притомившись, лениво гладит траву, разгоряченные капоты моторов, освежает потные лица. Пока Витас Лапенас объезжает на автобусе аэродром, собирая полотняные полотнища — он отвечает за разбивку старта, — спортсмены рассаживаются кто где, и разговор идет как бы сам собой, волнами, то угасая, то вспениваясь возбужденно — не улеглись еще эмоции от полетов. – Ты плашмя идешь, с земли смотреть неприятно, – наставляет Яикова Елену Климович. – И не подрывай самолет внизу. На малой высоте нервничаешь, вот и теряешься. Иринка Адабаш когда злится, тоже высоту теряет. Да и ты, Любовь моя, – Валя оборачивается к Немковой, – пока в стратосфере ходишь – все отлично. А как пониже – злая становишься, точно пантера... – и снова к Лене: – Ты зажми в себе все и плавнее, плавнее закручивай. Градусов тридцать выше горизонта поставила – вот тогда и тяни сколько хочешь, теперь машина в высоту пойдет... Она тоже летать хочет и незачем ее мучить. И навек запомни: чем ниже работаешь, тем плавнее уходи от земли. – Если на каждой фигуре при выводе терять по метру высоты, тогда ее точно не хватит, – поддерживает Валентину Виктор Смолин. – Ни метром пренебрегать нельзя. Не хватит высоты – получишь полсотни очков штрафа за прерывание комплекса. От стоянки самолетов идет Наташа Сергеева – тоненькая, стройная, руки засунуты в карманы брюк, куртка распахнута, лицо раскрасневшееся. Ее полет завершал плановую таблицу, на стоянку зарулила последней и вся еще во власти неба. Перебирает, наверное, в памяти допущенные ошибки. Наташа с облегчением опускается рядом со мной, вытирает лоб и щеки платочком. 44 – Жарко? – Не то слово... Александр Шпиговский с напускной строгостью хмурит брови: – Наталья, ты почему стала хронически не доворачивать бочки? Наташа только вздыхает... Ближе к вечеру все собираются в холле общежития на послеполетный разбор. Иногда он проводится на аэродроме, вместе с техниками, но чаще здесь. Спортсмены успели принять душ, переодеться, но лица, воспаленные от солнца, чуть опухли от перегрузок, утомлены. Разноцветные платья и рубашки придают оттенок праздничности. Как-то я поинтересовалась, в чем выступают на международных соревнованиях спортсмены, и мне пояснили, что команды социалистических стран имеют красивые и удобные формы, спортсмены капиталистических стран — кто в чем, а нашей команде выдают тренировочные костюмы из тех, что давно не покупают в магазинах — вышли из моды. Если не нравятся — можно старым летным комбинезоном обойтись. Для жаркого же времени года ничего не предусмотрено. А как хочется иметь красивую форму со своим гербом. Ведь есть же она у сборных команд хоккеистов, волейболистов, гимнастов. Об этом заботится Государственный комитет СССР по физкультуре и спорту. В отделе же материально-технического снабжения ЦК ДОСААФ СССР считают, очевидно, что в самолете все равно не разберешь, во что спортсмен одет. Да и по отечественному телевидению соревнования по авиационным видам спорта показывают не часто. ...Когда все рассаживаются – ведущие летчики рядом с тренерами за большим столом, а молодые на стульях у стен, – Касум Гусейнович оглядывает всех изучающим взглядом. – Три дня мы отлетали, завтра – парковый день. Все выходят на аэродром помогать техникам. Особое внимание, как обычно, узлам крепления плоскости с фюзеляжем. Еще три дня полетов и — отдых. Вопросы есть? Касум Гусейнович вешает на стену лист ватмана с вычерченным на нем «неизвестным» комплексом, его называют «темным» — точнее, пожалуй, не скажешь. Выполняют его на соревнованиях без тренировки. В музыке это называется «игра с листа». — Пропуск фигур, потеря высоты и прерывание комплекса – с вашим опытом вы просто не имеете права допускать такие ошибки! Понимаю: устали, жарко, но расслабляться нельзя. Тренировки без настроения и максимальной собранности пользы не принесут, – в голосе старшего тренера звучат жесткие нотки. – До соревнований в Румынии осталось немного, но подготовиться успеваем. В Англии потруднее будет: там облачность низкая, ветер, возможен туман, а у нас, как назло, условия сейчас идеальные. Невольно улыбаюсь. Вспомнилось, как спортсмены сетовали днем: «Горизонт виден, на небе – ни облачка, аж противно...» – «Неизвестный» комплекс, который выполняли вчера, – наивысшей сложности. На мировых чемпионатах таких не бывает. Но учиться надо на трудном, – каждую фразу Нажмудинов заканчивает короткой паузой, словно отчеркивая мысль. – Нижнего предела высоты как огня надо бояться, запас держать, иначе – штраф. Колокол без страховки не выполнять: упадете не в ту сторону, потом будете за голову хвататься... Две бочки на вираже – знаю, сложно, но в финальный комплекс вставлять надо. Граненые петли – не у всех отработаны углы. И постоянно помните: внимательный анализ метеоусловий вам многое может дать. Учитывайте ветер на высоте, глядя на тех, кто пилотирует до вас. Предугадывайте изменения, которые могут произойти ко времени вашего вылета... Надо выработать способность мгновенно перестраиваться в зависимости от конкретной обстановки и учитывать все: как разбит старт, в какую сторону следует начать комплекс с учетом ветра. Надо научиться чувствовать, как смотрится выполняемая фигура со стороны, знать, как сгладить ошибку, как распределить силы. На соревнованиях летчик работает, как стайер, на дистанции четырех упражнений. И в каждом упражнении должен выложиться, как спринтер, – до предела. Штраф за нечеткую отмашку – покачивание с крыла на крыло в начале и в конце комплекса, штраф за выход из «квадрата», за снижение ниже ста метров, за прерывание комплекса, за пропуск фигуры. Штраф дисциплинирует и сковывает, подавляет, учит и злит. 45 А оценка судей субъективна и предвзятость не исключена. За долгие годы международных соревнований Касум Гусейнович – судья международной категории – понял все тонкости и учит спортсменов овладевать тактикой мирных воздушных сражений. Всего пятнадцать минут от взлета до посадки, а для финального комплекса — и того меньше. Но эти минуты вбирают годы жизни, каторжный труд и прекрасные мгновения, ради которых, наверное, и стоит жить. ...После ужина опять гул моторов. Синева льется с экрана монитора — в холле просматривают записи дневных полетов. Возможно, оттого, что самолет держится все время в рамке экрана и изображение крупное, четкое — не то, что в просторе неба, — заметным становится каждый штрих движения и ошибки режут глаза. Вот самолет взмывает на вертикали и в наивысшей точке поворачивается, не меняя места, опускает нос и точно повторяет пройденный путь, украшая его фиксированными бочками, — раз, раз, раз... Голос Касума Гусейновича холодно констатирует ошибки и Сергей Боряк ерзает на стуле. Первое время было, наверное, странно видеть свой полет со стороны, потом научились сопоставлять все с тем, что делали, чувствовали, понимали в кабине. Летчики смотрят на экран сосредоточенно, перебрасываются короткими, сдержанными репликами. Лишь иногда, не удержавшись, тихо ахают: «Ну и лопух же я...» Тут же за массивным столом в муках рождаются произвольные и финальные программы. «Теперь личной жизнью стало составление комплексов», — шутят девчата. «Каталог фигур высшего пилотажа» испанского летчика И. Арести — бывшего президента Комиссии интернациональной федерации аэронавтики по высшему пилотажу постоянно лежит среди тетрадей, испещренных аэрокриптографическими значками, условно обозначающими пилотажные фигуры. Комплекс — это семьсот очков за двадцать фигур разной сложности и «стоимости». И тысяча тысяч вариантов их комбинаций. Николай Никитюк заглядывает через плечо Анны Мотеюнайте. – Эта фигура дороже стоит, вставь и все сойдется. – Не люблю ее, – Анна встряхивает длинными, цвета спелого колоса волосами и подетски надувает губы. – Вот и подработаешь, – настаивает Никитюк. Всегда ироничный взгляд его становится откровенно насмешливым. Быть снисходительным ни к себе, ни к другим он не умеет. – То, что вы сегодня над точкой крутили, видимо новое? – спрашиваю Николая. – Это только часть фигуры, элемент ее, – он сразу понимает, о чем идет речь. – Придумал ночью, прикинул и отлетал. Хотелось что-нибудь оригинальное. – Сейчас, наверное, трудно оригинальное найти все уже перепробовали. – Да нет, возможностей много, был бы самолет подходящий, а напридумывать можно. Виктор Смолин удовлетворенно потирает руки: – Выкинул бочки на вертикали и сразу в комплексе все срослось. Елена Климович жалуется Юргису Кайрису: – Я развернуться никак не могу, чтобы сюда попасть... И эта фигура «дороже» стоит, но где еще три очка добрать? Может, это поставить?.. – И все сместится вперед, – с сомнением качает головой Юргис. – Нет, это не лучший вариант. А через несколько минут Юргис сам начинает вздыхать: – Помогите сто двадцать очков убрать. – У тебя же там все линии пунктирные, – со смехом отмахиваются от него товарищи, намекая на то, что в комплексе Юргиса слишком много фигур обратного пилотажа. – У него там меньше трех вращений и нет, да еще такое, что самому сеньору Арести не снилось. Юргис, не слушая никого, что-то вычеркивает, пририсовывает и крутит рукой, прикидывая, как это будет в полете. 46 Составление комплекса может показаться чисто механическим учетом: фигуры – это очки, высоты, скорости. Творчеством все становится, когда переносится в воздух. Комплекс может нравиться или нет, он кажется неудобным, если какая-то фигура не получается в совершенстве. В процессе отработки в нем постоянно что-то меняется, отбрасывается, перекраивается. Нередко спортсмены употребляют выражение «лепить комплекс». Под пальцами скульптора навечно застывает в материале полет его души. Полет самолета не оставляет следа в небе, пилотажный комплекс не рисуется, а именно лепится — создается в трехмерном пространстве объемный образ. Для зрителя он красив и гармоничен или неуклюж и угловат. А для летчика его умение, знания, талант, интуиция спрессовываются нервным напряжением в качественно новое состояние души, мысли и тела. И словно нет рычагов управления, нет гула двигателя, и перегрузки не ломают тело, а обозначают каждое движение, оттенок его в воздушной среде — так чуткие пальцы скульптора осязают: податлив или груб материал, совершенно или нет его творение. «Зафантазировалась... — возвращаясь к реальности, думаю я. — И все же, как объяснят сами пилотажники и этот термин «лепить», и вдохновение в воздухе?» С вопросами не тороплюсь, но не потому, что боюсь, что покажутся они чистой лирикой. Просто не хочется отвлекать спортсменов от деловых разговоров, а они все на ту же бесконечную тему. – Как абракадабру легче всего делать? – допытывается Анна. – Со спины, под углом сорок пять – самое легкое для начала, – поясняет Валентина Яикова. – А самую красивую? – отрывается от своих записей Наташа. – Она же и самая красивая, если обработать под углом и четко рисунок обозначить, – Валя сделала быстрое, легкое движение кистью руки. У девчат даже глаза засветились. За столом почти никого уже нет, разбрелись кто куда. Одни ушли погулять перед сном, другие читают, смотрят телевизор. А в коридоре у телефонов, дожидаясь, когда дадут заказанный с домом разговор, дежурят мамы. – Вот она – оборотная сторона нашей жизни, – задумчиво говорит Валя. – То сборы, то соревнования... Дома почти не бываем. А дети у всех маленькие. Наташа, поговорив с мужем, неохотно кладет трубку, в глазах слезы: – Дочка заболела, а я так берегла ее, закаляла... У Любы Немковой с дочкой Катюшей осталась старенькая мать, муж в командировке, вот и приходится звонить чуть ли не каждый день. И Халидэ чем-то расстроена. Мужчины – те поспокойнее. Лишь иногда слышится нарочито бодрый голос: — Ну и как вы там? Сын двоек не нахватал? А ну-ка, дай ему трубочку... Солнце ушло за горизонт, в высоком, еще светлом небе, отражая закат, парят облака. Темные фигуры видны на берегу. Негромко звучат в вечерней тишине голоса. Через час – отбой, дисциплина на сборах строгая. Значит, скоро ребята вернутся и можно подождать их, посидев на лавочке у воды. Река здесь неширокая, берега низкие и со стороны кажется, что многопалубные теплоходы ползут по траве, нарядно посвечивая огнями. Под ногами шуршит песок, можно коснуться рукой воды, почувствовать ее скользящую прохладу и пить, пить аромат земли... Может, это и есть счастье – после насыщенного, напряженного дня, когда мышцы, нервы, мозг и сердце работали с максимальной, а то и выше той, что кажется возможной для человека, нагрузкой, получить, как награду вот такой земной вечер и почувствовать радость недолгого покоя? Тем, кто не ведает контраста ощущений и чувств, вечер этот, может, и не покажется таким необыкновенным. И останется человек обделенным. Жизнь вполнакала, вполсилы, вполжелания приносит неудовлетворение и обрекает чаще всего на обывательское брюзжание. Сегодня у сборной — день отдыха и можно поспать подольше, потом позагорать на берегу реки, и солнце будет ласково гладить тело, а не лупить жаром лучей, как в кабине 47 самолета. И по лесной тропинке можно прогуляться, собирая цветы, — на утренней пробежке времени не хватает. Девчата занялись стиркой. Комбинезоны светлые, маркие, пыль и пот в них словно въедаются, а так хочется выглядеть опрятными. В столовую решено не ходить, а из причитающихся продуктов состряпаем сами чтонибудь домашнее, вкусненькое. И хотя назначены дежурные, все женщины топчутся на кухне. – Посторонним покинуть рабочее помещение, – покрикивает Валя, водворяя большую кастрюлю на газовую плиту. Кажется, будет плов. Оскорбленные в самых лучших чувствах, девчата сговариваются отомстить – испечь к ужину торт ИЗ двенадцати коржей... После обеда все разбредаются кто куда. Со словами «Ухожу в спячку, кто разбудит – поплатится жизнью» скрывается в комнате Валя. Каждый по-своему сберегает силы и борется с нарастающей нервозностью – до соревнований в Румынии осталось чуть больше недели. Ирина Адабаш ушла к маме и племяннице – они отдыхают в соседней деревне. Вместе с Ириной ушла и Халидэ. Никитюк и Тимофеев – два Николая – собираются играть в теннис. Виктор Смолин подбивает переброситься в волейбол – редкий вечер проходит без баталии. Из чьей-то комнаты доносится нежный перебор гитары. Юргиса и Лену тянет к чему-то задорному, Коля Тимофеев любит петь о суровой романтике неба. – Когда-то и Игорь Егоров гитару из рук не выпускал, – задумчиво говорит Виктор Смолин, прислушиваясь к напеву струн. Абсолютного чемпиона мира, талантливого летчика и мудрого друга вспоминают часто. И тех, других, кто жил в этих стенах и чей голос уже никогда не прозвучит в эфире, кому посвятил Игорь строки песни, не зная, что посвящает их себе: Но бывало, когда и металл уставал, когда приходила беда. И прятало небо от нас навсегда друзей дорогих имена... Почему сейчас, в такой спокойный день, подумалось о том, о чем редко вспоминаешь на аэродромах, наблюдая за полетами или летая с кем-то? Быть может, потому, что именно сейчас эти люди стали такими понятными мне и близкими... Страница вторая Работа спортивного летчика несет в себе двойной стресс — авиационный и спортивный. Если к стрессу авиационному — к чувству опасности и напряжения в воздухе — человек со временем привыкает и полет становится для него рядовой сферой деятельности, то к спортивному или так называемому «соревновательному» стрессу привыкнуть невозможно. И если не будет проявляться постоянно то лучшее, что есть в каждом спортсмене, если не будут приглушаться невольно возникающие недостатки, то мощные «соревновательные» раздражители в момент предстартовой лихорадки начнут захлестывать психику и, в конечном итоге, разрушат команду. Ведь в сборной страны, по сути, все спортсмены являются соперниками в течение уже многих лет, а для женской команды такая ситуация характерна практически все годы участия в международных соревнованиях — спортсменки только меняются местами, не сходя с пьедестала почета. Соперничество и бережное отношение друг к другу, взаимное понимание, доверие, помощь – без этого невозможно. – Для команды нужны ровные, коммуникабельные характеры. И нравственность должна быть в спортсменах на должном уровне уже сама по себе. Ведь на сборах и соревнованиях переделывать их уже поздно, да и возможности такой нет. А работать с непорядочным 48 человеком, тренировать его – все это впустую, потому что он все равно подведет команду и тренера хотя бы тем, что будет вносить раздор, нервозность в и без того напряженную предстартовую атмосферу, – откровенно признался Нажмудинов. – Спортсмен не должен пить, курить, обязан избегать всякого рода излишеств, уметь работать и отдыхать, – Касум Гусейнович, перечисляя, загибает пальцы, и когда все они собираются в кулак, медленно разжимает его и задумчиво смотрит на раскрытую ладонь. Мы сидим в холле общежития, за окном медленно остывает закат, густо-малиновый, тревожный, обещающий ветреный день. – В человеке все взаимосвязано. Моральная неустойчивость ведет к нервному срыву и физическому дряхлению. А мне надо... – пальцы старшего тренера снова начинают загибаться. – Во-первых, подготовить их физически, чтобы выдерживали перегрузки и некомфортные условия полета. Во-вторых, подготовить морально-психологически. Эмоциональная, нервная нагрузка в период соревнований мешает исполнить программу так, как было в лучших тренировочных полетах. Поэтому спортсмены должны уметь преодолеть предстартовое волнение, разгрузить психику, снять напряжение, а потом мобилизоваться. И, наконец, заложить профессиональное мастерство высшего класса. Все это формируется годам к тридцати и трудно в молодом спортсмене угадать задатки всех нужных качеств. Тренерская работа и тренерское призвание... Кроме умения хорошо пилотировать (это профессиональная обязанность) и способности понятно показать и хорошо научить (это уже инструкторское) тренер должен владеть даром предвидения. Интуитивно и на основе опыта знать и понимать гораздо больше, чем сам спортсмен, хотя мастерство спортсмена, в конечном итоге, перерастает умение тренера – это неизбежно. В этом и заключается начальный этап тренерской работы. Потом главным становится «взгляд с земли» — тренерский и судейский. В самом тренере, как в человеке, обязательно должно быть сочетание старшего, командира и друга. Только это дает право предъявлять жесткие требования к члену сборной как к летчику, спортсмену высочайшего класса и как к Личности. Касум Гусейнович разглаживает лежащую под рукой плановую таблицу предстоящих полетов. Пробежав глазами условные значки, обозначающие упражнения, ставит подпись, отодвигает лист в сторону и, словно угадывая мои мысли, неторопливо продолжает: – Сетуем: нет сейчас хороших тренеров... А тренера надо растить. В республиканских командах их мало, а в клубах и подавно нет – слишком долго считали, что должность эта – излишество. И хотя сейчас эта должность все-таки появилась, но люди тем не менее назначаются случайные. Оклад небольшой, за налет не платят, в любой момент тренера могут освободить от работы – это психологическая сложность немаловажна. Она отпугивает тех, кто вдумчиво относится к этой работе. А хорошую команду не каждому под силу создать. Сборная же страны пополняется из республиканских команд, клубных... Касум Гусейнович начинает рассказывать о своей команде сдержанно, критично, но в голосе тепло, порой восхищение. Все члены сборной страны незаурядны, одарены, о каждом можно написать повесть. Но в рамках очерка – лишь штрихи к нескольким портретам. Открытый взгляд, доброжелательная улыбка, прядь русых волос, падающая на лоб, — капитан команды заслуженный мастер спорта СССР Виктор Смолин немногословен. Хотя, если разговорить его, умеет рассказывать увлекательно. Не категоричен, но настоит на своем, если убежден, что так лучше для дела. Не давит авторитетом, но к его мнению прислушиваются. Авиация, По словам Виктора, началась она для него с 1941 года, хотя родился он много позже. Началась с несбывшейся мечты отца – он не прошел в летное училище по здоровью. И хотя позже, окончив институт, Валентин Ильич плавал на первой атомной подводной лодке, юношеская мечта не отпускала. И всѐ в доме – модели самолетов, книги, снимки – напоминало о ней. Друг отца – Герой Советского Союза подполковник в отставке С. П. Тимофеев – много рассказывал своему сыну и Виктору о Великой Отечественной войне, о летной профессии. В четвертом классе друзья (а было их трое и все сейчас в авиации) увлеклись авиамоделизмом, 49 позже записались в кружок авиации и космонавтики. Руководил кружком знающий и влюбленный в авиацию человек. Неудивительно, что в девятом классе Виктор пришел в Ленинградский аэроклуб и начал летать на планерах, а потом и на самолетах. Это было сложное для спортивной авиации время. Закрывались планерные клубы, хирели самолетные. Вылетывали ресурс надежные Як-18, даже на чемпионате страны основным упражнением был полет по маршруту. «Вот и повезло, – смущенно улыбается Виктор. – Налет большой был, на чемпионате Союза неплохо выступил, тогда и в сборную пригласили». Первое время было трудно. Валя Яикова помогала, Игорь Егоров, тогда капитан команды, учил неназойливо, то шуткой, то разговором всерьез — характер в Викторе воспитывал. У Смолина, под стать натуре, выработался с годами надежный классический стиль. Этот стиль и вывел его в 1982 году в абсолютные чемпионы мира. Пилотаж Виктора легко отличить по какой-то напевности исполнения и решительной динамичности. Порой кажется, что ведет Виктора мелодичный, но бодрый мотив неслышной музыки. Так координированы его движения, утонченно в нѐм чувство ритма. ... Понимаю прекрасно, что на пилотажной спарке (Як-52) не выполнить всего, а главное так, как делают это спортсмены на акробатической машине. Но привычки, выработавшиеся в небе, манера исполнения, своеобразие управления самолетом останется непременно, как остается в любых ситуациях самим собой человек. – Слетать хотите? – выслушав мою просьбу, понимающе улыбается Виктор. – Отчего ж не слетать... ... Солнце прожигает кабину, оно везде – ослепительно-властное. Вверху – выгоревшее в его лучах небо, внизу – подернутая золотистой дымкой земля. Впрочем, понятий «верх» и «низ» уже не существует. Удивительно это свойство трехмерного пространства, словно деформированного возникающими в полете ускорениями и потерявшего силу земного притяжения. Но став привычной, необычность эта не отвлекает и можно все внимание сосредоточить на основном. — Вот эта связка делается так... — терпеливо объясняет Виктор. Мне виден его затылок в шлемофоне с сеточкой. На перегрузках рожок микрофона смещается, и Виктор вынужден быстрым движением, отрывая руку от управления, возвращать его к губам. Невольно мелькает мысль: «Неужто нельзя дать пилотажникам более удобную гарнитуру?» Зеркальце, укрепленное на фонаре передней кабины, отражает часть лица Смолина. Иногда наши взгляды встречаются, и Виктор ободряюще улыбается. — Поворот на вертикали... Самолет словно упирается крылом в далекую землю и неторопливо переваливается, не меняя плоскости движения, – так хорошо натренированный акробат делает «колесо». – А это что? – в голосе Виктора улавливаю подвох и напрягаю тело в ожидании каверзной перегрузки. Но самолет ложится на крыло и начинает неглубокий вираж с одновременным вращением. Синева неба — зелень леса, снова наползает прозрачная голубизна, ее сменяет синева, но это уже гладь реки. Солнце, залившее кабину, сменяет тень... На высотомере стрелка словно прилипла к цифре пятьсот, а вот авиагоризонт закатывается, как в истерике. Догадываюсь: — Бочки на вираже. Кажется, четыре... — Четыре, – подтверждает Виктор. – А вот фиксированная. Смолин чеканит грани – ручка управления короткими точными ударами словно отсекает все лишнее. Самолет неожиданно запрокидывается на спину, одновременно вращаясь. Кажется, будто он движется хвостом вперед, делая кувырок через голову — абракадабра? Видела, как выполняется эта сложнейшая фигура в небе, но еще не испытывала такого странного рывка одновременно в разные стороны – так быстро и разнолико движение. Хочется понять его, запомнить, прошу Виктора повторить. 50 — Не стоит... побережем машину, – возражает Виктор. – Да и не получится, как на «сучке». Подосадовать не успеваю – самолет переворачивается, разгоняется, закручивая обратную петлю. Отрицательная перегрузка начинает отдирать тело от пилотского сиденья. Кажется, лопнут привязные ремни, парашют вырвется из чаши сиденья, и ты рухнешь вниз, пробив головой фонарь кабины... Глаза ломит, лоб и виски наливаются свинцовой тяжестью. Пытаюсь, как учили спортсмены, напрячь мускулы шеи, да поздно спохватилась: перегрузка уже растянула их, лишила привычной упругости и силы... Положительная перегрузка приходит как спасение. Теперь начинает вдавливать в сиденье и на плечи, руки, голову наваливается глыба килограммов в четыреста. А ведь все это лишь половина того, что испытывают летчики, пилотируя на Як-50. Что уж говорить о Су-26М! — Не очень устали? – спрашивает Виктор, когда мы, отлетав отведенное нам время, покидаем пилотажную зону. — Еще когда-нибудь полетаем? – прошу несмело, украдкой вытирая залитое потом лицо. — Непременно, – уверенно отзывается Виктор. В один из дождливых дней, когда пришлось прекратить полеты, состоялась встреча спортсменов с молодежью предприятия соседнего городка. В небольшом, но уютном зале общежития собрались принаряженные девушки и парни. Большинство, видимо, было настроено потанцевать, но уж если запланировано мероприятие, то отчего же не посмотреть на знаменитостей, имена которых, кстати, они не слышали и в первый момент приняли за парашютистов, на что Александр Шпиговский пошутил: «К парашютам мы имеем только то отношение, что сидим на них». Шутка понравилась и растопила обоюдную напряженность. Шпиговский, как «старший по званию», представил спортсменов и начал рассказывать о жизни сборной. Но не о победах и прелестях полетов, а вслух размышляя о том, что волнует его как тренера, какие задачи стоят перед спортсменами — это звучало доверительно и сближало всех. Летчики сидели в импровизированном президиуме чуть усталые, чуть расслабленные. Они были одного возраста с инженерами и рабочими, пришедшими на встречу. В их лицах, манере держаться, одежде не было ничего необычного — встретишь на улице и не обернешься. Но от первых рядов сидящих в зале их отделял не только небольшой проход, а что-то еще... Валентина Яикова рассказывает о себе. Зеленое платье освежает лицо, издали глянешь — совсем девчонка. Вот только чуть приметная сетка морщин источила лоб, щеки, шею. Это не возрастное — от перегрузок. Больше двадцати лет полетов... Глухая деревушка на Урале, большая трудовая семья: братьев и сестер — мал мала меньше... Отец в годы войны был разведчиком-десантником, дядя — летчиком. Их рассказы о небе — а на Урале оно особенно синее, высокое — все и решили... Старшая сестра стала знаменитой парашютисткой, и Валя, в пятнадцать лет приехав в город учиться, начала прыгать. Самолеты — это уже позже... Валя рассказывала о своих победах, вспоминала неудачи, перечислила звания, титулы, награды, количество спортивных медалей — их более ста шестидесяти. И неожиданно, словно пытаясь приглушить эффект от сказанного, откровенно призналась: – Думаешь иногда, зачем это напряжение нервов, головные боли и такие перегрузки? Хватит, больше не хочу! Ведь на пределе работаем. Но большой спорт — не физкультура, так просто не уйдешь. Вот летишь, бывало, домой с соревнований и, если они успешно прошли, такая радость! В сборной команде удерживаются сильнейшие — те, кто могут трудиться, не щадя себя. На одном летном таланте не вытянешь... Твердо и не без основания Валентина Яикова считает, что истинное ее призвание — учить. Многие годы она работает инструктором в минском аэроклубе, в сборной страны молодым помогает постоянно. Эту потребность наставничества в ней я почувствовала и на себе, в полете. 51 Показывая обязательный комплекс, Валя комментировала буквально все, заостряя моѐ внимание на том, что могло остаться непонятным. Демонстрируя не столько свое умение, сколько особенности выполнения пилотажных фигур. Так учитель, влюбленный в свой предмет, раскрывает себя в классе. Пилотирует Валя мелкими, резкими, отточенными движениями, органично слитыми с ее маленькой крепкой фигуркой и крутым характером. Блестяще открутив комплекс, приказала: – Возьмите управление. А ну, бочку... Резче, энергичнее! Теперь вираж с набором... Петлю... Не перетягивайте, чуть отпустите. Во-от та-а-ак... – и подбадривая: – Все получается и учить не надо. Не думаю, что так же снисходительна Яикова к своим ученикам-спортсменам, потому что на горьких примерах знает, чем чревата в летном деле недоученность. С первых шагов в авиации она встретила немало всякого рода трудностей, в преодолении которых и выковался летный характер. ...На встрече с рабочей молодежью, вслушиваясь в Валино откровение, подаренное «земным» девчатам и парням, припомнила я эпизод из ее биографии. Случилось это, когда в первый раз пришла Валя в самолетное звено. Инструктор с иронической улыбкой осмотрел маленькую фигурку девушки, усмехнулся: «Прокатиться хочешь? Я ведь на пилотаж лечу, тяжело будет». В воздухе ждал, когда девчонка раскиснет. Потом рассказывал товарищам: «Вниз головой висим, я на отрицательной перегрузке самолет тащу, а ей хоть бы что, еще и головой вертит, что-то на земле рассматривает». Этот случай можно считать ее боевым крещением. Тогда проверялись не только физические данные — испытывался характер. Полет как бы предупреждал: смотри, на что себя обрекаешь, в этом ли твоя мечта? Сумеешь ли мгновенно приспосабливаться к экстремальным условиям, перестраивать психику, мобилизовать резервы организма — выстоять? Тогда, на той встрече, я поняла наконец, что незримо выделяет летчиков из среды их сверстников. Этих, наверное, неплохо работающих и славных людей, что сидели в зале и, забыв про танцы, слушали Юргиса Кайриса, Наташу Сергееву, других спортсменов. Поняла, что отличает труд членов сборной команды страны от работы заводского коллектива. Это — сознание степени ответственности своей за итог личной и совместной деятельности перед государством — ведь они представляют за рубежом нашу страну. И ответственность друг перед другом — успех команды складывается из усилий каждого. И, наконец, ответственность перед самим собой — настоящий мастер высокого класса ошибок себе не прощает. Летчик не создает материальных ценностей, но нравственно и духовно влияет на общество, показывая пример того, как надо подходить к выполнению поставленной задачи, как можно вжиться в свое дело и слить воедино призвание и мечту, обязанность и желание. Заслуженного мастера спорта Любовь Немкову легче представить сидящей в удобном кресле под торшером и что-то вяжущей или читающей французский роман — языком она владеет в совершенстве, — чем в кабине самолета. Такая она домашняя, женственная. Чуть серебрятся ранней сединой кудри, мягкое милое лицо освещено задумчивой улыбкой, взгляд серых глаз спокоен, временами чуть нерешителен. Она немногословна и, может поэтому, ее считают замкнутой. Но это не скрытность, а внутренняя деликатность, нежелание обращать внимание окружающих на себя. «Вечная вторая», «Серебряная леди» — так называют Немкову частенько в зарубежной прессе, потому что вот уже много лет на международных соревнованиях она завоевывает в общем зачете «серебро», хотя по отдельным упражнениям бывает и сильнейшей. «Талантлива, трудолюбива, — говорят о ней тренеры. — Но чего-то не хватает...» Быть может, не хватает бойцовских качеств, спортивного духа, азарта? В большом спорте невозможно победить без таких чувств, как страстное желание обыграть соперника, жажда первенства. Но есть люди, которые не умеют соперничать. Они стойко переносят жизненные 52 тяготы и неурядицы, преодолевают физические нагрузки, находя в этом удовлетворение, «приручают» технику. А вот победа над людьми им претит. Нет, это не разновидность жалости или страха. Это своего рода гордость, мешающая сделать сверхусилие, естественное для людей самолюбивых, стремящихся к лидерству. — Мне нравится летать, интересно осваивать новые самолеты, преодолевать страх, совершенствовать свое умение. Но когда кто-то рядом, на одном профессиональном уровне «дышит в затылок» или я кому-то «наступаю на пятки», то хочется перейти на другую беговую дорожку, — примерно так сформулировала Люба свою мысль, отвечая на мои вопросы. Когда я делала эту запись, никто не подозревал, что через два месяца на чемпионате мира в Англии Любовь Немкова станет абсолютной чемпионкой. Она победит своих подруг и сильных зарубежных соперниц, хотя погодные условия будут очень сложными, обстановка нервная. Хотя выступать наша женская команда будет на новом для спортсменок самолете Су-26М, переучившись много позже мужчин, с тренировочным налетом всего в несколько часов, хотя... А может быть, именно благодаря тому, что вновь пришлось Любе преодолевать себя, машину, обстоятельства, быть собранной и мужественной как никогда. И в этой борьбе в воздухе и на земле ей не мешали честолюбивые чувства, не прибавляло волнения встревоженное самолюбие. Может быть, именно благодаря этому она и победила? Су-26М — самолет строгий и надежный, с большой скороподъемностью, маневренностью, чуткостью в управлении. Он помог Любе обнаружить то, что она лишь угадывала в себе и страдала от неудовлетворенности, невозможности выразить себя в небе. Однажды в разговоре заслуженный мастер спорта Халидэ Макагонова обронила невзначай, но с убежденностью: — Вот удивляюсь, как люди не могут себе жизнь интересно построить, особенно молодые? Ведь у нас всего можно добиться, любой мечты. Ее мечта засветилась лет двадцать назад солнечным днем, когда еще школьницей попала на воздушный парад в Тушино. Зрелище было необычным, прекрасным. И вертолеты, проносящие флаги, и разноцветные купола парашютов, и тысячи зрителей — все создавало праздник. Но зрелище пилотирующих самолетов захватило настолько, что притушило все остальные впечатления. Неожиданно пришла мысль: «А я бы смогла так?» Решение укреплялось, зрело, оно не давало покоя, мешало жить старыми увлечениями. Но для полетов, даже парашютных прыжков Халидэ была еще слишком мала. Сильные характеры и в юном возрасте находят решение. Юношеская планерная школа давала возможность пусть не летать, а лишь подлетывать на учебном планере, но это знакомство с воздушной стихией окрыляло, оно как бы утверждало правильность сделанного шага. Потом были «взрослые» планеры и, наконец, самолеты... Халидэ шла естественным, но, к сожалению, не ставшим пока традиционным путем. Как важна для юного авиатора эта последовательность, как легко, безболезненно отсеиваются нестойкие, неспособные, как постепенно закладываются нужные навыки, вырабатывается летный характер, психологическая готовность работать в необычных условиях. И хотя не все было у Халидэ гладко, не сразу пришли успехи, но именно такой путь воспитал стойкость духа, уверенность в своих летных способностях. Она училась управлять собой, анализировать свои действия и поступки не только в воздухе, но и на земле, осмысленно направлять в нужное русло свою жизнь. Как-то, рассказывая о чемпионате мира в Венгрии, где впервые шагнула на высшую ступеньку пьедестала почета, Халидэ призналась: — Думала, что все о себе знаю, а тут заволновалась... Потом прицыкнула на себя: «Чего это вдруг? А ну, хватит!» Заставила себя отбросить сомнения и... выиграла упражнение, а потом и чемпионат... Концентрация внимания — это главное. Не дать эмоциям, внешним раздражителям себя отвлечь. Психологическое напряжение огромное, слабые не выдерживают. И неожиданно с улыбкой, такой приятной на ее красивом смуглом лице: 53 — А с вредным характером в команде не приживаются. В этой фразе, сказанной полушутя, глубокий смысл. Халидэ, от природы имеющей острый ум, пытливый глаз и самостоятельный, категоричный характер, наверное, непросто было вжиться в коллектив сборной, где каждый — натура сложная, незаурядная. Приходилось, наверное, и обуздывать готовую сорваться с языка резкость, и раздражение подавлять. Училась ставить себя на место другого человека, пыталась понять его. Старалась быть бережной к товарищам. И приходило заслуженное уважение, доверие — уже несколько лет на сборах Халидэ избирают парторгом группы. С Халидэ Макагоновой я познакомилась на третьем Всесоюзном смотре-конкурсе самодельных конструкций легких летательных аппаратов, который проходил в Киеве в 1985 году. Муж Халидэ — Владимир Макагонов — принимал в нем участие как летчикиспытатель, а Халидэ и Виктор Смолин были приглашены для показательных выступлений. Удивительный это был день. После полетов маленьких и хрупких самодельных самолетиков, вертолетов, мотопланеров и мотодельтапланов в небо над аэродромом спорткомплекса «Чайка» поднялись на своих спортивных машинах воздушные акробаты с мировыми именами. А завершился праздник пролетом самолетов, созданных на прославленной фирме имени О. К. Антонова. И могучий «Руслан», чуть не вполнеба распластав свои огромные крылья, проплыл на малой высоте над нашими головами. Во всем этом был глубокий смысл единения авиации и всех, кто посвятил ей свое вдохновение, труд, жизнь. Именно тогда Халидэ пригласила меня на сборы, сказав, что если удастся, то и слетаем вместе. ...Она сама укладывает в чашу сиденья мой парашют, придирчиво смотрит, как надеваю привязные ремни, потом подтягивает их, и я с удивлением ощущаю силу в ее маленьких, изящных руках. – Как сбрасывать фонарь, знаете? Кольцо парашютное видите? – заботливо и тревожно спрашивает Халидэ, словно лечу я впервые. В полете ее кудрявая головка, стянутая ремешком гарнитуры, поворачивается из стороны в сторону резко, но грациозно. Временами в зеркальце передней кабины на мгновение отражается ее лукавый взгляд и чуть приметная улыбка на ярких губах. Все это так не вяжется с обстановкой и в то же время по-новому начинаешь понимать не только человека в Халидэ, но и ее отношение к полету. – Все было приятно, легко – отдыхала. А бывает, когда что-нибудь не получается, еще как злюсь, – поспешила разочаровать меня Халидэ, когда я спросила об улыбке, – хотя злость, как и благодушие, чувство опасное. Резко ушла вперед педаль, ручка управления до упора в живот и в сторону — самолет сваливается на крыло, клюет носом и начинает штопорить. Пришептывает сброшенный на малый газ двигатель, в плоскостях шелестят, посвистывают потоки воздуха. Небо, усеянное рыхлой кучевкой, словно склеивается с серебристой зеленью земли. Виток, еще виток, еще... Врезаемся в белую мглу, звук двигателя гаснет, витки впарываются в мягкую пушистость. Самолет водит носом по белизне, словно взбивает пену. Седьмой виток, восьмой, девятый... Белизна становится студенисто-прозрачной и сквозь нее, точно на дне колодца, — пятачок озера, деревня, лес. Кажется, что они уменьшились в размерах, съежились, хотя должны укрупняться — высота убывает. Радиус витков все уменьшается, скорость растет, они закручиваются, как в водовороте, — воронкой. И двигатель забормотал что-то, словно подгоняя вращение... Мотает уже не только голову, тело рвется из привязных ремней. Озеро, меняя форму, словно растекается. Но только на мгновение. Взгляд вонзается в голубой пятачок — он приближается стремительно, укрупняясь, и словно не я, а кто-то другой рассматривает его с холодным расчетом... Внезапно вращение прекращается, самолет словно замирает, сосредоточиваясь, и, резко, категорично меняя направление, закручивается опять, но уже под углом к горизонту. 54 Движения Юргиса Кайриса настолько порывисты, что я, боясь помешать, убрала ноги и руки с управления. Впрочем, моей руки Юргис и не заметил бы, если верить шутливо сказанному: «Нас учили ручку управления, как птичку, сжимать — нежно, но крепко. А тут приходится так, словно все соки выжать стараешься», И педали он не давит, а бьет по ним с силой молотобойца и точностью чеканщика. Все это констатируется в подсознании, запоминается по стойкой писательской привычке, а душу переполняют чувства. От полета к полету они меняли окраску и степень эмоциональности. Сначала были удивление и восторг. В последующих полетах — желание понять слагаемые работы летчика, осмыслить чувство реальной опасности. Сейчас я ищу ответы на другие вопросы: «Что же такое — вдохновение полета? Можно ли понять это чувство, не пилотируя самой? Какие поправки надо внести в мои ощущения, чтобы всем существом своим испытать состояние летчика?» Ищу сравнение с чем-то привычным, земным: мы замираем, потрясенные, перед полотнами талантливых живописцев. Забываем себя, погружаясь в прекрасную музыку, и слово в прозе и стихе порой будоражит воображение. Мы вбираем чужое вдохновение, и оно становится нашим. Все то же и здесь, сейчас, в полете – моя душа, переполненная спокойным восторгом, поет ликующе и строго. И кажется, все в ней на одной волне с тем, кто пилотирует. Я принимаю откровение летчика, его эмоции, но это непереводимо на слова, как невозможно пересказать музыку или танец. Полет надо воспринимать каждой клеточкой плоти своей, нервом, мускулом, резонирующими обостренно в мыслях и чувствах. Все это в сочетании с калейдоскопом неба и земли, оживших в вихре рассчитанного, продуманного движения, и создает удивительный, всем существом запоминающийся образ — образ полета. ...О заслуженном мастере спорта Юргисе Кайрисе рассказывать сложно. Натура яркая, характер неугомонный, ум цепкий, в решениях — самостоятелен, в суждениях — максималист. Но с товарищами прост, общителен. «У нас мало воздушных праздников, а если и делается что-то для пропаганды летного дела, то с оглядкой. Одно выполнять нельзя, другое тоже под запретом... А как же молодежь на авиацию нацеливать? Мальчишку поразить, увлечь надо, а у нас даже фильмов, телепередач об авиации почти нет...» — слова Юргиса вспомнились мне на празднике в Вильнюсе, когда отмечалось сорокапятилетие Вильнюсского аэроклуба. Юргис — его воспитанник и, естественно, гордость, хотя в клубных командах немало сильных летчиков и планеристов, знаменитых парашютистов. В день праздника, грозя дождем, низко нависли над аэродромом облака, но тысячи зрителей автобусами, на машинах все равно тянулись к летному полю. В Прибалтике привыкли к авиационным выступлениям и любят их. Однако сейчас программа — одиночный и групповой пилотаж самолетов, прыжки парашютистов, парный и групповой пилотаж планеров — срывалась. Под вопросом стояли даже выступления вертолетчиков. А люди ехали семьями, коллективами, и лица юбиляров тускнели. Отменить воздушный праздник — это не просто заставить тысячи людей сожалеть о загубленном воскресном дне, не только разочаровать сотни подростков, в первый, а теперь, может быть, и в последний раз приехавших на летное поле. «Зарубить» праздник — значило подорвать веру самих спортсменов в свои возможности и на долгое время поселить чувство горечи в их сердцах: ведь двести пятьдесят метров высоты все же есть... Юрий Федорович Новиков, отвечающий за мероприятие, принял единственно правильное решение. Внимательно, с учетом подготовки спортсменов пересмотрев и сократив программу, детально обсудил все с руководителями клуба. Побеседовал с участниками парада и дал «добро» на полеты. Зная высокий уровень мастерства Кайриса, разрешил ему пилотировать на малой высоте то, что попроще: проходы, виражи, бочки. Формально Юргис не нарушил задания. Он выполнил бочки, но на вираже, а проходы сделал на спине, и все – безупречно, уверенно. Самовольство? А может, творческий подход? Ведь самовольство в данном случае — это обоснованная уверенность в своих силах. Должен 55 же мастер высокого класса иметь возможность принять решение и нести полную ответственность за свои действия. «А сколько из-за этой «уверенности» случалось бед даже с сильными летчиками...» — справедливо возразят осторожные. Но, может, потому и наступал срыв, что разучились оценивать себя сами и, вырвавшись однажды из-под контроля благоразумия, допускали ошибки, которых не сделали бы в спокойных условиях тренировочных полетов? «Показуха страшна, но еще страшнее в летном деле перестраховка — она грозит недоученностью», — утверждают летчики старой, военной закалки. Но как достичь слияния мудрой смелости исполнителей и обоснованной осторожности отвечающих за них? Ведь понятие безопасности полетов служит подчас прикрытием, ширмой для людей, давно отделившихся от спорта душой, а может, никогда и не понимавших, не знавших и не любивших спортивную авиацию. То, что Юргис пилотирует отлично и опыт у него большой — бесспорно. Но манера необычная и, если брать во внимание оценку профессионалов, она не однозначна. – После перерыва полетела с Юргисом, – рассказывает Наташа Сергеева. – Я все так старательно, плавненько делала, порхала, как лебедь, – Наташа делает движение руками, как крыльями. – Закончила, а он и говорит: «Теперь я покажу». И начал... Ой! Как он пилотировал, просто восторг охватывает – энергично, эмоционально. — Моя цель – не поддаться классическому стилю, – откровенно признается Юргис. – Хочу заинтересовать зрителя, судей, летчиков – по-новому летать. Работаешь эмоционально, и все в душе поет. — Именно эмоции Кайрису и мешают, – убежден Касум Гусейнович. – Итог творческого поиска – результат на международных соревнованиях. А у Юргиса постоянные, непростительные при его мастерстве срывы. Нельзя летать на зрителя, стремиться кого-то удивить. Творческий поиск всегда мучителен... Не помню, с чего начался разговор с мастером спорта Николаем Тимофеевым, но неожиданно он высказал то, что ждала я услышать от спортсменов более опытных. Углубление молодого летчика в таинства пилотажного мастерства было приятной неожиданностью. – У писателя Бажова есть сказ — «Живинка». Гармония и есть «живинка». Это не постоянное явление, оно уходит и приходит, и дело не в наборе фигур, и даже не в точности их исполнения. Это как... — несколько мгновений он смотрит мне в глаза, пытаясь понять, уловила ли я его мысль и стоит ли продолжать размышление вслух. — Это как во время концерта или спектакля: залу передается настроение исполнителя. А может быть, только техническая виртуозность, но вдохновения нет. Так и в полете... Бывает, что человек нелетающий, даже не зная фигур, не деля их на элементы, не понимая тонкости исполнения, целостно воспринимает все и говорит, хорошо или плохо смотрится комплекс. Вот моя жена, когда на аэродром приходит и наблюдает за тренировками, никогда не ошибается... Зритель может воспринять все только в целом, поддаваясь чувству гармонии... Бывает, что временной интервал между фигурами отсутствует, весь комплекс словно слит и идет как по рельсам. Николай замолкает, взгляд его останавливается на квадрате неба — предвечернее буйство красок в обрамлении оконного переплета делает его ненатурально живописным. – А вот сейчас в моем комплексе, чувствую, «живинки» нет. – Николай отводит глаза от окна, вздыхает. – Конечно, я еще только заканчиваю освоение пусть и высшей, но азбуки в небе, и надо искать свое. Кайрис берет эмоциональностью, своеобразием рисунка. У него интересные связки, но он порой импровизирует, ему не хватает времени и объема внимания. А это может сыграть плохую шутку... Вот соединить бы то лучшее, что есть у Юргиса, с надежным классическим почерком Смолина! В классическом рисунке элементы неожиданных связок интереснее смотрятся, они словно эмоциональные открытия, всплеск чувств, как при талантливой аранжировке. 56 Значит, не демонстрировать полет, а создавать его мастерством и вдохновением — только тогда душа зрителя сольется с душой творца? Значит, исполнение жестко зависит от внутреннего состояния, которое не поддается анализу и, выходя за рамки техники исполнения, приближается к искусству? И грохочущий, пытающий тело самолет становится подобен тончайшему инструменту... Небо за окном успокаивается, вечерняя синь приглушает все краски и в комнату вползает полумрак. – Идешь иногда к самолету с ощущением, что все получится. И в зоне усталости не замечаешь, кажется, и плохого случиться не может – все на нервном напряжении. Как на фронте — отец об этом рассказывал, он летчиком был... А после, когда отлетаешь, зарулишь, двигатель выключишь, такая усталость наваливается, что нет сил открыть фонарь. Ощущение такое, словно день косой отмахал. Но там и наутро тело ломит. А здесь – час отдыха, и силы восстанавливаются. Идем играть в волейбол, теннис... Незаметно Николай переходит на другую тему, естественно связанную с предыдущей, и в то же время раскрывающую иные стороны летной работы. – Сначала я и сам не понимал, почему после полетов вылезаешь из кабины на полусогнутых. Потом почитал литературу по психологии. Дело в том, что кроме мышц, руководящих движением рук, ног, работают еще поддерживающие внутренние органы. Двигательные мышцы в разной степени нагружены у нас постоянно и к работе привыкли. А внутренним надо приспосабливаться. И при пилотаже, когда знакопеременные перегрузки огромны, они как бы выходят за свои естественные пределы. На критических режимах организму требуется масса энергии, чтобы удержать их, а команды дает головной мозг. Он, в основном, и устает, тем более, что от принудительной циркуляции крови на перегрузках мозг получает неравномерный еѐ приток. И вестибулярный аппарат «расстраивается» – может выдать неточную информацию. А понимать происходящее, принимать решения, исполнять их приходится в минимальное время, не свойственное человеку в обычной обстановке. Вот и устаешь больше умственно, чем физически. Сейчас мы тренируем мышечный аппарат, а надо мозг, ведь от него идут команды. До сих пор в некоторых авиационных кругах бытует мнение, что интеллект мешает летчику: излишняя рассудочность, информативность, пристрастие к психологическому анализу создают, дескать, дополнительные стресс-факторы. Но интеллект провоцирует не просто эмоциональную впечатлительность. Развитие умственного начала, мыслительной способности, многосторонняя любознательность, стремление к поиску нестандартных решений дают возможность творческого осмысливания полета, способности контроля и власти над своими эмоциями, что повышает гарантию безопасности. Понимание того, что ты делаешь и что с тобой происходит в процессе этой деятельности, помогает в поиске наикратчайших путей к тому, как надо лучше делать, то есть летать. И тот, кто ищет в небе не только эмоций и славы, кто сознает, что золото побед достается не просто талантливым и трудолюбивым, но пытливым, дерзающим, — тот несет в свой арсенал оружие современных знаний. В своих рассуждениях Николай был, возможно, недостаточно глубок. Но радовала сама попытка молодого летчика подключить к своей работе изыскания ученых, вооружить себя знаниями, раскрывающими не познанный еще механизм психики человека в полете. Само желание не просто тренироваться, овладевая мастерством, но и познать самого себя — все это говорит о том, что идет новое, пытливое поколение спортсменов. В разной степени все спортсмены сборной по совету тренеров или товарищей, но чаще по собственной инициативе, а точнее, потребности, берут себе на вооружение аутотренинг, изобретают свои методы расслабления или мобилизации сил, концентрации внимания. Много интересных наблюдений, маленьких открытий делается при этом. Но кто изучает опыт, накопившийся за десятилетия в процессе наземной и летной подготовки? При ЦК ДОСААФ СССР существует Проблемная научно-исследовательская медикобиологическая лаборатория военно-технических видов спорта. Не ее ли сотрудникам надлежит постоянно изучать работу летчиков сборной? И не в кабинетах, а на месте тренировок, соревнований, с целью поиска скрытых резервов и создания действительно 57 полезных методических рекомендаций, которые в дальнейшем можно было бы распространять на рядовых спортсменов. Включать в руководящие документы и инструкции, с целью не ограничения, а расширения, обновления пилотажных программ. Не пора ли авиационным психологам пересмотреть и обобщить колоссальный запас теоретических знаний и исследований о человеке, работающем в экстремальных условиях полета? И дать практические советы спортсменам, мужественно ведущим напряженный спор с сильнейшими зарубежными летчиками. Помочь защитить организм — не только физически, но и морально, — обезопасив тем самым и сделав еще прекраснее пилотажный, акробатический полет — гармоничное слияние человека с машиной? Страница третья. Пилотажный полет — искусство. Так понимали его абсолютные чемпионы мира Владимир Мартемьянов, Игорь Егоров, Виктор Лецко и другие мастера высочайшего класса. Так видят его сейчас летчики сборной команды нашей страны, стремясь летать по-новому, внося то, что характерно нашему времени, уровню авиационной техники и самобытности, свойственной подлинному таланту. Такие виды спорта, как гимнастика, акробатика, фигурное катание, синхронное плавание, рождены нашим временем. И на наших глазах за какие-то два десятилетия в стиле исполнения происходили изменения, заметные и непрофессионалу. Взгляды, оценки судей перестраиваются постоянно, отдается дань смелости творческих решений, признается право на оригинальность исполнения, поощряется фантазия. Классический стиль уже как бы не в моде... Самолетный пилотажный спорт, в силу специфики своей, более консервативен. Летчик вынужден постоянно работать в путах категоричных и жестких ограничений и всецело зависит от своего спортивного снаряда — самолета, с помощью которого может продемонстрировать мастерство. Поэтому не только физические, умственные, профессиональные данные спортсмена-летчика решают исход поединка, но и качество машины, на которой он пилотирует. Спортивный самолет, тем более акробатический, как нередко говорят летчики, — это инструмент, с помощью которого можно выразить себя. ...Вот уже несколько дней мы «настраиваем» эти инструменты. Виктор Смолин, Юргис Кайрис и Николай Никитюк вместе с техниками самолетов и инженерами фирмы «колдуют» над элеронами, пробуя перевесить их таким образом, чтобы эффективнее работали на вращении. Остальные наждачной бумагой сдирают с новеньких самолетов неравномерно нанесенную краску, местами и грунтовку, отчего серебристо-белые Су-26М (на аэродроме их пока лишь два) становятся похожими на облезлых пантер. На заводе, нанося покрытие, посчитали, видимо, что, как и на сверхзвуковом самолѐте, все сойдет. А вот и не сходит... Провожу ладонью по поверхности крыла – чуть приметная волна наплывов. Неужели это ощущается в полете? – Еще как! Скорость съедает и на вращении чувствуется, – Виктор похлопывает самолет по капоту. Так ласкают скакуна – норовистого, но наконец-то объезженного. На ленте видеозаписи зафиксированы эпизоды укрощения этого скакуна, в основном шутливые, происходившие на земле. Запомнилось: Виктор в наколенниках из поролона, как голкипер на хоккейном поле — на самой первой машине неправильно была установлена приборная доска и колени бились в кровь. Впрочем, «неправильно» – это не совсем точное определение. С точки зрения обычного полета конструкторы спланировали все верно, а вот специфику работы пилотажников в кабине учли не полностью. Пришлось многое менять. И последующие машины дорабатываются – инженеры ОКБ имени П. О. Сухого часто бывают на аэродроме. Можно много рассказать интересного о самолете: применение композиционных материалов дало возможность уменьшить его вес и увеличить прочность, что позволяет не 58 ставить ограничения по перегрузкам и летчики, наконец-то, могут отвести душу. Двигатель надежный, хотелось бы, конечно, помощней. И о летчике создатели самолета позаботились, сконструировав пилотское кресло, позволяющее находиться в кабине в полулежащем положении, что частично снимает действие знакопеременных перегрузок. Фонарь, боковые и нижняя части кабины выполнены из солнцезащитного оргстекла. И управление несколько иное. Да много можно перечислить такого, что в целом и позволяет машину эту назвать спортивным самолетом нового поколения. Однако лѐтчик-испытатель фирмы имени П.О.Сухого Евгений Фролов, когда я завела с ним разговор на эту тему, не стал углубляться в технику, а заговорил о другом, начав издалека: — «Большая» промышленность ставит перед собой цель летать быстрее, выше, дальше. На малоразмерную технику давно внимания не обращают, хотя последнее время вспомнили, что она и для народнохозяйственных дел нужна, и для спорта. Раньше спорт выручала яковлевская фирма. Но любая техника морально стареет и требуется постоянное технологическое ее обновление. Мы сидим в летном домике и в настежь распахнутую дверь виден кусок неба над аэродромом. Временами в нем появляется «сучок», разнозвучный голос его слышится постоянно. — Для сборной нужен не просто новый самолет. Необходимо, учитывая специфику, разработать свои технические требования, свои нормы летной годности. Должна быть и своя методика приемки. Если требуется всего несколько самолетов для сборной, то и подходить к ним надо не как к машинам, которые пойдут в серию, и уж конечно не так, как к военным или пассажирским самолетам. Инициатива должна исходить, естественно, от ДОСААФ. Евгений встает, отходит к двери, прислоняется к косяку и, наблюдая за пилотажем, продолжает: — Опыт показывает: самолет надо доводить вместе с летчиками-спортсменами. По сути, так и получилось в этот раз. Но у нас жесточайший дефицит времени и мы действуем в обход некоторых формальностей. Заводские испытания шли параллельно с тренировками. Спортсмены постоянно выходили на критические режимы, фактически опережая испытания и таким образом открывая, исследуя возможности нового самолета. Фактически они уже стали летчиками облета, и теперь остается только закрепить это юридически, формально разрешив им работать и на будущей опытной технике. Закончив пилотаж, Су-26М заходит на посадку, и Фролов, возвратившись к столу, начинает укладывать защитный шлем в байковый мешок, — видимо, сегодня больше летать не будет. — Самолет для сборной должен быть не серийным, – в такт неторопливым движениям и слова выговариваются неторопливо. – Он требует постоянного совершенствования, быстроты доработки. Наготове должны быть и новые модификации. А на основе акробатической машины могут создаваться и самолеты для спортсменов высокого класса. И, не слишком отставая от них, – учебно-тренировочные. В этом плане стоило бы подумать о КБ спортивной авиации. — При ДОСААФ? – уточняю я. — Возможно, и при ДОСААФ, – подумав, соглашается Фролов. Неожиданно было услышать такое из уст летчика-испытателя прославленной фирмы, хотя знаю: спортсмены мечтают об этом давно. Убеждены, что надо объявить конкурс, в котором могли бы участвовать не только КБ наших основных фирм, но и коллективы конструкторов-любителей, среди которых есть талантливые, высоко эрудированные и нестандартно мыслящие инженеры, готовые поспорить с зарубежными создателями спортивных машин. Когда же я попыталась узнать мнение о КБ спортивной авиации у Касума Гусейновича, он предложил: – Давайте сначала сделаем маленький экскурс в недалекую историю, проследим бегло этапы развития нашего самолетного спорта. Без этого трудно будет понять мой ответ. 59 ...Первый чемпионат мира состоялся в 1960 году в Чехословакии. Тогда чехи были законодателями в спортивной авиации, у них был лучший спортивный самолет, они и выиграли первенство мира. Через два года у нас в стране на базе учебного Як-18 был создан пилотажный самолет. Это позволило резко улучшить подготовку спортсменов и выйти на международный уровень. Сразу же отношение к самолетному спорту изменилось к лучшему, активизировалась работа в клубах, в программу чемпионатов страны стало возможным вносить требования чемпионатов Европы и мира. Это, в свою очередь, выявило талантливых летчиков, как среди мужчин, так и среди женщин. Пришли международные победы — советские пилотажники становились сильнейшими в мире. Пилотажные самолеты морально стареют быстро, а время шло... Чехи, американцы стали делать спортивные машины значительно лучше, чем раньше, а у нас лишь упорно модифицировали все тот же Як-18. Модификации, правда, в какой-то мере спасли положение нашей команды на чемпионатах мира 1970 и 1972 годов, но клубы сидели на голодном пайке: пилотажные «яки» вылетывали ресурс. А из-за нескольких тяжелых летных происшествий необоснованно была списана партия чешских «злинов» — грешили на технику, а неподготовленными были спортсмены... Остался учебный Як-18А и программу чемпионатов Союза пришлось упрощать, сводя упражнения к полетам по кругу, по маршруту, под «колпаком». В отчаянных спорах удавалось иногда включать некоторые фигуры простого пилотажа, но и только... О какой же подготовке могла идти речь? Из кого можно было отбирать и как готовить кандидатов в сборную команду страны? Уже на чемпионате мира в 1970 году стало ясно: нужен новый отечественный самолет, так как за рубежом уже начали делать акробатику. У чехов появился новый «злин», его покупали социалистические страны; американцы взялись за улучшение «питтс-специаль». Интересные самолеты создали в Швейцарии, ФРГ. «Акростар», выполненный из пластмассы, дал толчок к переходу от старых схем и материалов к качественно новым. Яковлевская фирма тогда заверила, что сделает отличный самолет и покупать за рубежом не надо. Но лишь к 1975 году появился Як-50. Он был несравненно лучше старого, мы успели на год опередить серьезно улучшенный чешский «злин» и американцы опоздали со своим «лазером». На чемпионате мира в Киеве в 1976 году встретились все новые самолеты... Тогда удалось победить, так как наша команда успела подготовиться. Завоевали почти все золото, серебро и бронзу. Но потом зарубежные спортсмены вошли в форму на своих самолетах, а в Як-50 выявились скрытые недостатки конструкции, и фирма начала делать ограничения по перегрузкам. Стало ясно: дальше нам не выиграть. Но тренерам и спортсменам не верили: ведь победы же есть! Не хотели понимать, что вырваны они за счет сверхусилий летчиков. Пришлось и дальше тренироваться и выступать на Як-50. И тогда начались катастрофы... Случилось то, чего опасались дальновидные тренеры и опытные спортсмены. В авиации нельзя жить без дальнего прицела, а когда закладывался этот самолет, представление о пилотаже было другое и рабочие перегрузки появившихся комплексов — обязательных и произвольных — в конструкцию заложены не были. Фирма начала срочно доводить самолет, но не в сторону улучшения летных качеств, а делая конструкцию более прочной, а значит, и более тяжелой. После долгих споров удалось убедить, что нужен новый самолет. Приступили к созданию Як-55, хотя с самого начала было ясно, что он по некоторым параметрам даже хуже старого. Но... спортсменов опять не слушали. Тогда было сделано всего три машины. Они, в общем-то, и выручили команду, иначе она просто не смогла бы принять участие в соревнованиях. В 1982 году на мировом первенстве на Як-55 выступил летчик-испытатель Михаил Молчанюк, как член сборной и летчик фирмы. В 1984 году в Венгрии на доработанной хотя и не ставшей лучше, машине летали мужчины и женщины. Женщины выиграли, потому что по мастерству были на две головы выше зарубежных спортсменок. А мужчины заняли лишь третье командное место. Спросите, почему? От Як-55, хотя и выступали на нем Смолин и Никитюк, ожидать успеха было трудно. Новый, еще не доведенный Су-26 пилотировали Паксас, Кайрис и Шпиговский. Но 60 переучились они за неделю, налет составил лишь несколько часов, а комплексы практически и не успели отработать – лишь тренировались на промежуточных аэродромах по дороге в Венгрию. Чего же удивляться, что призового места не заняли? Третье общекомандное – и это по тем условиям неплохо. Но команду упрекали, ругали... А спортивные противники нашей сборной к тому времени завершили свое совершенствование, улучшили машины. Надо отметить, что все решается у них и делается оперативно, а мы тратим время на доказательства, уговоры, доработки... Касум Гусейнович, с досадой махнув рукой, замолчал. И мне вспомнилось, как в те дни, будучи в ЦК ДОСААФ СССР, услышала я горькоироничное: «Если не видели еще кубок Арести, то поторопитесь: скоро чехи увезут». И я ходила вокруг огромного серебряного кубка, торжественно отсвечивающего золотой инкрустацией. Читала имена сильнейших пилотажников мира, выгравированные на платиновых пластинах. Среди них и наши летчики — Виктор Лецко, Игорь Егоров, Виктор Смолин. И кубок имени П. Н. Нестерова за общекомандное первенство покидал Родину... – Теперь мы получили прекрасный самолет, и хотя его еще надо совершенствовать, надежда есть – спасибо великое суховцам, – продолжил разговор Касум Гусейнович. – Но это самолет для сборной. Для клубов планируется Як-55М, его запускают в серию. Проблема в том, что за время пилотажного забвения в клубах растеряли, деквалифицировали кадры инструкторов и спортсменов-пилотажников. Сейчас некому учить и надо все начинать сначала. Да и на чем учить? Учебный Як-52 по своим летным возможностям далеко отстал от требований, предъявляемых сегодня к учебно-тренировочной машине. Остро необходима новая пилотажная спарка, на которой будем готовить сначала инструкторов. И только когда в клубах для республиканских чемпионатов смогут готовить спортсменов на пилотажной машине, а всесоюзные соревнования станет возможным проводить по программе международных, тогда и выявятся действительно одаренные летчики. Сейчас же получается уравниловка: сильные не могут себя проявить, а слабые выполняют упрощенный пилотаж на сносном уровне. Для одаренных спортсменов надо ввести высшую лигу и выявлять кандидатов в сборную страны. Произойдет омоложение состава, будет экономия топлива, ресурса, повысится безопасность полетов и гарантия успеха. Как видите, развитие авиационного спорта, спортивные достижения в непосредственной зависимости от самолета. На мировой арене идет борьба не только летчиков, но и машин. Значит, спортивный самолет обязан стоять на острие конструкторской мысли и все в нем надо закладывать с дальним прицелом. Должен идти, по сути, постоянный эксперимент, опробываться новые материалы, конструкторские решения... На сегодняшний день положение спасает ОКБ имени П. О. Сухого. Ну, а если завтра на фирме почему-либо не смогут или не захотят делать именно то, что требуется спортсменам? Ведь требования наши специфичны и непонятны зачастую специалистам, работающим с «большой» авиацией. Специальное конструкторское бюро спортивной авиации, как видите сами, необходимо, но с условием, что работать там будут талантливые энтузиасты, не зависящие ни от одной из фирм, но имеющие возможность требовать помощи от каждой из них, если сами фирмы не догадаются ее предложить. Нужны производственные мощности и возможность размещать срочные заказы на предприятиях Минавиапрома. Нужны свои летчики-испытатели из числа сильнейших пилотажников сборной, прошедших обучение в школе летчиков-испытателей. Количество экспериментальных самолетов для сборной может быть небольшим, но дальнейшие модификации этого самолета всегда должны становиться основой серийных самолетов для спортивных клубов с тем, чтобы основная масса спортсменов страны поднималась вместе со сборной до требований современного уровня. И уже сейчас, чтобы заинтересовать Министерство авиационной промышленности, надо сделать так, чтобы результаты сборной на международном уровне, ее успехи отражались в оценке труда создателей спортивных машин и летчиков-испытателей. Это будет справедливо... Иногда задают вопрос: почему именно конструкторское бюро имени П. О. Сухого по собственной инициативе взвалило на себя такую «обузу» и, отвлекая конструкторские силы 61 и производственные мощности от основной работы, взялось за создание спортивного самолета и вытащило сборную страны из бедственного положения? Да потому, что сам Генеральный конструктор М.П.Симонов, возглавляющий в настоящее время фирму, в молодости летал на планерах и самолетах, руководил КБ спортивной авиации и вместе со студентами и инженерами Казанского авиационного института создавал планеры разного класса. Был одним из организаторов юношеского планерного клуба. А сейчас, имея уже более широкие возможности, создал при КБ фирмы летно-технический отряд для сотрудников и учебно-производственный комплекс авиационного профиля при заводе. С планерной школой и учебными мастерскими, где подростки строят планеры, на которых сами же и летают. И директор завода, куда бы не забрасывала его судьба авиаинженера, поднимаясь по служебной лестнице, везде начинал создавать авиационные клубы для подростков, понимая, что кадры для авиации готовятся не с институтской скамьи и проходной завода, не с первых курсов летных училищ, а с детских лет, когда сердце еще открыто для мечты. Как прочно и сложно связано все в авиации: недоработки или заорганизованность в работе молодежной авиации через какое-то время неизменно и ощутимо скажутся на авиации «большой» — авиационная промышленность, военные и гражданские летные и технические училища недосчитаются увлеченных и способных молодых людей. Не предусмотрели заблаговременно потребности в спортивной технике — и под угрозой не только результаты международных соревнований и рекордные достижения, но и развитие самого авиационного спорта в стране и состояние массово-патриотической работы, что ощутимо бьет опять-таки по всей авиации страны в целом. Нет должной пропаганды авиационных видов спорта — нет и притока молодежи в клубы, хотя о каком притоке может идти речь, если долго еще не на чем будет учиться летать, и даже тех, кто обивает пороги авиационных клубов, принять не могут... Не раз от спортсменов, от руководителей и даже в ЦК ДОСААФ СССР доводилось слышать, что задачи спортивной авиации в оборонном Обществе — это, прежде всего, подготовка абитуриентов в авиационные училища, патриотическое воспитание. Конечно, это нужная и важная работа, но, таким образом, спорт постановка рекордов и сами соревнования — отходит на второй план. Как же сделать так, чтобы техническим видам спорта, находящимся на попечении ДОСААФ, уделялось столько же внимания, сколько получают его те виды спорта, которые находятся в ведении Госкомспорта СССР? Пытаюсь собрать воедино размышления на этот счет членов сборной команды страны. Кто, как не они, являясь опытнейшими инструкторами или ведущими спортсменами в своих клубах, знают положение дел на местах? «Здесь все сложно, заорганизованно. Потеряно много хороших традиций, восстановить которые очень трудно. Раньше полеты проводились круглый год, а сейчас только летом. Многие хотели бы готовиться по пилотажной программе, но не дают». «Начальниками местных комитетов ДОСААФ, их заместителями по авиации и начальниками аэроклубов назначаются чаще всего бывшие военные летчики, уже вышедшие на пенсию или дослуживающие до нее. Спортивной работы они, естественно, не знают, большинство и не стремится узнать. Их оклад и очередной звание не связаны с успехами клуба, а вот за летные происшествия отвечать приходится. Поэтому чем меньше спортсмены летают, чем проще упражнения, тем спокойнее». «Команду готовить, тем более пилотажников, дело хлопотное. В некоторых клубах подготовка спортсменов сейчас настолько слабая, что они просто не могут выставить команду». «Сейчас в клубах стали готовить абитуриентов для училищ ВВС — дело, бесспорно, нужное. Но у клубов появилась возможность весь план годового налета выполнять за счет полетов по кругу. Вот инструктор и теряет пилотажные навыки. Многие уже и сами не хотят летать на пилотаж». Но где же выход? Люди, посвятившие спортивной авиации всю свою жизнь, убеждены: «Надо вспомнить, прежде всего, о массовости, о желании и праве молодых людей занять 62 свое свободное время полетами. Или клубы по интересам – это прерогатива лишь автомобилистов, яхтсменов и других любителей – всех, кроме авиаторов?..» «На сегодняшний день в аэроклубах инструкторы несут двойную нагрузку: они обучают спортсменов и курсантов ранних возрастов — будущих абитуриентов летных училищ. А надо создать отдельные звенья, четкое закрепление инструкторов». Приятно удивило, что спортсмены, ратующие за спорт, думают не только о своих проблемах: «То, что шестнадцатилетним разрешили летать, — прекрасно: раньше начинается активная летная жизнь. Родители довольны, что сын при деле, в школе парень подтягивается, а главное — с первых курсов училища по летной непригодности его не спишут, да и сам не уйдет». «Но надо считать не тех, кто прошел подготовку в клубе и даже вылетел самостоятельно, а тех, кто поступил в училище ВВС и успешно его окончил. И за их дальнейшей судьбой надо следить, стараться, чтобы не теряли связь с клубом, помнили своих первых инструкторов и хранили в сердце искреннюю благодарность им». «В некоторых клубах трудно с набором. Ребята приходят случайные, много отсеивается во время занятий. Но там, где есть юношеские планерные школы и в клубы идут их воспитанники, такой проблемы не существует. Великое это дело — в детстве заронить мечту». Почему так наболело все в авиационно-спортивной работе за последние два-три десятилетия? У Касума Гусейновича ответ есть: – Потому что отделом спортивной работы в комитетах должны руководить люди, до тонкости знающие нашу специфику. Следовало бы в ДОСААФ выделить спорт и по примеру Госкомитета СССР по физкультуре и спорту ответственными за эту работу назначать людей, на практике проявивших организаторские и деловые качества: опытных тренеров и бывших членов сборной команды — мастеров международного класса. Да и справедливо это будет, ведь из сборной уходят достаточно молодыми. А где дальше работать? Возвращаться в клуб инструктором? Но он же спорту, стране нашей столько отдал, организм износился. И знания, тактическое умение, опыт международных соревнований пропадает зря. Не раз слышала предложение ведущих спортсменов организовать работу Центрального аэроклуба СССР имени В. П. Чкалова так, чтобы в нем можно было переучивать спортсменов на новой технике. Есть реальная возможность создать специальную группу — парадную эскадрилью, состоящую из профессионалов: летчиков, парашютистов, планеристов, вертолетчиков, дельтапланеристов. Они смогут ездить по городам, бывать в сельской местности, где есть аэродромы сельхозавиации, устраивать воздушные праздники — это ли не лучший способ популяризации авиации среди молодежи? Выступления могли бы проходить с продажей билетов, это частично окупало бы мероприятия. Сейчас многие руководители на местах отговариваются отсутствием средств и опасением за безопасность полетов. Доводилось слышать, и не только от людей никакого отношения к авиации не имеющих, но и от профессионалов: «В авиационных выступлениях мало зрелищности. Над аэродромом, под открытым небом еще куда ни шло — и объемность, и двигатели грохочут, и чувство чужого риска нервы щекочет. А в кино, тем более на телеэкране, какой бы высший пилотаж ни показывали, что поймет неискушенный зритель?» А помните, как мы начинали смотреть выступления по фигурному катанию? Исполнение казалось одинаковым, композиции похожими, больше на костюмы и внешность спортсменов внимание обращали. Или выступление гимнастов, синхронное плавание? Да в любом виде спорта, что так умело и щедро демонстрируют сейчас с телеэкрана? Вспомните, как постепенно обогащались наши знания. Как умело воспитывался специалистамикомментаторами наш вкус и какими интересными, полезными считаем мы сейчас эти передачи, хотя пропагандируют они лишь физическую культуру, в то время как авиационный спорт ориентирует на огромную область технических знаний и 63 профессиональной деятельности, от которых зависит прогресс в народном хозяйстве и обороноспособность страны. В самолетной, планерной акробатике, полетах вертолетов, дельта- и мотодельтапланов необычность зрелища заключается не только в том, что видишь с земли, хотя это и красиво, впечатляюще, особенно при парном или групповом исполнении. А если отойти от традиционных съемок и немного пофантазировать? Поставить, например, кинокамеру в кабину летчика-пилотажника, показать его лицо на перегрузках и в спокойном полете. Попытаться уловить его настроение, чувства, заглянуть в духовный мир его и оценить творческий поиск; если показать само небо и землю в фантастическом переплетении их, прокомментировать исполнение фигур высшего пилотажа, подметить особенности комплекса в его исполнении, умение летчика составить композицию, подобрать фигуры, связки, объяснить возможные ошибки и их причину. Если умело подобрать музыкальное сопровождение — ведь есть уже мысль попробовать пилотировать под музыку... И каким же удивительным и прекрасным должен получиться этот фильм! Конечно, подготовить подобную передачу посложнее, чем транслировать из спортзала выступления штангистов и боксеров. От режиссера и оператора потребуется не формальное отношение к тому, что создается, а увлеченность авиацией и творческая самоотдача. Нельзя забывать и о проблемах авиационного спорта, нельзя увлекаться сенсационными подробностями даже благополучно закончившихся летных ЧП — соблазн велик, но неточная подача материала, неверно поставленный акцент могут принести больше вреда, чем пользы авиационному делу. Поэты, прозаики, кинорежиссеры, художники, музыканты! Попроситесь в полет. Оторвитесь телом и душой от земли, сбросьте на время ее притяжение — и появятся в душе вашей «живинка» творчества и горько-сладкое чувство зависти к птицам и облакам. И когда начнете с грустью провожать глазами пролетающий в синеве самолет, подмечать ленту инверсионного следа, родится в вас потребность писать музыку, картины, слагать стихи и песни, создавать фильмы о тех, кто творит, кто работает в Небе, кто защищает его. 1985 г. 64 65 Высокого неба глоток Брожу по притихшему городку Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков. Ночь. Рассеянный свет фонарей и звезд, спящие окна казарм, учебных зданий, присмиревшего тренажерного комплекса. Вспоминается прожитый день, заполненный разговорами с курсантами: случайные фразы, сказанные в перерыве между лекциями, в столовой, и обстоятельные беседы то в комитете комсомола, то на лавочке, рядом с аэродромом, откуда с ревом, в ярости форсажного пламени взлетали сверхзвуковые истребители. Вспоминаю юные лица, сначала — чуть настороженные, потом — согретые откровением. Ведь говорим о том, ради чего пришли они в военное училище летчиков, одни — после окончания школы, техникума, ПТУ, другие — отслужив в армии. Большинство с первого «захода», но кое-кто «штурмовал» медицинские и иные комиссии два, а то и три года подряд с настойчивостью, достойной уважения. Что знали они, семнадцатилетние, о профессии военного летчика, которую выбрали для себя на всю жизнь? Чем питалось их воображение, что нацелило, родило мечту о небе, полете? Книги, прочитанные в детстве? Кинофильмы? Или заинтересовались авиацией в школе юных летчиков и космонавтов, где можно было примерить белоснежный защитный шлем, даже посидеть в кабине самолета, навечно приземлившегося в зале? А кому-то, возможно, удалось попробовать свои силы в аэроклубах, налетав с десяток часов на планерах или сделав по нескольку прыжков с парашютом. Семнадцатилетние... Какими разными, непохожими приходят они к порогу училища! В многообразии характеров, темпераментов нужно заметить, отобрать тех, кто успешно, с гарантией выдержит требования, предъявляемые к человеку современной военной авиацией. Мы привыкли к понятиям: талант поэтический, художественный, музыкальный, и, не задумываясь, принимаем их в сочетании признаков, узаконенных тысячелетиями практики. История авиации не насчитывает и века. Однако в журнале «Вестник воздушного флота» за 1920 год уже поднимался вопрос о «профессиональной пригодности к службе в качестве летчика на основании статистических данных и психических испытаний». Ярко выраженный талант известных летчиков тридцатых годов, времен Великой Отечественной войны, заслуженных летчиков-испытателей не просто ложится легендами в память продолжателей их дела. Профессиональные качества этих людей изучают и анализируют ученые. Летный талант, летные способности — это сложнейшее и тончайшее сочетание самых разных качеств личности: отточенная координация движений, обостренное чувство пространства и времени, мгновенная оценка сложившейся обстановки, находчивость, продуктивность памяти, эмоциональная устойчивость, волевые качества. Чтобы определить музыкальные способности, проверяется слух, чувство ритма, музыкальная память. Художественный талант становится очевидным при взгляде на рисунок — в чувстве цвета и формы, умении передать мысль, настроение. С уверенностью сказать о способности человека к пилотированию можно лишь в воздухе, в полете, когда становится понятно, как формируются его «чувство самолета», способность ощущать свое место и положение в пространстве. Но как еще на земле прогнозировать профессиональную пригодность юноши к летной работе? Понять, как будет реагировать, действовать он в условиях полета? Чтобы предвидеть, как поступит человек в неожиданной, усложненной ситуации, надо понять еще и особенности его личности: интересы, стремления, отношение к материальным и духовным ценностям, трезвость в оценке своих возможностей и чувство долга. ...Улыбчивые, напряженные, сосредоточенные лица – первокурсники. В их памяти еще не стерлись волнение и чувство необычности испытаний, которые они прошли. «Мы все гадали: что это такое — психологический отбор? Экзамены по школьным дисциплинам, медкомиссия — дело ясное. А тесты всякие... вроде шарад, ребусов, головоломок — чудно, но соображать приходится...» 66 «В опроснике больше пятисот вопросов — что любишь, как думаешь, как считаешь? Иногда странные вопросы, даже смешные; на многие просто «да» или «нет» ответить трудно. И что необычно — сам себя оценить должен, проанализировать. О многом раньше и не задумывался...» «А мне аппаратурная методика понравилась. Сидишь, как в пилотском кресле: ручка управления, педали, стеклышко перед глазами, как прицел, и надо световым зайчиком пробежать по ломаной линии на экране. Сначала казалось — просто, а когда за «лидером» в заданном темпе гнался, даже взмок от напряжения. А потом — ничего, получилось...» «Друг мой профотбор не прошел. В школе вместе в авиамодельный ходили, мечтали, как летать будем. И лучше меня по всем предметам учился, а вот здесь не получилось. Обидно...» Голоса выдают настроение: огорчение, уверенность в себе, успокоенность, сомнения. Хотя пройден первый, пробный этап, но как оно будет там, в воздухе? Невольно сравниваю ребят, пытаюсь предугадать их летные судьбы, но это так сложно. Вот, например, Игорь Тимофеев и Павел Кругляков. У них отбор пройден с наилучшими результатами, школа окончена отлично и сейчас учатся хорошо. На этом сходство кончается. Все остальное — внешность, манера держаться, разговаривать, спорить — различное. Игорь сдержан, критичен к себе, подчеркнуто дисциплинирован, замечания переживает остро, осторожен в оценке товарищей. В разговоре напряжен, и позволяет себе раскованность, лишь взяв в руки гитару. А Павел уверен в себе, подвижен, решителен, с товарищами общителен, возможно, излишне категоричен. Как скажутся особенности натуры, как компенсируется недостаточное развитие одних природных качеств другими — вопросы эти интересуют ученых и практиков, заставляя пытливо всматриваться в методики летного обучения. Но есть едва ли не самый главный показатель, залог всех успехов — это страстное желание летать. Для юношей, поступающих в военное училище, оно проверяется в усложненных условиях — и книжная романтика выветривается быстро. Первый курс — оторванность от дома, маминых забот. Большой, не сразу и не всегда дружно складывающийся коллектив. Жесткие рамки воинской дисциплины, расписанное по минутам время, сложные теоретические занятия, физическая закалка. Трудно привыкнуть и к ранним подъемам, и к хождению строем. Не всегда успешно первое знакомство с тренажером, и хотя «полет» на нем условен, но оживающая стрелками приборов, световой и звуковой сигнализацией кабина самолета вносит смятение. Нужны упорство, оптимизм, чтобы не опустить руки. Нужны чуткость и понимание инструктора, преподавателя, командира... Потом — первый восторг ознакомительного полета на учебном реактивном самолете, труд до седьмого пота вывозных полетов с летчиком-инструктором, разочарование, надежда, вера и неверие в свои способности... Организм приспосабливается к необычным условиям полета, перегрузкам, кислородной маске на лице, к изнуряюще яркому заоблачному солнцу. Все это окупается счастьем первого самостоятельного полета, а позже появляется понимание уже другой романтики — романтики подлинного мастерства, которое приходит, как второе дыхание. Именно в эти первые два года учебы и полетов происходит отсев. Курсанты, пришедшие со слабой школьной подготовкой и не обладающие упорством и волей, не выдерживают теоретической нагрузки. Других подводит недисциплинированность. Третьи начинают вспоминать, что на «гражданке» все было проще и вольготнее... А потом, спустя несколько месяцев после отчисления, приходят к начальнику училища, в политотдел, командиру курсантского подразделения отчаянные письма: «...Я понял, что не могу жить без авиации, что авиация для меня не романтика, а единственная цель жизни...», «Я даже не представлял себе, что натворил! Если я даже кого-то обманул, что не хочу быть офицером, то ведь себя обмануть невозможно...», 67 «Не могу жить без неба, без самолетов, не могу теперь и без училища. Прошу вас оставить меня на второй год или разрешить поступать снова в этом году, но только быть снова в училище и летать...» Горько за тех ребят, кто не выдержал трудной пробы на стойкость, на мужество, кто не сумел воспитать в себе еще на земле, в будничности школьной и курсантской жизни, тех качеств, которые проверяются потом в воздухе, кто бесхарактерностью своей зачеркнул Мечту. Летные способности, как и всякие другие, не есть что-то застывшее предопределенное от рождения, и не надо думать, что летная профессия — для избранных. Как утверждают специалисты, способности развиваются, формируются, совершенствуются. В детские и школьные годы выработке необходимых летчику физических и психологических качеств способствуют динамичные игры и виды спорта, в которых отрабатывается точность движений и глазомер, воспитываются настойчивость, сдержанность, воля. Нужно более продуманно проводить профориентацию, телевизионные передачи, посвященные истории авиации, жизни выдающихся летчиков. Необходимо более внимательное отношение районных комитетов ДОСААФ к работе аэроклубов, парашютных секций, пристальное внимание и помощь дельтапланеристам. Требуется специальная литература для подростков, написанная психологами, где в популярной, занимательной форме давались бы советы и упражнения для отработки необходимых в летной практике навыков. А так же тесты, тренирующие память и мышление. ...Спят курсанты. Первокурсникам снятся, наверное, еще не познанные полеты — чуткая ручка управления, грозовое дыхание двигателя. А старшекурсникам — лейтенантские погоны и долгожданная служба в строевых частях. Они еще не летчики. Они успели почувствовать лишь вкус неба, вкус ветра, ворвавшегося в кабину, открытую после посадки. Но сполна ощутили главное — гордое сознание власти над машиной и над собой. 1981 г. Образ полета Обороты двигателя — максимальные, сейчас отпустить гашетку тормозов и самолет рванется вперед... Как красиво, легко выглядит взлет со стороны! А из кабины самолета, когда ты еще только познаешь сложное мастерство полета? Глаза напряженно следят по оси взлетно-посадочной полосы за направлением движения при разбеге, мельком — за ростом скорости по прибору. Еще немного — самолет отрывается от бетона и все в его повадках разом меняется, становясь настороженным и чутким. Рука тянется к крану уборки шасси — три зеленых огонька, отсекая контакт с землей, сменяются запрещающими красными. Взгляд лишь на мгновение отвлекается на контроль приборов, а самолет уже опускает крыло. Устраняешь крен, но теперь стрелка вариометра ползет на снижение. Увеличиваешь угол набора и замечаешь, что стрелка компаса отклоняется от курса. Исправляешь, а высота уже больше той, что нужна для первого разворота... Лоб покрывает испарина. Но ведь это только взлет. Посадка сложнее. Полет по кругу — азы летной грамоты. А предстоит овладеть фигурами сложного пилотажа, научиться вести воздушный бой, выполнять групповые полеты. Пока в твоих руках лишь покладистый учебный самолет, а через два года его заменит сверхзвуковой истребитель, в кабине которого около трехсот приборов – табло, кнопок, переключателей. И нужно безошибочно и быстро определять положение стрелок, указателей, за доли секунды осмысливая их показания. Небо — не огороженный стенами класс, кабина самолета — не парта. На приборной доске не подчеркнешь мелом ошибку. Урок скоротечен, неточность чревата опасностью. Отношения ученика и учителя складываются в напряженных, порой экстремальных условиях. Поэтому важно здесь все: умение старшего передать младшему мудрость своего и 68 чужого опыта, психологическая совместимость курсанта и инструктора, и в первую очередь – методы, формы летного обучения. — Что способствует закреплению полученных навыков? Когда начинаешь чувствовать самолет? Как приходит опыт?..— задаю эти вопросы курсантам Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков. Рядом — аэродром полнится звуками, резкий ветер словно раздувает солнечные вспышки на фонарях и плоскостях — самолеты заруливают на заправку, и двигатели гудят вполголоса. Курсанты рассказывают о полетах увлеченно, с иронией анализируя свои ошибки: — Вначале казалось: не я самолетом управляю, а он мной. Иногда думал — инструктор подстраховывает. Только в самостоятельных полетах напряжение спало, стал больше замечать, чувствовать, слышать, — Александр Козлов, еще взбудораженный после полетов, тщательно подбирает слова. — Каждый раз перед сном весь завтрашний полет в уме «проигрываю»: последовательность действий, высоты, скорости, — сосредоточенное лицо Николая Медяшова оживляется.— Вначале, так и «не отлетав», засыпал. Потом привык не спать, пока самолѐт мысленно не посажу. Очень помогает — в воздухе увереннее себя чувствуешь. У Александра Ермакова лицо открытое, ясноглазое, по нему можно прочесть все оттенки чувств. — Первое время казалось, что перегрузки сами собой возникают, потом начал увязывать их с движением самолета, изменением скорости, направления... — Если ручку управления на себя чуть резче, чем надо возьмешь... — Юрий Савенков делает плавное движение рукой и начинает описывать пилотажный комплекс. Наверное, многие замечали, что летчики и курсанты в разговоре между собой показывают маневр самолета кистью руки, помогая разворотом плеча, всем телом. Поражает не просто наглядность движения, а внутренняя потребность в этом образном изображении, не только физическая, умственная, но и психическая неотделимость от машины. В процессе всего полета, особенно вне видимости земли, пилот представляет положение самолета, а точнее — себя в пространстве, не теряя этого чувства при любых эволюциях, предвосхищая в уме каждое последующее перемещение. Мы говорим: «Образное мышление, образ любимой, поэтический образ», подразумевая под этим совокупность знаний, чувств, ассоциаций, связанных с предметом, человеком, явлением и наглядно отражающихся в сознании индивидуально для каждого. Для летчика задача, которую ему предстоит решить, знания и опыт, показания приборов, личные ощущения — все сливается в единое, очень емкое и своеобразное понятие, которое авиационные специалисты назвали «образом полета». Рискнем хотя бы чуть-чуть вникнуть в «таинства» летного мастерства... Курсант видит показания каждого прибора в отдельности. Мысленно «собирая стрелки», он объединяет данные в целостное представление о полете. На это уходит сравнительно много времени. Опытному же летчику достаточно лишь нескольких взглядов. Оценивая все параметры, «чувствуя» самолет, он не считывает цифры, а лишь сличает положение стрелок с тем, какое, зная по опыту, они должны занимать. Такая мгновенная оценка экономит время и дает возможность следить за воздушной обстановкой, работать с прицелом, выполнять боевое задание. Выработать у курсантов навык не «прилипать» взглядом к приборам, а оценивать их показания лишь в ключевых, «опорных» точках пилотажной фигуры, научить соотносить показания приборов с собственными ощущениями, четко представлять свое пространственное положение и реагировать мгновенно — значит ускорить становление летчика-истребителя и обезопасить работу в воздухе. Теоретически обосновали и предложили так называемую «методику опорных точек» методисты училища. Опытнейшие летчики проанализировали весь наземный этап подготовки, многократно, детально проверили все в воздухе и, получив консультацию и помощь ученых, пришли к выводу о необходимости проведения эксперимента. 69 ...Вхожу в комнату с зашторенными окнами. Ближе к стене стоит летное кресло, на месте приборной доски, повторяя ее размеры и форму, — экран. С помощью слайдов на него в течение четырех секунд проецируется изображение приборов, показания которых соответствуют положению самолета в какой-то определенной части пилотажной фигуры. — Мы постарались использовать все имеющиеся на сегодняшний день средства обучения и дополнили существующую методику этими специальными упражнениями,— пояснял руководитель эксперимента летчик первого класса А. И. Плотников. — Зафиксировав зрительно положение стрелок, курсант должен потом на специальной модели поставить самолетик (по курсу, крену и тангажу) в то пространственное положение, какое он представляет себе по показаниям приборов... Невольно пришло сравнение: ведь в этом умственном постижении полета есть что-то общее и с музыкальной грамотой — за каждым записанным на бумаге нотным знаком стоит звук и можно петь «с листа». И читать мы учимся, сначала стремясь взглядом схватить и понять значение отдельного слова, потом фразами, строчками, уже не вникая в сам процесс чтения, улавливая не просто смысл написанного, а образно представляя себе даже больше, чем вложено автором в текст. Но основное обучение проходит, естественно, в воздухе. ...В самолет с бортовым номером 03 курсанты экспериментальной группы садились вначале настороженно: в первой кабине был установлен киноаппарат с выведенным на месте прицела объективом. Но в воздухе о нем забывали, и кинокамера фиксировала направление взгляда на приборы и закабинное пространство. «Киноактерами заделались», — подтрунивали над ними курсанты из контрольной группы. Устраивали «малые», но достаточно бурные диспуты, устные и письменные, в стихах и прозе, где в адрес «подопытных» сыпались добродушные, а порой и едкие шутки. Те в долгу не оставались, но, ревностно отстаивая новую методику, в душе сетовали на то, что готовиться к полетам приходится намного больше, чем остальным. Если прослушать бортовые магнитофонные записи радиообмена, то сквозь шумы и помехи можно уловить, как летчик-инструктор нацеливает курсанта: «На скорость обрати внимание... Перегрузку по ощущению запомни... Смотри по горизонту...» Проглядываю листы анкет, заполненные курсантами после проведения первого этапа полетов по новой методике. Графы для фамилий не предусмотрено — так будет проще высказаться откровенно. Предосторожность оказалась излишней: мнения курсантов в основном сходятся. «Сделав один шаг, трудно сказать, изменилась ли походка. Так и здесь: нельзя судить о технике пилотирования, но осмотрительность, вера в себя — возросли...» «Упорядочилось мое распределение внимания в полете, более «лаконичными» стали действия...» «По-моему, необходимость в эксперименте подобного рода возникла давно. И нам, курсантам, приятно, что начат он именно в нашем училище, в нашей эскадрилье...» Это, безусловно, искренние, но субъективные оценки. Объективные выводы были сделаны на основании всех данных в научно-исследовательском институте. Результаты подтвердили ожидания летчиков и ученых. Методика признана «предпочтительной». Не будем вдаваться в тонкости, переводить с сухого профессионального языка. Лучше заглянем в зал, где начальник училища знакомит курсантов с итогами проведенного эксперимента. Погас свет, и на экране беззвучно, в чуть ускоренном темпе, как в старинном кино, замелькали кадры. Курсанты увидели себя в кабине самолета. Кислородная маска, шлемофон делают лица похожими. Во взгляде у всех — характерная сосредоточенность. Но как поразному работают и чувствуют они себя в полете! Курсанты, прошедшие обучение по старой методике, напряжены, взгляды прикованы к приборам, лишь время от времени — торопливое движение головой: посмотрел, нет ли поблизости самолетов. 70 У курсантов экспериментальной группы взгляд большую часть времени устремлен к горизонту, лица спокойные. Они «вслушиваются» в машину, внимательно и быстро осматривают всю приборную доску. Человек летит! Летит, управляя самолетом, понимая его поведение, а не подгоняет стрелки к нужным параметрам. Украдкой поглядываю в полумрак зала. Хмурит светлые брови, обдумывая что-то, старшина роты Александр Денисов. За его плечами мореходное училище, два года загранплавания, но желание летать одержало верх, и Саша начал все сначала. У Владимира Петухова в глазах напряженное внимание — его путь в небо непрост. Споткнулся однажды, был отчислен из училища, но, выдержав пробу на прочность, доказал свое право вернуться в небо. У Сергея Ромазова улыбка широкая, во все лицо, глаза сияют. Сразу видно, что он не просто верит в эксперимент, а уже живет им, как живет всем, что, по его мнению, может помочь стать испытателем... Долго еще в курсантских казармах, в столовой шли бурные обсуждения, споры. Что-то казалось ребятам не совсем понятным, хотелось больше узнать — разбуженная мысль искала решения. Новая методика, пусть в стадии эксперимента, помогала им сделать еще один шаг в небо, шаг к мастерству. ...Эксперимент продолжается. 1981 г. Время сжатых секунд Шестой день идет снег. То белыми сгустками хлестко бьет по деревьям, то оседает пушисто, пригибая ветви. Впервые в жизни так остро, так непримиримо ненавижу снег. Бесконечные лохмотья низких облаков, сырое месиво под ногами. На аэродром лучше не приезжать: снег упрямо задувает самолеты, прихватывая посадочную полосу зыбкой, кочующей пеленой. Хожу по стоянке между зачехленными «мигами». Точными, словно сглаженными очертаниями сверхзвуковые истребители похожи под брезентом на ракеты, выдаются только острые треугольники крыльев, резко скошенные назад. Самое трудное в жизни — ждать. И летчики, видя, как я потерянно брожу по аэродрому, не подтрунивают, а отводят в сторону сочувствующие глаза. Понимают. — Раз уж так получается, слетаем на тренажере, — предлагает командир полка Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков имени Ленинского комсомола полковник В. Г. Пристромко. И мы идем на тренажер, где новенькая, ни разу не хлебнувшая неба, запертая в коробке комнаты кабина загадочно поблескивает приборами. Где пахнет лаком, кожей, но нет того неповторимого привкуса резины кислородной маски и чуть приметного дыхания горячего воздуха от двигателя, без которого не мыслится полет. Командир пригибается к приборной доске и угловатые черты лица неуловимо меняются. Наверное, там, в воздухе, оно бывает именно таким, и сотни полетов не смогли стереть чувства затаенной радости, родившейся много лет назад в минуты первой встречи с небом... Человек в кожаной куртке стоял посреди цеха и неторопливо рассказывал семнадцатилетним о парашютных прыжках. О двух минутах наедине с небом, об ослепительной чистоте и необъятности распахнувшегося под ногами простора, когда хочется петь или кричать что-то победное, потому что за минуту до этого было скользкое крыло самолета, рвущий одежду властный поток ветра, И комочек страха в душе. Его надо раздавить, иначе, разрастаясь, он парализует тело, мысли и сделает тебя трусом. 71 В небе можно быть только сильным. Человек в кожаной куртке звал с собой сильных духом, и когда он сказал негромко, но четко: «Желающие — шаг вперед», Володя Пристромко шагнул. А потом началось самое трудное: не отпускали земные обязанности. Как на беду, открыли у паренька талант — острый глаз слесаря-лекальщика. Дирекция завода настаивала на том, чтобы он ехал учиться, а Володя уже не мог представить свою жизнь без парашютов и планеров, без напряженной собранности и красоты полета. Поздним вечером последний трамвай привозил ребят на окраину города, делал круг, звякал прощально и уходил, погромыхивая на стыках. Ночь дурманила запахом трав и придорожной пылью. Звезды казались нереально крупными, яркими, как ромашки на темном поле. Ребята ложились прямо у дороги, сунув под голову охапку сена, стараясь не слишком далеко забираться в траву, чтобы рано утром, проезжая на аэродром, шофер аэроклубовской машины смог их увидеть. Утро наступало неожиданно быстро. И вместе с ревом запускаемого мотора отлетали последние лоскуты сна. Небо празднично распахивало просторы, гордыми птицами кружили в нем планеры... Днем вновь рабочий блеск деталей, шум цеха. А вечером последний трамвай снова увозил в сторону аэродрома... — Что непонятно? — Пристромко отходит от тренажера, испытующе смотрит на меня. — Вопросов стало еще больше? Ничего. Вот полетаете... — Думаете, полетаю? — говорю с горьким сомнением. — Непременно. Только не надо падать духом. Для летчика это — главное, а ведь вы хотите понять летчика. Понять летчика... Нет, не завоевателя стратосферы и зазвуковых скоростей, а просто человека, которому последние дни отпуска кажутся нескончаемыми, тоскливыми, который больше всех на свете боится врача, потому что он может отстранить от полетов. Человека, для которого время на земле — ожидание, а полет — совершенно особенный отрезок жизни, по своей эмоциональной нагрузке не сравнимый ни с чем и исчисляемый совершенно другими секундами, неизвестными на земле. Низкая облачность наглухо придавила аэродром, ровные дорожки сквозь сугробы расчертили городок. Жизнь авиационного училища внешне притихла — курсанты сели за учебники. Но со стороны летного поля доносится ободряющий гул: грейдеры расчищают взлетно-посадочную полосу, тепловые машины слизывают с бетона корочку льда. Несмотря на плохую погоду, к полетам все равно готовятся, и в штабе каждый день составляется плановая таблица, а летчики-инструкторы занимаются предварительной подготовкой в надежде полетать «на себя». В один из таких дней у выпускников состоялся диспут: «Как ты представляешь свое офицерское завтра?» Курсанты готовились к диспуту старательно, но думалось, они еще настолько нечетко представляют себе это «офицерское завтра», что охотнее будут говорить о своем «курсантском сегодня». Однако разговор неожиданно зашел о романтике. Летной романтике, в которую верят не все. Говорили много, увлеченно. – Сейчас все в романтики записались. И те, кто в турпоход собирается, и кто по воскресеньям на лыжах ходит... – В первый раз летел – в приборы уткнулся. Потом на земле ахнул: а неба-то и не заметил! Во втором полете занялся романтикой, а на бароспидограмме – словно трактор проехал... – Романтика – это стойкость души. Волей заставить себя полюбить работу, которая нужна... Вспоминался недавний разговор с этими же выпускниками. Разговор о полетах, учебе, дальнейшей службе. – После окончания училища – куда? – В часть. Только в строевую часть. – А кто инструктором в училище остаться хочет? 72 Молчание... – Почему? Отвечают вразнобой, пряча глаза: – В части интереснее. Только «на себя» летаешь, а здесь... И ведь не только научить пилотировать, но еще за каждый наш промах инструктор в ответе. Трудно... Трудно. Понимают, как трудно инструктору из года в год повторять одно и то же, как трудно отвечать за них, выпуская в самостоятельный полет. Как трудно в первые годы инструкторской работы изжить собственные недостатки, зная, что они штампуются потом в каждом курсанте и исчезают нескоро. Как внимательно надо приглядеться, понять юношу еще на земле и знать, что можно ожидать от него в воздухе. Их было семеро. Семь молодых офицеров. Они жили в одном общежитии и каждый вечер собирались вместе, чтобы поделиться заботами дня. Это был первый год инструкторской работы, первые неожиданные вопросы, порой приводящие в недоумение. «Ничего не получается, — отчаивается то один инструктор, то другой,— вывозную программу закончили, и хоть бы кто уразумел!» «А ты ручку часто отбираешь? А подсказываешь много?» И начинается спор, и методы, казавшиеся идеальными, опровергаются. Кто-то высказывает свои наблюдения: «Хочешь снять скованность — отвлекай. Говори, насвистывай, снимай напряженность, от которой курсант каменеет в первых полетах...» «Рассеянных одергивай, чтобы не отвлекались. И не кричи. Ругнешь сгоряча, а он и вовсе управление бросит...» «Привычкам вредным укореняться не давай. Прилипчивые они, привычки, в воздухе от них избавиться трудно...» — Вот так все вместе и нащупывали путь. Со стороны смотреть — в каждой группе свой инструктор. А на деле за всех курсантов боролись вместе. Трудных учили сообща. — Полковник Пристромко задумчиво улыбается. Продолжает: — Но самым полезным для всех нас была школа инструкторов. Ведь как непросто молодому, вчера снявшему курсантские погоны офицеру стать наставником, воспитателем почти своих же сверстников. И хотя проходит молодой инструктор спецпрограмму, но до чего же сложно, имея за плечами небогатый налет, научить пилотировать других! Обо всех трудностях в двух словах не скажешь... Все надо прочувствовать, пережить. Действительно, как рассказать о той усталой, гордой улыбке, которая появляется на лице курсанта после первого самостоятельного вылета? Или как вместить в очерк горечь трудного слова «отчислить», когда никнет голова юноши, который с детства мечтал о небе, а сейчас что-то не понял, не сумел... Курсант был невысокий, щупленький. Мог часами сидеть в кабине, тренируясь. На занятиях готовился тщательно. Но в полете внимание рассеивалось: схватывал взглядом приборы, а земля подсовывала вдруг разом ставшие незнакомыми деревушки; теряя ориентировку, пытался разобраться в путанице дорог, речушек и разбалтывал самолет так, что приходилось отбирать управление. После полета молча выслушивал горькие слова, а потом уходил куда-нибудь подальше от сочувствующих взглядов и писал стихи. Хорошие стихи. О небе, о радости полета... Эту историю рассказал мне инструктор училища майор В. Козловцев. – Отчислили его, обидно. Так и не получилось у парня. Иногда думаю, может, и моя вина есть: недоучел что-нибудь, опыта не хватило. Возможно, сейчас все было бы иначе. Сидим в пустом классе. Вокруг – макеты самолетов. Пахнет краской, клеем — все наглядные пособия, фотостенды, схемы летчики и курсанты делают сами. – А свой первый, самый первый в жизни полет помните? – спрашиваю я. ...Сначала была тревога перед неизведанным. Ветер от винта властно срывал шлем, будоражил мысли. Привязные ремни сковывали, и Василий Козловцев чувствовал себя в 73 плену незнакомых ощущений. Чтобы не делать суматошных движений, он чуть медлил, отвечая инструктору, а мысли неслись стремительно, и где-то в подсознании тлело беспокойство. И, наконец — взлет. Машину било на неровностях, но скорость нарастала. И вот старенький По-2 оторвался от земли. Василий не уловил этот момент, только показалось, что всѐ замерло, остановилось. Движение оборвалось, остались только одуванчики облаков, игрушечно-нарядные домики в сплетении садов и неожиданно — знакомое озеро с тонкой каемкой пляжа. Крылатая тень пересекла поле, скользнула по воде, и курсант понял, что это тень их самолета. И разом все пришло в движение, заторопилось, побежало назад, потом круто развернулось, кособоча горизонт, а внизу, чуть в стороне, забелело в зелени поля посадочное «Т». — Все давалось легко. Сразу уловил это ощущение последних сантиметров на посадке, это «чуть-чуть». А может, дело даже не столько во мне, сколько — в инструкторе. Мне очень повезло. Это был удивительный человек — Василий Иванович Чекалин. После первого полета я уже не представлял себя без авиации. Он сумел привить всем нам любовь к полету, какую-то почти фанатическую привязанность к самолетам. Для этого мало быть чутким, умным. Надо еще быть... — Василий Петрович замолчал, подыскивая слово. Наверное, он хотел сказать: «Надо быть романтиком», да смутился. В тридцатые годы авиация и романтика были понятия неотделимые. Позже стали говорить о летных буднях, подчеркивая, что военная авиация — это, прежде всего, суровый труд. И сама техника уже требовала более глубоких знаний, напряженного внимания в полете. Она съедала старое представление о полете — встречный ветер рвет шлем и облачная пелена заползает в кабину, а на посадке сквозь гул мотора пробивается песня жаворонка. Понятие «романтика неба» стало казаться чем-то вроде целлофановой обертки, в которую заворачивают то, что хотят сделать конфетно-красивым, и деловые люди начали стесняться говорить на эту тему. Но ведь романтика — это совсем другое. Это свойство, настрой души. Она дается не по воскресеньям, не в праздники и приходит не в розовом наряде юности. Романтика полета. Это романтика строгая, не терпящая шумных слов и нарядных сравнений. Ей сопутствует риск — осознанный, постоянный, о котором мало говорят, но никогда не забывают. Она в умении делать то, что доступно немногим... Через несколько дней в окна брызнуло солнце. Утро морозно, легкий туман кутает низины, клочьями застревая между деревьями. А небо ослепительно чисто и прозрачно. Аэродром оживает гулом двигателей. Внешне все неторопливо, размеренно. Один за другим снимаются ярко-красные носы заглушек, и зеленые конусы проклевываются из глубины тоннелей воздухозаборников. Самолет сразу становится зрячим, зеленоглазым, оживает элеронами, рулями. Гул нарастает басисто, за хвостом МиГ-21У дрожит густое марево. Струя газов врезается в сугроб и куски спрессованного льда пухом летят за газоотбойники. Потом все стихает. Предупреждающе красные стремянки, колодки оттаскивают в стороны, и самолет медленно, как гигантская рыбина, выплывает на рулежную дорожку. – Вот так лет двадцать назад мы увидели первый реактивный. Это был еще дозвуковой МиГ-15, – майор Козловцев провожает взглядом уходящую машину. – Его огородили канатами, и мы, курсанты тогда, ходили смотреть на чудо. А какая разница между ними, чувствуете? Еще бы! В пятнадцатом что-то добродушно-цыплячье — присел на хвост, тупоносый, с темной дыркой воздухозаборника. В воздухе он верткий, маневренный, но нет стремительности сверхзвукового. – А вот и наша спарка. Садитесь, присматривайтесь. В первый момент чувствуешь себя прикованной к сгустку металла, электроники и горючки. Истребитель кажется чужим. 74 Техник самолета старший лейтенант Н. Елохов в последний раз обегает взглядом кабину, трогает, проверяя, замок парашюта. Но вот знакомо и четко звучит: «Запуск разрешаю!» — и все отодвигается, уходит. Остается время сжатых секунд, напряженная собранность, нацеленная только на полет. Медленно скользит вперед рычаг управления двигателем, стрелки приборов вздрагивают. Теперь самолет уже не кажется сгустком металла, электроники и горючки. В нем что-то оживает, появляется свой, только этой машине свойственный характер. Ее можно любить, бояться, только равнодушной она не оставит никого. Легкий щелчок, голос инструктора по СПУ: – Взлетаем на форсаже. Обратите внимание на угол набора. Взлет на форсаже поражает молниеносной нацеленностью. Черно-белые пятна земли, клочья облаков, даже мысли — все, отставая, соскальзывает назад, в памяти фиксируется только ощущение броска, властность движения. Каждая клеточка тела наливается тяжестью, а синева, захлестывая кабину, высвечивает каждую деталь. Никогда не видела, чтобы стрелка высотомера вращалась так неправдоподобно быстро. Две тысячи, три... А вроде только сейчас с легким толчком были убраны шасси, секунду назад в глаза метнулись серые плиты бетона. Даже с земли, видя, как круто врезается машина в небо, трудно представить себе эту неумолимость движения. Самолет вписывается в вираж, и перегрузка настойчиво вжимает плечи, вяжет руки, стягивает кислородную маску; она делает полет объемнее, как будто пишешь с нажимом. Земля на такой высоте перестает восприниматься, как что-то твердое. Иногда, в секунды перевернутого полета, когда не успевают еще налиться кровью виски и тело почти не ощущает отрицательной перегрузки, земля кажется бесконечно далекой, как небо. По крайней мере, синева становится ближе, чем ретушь лесов, дорог, строений. И только когда сбоку в стекло фонаря среди сумятицы неба и земли впечатывается знакомый прямоугольник аэродрома — жирная прямая взлетно-посадочной полосы и перекрестие рулежных дорожек, только тогда властно и жестко земля напоминает о себе. И хочется уйти от нее подальше. Сверхзвук... Этого ждешь. Удара, тишины — чего угодно, но ждешь барьера, который надо преодолеть. А его – нет. Только еле заметно дрогнут стрелки приборов, чуть изменится гул двигателя и своеобразный звук pacсекаемого потока. Воздух словно становится плотнее, гуще, он уже не скользит, а течет. Теперь не скажешь, что самолет летит — он вонзается в небо. Полет в зону, полет на разгон... Все время рядом, неотделимо — инструктор. Он поясняет, нацеливает, словно ведет за руку по лабиринту незнакомых ощущений, заостряет внимание, предупреждая срыв... Много лет он ведет по нелегкой воздушной дороге курсантов, повторяя одно и то же и каждый раз переживая все с ними заново. Дублируя и не мешая, чувствуя по поведению машины характер курсанта, его настроение. Каждый раз одно и то же и каждый раз по-новому. Наверное, в этом и заключается талант инструктора — в стандартности слов сохранить неповторимость подхода. ... Девятнадцать тысяч метров... Здесь все по-другому. Темная синева густого, незнакомого неба плотно придавливает кабину, словно всасывает самолет в себя. Почему-то становится тревожно, будто коснулись мира незнакомой планеты. Торопливые блики стекла фонаря, муаровый блеск щитка гермошлема — все настораживает, подчеркивая пустоту, непонятно волнует. Все словно напоминает, что здесь стратосфера, полсотни градусов холода и — одиночество. И вдруг среди неровных бликов стекол тонкой скобочкой заблестел месяц. Темнота неба высветила его неожиданно и дерзко, бросила навстречу — желтый, привычный, такой земной... Разом небо становится знакомым, только прихваченным сумерками. И уже не кажется странным, что эти сумерки наступили днем, что над головой в зените блекло проступают звезды, а до земли — километры пути... О том, что Козловцев награжден орденом Красной Звезды, узнала почти случайно и, конечно, не от него самого. В наградном листе сказано коротко и сухо: за отличные показатели в боевой, теоретической подготовке и успешное освоение сложной техники. 75 Начинаю расспрашивать о трудностях первых полетов на сверхзвуковом истребителе, но в рассказах Василия Петровича все получается просто. — Ничего особенного... Правда, первое время удивляла непривычно большая посадочная скорость. По вечерам собирались все вместе, разбирали, у кого, что не получается... Повнимательнее приходилось быть, конечно. А то, что переучиваться пришлось без спарки, сразу на боевой, что уверенность почувствовал уже во втором полете, что потом, приехав в училище, помогал другим летчикам-инструкторам, – все это казалось Василию Петровичу само собой разумеющимся. Наверное, мне так и не удалось бы понять до конца инструктора майора Козловцева, если бы не учебный воздушный бой — преследование. ...Взлет парой, набор высоты. Самолет командира эскадрильи Картавого слева, чуть выше нас. Еще немного – он отвалит в сторону. Тогда малейшая оплошность и – его уже не найдешь: скорости настолько велики, что секунда промедления обернется километрами, легкая дымка ляжет непробиваемой завесой, торопливый блеск стекол запутает, обманет, уведет. Попробуй потом в безбрежности неба поймать верткую стрелу истребителя. Так вот вы какой, майор Козловцев! Нет, это не азарт боя и не попытка поддержать темп, навязанный командиром. Ведь просто преследование – это обреченность на поражение. А вот так цепко схватить взглядом ускользающую цель, почувствовать истребитель, как собственное тело, которым управляешь рефлекторно, не задумываясь, но осознавая каждый штрих движения. Почти забывая о приборах, чутко впитывая каждую ноту в шуме двигателя, легкую дрожь машины, потому что ничего сейчас не будет случайным, и вести самолет надо по тонкой тропе ограничений, рядом с которой идет срыв... Нельзя попасть в спутную струю от впереди идущего самолета, потому что она сорвет поток с плоскостей, и может опрокинуть, швырнуть к земле. Надо предугадать, почувствовать маневр, подсказанный логикой преследуемого. Там, на земле, в размеренной обстановке училищных будней, трудно было угадать в инструкторе такую быстроту реакции, темперамент, бойцовские качества характера. Командир Картавый был трудным противником. Вот он, резко сбросив обороты, подзавис, надеясь, что мы с ходу проскочим мимо, и тогда он, зайдя в хвост, отстреляет ленту кинокадров. Но нет, наш истребитель сразу ощетинился тормозными щитками, гася скорость. А командир уже скользнул в вираже влево, и белый след метнулся за ним. Наверное, с земли это выглядело красиво, две строго параллельные белоснежные полосы пробороздили небо. А здесь — напряженное внимание, глаза, впившиеся в темный клинышек преследуемого самолета. Сейчас в глубоком вираже истребитель «противника» развернулся от нас плоско, подставляя живот с наплывами убранных шасси. Солнце мазнуло их и точно расплавило — лучи врезались в наш фонарь... Разом пропал горизонт, земля, небо, осталось одно ослепительное жаркое марево. Резанула тревога: «Ушел?» Но в следующее мгновение накрыло тенью. Я не успела схватить долю секунды, когда самолет выскользнул из переворота, только увидела там же, в левом углу фонаря, рядом с металлическим ободом, стрелу командирского истребителя. — Где ты? — Иду за вами, командир. — Пристраивайся. На точку. — Вас понял. Прямоугольник аэродрома лег под крыло неожиданно буднично. Показалось странным, что во время «боя», вписывая в небо сложное сплетение пилотажных фигур на скоростях, близких к трансзвуковым, ни один из самолетов не выскользнул из отведенной им зоны, и аэродром готовно лег под крыло. — Тяжеленько пришлось, — Козловцев стягивает шлемофон, проводит рукой по волосам. — Задал нам командир жару. 76 Ну, ясно, скромен, как всегда. Наверное, и самому не приходит в голову, что «масло» в командирский «жар» подливала неотступность преследования. Попробуйте сказать кому-нибудь из летчиков-инструкторов, что они — романтики. Улыбнутся иронично, ответят: «А вы приезжайте к нам летом, когда солнце плавит раскаленный бетон, когда кабина кажется топкой, когда уже после второй заправки высотный костюм пропитывается потом, а надо сделать пять полетов, и вечером падаешь на кровать с одной мыслью: «Спать, спать...» Но сна нет, потому что голову сверлит: «Почему у курсанта не получается вираж, почему на посадке крен, почему, почему?..» А утром все сначала и надо зажать нервы в кулак. Подежурьте на командном пункте, когда в воздухе до десятка самолетов, а руководитель полетов должен помнить все зоны, задания, позывные и в любой момент зримо представлять траекторию их полета. А сажать учебно-боевой истребитель со второй кабины, где на долю инструктора остается лишь крохотный просвет впереди — полоса чуть видна...» Пройдут годы, и кто-нибудь из курсантов, вспоминая училище, скажет задумчиво, с легкой завистью к самому себе — двадцатилетнему: — Какое время было! И мне просто повезло. У меня был замечательный инструктор. 1971 г. Становление «Вряд ли вы помните меня. Стоял в общей массе курсантов, что-то вставлял в разговор, но больше слушал. Единственное, чем, быть может, отличался, так это тем, что был сержантом». Нет, я помню невысокого, крепкого паренька с сосредоточенными серыми глазами — Сашу Денисова. Рядом с ним стояли по-мальчишески еще хрупкий Шура Ермаков, статный Юра Савенков, Саша Козлов, Талостан Мамхегов, Павел Кордюков — курсантывторокурсники Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков. Помню я и этот разговор на аэродроме, возникший случайно, естественно, помню пытливые, чуть недоверчивые глаза курсантов. А с Сережей Ромазовым мы встретились на плацу, вечером. Из темноты и пронизывающего ветра возникла вдруг высокая фигура. «Извините, это Вы написали сборник очерков о летчиках «Время сжатых секунд»? — в голосе откровенная радость. — Сам я из Мурманска, а книгу в Новороссийске купил — бывает же так! Прочел и вот теперь летаю. На третьем курсе уже». Вместе с курсантом-выпускником Володей Капустиным «поднимались» в барокамере: без этой процедуры медики к высотным полетам не допускают. А с Павлом Кругляковым, Игорем Тимофеевым, Игорем Жарко и другими первокурсниками познакомилась годом позже, вновь приехав в училище. Сколько разговоров, памятных встреч, рассказов! Потом были письма, много писем, но ответила на каждое и помню почти все. Есть письма короткие. Вопрос — ответ, не завязался доверительный разговор. Есть десятки писем, в которых душа и мысли, годы мужания юношей, связавших свою судьбу с небом, военной авиацией и упорно идущих сложным, небезопасным путем к своей мечте. Разные почерки, манера писать, умение изложить свои чувства, но все — исповедь. И как непросто из тысяч строк выбрать те, что в своей индивидуальности отражают общее: настроение, атмосферу училищных будней, радости и неудачи, ошибки и победы. «Распорядок дня у нас четкий. И никаких поблажек. Делаем дело. Это частица того, о чем мечтал, поступая в военное училище». 77 «Не знаю, что делать: ребята такие разные, коллектив не складывается, не могу найти себя в нем. В школе меня уважали, а тут... И посоветоваться не с кем. Только не подумайте, что пал духом». «Подсознательно понимаешь, что недозволенного делать нельзя, что надо думать о последствиях. Но ты живешь среди товарищей, и им будет обидно, если не поддержишь их, не будешь, как все... Знаю, что это чувство ложного товарищества, но как победить его в себе и других?» «Есть хлопцы, которые накуролесят, а потом ноют, всем недовольны и не замечают, что товарищи осуждают их. Да, бывает тяжело и частенько. Но ведь должна быть и стойкость». «Ребята высказываются, что надо бы еще до прихода в училище помочь неопытному гражданскому парню сориентироваться — что к чему, а главное — проверить способность летать. Тут не обойтись без ДОСААФ, и своеобразная психофизиологическая подготовка нужна — это я по себе знаю». «Я летчиком с детства мечтал стать, но так получилось, что сначала окончил мореходное училище, больше года плавал. А там – и возраст на пределе. Куда только ни писал, чтобы в летное приняли... Авиация! Когда говоришь о ней, то все слова с больших букв писать хочется. Вот и не могу смотреть на проявление неряшливости, на тех, кто за чужие спины прячется. И когда ленятся, на другого свою работу сваливают — мне дико. Не было на флоте такого. Самым страшным оскорблением было слово «сачок». Что делать старшине, если кто-то из курсантов волынит в работе? Беседовал с такими, внушал и даже наказывал. Видел лица недовольные, чужие, словно грань между тобой и строем пролегла. А ведь я такой же курсант! Но сейчас все чаще из строя трезвые голоса слышу в свою поддержку. Радостно, коллектив крепнет». «До училища у нас уже появилась какая-то определенность в характере, убеждениях. В глубине души укоренилась вера в себя. Все наши ровесники на гражданке в нашем возрасте уже стоят на ногах — студенты, рабочие. Их считают взрослыми людьми, уважают. С нами же подчас нянчатся. Люблю, когда со мной разговаривают серьезно, прямо, в таких случаях всегда тянет на откровение. Нас, с одной стороны, излишне опекают и в то же время требуют самостоятельности, умения творчески мыслить — без этого хорошо летать не будешь». «Первый ознакомительный полет прошел у меня неважно. Август, жара за тридцать, в кабине — пекло. Взлетали — было еще ничего, а когда вошли в зону и инструктор начал выполнять фигуры, простые, меня замутило. Когда шли обратно, я тоскливо смотрел на землю, со злостью утирал пот и думал: «Какого черта я сюда полез, что здесь хорошего?» Но день за днем влюблялся в небо все больше. Не знаю, что делал бы сейчас без авиации. Многое потеряли те, кто не водит самолет... До чего же хорошо, открутив пилотаж в зоне, идти домой. И когда из-за горки в сумерках покажутся, приветливо мигая, огни аэродрома, то становится так приятно. А как прекрасно, когда всей гурьбой идешь после полетов в казарму. Все рассказывают что-то, размахивают шлемофонами, смеются». «Вначале никак не мог привыкнуть к машине, чувствовал себя чужим в ней. В полете, казалось, управляю не я, а она несет меня, куда захочет. И если бы не инструктор...» «Уверен, что полечу сам, но все же гложет мысль — могут списать из-за вчерашнего «аттракциона». Инструктор говорит, что после полетов со мной у него появляются нервнопаралитические движения и необычайная любовь к жизни». «Долго не получалось, уже отчаялся. Но вот инструктор сказал: «Завтра на выпуск». У меня даже в груди похолодело, но вида не подал — сыграло самолюбие. Слетал с проверяющим, чувствую — неважно, мог бы лучше, но к самостоятельному полету допустили. Прошел контроль готовности, машинально сел в самолет. Во рту сухо. Все делал автоматически. Взлетел хорошо и только тут понял — я один! Посмотрел назад — пусто. Засмеялся, закричал что-то, потом запел. Сделал змейку. Ручку управления на себя — вдавило, от себя — стукнуло головой о фонарь. Это немного охладило пыл... Третий разворот. Чуть-чуть прозевал с выпуском шасси. В животе ѐкнуло — надо садиться... Четвертый разворот. Расчет хороший. Высота сто пятьдесят... тридцать метров... Взгляд 78 влево, выравниваю на метре. И тут не выдержал, дернулся... Самолет взмыл, но я тут же взял себя в руки, посадил, срулил с полосы. Вылез из самолета весь мокрый, но счастливый. С этого момента понял: хочу летать по-настоящему, летать долго. Позже отец — он летчик — сказал мне: «У тебя начинается новая жизнь. Смотри не зазнавайся. Небо не прощает самоуверенности». «После полетов с особой остротой чувствуешь то, на что раньше и внимания не обращал, считал обыкновенным». «Как хорошо, что я получил Ваше письмо. На душе — тяжелый камень, а в голове, как говорится, одному богу известно. Внешне спокоен. Все анализирую свои действия и никак не могу понять, как же так могло произойти? В долю секунды руки сработали быстрее, чем мозг, и вот — серьезная предпосылка к летному происшествию. Командир говорит, что летчика из меня не выйдет. Наверное, подаст на отчисление. Стыд, что не справился с самолетом, сознание вины перед инструктором давит больше всего...» «Не отчислили, но от полетов на время отстранили. Сейчас заправляю топливом самолеты. Сегодня видимость ухудшилась, полеты прекратили. Я сел в кабину и так захотелось летать — ужас! Посмотрел на приборы, прикоснулся к ручке управления и взглянул вдаль, туда, где среди туч светило солнце и горизонт растворялся в небе. Нет, только летать! На чем угодно, лишь бы у этого аппарата были крылья и намек на то, что он может оторваться от земли». «Ряд неудач заставил меня внимательнее наблюдать за своими действиями на земле и в воздухе. Стараюсь быть собраннее. Правда, на многих разборах приходится быть «ванькойвстанькой», но я не обижаюсь: ведь я же только учусь. Перед каждым полетом, как вы советовали, мысленно придираюсь к себе. Продумываю, что сделал и что собираюсь. Помогает». «Даже не знаю, как благодарить Вас и своих товарищей, за то, что поручились за меня. Командир согласился оставить меня в училище и даже в своей эскадрилье. Сказал, что я выпущусь со всеми, если поднажму на учебу». «Ваше письмо я дал прочитать ребятам, и многих оно заставило задуматься. Очень жаль, что Вы не появились у нас на первом курсе, когда все варится, растет, жалится, но когда начинаются и первые ошибки. Тогда-то и надо воспитывать ответственность за свои действия. Армия на то и армия, чтобы в ней устанавливались строгие законы, определенные уставом, — это школа закалки мужества, твердости характера. Но в то же время нельзя жить однообразной, монотонной жизнью — на первых курсах, после гражданки, это особенно тяжело. Ведь человек создан, чтобы творить, мыслить, без этого хорошего летчика не получится». «Пришли в зону, а там — мощная кучевка. Огромные столбы облаков в форме наковален. Вокруг мрачная тишина, а ты летишь между этими исполинами, такой маленький, хрупкий. Вчера летали с командиром звена. Пробили первый слой облачности, а там еще один, плотнее. Идем между ними, как в коридоре, а впереди — серая мгла. И так хорошо в теплой кабине, словно дома в непогоду. Потом начали попадаться небольшие горки из облаков. Когда такая горка несется на тебя, и ты в нее врезаешься с размаху — дух захватывает... Вдруг блеснуло солнце, и тень от самолета легла на облака, а вокруг тени — радужные кольца всех цветов. Я чуть не завопил от восторга. Накренил самолет так, что стали видны облака внизу, как сбитая перина, — ложись и спи. В такие минуты становится жаль тех, кто не видит всего этого. Что можно рассмотреть в иллюминатор пассажирского лайнера? Другое дело, когда ты один на один с небом». «Контрольные полеты выполнял с инструктором Назаровым. С ним хорошо летать: сдержанный, машиной управляет смело, есть чему поучиться. И анализирует полеты замечательно. Каждый раз спорим, уточняем, появляется интерес ко всему. Обычно разбор полетов заканчивается тем, что мы всем экипажем зарываемся в учебники, инструкции, графики». 79 «Пытаюсь, в меру своих знаний, оценить подготовку строевого летчика и инструктора. Конечно, задачи у каждого разные, но мне кажется, что инструктор сильнее — ведь основное, это все же техника пилотирования. Если она на высоком уровне, то можно без затруднений освоить и боевое применение. А если нет теоретической подготовки, то и летная программа будет идти наперекосяк. Так что, двигаясь вперед, нельзя забывать «азов» летной подготовки, а инструктор всегда связан с «азами». «Думаю, что не каждый летчик сможет и даже достоин стать инструктором... Расспрашивал о специфике работы летчиков-инструкторов и летчиков строевых частей. Сделал массу выводов и принял единственное решение: остаться инструктором». «Мне кажется, что с нами слишком уж нянчатся. С момента выполнения четвертого разворота руководитель полетов не прекращает подсказывать, причем иногда с запозданием и при любом качестве посадки. И таким взволнованным голосом!.. Это отвлекает, мешает самостоятельности». «Изматываемся мы сейчас предостаточно. Сложный пилотаж, напряженные полеты. Весь день под безжалостным солнцем. Комбинезон не просыхает от пота. И даже при этой изнурительной работе любовь к небу, полетам не остывает. Приезжайте к нам на летние госэкзамены или на выпуск». «Перед госэкзаменами нас пришли поздравлять октябрята. Такие маленькие. Спели песню, потом стихи читали. Когда вылетал на пилотаж с проверяющим, то все махали нам вслед. Потом — полет на боевом, по заданию. На участке обнаружения попал в облака. Два зачетных пуска. Общая оценка — пять. Кстати, у меня будет диплом с отличием». «На выпуске были мои папа и мама. Все шло очень торжественно. Мама сказала, что, когда мы прощались со знаменем училища, то у нее мурашки по телу бежали, многие родители плакали». «Трудно передать чувство, с каким ехал в полк, в новый коллектив. Волновался, как примут, какие командиры? И почувствовал, что нужен здесь, что меня ждали. Непривычно, что у меня в подчинении люди значительно старше по возрасту и званию. И что необычным показалось — это доверие». «Первые месяцы еще чувствовал себя курсантом. Привык, что в училище инструктор контролировал, а тут все сам... Один раз понебрежничал, подвел командира звена. Он не ругал, просто посмотрел на меня и спросил: «Ну, как же ты?» Я готов был в землю закопаться». «Когда первый раз увидел себя в боевом расчете, то даже холодок побежал по спине, такую почувствовал ответственность. Как-то трудно свыкнуться с мыслью, что уже не курсант, что отвечаешь за многое — за технику, за людей, которые мне подчинены, за нашу Землю». «В первом отпуске встретился с Володей Замятиным. Он с таким вдохновением рассказывал о своих курсантах, о своей жизни, что у меня невольно вырвалось: «И в строевую часть больше не хочешь?» Он ответил, что доволен инструкторской работой и не согласился бы уйти от своих учеников. Удивительно, но даже те, кто не хотел быть инструктором, с увлечением рассказывают о своих первых курсантах, и не верится, что когда-то некоторые из них даже плакали, узнав, что остаются инструкторами». «Когда я узнал, что остаюсь инструктором, то очень переживал: готовился в строевую часть, а все надежды рухнули... Но вскоре начались интенсивные тренировочные полеты, о каких мы и не мечтали, и за короткое время нас подготовили во всех отношениях. Потом приехали курсанты первого курса, мне дали в экипаж четыре человека. Только в первых полетах я понял, какой это труд, какая ответственность ложится на плечи летчика-инструктора. Ведь в его руках судьба Юношей, которые еще понятия не имеют, что такое самолет и сам полет. И как должен подойти к первым полетам летчикинструктор, чтобы курсанты не разочаровались в выборе своей профессии. И как должен быть строг инструктор сам к себе, являясь для курсантов примером... Мне было как-то не по 80 себе, когда курсанты начали подражать моим привычкам, пришлось срочно искоренять вредные. К каждому курсанту нужен свой подход: одному надо объяснять все спокойным голосом, иначе он замкнется и полет пройдет даром, а другого, наоборот, чтобы вывести из оцепенения, приходится ругать. Инструктор — это еще и психолог. Самым незабываемым для меня останется первый самостоятельный вылет моего первого курсанта. Я очень волновался и ночью почти не спал, ведь это экзамен не только ему, но и мне — инструктору. Слетал курсант на отлично и с проверяющим, и самостоятельно. Все курсанты моей группы вылетели и закончили программу без летных происшествий и предпосылок к ним». «Много ли рассказываю жене? Она многое знает сама. Хорошо, что наши командиры приглашают жен пилотов на аэродром, показывают самолеты, и женщины в динамике ощущают нашу работу. И о неудачах рассказываю, от нее ведь не скроешь, сразу определит, с каким настроением из полетов возвращаюсь». «Жениться не тороплюсь, подпускать к сердцу девчат не хочу: это будет отвлекать от главного дела. Да, честно говоря, теперь не верю в постоянство девушек... Верю в свои силы и в настоящих друзей, на которых можно положиться. Они у меня есть». «До этой удивительной встречи смысл жизни моей ограничивался небом. В воздухе чувствуешь себя счастливым. Но возвращаешься на землю и если знаешь, что тебя любят и ждут, что нужен кому-то, охватывает чувство земного счастья и усталость сглаживается». «Жизнь военного — кочевая, неспокойная. Тут и от жены требуется мужество. Жаль, что в училище на эту тему с нами разговора почти не вели». Письма, письма... Как дороги мне они и их авторы — курсанты, а ныне офицеры, защитники воздушных рубежей нашей страны. Не могу быть единоличной владелицей этих мыслей, чувств, откровений и не поделиться с теми, кто еще на распутье: кем стать, чему отдать свои силы, способности, жизнь? Такие откровения заставляют задуматься о многом. Недаром летчики любят повторять фразу, когда-то сказанную опытным и мудрым человеком: «В авиацию приходят фанатики. Но остаются трудяги». (В очерке использованы выдержки из писем недавних курсантов Армавирского высшего военного авиационного ордена Красного Знамени училища лѐтчиков, а ныне офицеров ВВС СССР Александра Денисова, Сергея Ромазова, Александра Ермакова, Александра Козлова, Владимира Капустина, Павла Кордюкова, Талостана Мамхегова и других). 1984 г 81 Призвание — инструктор «Возможно, я не сумел бы остаться в авиации, будь у меня другой инструктор. Благодарен ему на всю жизнь». Лѐтчик 1-го класса В.Иванцов. «Мой бывший курсант крупный сейчас авиационный командир. Я до сих пор получаю от него поздравления с праздником». Подполковник А.Белов. «Кто хочет стать инструктором?» – этот вопрос я задаю курсантам лѐтных училищ. В ответ – молчание. Одни смущѐнно отводят глаза, во взгляде других – настороженность. Смотрю на ребят, а в памяти всплывает моѐ знакомство много лет назад с инструктором Черниговского училища майором В.П. Козловцевым. Немногословный, чуть застенчивый, предельно скромный. Но стоило начать расспрашивать о его питомцах, и Василий Петрович преображался: менялся даже тембр голоса и глаза светились. Недавно я написала ему, что познакомилась с его бывшими курсантами – ныне лѐтчиками-испытателями, и от Козловцева пришѐл взволнованный ответ: «... есть и моя частица в их становлении. Много выпустили мы питомцев, они по всей стране, в разных организациях, и даже среди космонавтов». Работа летчика-инструктора всегда казалась мне немножечко чудом. Мальчишек еще только со школьной скамьи, только вырвавшихся из-под родительской опеки, еще не осознавших до конца серьезности своего выбора, таких мальчишек инструктор должен научить сложному и рискованному делу, требующему не только летных способностей, но и высокого самосознания. Перелистываю страницы записной книжки, вспоминаю беседы с летчикамиинструкторами Ейского высшего военного авиационного ордена Ленина училища летчиков лейтенантами А. Гороховским и В. Кулагой, старшим лейтенантом Ю. Сусловым, капитаном В. Кузнецовым, майорами В. Лисом и В. Кривцовым. «Из года в год — один и тот же «круг», до мелочей изученный район полетов, одни и те же упражнения, задачи...» «Все одинаково и в то же время — разное, потому что как не бывает двух одинаковых полетов, так нет и одинаковых курсантов». «Один с лѐта схватывает, другой — тугодум. С одним построже надо, на другого прикрикнешь — он и ручку управления бросит...» «Инициативу курсанта в полете нельзя подавлять. Ее надо организовывать, тогда не будет нарушений в воздухе...» «У них обостренное чувство справедливости. Разговор на любую тему должен быть помужски жестким, но не затрагивающим юношеского самолюбия...» «Мужество – неотъемлемое качество летчика, его надо воспитать, сделать чертой характера». Разный педагогический опыт, неодинаковая степень летного мастерства, индивидуальность характеров, взглядов. Общее одно: стремление проникнуть в психику курсантов, понять причины неудач, найти подход. Нет, летная жизнь движется для них не по замкнутому кругу, а по восходящей спирали, шаг которой определяется степенью педагогического и летного мастерства, творческого вдохновения и удовлетворенностью плодами своего труда. Передо мной лежит письмо курсанта: «...Сразу же не сработался с инструктором. Он кричал — я терялся. В воздухе он дергал ручку управления — полет у меня не получался. Я сказал ему, что в такой обстановке работать не могу. Он назвал меня хлюпиком...» Но у этого же молодого инструктора остальные курсанты летают нормально, а юноша, написавший это письмо, вылетел самостоятельно у другого инструктора с хорошей оценкой. 82 Так что же это — психологическая несовместимость или отсутствие у инструктора педагогических навыков? Что считать главенствующим в отношениях — дисциплинированность ученика или умный, тактичный подход учителя? По какому принципу надо подбирать инструкторский состав — не в теоретическом идеале, а в реальных, жизненных условиях, отдавая предпочтение профессиональным или личностным качествам? Что следует предпринять, чтобы, будучи в стенах училища, юноша загорелся мечтой стать в будущем наставником тех, кто в это время, может быть, еще только начинает ходить по земле, уцепившись за мамину руку? Когда курсант приходит в училище, он не представляет себе конкретно работы военного летчика, но морально уже подготовил себя. О работе инструктора, хотя она проходит перед его глазами, глубоко не задумывается, а то, с чем сталкивается в процессе обучения, выглядит слишком буднично. В дружных, умных семьях взрослые никогда не обсуждают проблем, которые непосильны для ума и психики подростка. Курсант в авиации — это тоже ребенок, его еще только учат «ходить» в небе. Но руководит его поступками уже не детская непосредственность. И хотя взгляды формируются еще подсознательно, он уже пытается самостоятельно оценить все сложные жизненные позиции, плюсы и минусы будущей профессии. Рассуждения его, порой излишне материализованные, основываются, как правило, не на глубоком анализе, а на поверхностных, внешних впечатлениях. И когда он видит, как после пяти-шести сложных полетов с курсантами инструктор вылезает из кабины мокрый от пота, и, горбясь от усталости, идет в стартовый домик, на ходу разъясняя и показывая еще что-то, сложное чувство уважения и сочувствия охватывает юношу. А если инструктор, небрежно стянув шлемофон, говорит с досадой: «Неблагодарная работа. В строевой части проще и во сто крат интереснее: новые типы самолетов, продвижение по должности, а тут просидишь инструктором до списания с летной работы...», — то горечь слов, вырвавшихся в порыве откровения, сгущает теневые стороны инструкторской работы, стирает чувство признательности. Омрачается то, что родилось в курсанте в минуты, когда он, зарулив после первого самостоятельного полета и еще не успев открыть фонарь, отыскивал благодарным взглядом своего инструктора и ловил его радостную, все понимающую улыбку... «Если бы вам предложили перейти в строевую часть, ушли бы вы из училища?» — спрашивала я летчиков-инструкторов разных училищ. «Конечно», — без колебания отвечали те, кто помоложе. «Даже не знаю... — в неуверенности более опытные, — поздно уже». Но никто из инструкторов не произнес категоричное «нет». Так как же привить вкус к педагогике, поднять престижность инструкторской работы, чтобы должность эта и призвание, необоснованно заземленные, заняли достойное место среди военных специальностей? Этот вопрос я задавала летчикам-инструкторам, командирам, психологам, «Нужно материальное стимулирование», — утверждают одни. «Но престижность высочайшей квалификации, понимание необходимости и значимости самой работы — это больше, чем прибавка к денежному содержанию», — возражают другие. ... Не каждый хороший летчик может стать инструктором. Но каждый инструктор обязан прекрасно летать — профессиональное мастерство необходимо здесь в большей степени, чем в любой земной профессии. Летчик строевой части, совершенствуя свое мастерство, летает «на себя». Мастерство летчика-инструктора обязательно: нельзя учить, не зная предмета в совершенстве, да еще в той области, где возможная цена пропущенной ошибки — жизнь. Но если летчик-инструктор — вчерашний выпускник училища и всего на два-три года старше своих курсантов, если программа его каждодневной работы настолько уплотнена, что готовиться к полетам «на себя» у него практически не хватает времени... Да и число полетов, степень их сложности не отвечают желаемому и необходимому. 83 Дело не только в безопасности полетов. Незаметное, но от этого не менее страшное явление может проникнуть в размеренные будни инструкторской работы — безразличие. Может наступить момент, когда вместо творческого горения, приносящего удовлетворение, обучение курсантов станет для инструктора утомительным ремеслом. Опыт помогает определить возможности курсанта-новичка, отработанная методика позволяет «штамповать» будущих летчиков. И тогда особенно остро возникает потребность в самосовершенствовании. Тянет к новым машинам, более сложным заданиям, к демонстрации своего мастерства в соревнованиях, показательных выступлениях. В летчике заложено желание постоянного преодоления: превзойти вчерашний уровень знаний, умения, командирских функций, ответственности, иначе в душе наступает застой и — пустота, заполнять которую приходится порой случайными делами и радостями. Но, даже отдаваясь любимому делу с самозабвением и страстью, человеку необходимо видеть результаты своей работы. В спорте рядом с именем рекордсмена всегда стоит имя его тренера. И в искусстве не забывают назвать мастерскую, педагога — музыканта, художника, актера. В летной работе, как нигде, необходима эта обратная связь. Не случайная информация о том, как служит, летает воспитанник в строевой части, а систематический анализ, с тем, чтобы инструктор, зная отдаленные плоды своего труда, мог подкорректировать свою работу. Проверить, как оправдались его личные прогнозы, а командование училища сделало соответствующие выводы. На первый взгляд, летчик-инструктор не занимается непосредственно боеготовностью. Он растит кадры, являясь как бы перевалочным пунктом, который можно проскочить и не заметить, что именно он-то и был главным. В строевой части летчик — центральная фигура, боевая единица, без него нет боеготовности, без него самолет становится просто металлом. А в училище, хотя процесс наземной и лѐтной подготовки разграничен, инструктор как бы растворяется в общей массе преподавателей, строевых командиров, курсантов. Возможно, это чисто психологический момент, но, по мнению летчиков, он сказывается на отношении к инструктору на всех инстанциях, с позиций профессиональных, моральных и материальных. Много лет в нашей стране существуют звания: заслуженного учителя, заслуженного военного летчика СССР, заслуженного летчика-испытателя СССР... Почему же нет звания заслуженного военного летчика-инструктора? Есть звание лѐтчика-снайпера, характеризующее степень боевого мастерства выше уровня первого класса. А как выделить лѐтчика-инструктора, превосходящего остальных опытом и стажем инструкторской работы? Часто ли проводятся в училищах вечера чествования и проводы инструкторов, уходящих с лѐтной работы? Как популяризируются приѐмы и методические находки? Настало время детально продумать и провести в жизнь меры стимулирования летноинструкторского состава, изменить атмосферу, стереть предубежденность, незаслуженно закрепившуюся за этой интересной и благородной профессией, таящей в себе большие возможности, чем проявляются в непосредственной работе с курсантами. Например, в годы войны инструкторы летных училищ быстрее овладевали новой техникой, тактикой и в воздушных боях действовали грамотно и хладнокровно. И в числе летчиков-испытателей много бывших инструкторов — большой налет, устойчивая техника пилотирования, на которую не действуют отвлекающие факторы, умение и потребность анализировать полет, творческий подход к заданию и огромная выдержка — качества, которые роднят эти две летные профессии. Потребность обучать, вкладывать в ученика всѐ, что узнал от других и то сокровенное, что открыл, совершенствуя, оттачивая своѐ мастерство, – это дар, прекрасный педагогический дар, и надо научиться ценить и беречь его. Стремление формировать из сырого, девственного материала, каким походит юность к мудрости, мастера дела, которому ты отдал жизнь, – в этом счастье творца. 1982 г. 84 85 Ночная атака Первой вспыхнула в вечернем небе Венера. Робко затеплилась еще одна звезда. Полоса заката словно впитала в себя все краски и пылает желто-голубым по горизонту. Взлетно-посадочные огни вяло пробивают сумерки. Сгусток форсажного пламени бледным штрихом проносится за истребителем, а с высоты командно-диспетчерского пункта кажется, будто чиркнули по бетону спичкой. Руководитель полетов Александр Иванович Торбуков, разгладив ладонью плановую таблицу, скользнул взглядом по условным знакам летного задания. Сейчас за майором Антонец, ушедшим по маршруту, взлетят перехватчики. – Двести шестьдесят первый, разрешите взлет. – Взлет разрешаю. Отход с курсом сто двадцать, набор высоты до десяти тысяч. – Понял. Курс сто двадцать с набором десять. Голос молодой, в нем еще не стерлось нетерпение порыва, сотни взлетов не стали привычными, и в каждом задании — открытия. Кабина истребителя МиГ-21М тлеет красными надписями, подсветкой приборов. Розовый отблеск тревожно мерцает на плексигласе фонаря, выписывая странный ореол, который словно отсекает деловую суету аэродрома. И только три зеленых глаза сигнализации выпущенных шасси напоминают, что машина еще принадлежит земле. Но секунда — и плавно навалится ускорение, самолет вонзится будто не в воздух, а в жидкую, сопротивляющуюся среду, рев двигателя, ускользая, отстанет, притушится. Метнется вниз светящаяся лента горизонта — самолет уйдет в ночь, и небо придвинет к нему звезды, а темнота, постепенно сгущаясь, зажмет живой мирок кабины в настороженные тиски... Легкий толчок — истребитель словно спотыкается. Оборвав форсаж, медленно ползет назад рычаг управления двигателем. Глубокий крен — и, окольцованный виражом, вспыхивает в тысячеметровой пропасти город. Так сверкает в пучке света брошенный в черную воду осколок льда. На мгновение красота ночи гипнотизирует. Темная синева снегов, вливаясь в небо, кажется продолжением его, огни селений — как звезды. Перестает ощущаться крен... Цепко схватить взглядом невозмутимо застывшую под углом линию авиагоризонта, почувствовать, как привычно воспринимает тело дрожание самолета... Майор Торбуков нахмурился, отгоняя воспоминания. — Двести шестьдесят первый, форсаж. — Выполняю. Теперь за истребителем следит командный пункт. В полумраке кабины офицера боевого управления — диски экранов локаторов, вобравших в себя лунный свет, мелькание бегущего по окружности луча, рваные засветки от облаков и то исчезающие, то вспыхивающие вновь черточки самолетов, к которым прикован внимательный взгляд. Истребитель и командный пункт — неотделимы, они как мозг и руки, выполняющие одно осмысленное движение. – Высота десять тысяч. Цель – слева, дальность восемнадцать. – Понял. Цель вижу! Цель... То угасая, то наливаясь светом, когда луч обзора захватывает ее, цель ползет по экрану индикатора почти неуловимо для глаза. Чуть в стороне — идущий на перехват истребитель. Как беспомощно медлительны они, каким примитивным выглядит маневр, как просто кажется сблизить их, схлестнуть в атаке. А в воздухе — это километры, скорости и время, поделенное на доли секунды. Прицел светится зеленовато, ровный тон рвется засветками помех, «стробы», словно клешни, осторожно тянутся к ускользающей метке — цели. 86 Сейчас все — ладонь, сжавшая барабан на рычаге управления двигателем, пальцы, чутко прихватившие монолит податливой, готовой повторить каждый штрих движения ручки управления — все подчинено взгляду, прикованному к прицелу. «Захват!» Кнопка под пальцем — и словно стирается, мертвеет поверхность. Секунда — как провал в памяти. Кажется, сейчас, ускользнув из-под контроля, «птичка» метнется за обод прицела. Внезапная вспышка, как световой щелчок, и — вздох облегчения: «Тут!» Напряжение спадает. Рано. Сейчас главное мобилизовать себя для атаки. Не отрывая взгляда от прицела, проверить памятью чувств перегрузку, скорость... Метка – в кольце. Ядовито-оранжевая лампочка вспыхивает над прицелом — пуск! Секунды. До чего же они кажутся длинными, пока ракета сходит с направляющих. Сноп искр, легкий крен — его отпарировать: захлопнув светофильтр на защитном шлеме, вжать на миг лицо в тубус прицела, иначе ослепит белым, сверлящим пламенем. Тревожный красный сигнал внезапно загорается слева от прицела, предупреждая. Он требовательно бьет в глаза черной буквой «О» — отворот! Иначе — в самое пекло... Ручку управления на себя, кажется, немного, а перегрузка распластала плечи по спинке катапультного кресла, резко сжал икры ног и живот противоперегрузочный костюм. Это как последний аккорд боя... Александр Иванович отодвинул микрофон и вдруг почувствовал, как хочется распрямить плечи, ощутить привычную тяжесть кислородной маски на лице, вдохнуть ее чуть уловимый, специфический запах, Конечно, никто не атаковал майора Антонец боевыми ракетами. Вместо них — самописцы, и фотоконтрольный прибор отщелкал положенное число кадров, фиксируя исход атаки. И ночная земля празднично светится огнями, доверчиво подставляя небу незатемненные окна городов. Желтой щелью проглядывает на западе закат, светящимся пунктиром мерцает посадочная полоса. — Двести шестьдесят первый на третьем, шасси выпустил. — Заход разрешаю. Сейчас истребитель «вплавится» в поток яркого, как дневной, света, щедро брошенный посадочными прожекторами, замелькают словно остекленевшие плиты бетонки. Руководитель полетов усмехнулся, провел ладонью по волосам: «Вот так каждый раз взлетаю и сажусь вместе с ними...» 1977 г. Языком воздушного боя Летчик-снайпер майор Басманов опустил светофильтр на защитном шлеме, скользнул взглядом по вылинявшему простору неба, земли – облака жмутся к горизонту, низкое солнце пронизывает их спицами лучей, заливая фонарь истребителя густым, почти весомым светом. В зыбком, словно колющемся обломками лучей пространстве, в беспокойных бликах на фонаре легко пропустить серые точки самолетов противника. Командный пункт молчит. Значит, на экранах локаторов чисто. Среди торопливого блеска засветок лишь метка его истребителя и чуть в стороне – самолѐта летчика первого класса капитана Ильницкого. Проходы змейкой, отвороты — воздух должен контролироваться взглядом в течение всего полета. Но если полукружие фонаря загорожено прицелом, а сзади — монолит спинки катапультного кресла, и тело сковано привязными ремнями, а защитный шлем и кислородная 87 маска делают каждое движение головы замедленными, то осмотрительность становится процессом трудоемким. Басманов положил истребитель в крен — горизонт плавно запрокинулся, притухли разводы солнца на фонаре, разом налилась прохладой зелень полей, набухли реки. И в этом насыщенном свежими тонами, словно подкрашенном мире, на фоне темного клина пахоты летчик увидел вдруг желто-зеленые стрелы камуфлированных истребителей. Они шли на «бреющем» – вот почему «молчали» локаторы – эта скрытность могла обеспечить внезапность удара. Басманов скользнул взглядом... Нет, не скользнул, а впечатал в сознание все: тип самолета — мозг безотказно, как счетно-решающее устройство, выдал характеристику маневренности, оценил вооружение: пустынность почти очистившегося от облаков неба — значит, другой ударной группы на подходе нет. А рука уже ставила на шкале баз размах плоскостей самолета, вводя фиксированную дальность стрельбы из пушек. Выиграть две, три секунды, атаковать первым, навязать свой вариант боя. Если же атака с ходу сорвется — успеть обдумать... Нет, не обдумать, осмысление — процесс слишком длительный. Здесь срабатывает своеобразный автоматизм. Вот когда доля секунды вмещает в себя часы подготовки на земле и из десятков вариантов завязок воздушного боя отщелкивается единственно нужный сейчас. «Противник»... Он тоже ищет секунды, чтобы понять задуманный маневр, сорвать его, заставить принять свою завязку боя. Две, три секунды... На земле за это время успеваешь один раз глубоко вздохнуть. — Цель слева внизу. Атакуем, — скороговоркой приказал Басманов ведомому. Теперь не существует зелени полей, лесов, темных заплат пахоты. Все — только фон, цветовые пятна, на которых то отпечатываются, то смазываются бурые разводы плоскостей. Не упустить, сблизиться, вписать в кольцо прицела... Солнце в лицо — рука на мгновение отрывается от рычага управления двигателем, защищая глаза от слепящих лучей. Неожиданно пара внизу распалась. Разорвав неизменность дистанции, ведомый «противника» пошел на косую петлю, четко, словно дразня, распластав притененные треугольники крыльев. «Разомкнуться заставить хочешь? Увести Ильницкого за собой? Не выйдет...» — Прикрой, — приказал коротко и увидел, как в зеркальце перископа сверкнул фонарь ведомого. Резкий разворот — маневр ведущего «противника» внезапен. Можно подумать, что он входит в вираж, А скорость... Басманов метнул взгляд к указателю скорости. «Мала... Хитришь, Сейчас врубишь форсаж...» Полупереворот... Перехватить «противника» в упрежденной точке — точке, которую в методическом классе рассчитывают с линейкой и карандашом... Сейчас может помочь только опыт. Перегрузка сминает тело, свинцовая тяжесть давит на позвоночник, потом будет побаливать шея. Но это потом, на земле, а сейчас надо сохранить поворот головы, удержать взгляд на темном треугольнике, не дать ему скользнуть за обод фонаря. Кислородная маска, пытаясь сползти, впивается в нос. Веки, тяжелея, прикрывают глаза, руку уже невозможно оторвать от рычага управления двигателем. И только противоперегрузочный костюм, властно сжав мускулы тела, не дает крови отхлынуть от мозга к ногам и чернотой захлестнуть глаза. Еще немного, еще... Сетка автоматического прицела вздрагивает и начинает «стекать» с отражателя — большие перегрузки словно слизывают ее, и на дымчатой поверхности стекла остаются лишь неподвижные линии. Теперь только расчет. Вот она — мысленная точка, видимая ему одному, и в ней — реально существующий самолет, перечеркнутый розовато светящимися линиями коллиматорного прицела. Вывести нос истребителя с упреждением, пальцем нащупать гашетку пушки... 88 Нет, дистанция велика. А «противник» уже перекладывает самолет в левый вираж и начинает наступательный маневр, под прикрытием в растянутом пеленге пристроившегося ведомого. Язык боя... Понимание друг друга более глубокое, чем можно выразить словами. В каждом маневре — подтекст расчета, глубина которого измеряется опытом десятков своих и сотен чужих воздушных боев. Вот когда словно появляется второе дыхание и не властны перегрузки. Работа в режимах на грани возможного вплавляется остротой чувств в сознание и нервы, перерастая в сложное состояние, которое и есть, наверное, вдохновение, и основа его — мастерство, искусство ведения ближнего маневренного боя. Четверка в небе, а кажется, что грохочет по всей окружности горизонта. Звук всплесками то взвивается на форсажах, то, опадая, глохнет. И нет закоулка, укрытия, щели, куда бы властно и грозно не проникал грохот рвущегося на куски полотна неба. Необходимость работать с наименьшими радиусами забрасывает стрелку акселерометра на цифры больших перегрузок, а с земли кажется, что четверке тесно в небе — это околозвуковые скорости растянули фигуры пилотажа. Вот истребители мелькнули темными точками, секунда — и, будто вызревая, точки наливаются формой, обрастают крыльями. Предугадать исход такого «боя», кто привезет зачетную пленку, трудно. Ведь ведущий «противника» — командир эскадрильи и тоже летчик-снайпер, а его ведомый — летчик первого класса. И машины однотипные – МиГ-21С, и вооружение обусловлено, и тактическая школа единая — ничто, на первый взгляд, не дает преимущества ни одной из пар. И все же острота ума, отточенность техники пилотирования, тактическая гибкость, умение нацелить себя на победу и «выжать» из самолета все – в совокупности решат исход боя. – Двести сорок шестой, остаток горючего? – в гомоне радиообмена запрос руководителя полетов и свой позывной – как щелчок. Басманов бросил взгляд на топливомер. – Конец боя. Пристраивайтесь, – опережает его командир эскадрильи. «Закрутились...» Басманов улыбается, мельком смотрит на секундомер. Всего пять минут прошло с того момента, когда над влажной темнотой свежевспаханного чернозема увидел по-журавлиному вытянутые носы сверхзвуковых. Пять минут... Триста трудных, наполненных жизнью и борьбой секунд. Басманов пошевелил пальцами — подкладка перчаток влажная, бязевый подшлемник — словно компресс, и спина липкая от пота. Усмехнулся: «Как правильнее называть нас — людьми умственного или физического труда?..» 1975 г. Идем на перехват Бледная синева простегана пушистыми инверсионными дорожками и, наверное, поэтому кажется пределом высоты, хотя стрелка на приборе подкралась лишь к десятикилометровой отметке. Перистые облака внизу, как матовое стекло, и в этом снежнобелом сужающемся пространстве, в острых бликах на фонаре кабины соринкой должен проскочить самолет «противника». Всматриваюсь до рези в глазах, боюсь упустить это мгновение. — Курс... Высота... — наводят на цель наш истребитель с командного пункта. Подполковник В.В.Шишков пилотирует со свойственной ему аккуратностью, каждый маневр словно выверен по лекалу. «Включить высокое.» — «Понял.» — «Цель наблюдаю.» – «Цель ваша, работайте...» — звучат в эфире голоса летчиков и офицеров боевого управления: перехватчики отражают массированный налет авиации «противника». 89 Перехват осуществляется на разных высотах — от предельно малых, где поиск «противника» ведется на многоцветном фоне полей, лесов, плоскогорий и где при резком маневре на околозвуковой скорости в нерасчетной близости может вымахнуть сопка, до стратосферы, где темно-свинцовое небо напоминает о космосе, а самолет на большой скорости слишком инертен. Первым перехватом в истории авиации можно считать тот последний воздушный бой штабс-капитана П. Н. Нестерова, в котором он таранил австрийский самолет-разведчик. С поиска, обнаружения и атаки — этих составных современного перехвата — начиналось большинство воздушных боев в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году на Ленинградском фронте, а чуть позже под Москвой, начали действовать экспериментальные радиолокационные посты обнаружения воздушного противника. К середине войны широкое распространение получили радиофицированные посты целеуказания и наведения. Но настоящим перехватчиком истребитель стал лишь тогда, когда на его борту был установлен радиолокационный прицел, позволяющий летчику «видеть» на десятки километров в любое время суток и при любых погодных условиях. Перехват требует особой собранности, педантичности, внутренней готовности к выполнению команд с земли, особой сработанности штурмана наведения и летчика. Ощутить эту сработанность можно только в полете, где все скоротечно, где любая неточность приводит к срыву атаки, которую при современных скоростях и ограниченном запасе топлива повторить порой уже невозможно. Если аэродром — это сердце, пульсирующее каждым взлетом и посадкой, то командный пункт — мозг сложнейшего, многофункционального организма. КП глазаст экранами локаторов, и слух у него отличный, и голос далеко слышен. Здесь, в центре боевого управления, собирается вся информация о движении самолетов, отсюда наводятся на воздушные цели истребители-перехватчики. Офицер боевого управления должен в динамике, в движении представлять себе всю воздушную обстановку, а за мерцающими точками на расчерченном сеткой экране чувствовать человека, который управляет перехватчиком. Сейчас наш истребитель МиГ-23УМ высвечивается на экране старшего лейтенанта Вовка ясной каплей света. Часа два назад, когда летно-тактические учения только начинались, я стояла за его спиной, поражаясь тому, как цепко, одним взглядом охватывает он весь экран, как быстро, четко говорит, поднося к губам то серый, то черный, то коричневый микрофон, передавая самолеты другим штурманам наведения или связываясь с руководителем полетов, командиром части. И чем плотнее становился поток истребителей «противника», чем больше перехватчиков поднималось в воздух, чем гуще заполнялся экран метками целей, тем напористее звучали команды — и в движениях, в голосе старшего лейтенанта появлялся боевой задор мастера... – Вот она – цель, – голос подполковника Шишкова по СПУ (самолѐтному переговорному устройству) возникает внезапно, хотя именно этих слов я жду с начала полета. – Справа... Выходим в заднюю полусферу. Самолет «противника» словно выпадает из облаков. Льдинкой тянется за ним и тут же тает белый след. Несколько секунд — и очертания истребителя становятся резче, контрастнее. Четкими импульсами отсчитывается расстояние на шкале дальности прицела. Еще немного, еще... Где та грань, до которой надо дойти, чтобы гарантировать попадание, а переступить нельзя? Ведь определяется она не только инструкциями, но и интуицией лѐтчика, основанной на таланте и мастерстве. Пуск! Секунда — и самолет «противника» соскальзывает за обод фонаря, в резком отвороте мы уходим от цели. Боеготовность и безопасность полетов — в сложном сочетании этих понятий чудится противоречие. Как научить летать на предельно малых высотах, если опасна сама близость земли? Как выиграть воздушный бой, если не подходить к пределу возможностей машины и человека? Как отработать групповую слетанность, если не доверять выдержке и умению каждого, кто идет в строю? Как поднять молодого до уровня мастера, если мастерство — это 90 не только освоение чужого опыта, но и поиск своих приемов? Высшая степень умения в авиации достигается лишь на грани точного расчета и разумного риска – об этом мне не раз говорили командиры всех рангов и званий. – Триста пятый, работу закончил, – доложил на командный пункт подполковник Шишков. Облегчения в его голосе нет: работа закончена, но не закончен полет, а значит, нельзя передохнуть, расслабиться. Впереди еще немало насыщенных действиями минут: выйти в район аэродрома, пробить облака, зайти в створ полосы, произвести посадку... Облака низкие, туманная дымка, отчетливо бетонка просматривается лишь после ближнего привода. То, что опытные летчики производят посадку в этих условиях по всем правилам летного искусства, закономерно, и, зайдя после полета на командно-диспетчерский пункт, я вижу, как истребители-перехватчики уверенно касаются полосы — прямокрылые, строгой окраски. Но вот в эфире звучит: – ...На посадочном. Крыло, шасси, закрылки полностью, — голос молодой, слегка звенящий. Всматриваюсь в плановую таблицу — старший лейтенант А. Жердецкий. МиГ-23М темным сгустком выскальзывает из белесого месива, мягко коснувшись бетона, проносится по полосе. – Заход по глиссаде – точно. Посадка – отлично, – руководитель полетов подполковник Трубчанинов отпускает кнопку микрофона, оборачивается ко мне. – Впервые при такой погоде вылетел. Способный летчик и командиром хорошим будет. Боимся только, не захвалить бы... Опасения не лишни: молодости свойственна переоценка своих сил, а в летном деле это опасно, и нужны постоянный жесткий контроль, повышенная требовательность – со способного и спрос больше. Поэтому неудивительно, что на разборе следующих, уже ночных полетов подполковник Трубчанинов выговаривает старшему лейтенанту жестче, чем остальным: – На какой высоте положено выпускать фару? С арматурой кабины надо работать безошибочно, не приглядываясь, особенно на посадке. – И, чуть прищурившись, с необидной усмешкой добавляет: – Четыре полета в смену – не утомительно ли? А то «под занавес» так приложил, что аж дым из-под колес... Современная техника с ее огромными скоростями, перегрузками требует от летчика отличной физической подготовки, крепкой нервной системы, волевых качеств. Казалось бы, в авиации должны служить люди жесткие и неэмоциональные. Но практика опровергает такой вывод, Подполковник Шишков, рассказывая о себе, очень удивил меня, признавшись, что в юности долго решал, куда пойти учиться: в институт международных отношений, институт иностранных языков или в летное училище. И выбор летной профессии покажется тем более странным, если добавить, что подполковник Шишков окончил музыкальную школу, знает три иностранных языка, обладает художественными способностями. Но вот вчера на построении было сообщено о награждении подполковника Шишкова орденом Красной Звезды за успешное освоение новой боевой техники. При всей сложности и рискованности летной работы было бы ошибочно думать, что полет – это лишь различного рода преодоление: машины, ситуаций, себя, лишь удовлетворенность сознанием своего мастерства. Полет – это еще и поразительная красота. Ночь опустилась на аэродром сотнями прильнувших к земле огней: синим пунктиром обозначилась рулежная дорожка, бело-желтым вспыхнула взлетно-посадочная полоса. Таинственно замигали карманные фонарики — техники осматривают боевые машины. Голоса людей, урчание моторов заправщиков — все приглушено, даже двигатели самолетов при запуске укрощают рев, переходя на напевный посвист. И выруливают истребители со стоянки, будто крадучись, посвечивая красными и зелеными навигационными огнями. 91 — Люблю ночной аэродром, — в голосе подполковника Антонец проскальзывает что- то доверительно-мягкое. Это так не свойственно сдержанно подтянутому командиру, что невольно замедляю шаги, пытаясь заглянуть в лицо. — Наша спарка, — Владимир Михайлович останавливается возле истребителя. — Садитесь, присматривайтесь. Пять ступенек вверх по железной стремянке, обод фонаря нависает над головой, катапультное кресло обнимает жестко и бережно. Панели тлеют цветом остывающего костра, надписи на табло, разноцветные лампочки — самоцветами. Командир стоит на стремянке возле первой кабины, смотрит, как техник помогает мне затянуться в упряжь парашютной системы. В первый момент после взлета темнота показалась сплошной. Она липла к фонарю кабины как деготь. Но вот небо засветилось: с севера — зеленоватыми тонами и вянущей желтизной, на востоке блеснула тонкая оранжевая полоска, только запад остался темен и глух. — Краски какие... Замечаете? — даже переговорное устройство не может скрыть новые оттенки в голосе командира. При первом знакомстве с подполковником я уловила его критически настороженный взгляд. На разборе полетов командир показался мне требовательным, порой крутым. На командном пункте, во время летно-тактического учения, — решительным, оперативным. А в нашем первом, тогда дневном полете в каждом движении летчика чувствовалась не только мастерская отточенность, но и внутренняя гармония. Перегрузки делали пилотаж контрастней, выпуклей — петли, горки, бочки словно обрели объемность, своеобразную плоть. Еще тогда мелькнула показавшаяся неуместной мысль: «А ведь он — лирик...» Значит, могут сочетаться в летчике бойцовские качества и тонкий лиризм. Значит, чувство прекрасного уживается с риском, оттеняя его, становясь потребностью. А может, в этом изломе чувств, в контрастах обстановки, в напряженной, постоянной работе мысли и формируется личность? Личность человека, овладевшего не просто сложнейшей профессией, а искусством летать. И не просто летать, а выполнять учебно-боевые задания и побеждать в ситуациях, ставящих человека порой на грань его психических и физических возможностей. В каждом, даже самом регламентированном полете заложены элементы творчества. Летчик творит полет в меру таланта своего и мастерства, как создают музыку, стихи, картины, но только с той разницей, что каждому фальшивому звуку, неточному штриху, пустому слову здесь цена—жизнь. 1981 г. Цельность Темные внимательные глаза, смоль волос, быстрота движений — расчетливых, несуетливых. И украинский говор, вплавивший в себя мягкую улыбку. В своем штабном кабинете, за письменным столом начальник политотдела летчик-снайпер полковник Иван Архипович Безрукавый при первом знакомстве кажется немного нерешительным, для сугубо военного человека даже излишне деликатным. Он будто все время прислушивается к собеседнику, словно опасаясь нарушить контакт, сбить с мысли. И только позже понимаешь, что за всем этим — неподдельный интерес к людям, внутренний такт, а когда надо, умение решительно, не горячась, доказать свою правоту. Летающий политработник... Если вдуматься, какие разноречивые качества должны сочетаться в этой военной профессии! 92 Летчик – это быстрота реакции, осознанный автоматизм, расчетливая, жесткая собранность, нацеленная на удар. А политработнику, пожалуй, должны быть присущи рассудительная неторопливость, спокойная принципиальность, привычка к анализу многогранных и порой непростых жизненных ситуаций. В сутках двадцать четыре часа. У летчика они рассчитаны до минуты — предварительная, предполетная подготовки, полеты, послеполетный разбор и отдых, обязательный именно потому, что он предопределяет качество выполнения последующих заданий. В небе все равны. – Фундамент политработы – земля. Здесь воспитывается в молодом летчике многое из того, что потом проявляется в мгновенном решении. Секунды атаки – это ведь не только летное умение, но и чувство долга, уверенность в справедливости дела, за которое, может быть, вот сейчас нужно отдать жизнь... «Чувство долга», «справедливость дела», «отдать жизнь»... Эти высокие, много значащие слова Иван Архипович произносит просто, естественно, как сказал бы «летать – работать – жить». – Когда был замполитом полка, все казалось проще: летчики, техники, солдаты – все на виду, с каждым можно поговорить. Тогда, пожалуй, с достаточной точностью мог сказать, кто на что способен, как поведет себя в сложной ситуации или, скажем, в настоящем воздушном бою, – Иван Архипович замолкает на мгновение, подыскивая нужное слово, – когда сам у себя как на ладони. Он неловко ерошит волосы, словно извиняясь за невольный акцент на себе. А он естественен: именно летчик лучше иных может понять состояние другого летчика, если тот с ограниченным запасом топлива заходит при минимуме погоды на посадку, или отказывает какой-то прибор, агрегат самолета. Только летчик может спросить другого летчика с жесткой требовательностью: «Как же ты так?..» Внимательно слушаю полковника, а представляется то, о чем рассказали мне недавно. Горы, стынущие под лавиной облаков, истребители-бомбардировщики на стоянке, как стрелы в колчане. Но ни один не выруливает на тетиву взлетно-посадочной полосы: погода в районе аэродрома — ниже минимума. А где-то в долине клокочет учебный бой, и бомбардировщики, взлетевшие с другого аэродрома, уже держат курс к полигону. Через несколько минут бомбы прошьют рыхлую облачную пелену, сверкнут на земле сгустками дымного пламени... Второй удар должны нанести истребители-бомбардировщики, но туманная борода низких облаков стелется над землей, съедая высоту и расстояние, растворяя бетонную полосу в белой мути. Руководитель полетами решительно берет в руки микрофон: – Поднять в воздух пару. Ведущий – командир полка, ведомый – замполит. Еще клубится над полигоном черный дым разрывов, и пыльная взвесь коптит низкие облака, еще на командный пункт не доложили уточненные результаты первого удара, а в эфире уже звучит: – На боевом... Цель наблюдаю... Истребители-бомбардировщики вырываются из облаков, пронзительными вспышками проносятся на малой высоте над полигоном – дробно ударили по мишеням ракеты. Вторая атака – пульсирующие пушечные очереди кромсают макеты зенитных управляемых ракет... Мастерски летать и вести политработу в полку, а тем более соединении – такое под силу только талантливому летчику и талантливому политработнику. Это особенность профессии. – Новая должность начальника политотдела требовала перестройки в привычной манере работы с людьми, – Иван Архипович встал, не спеша прошелся по комнате, остановился у окна. Привычно, изучающим взглядом окинул небо, высокое, безоблачное, и дальние строения — серебрящийся под солнцем ангар, выбеленные снегом крыши домов. Заговорил неторопливо, словно размышляя вслух: 93 – Ежедневно бывать в частях, конечно, невозможно, значит, нужна система и последовательность. Каждое посещение части должно оставлять след. Слетал с летчиком, командиром, политработником, проверил какой-то участок работы — обобщи положительное, помоги устранить недостатки... И еще сложность: самолеты были нового для меня типа — сверхзвуковые всепогодные истребители. Осваивать их пришлось самостоятельно, так сказать, без отрыва от основной работы. Да и в самом принципе управления такой машины... Вы сумели почувствовать это в полете? Иван Архипович неожиданно быстро оборачивается и пристально смотрит мне в глаза. Взгляд прямой, испытующий. В нем уже нет всепонимающей отеческой доброты. Передо мной — летчик-инструктор, с которым три часа тому назад я была на МиГ-23УБ в воздухе, и который хотел понять, дали ли мне эти два полета возможность почувствовать своеобразие истребителя? Смогу ли я сейчас представить себе те, самые первые минуты его познания сложной машины? Неожиданное начиналось с взлета: непривычно короткий разбег МиГ-23Б с прямым крылом. Пульсирующее сгустками света форсажное пламя точно ввинчивает истребитель в высоту, и стремительно набегающий поток воздуха словно заламывает плоскости назад — геометрия крыла меняется, приобретая привычную стреловидность. Теперь летчику помогает автоматика. Она обеспечит точный выход на воздушную или наземную цель, выполнив все расчеты, облегчит заход на посадку. Понятна глубина и целесообразность инженерной мысли, заложенной в принципе работы: доверить автоматам черновой, двигательный труд, оставив летчику отточенность маневра и свободу творческого поиска в принятии решения. – А по ночам все равно снились родные истребители-бомбардировщики – «сушки», как называли между собой... – легкая грусть, даже не грусть, а задумчивость. Ведь этим самолетам отдан десяток лет жизни, сотни часов, проведенные в воздухе, и память движений воскрешает привычную послушность рулей. Именно эти, доведенные до автоматизма, выработанные в полете навыки сопротивлялись командам электронного мозга новой машины. Особенно в воздушном бою, когда маневр ежесекунден... - Уловили? – Иван Архипович на лету перехватывает мой ответ. По лицу пробегает помальчишески лукавая усмешка. Голос доверительно притухает. – Уставал, конечно. Потом стало привычно... Планы личных полетов? Их, как правило, приходилось составлять, согласуя с общими политмероприятиями, а те, в свою очередь, зависят от полетов, а полеты по погоде. Вот и получается, что небо для меня теперь — как награда за земные дела... Впрочем, все это не вполне точно. Политическую и летную работу размежевать нельзя. Это, как... две руки... Вечернее солнце золотистой полосой вползает на стопку книг, сквозь паутину ветвей проступает голубовато-сиреневое небо. Рев двигателя уходящего на разведку погоды истребителя заставляет вызванивать стекла. Иван Архипович мельком смотрит на часы и, не меняя голоса, продолжает рассказывать о делах, связанных с обкомом и местным райкомом партии, о прошедшем партактиве. А у меня в памяти подтекстом к его словам соединяется то разрозненное, что можно услышать о человеке за несколько дней. «Безрукавый умеет держать в прицеле внимания все, учит делиться опытом, выявлять главное, творчески исследовать полет...» — так характеризуют начальника политотдела в вышестоящем политоргане. «Указания Ивана Архиповича нельзя просто взять да выполнить. Хочется сделать на совесть, а позже все равно кажется: можно бы лучше...» — признаются подчиненные полковника Безрукавого. «Он умеет разряжать противоречия раньше, чем они возникают...» — утверждают друзья. «Нашему сыну девятнадцать лет, а я, как в юности, влюблена в мужа...» — пооткровенничала жена Ивана Архиповича. 94 ...Легко, будто не тоннами горючего, а лишь желанием взлететь, один за другим отрываются от бетона всепогодные истребители. Все в них дерзко — ощетинившиеся закрылки, еще не подобранные, как когти у орла, шасси, притаившееся под фюзеляжем и плоскостями бортовое оружие. Мгновение — и яркая комета превратится в звезду... Летчик уходит в небо — на свое рабочее место, где напряженней и четче работает мозг, где трудно прочертить границу возможного, где обыденность подчас шагает в ногу с подвигом. 1976 г. Учения Если перехватчики можно назвать «стражами высот», истребители фронтовой авиации – «щитом», а бомбардировщики – «ударной силой», то вертолѐты – это крылья мотто-стрелков. Много раз доводилось летать на вертолѐтах – пассажирских и транспортных, над лесами, по долинам рек, над поверхностью моря и в диких ущельях гор. Но по-настоящему поняла, оценила эти машины лишь на учении. Над полевым аэродромом, над сопками висит яркая луна. В стылом свете ее заледенели гребни обваловочных укрытий, в тени которых притаились штабные палатки. Из трубчатых печей, напоминая форсажный факел, вырывается сине-красное короткое пламя, готовое притухнуть по первому сигналу тревоги. Но вокруг стоит тишина, нереальная, странная при таком скоплении людей и техники. Слышны лишь негромкие оклики часовых: на командном пункте — центре боевого управления — до глубокой ночи будут планировать работу завтрашнего дня. Проходят учения подразделений сухопутных войск и авиации. ...Утро рождается в тумане, чуть окрашенном светом зари. Сквозь желтую, подвижную мглу проступают тела вертолетов, темными глыбами движутся машины-заправщики, фигуры людей кажутся расплывчатыми. Но дунул ветер, дрогнул туман и обнажились сдвинутые к горизонту сопки. Вспарывая тишину, зарокотали двигатели, крутанулись лопасти, взметая тонкую взвесь рыжеватой земли и снега. Уходим первыми, парой боевых вертолетов Ми-24В на воздушную разведку переднего края обороны «противника». Перед вылетом ведущий майор И. Сергеев рассказывал о боевых машинах, на которых раньше мне летать не доводилось, немногословно: «Скоростные, маневренные, вооружены отлично. И называют их — «летающие танки». Ведомый – майор В. Константинович, знакомя меня с кабинами – командирской и летчика-оператора, где мне предстояло лететь, – заметил не без гордости: «Не правда ли, есть в этих вертолетах что-то истребительское? Приборов, правда, поменьше, зато обзор какой!» ...С высоты сопки кажутся неприютными, в подтеках обнаженного грунта. Тени от вертолетов скользят по вершинам деревьев, ныряют в сумрачные пади, форсируют речушки с зеленоватым осевшим льдом. – Вышел в заданный район, начинаю работать, – слышу в наушниках голос ведущего. – В квадрате четыре большое скопление танков. Фон темный. Не сразу отыскиваю танки взглядом — рассредоточились на притененной каменистой плешине, За грядой сопок господство снегов. Ослепительно сияет ледяная корка. Инородными наростами на ней — палатки, пулеметные гнезда, забаррикадированные снежными стенами. Со стороны дороги, вьющейся у подножья сопок, их не заметишь, но как четко видны фигуры в шинелях с воздуха! Тень от вертолета накрывает их, как залп. 95 На вершине сопки — чаша локатора. Чуть ниже, на ладони склона, тѐмными наростами застыли самоходные ракетные установки... В реальных условиях мы наверняка напоролись бы здесь на заградительный огонь... Почему же сейчас непростительно медлит боевой расчет? Круто отворачиваем в сторону. Краем глаза вижу: кто-то приветливо машет нам рукой. А эфир уже полнится голосами: «Цель левее вас, за сопками», «Цель обнаружена, выполняю маневр», «Бери головную машину, я ударю правую» — подошла основная группа боевых вертолетов. Пары, звенья — вертолеты идут, упрямо набычившись, выставляя вперед, как крутые лбы, фонари кабин. Носовая часть чуть опущена — вертолеты словно целятся боднуть землю. — Наблюдаешь меня? — немного глуше, чем обычно, будто сдерживая нетерпение, запрашивает Сергеев ведомого. — Подтянись. — Понял, — откликается Константинович и уже мне, нажав кнопку переговорного устройства: — Сейчас и мы повоюем. Когда, овладев летательным аппаратом, человек начинает ощущать себя летчиком? После первого самостоятельного полета? Или выполнив посадку в сложных условиях? Справившись с неожиданностью, возникшей в воздухе? У каждого, наверное, по-своему. Но то, что военный летчик начинается с первой атаки — бесспорно, даже если атака эта была на полигоне или в учебном бою. Вот он — прицел, голубовато-серый стеклянный глаз, которым смотрит ствол пулемета. Снять со стопоров, прихватить ладонями круглые рукоятки — как удобно ложатся в выемки пальцы... Доложить: «Цель вижу, к работе готов», почувствовать, как взмывает вертолет на горке. Услышав короткое: «Атака!», напрячься всем телом в ожидании команды «Огонь!». И хотя сейчас вертолеты не дрожат от пулеметных очередей и с пилонов не срываются ракеты, но в голосах летчиков проскальзывает что-то одинаково жесткое. И танки в размытой дымке выхлопных газов, с белыми бурунчиками вспененного снега не кажутся безобидными. «Группа в сборе, увеличить скорость», «Приступаю к высадке», «Прикрываю группу» — звучит в эфире. Подошли вертолеты с десантниками. Небо над узкой долиной и близлежащими сопками пестро от вертолетов – приземляются, взлетают, зависают. Неспешно, словно прощупывая почву под собой, снижаются грузные транспортные вертолеты Ми-6. Как только они касаются снежной целины, распахиваются створки фюзеляжа, опускается трап — рождаются тягачи, орудия, бронетранспортеры с пехотой. Боевые вертолеты Ми-24В зависают над долиной или барражируют вдоль нее, прикрывая высадку десанта. Десантные вертолеты Ми-8т сосредоточились ближе к объектам, по которым надо нанести удар. В грохочущем, гулком фюзеляже ребята из штурмовых групп, бодрясь друг перед другом, перебрасываются, наверное, шутками, поправляют короткие, со складной ложей автоматы. Но распахивается дверь, взвихренный винтом снег колко ударяет в лицо, и глаза солдат делаются строже, движения расчетливее. На мгновение приостановившись в проеме, они, прищурившись, оценивают высоту взглядом и торопливо прыгают вниз. Вертолет, кажется, устойчиво, свободно завис в полутора-двух метрах, над землей, и только летчик знает, как напряженно, точно надо работать ручкой управления и шаг-газом в этом режиме. Рассыпавшись черточками фигур, вертолеты взмывают и уходят на повышенной скорости, а десантники занимают исходные позиции вдоль дороги, другие цепочкой тянутся к лесистому гребню сопки, за которой притаился ракетный дивизион. До чего же медленно идут солдаты... С воздуха не чувствуется, как обманчива льдом затянувшаяся корка глубокого снега, как трудно рассчитать шаг, как сгибает плечи полная выкладка и бешено стучит на крутом подъеме сердце. Морозный воздух обжигает легкие, а 96 по вискам струится горячий пот. С высоты все кажется легче, время растягивается, расстояние сжимается. Все – скорости, усилия, опасность — словно в другом измерении, и нужна постоянная поправка на земное притяжение, о котором порой забываешь в полете. — Мы должны знать, как маскируется наземная техника, как видится с различного расстояния, на разном фоне любой предмет. Как смотрится сам вертолет с высоты и с помощью каких маневров можно уйти от истребителя противника. Поэтому люблю читать, как воевали на По-2, какие тактические хитрости применяли летчики, — сказал в одном из разговоров майор Константинович. — Мне нравятся полеты на вертолете потому, что не завишу от пункта наведения и могу самостоятельно продумывать маневры, — доверительно признался капитан Козенков. А капитан Петренко на мой вопрос, поменял бы он вертолет на истребитель, улыбнулся: — Да никогда! Истребитель в полете в основном видит небо, а мы — вертолетчики — с неба видим землю. Чтобы уберечься от огня зенитных установок, спрятаться от вездесущих локаторов в оголяющей пустоте неба, самолетам приходится или уходить на большие высоты, в стратосферу, или прижиматься к земле. Скорости и маневренность боевых и транспортнодесантных вертолетов позволяют им льнуть к земле, прятаться в складках местности. Идем в непривычной близости от неровной, в темных плешинах глинозема земли. Стремительно набегая, крупно проносятся под нами валуны, мелкий кустарник, изрытые гусеницами дороги. Сбоку круто взмывают каменистые откосы, тени от них ложатся причудливо остро и кажутся твердыми. Полет на предельно малой высоте всегда требует от летчика мастерства, сообразительности и хладнокровия. А здесь, у подножья сопок, где, ударяясь об отвесные склоны, ветер своенравно меняет направление, закручивая невидимые вихри, нисходящими потоками затекая в пади, здесь мало умения и отточенности движений — нужно знать каждую впадину, гряду сопок, долину. Здесь, в суровых условиях Забайкалья, в резкой смене температур, перепадах давления, неожиданных атмосферных явлениях надо не просто видеть, но и чувствовать землю, анализировать законы ее не только умом, но подсознательно, интуицией пахаря, которого земля кормит, а летчика наказывает или спасает. И все-таки вертолет при всей своей удивительной приспособленности к условиям наземного боя — летательный аппарат и подчиняется законам воздушной, а не земной среды. Значит, прежде чем ставить ему боевые задачи, командиры наземных войск должны не только овладеть летной терминологией, но знать и все ограничения, допуски, научиться мыслить летными категориями, чтобы не звучали порой из уст ответственных лиц непростительно наивные фразы. ...Громом гремит, десятками двигателей грохочет полевой аэродром: закончив учения, вертолеты улетают домой. Басисто рокочут тяжелые транспортные вертолеты, ровно выводят мелодию десантные. Воздух завихряется снегом, пылью: кажется, вся долина до горизонта в бешеном вращении винтов. Словно разминаясь перед дальней дорогой, проверяя тягу двигателей и балансировку, вертолеты один за другим взмывают на несколько метров вверх и зависают — это напоминает воинственный, ритуальный танец. Но вот пошли в боевом порядке звенья, эскадрильи вытянулись гигантской птичьей стаей. Головные машины уже растаяли в солнечной дымке, а замыкающие только взлетели. Подполковник М. Биль, выпустив группу, улетает последним. Как-то очень покойно, по-домашнему садится он в командирское кресло, распахивает меховую куртку с большим, «северным» воротником-капюшоном, надевает наушники. 97 — Ну что, поехали? — Черты худощавого лица за последние дни заострились еще больше, резче обозначились морщины на лбу. Ему приходилось работать и в воздухе и на земле. Не замечая моего внимательного взгляда, подполковник отщелкивает нужные тумблеры, переключатели, прислушивается к докладам летчика в эфире, запрашивает ведущего группы. Убедившись, что все в порядке, шутит: — Большое хозяйство... Все надо делать быстро, но без путаницы. Как у нас говорят: «Бегом — не торопясь». Основание для хорошего настроения есть: авиация на проведенных учениях получила отличную оценку. Напевно взвиваются на полных оборотах двигатели. Вертолет в коротком разбеге скользит по земле и рывком уходит в небо – безмятежное, бескрайнее небо, в котором нет места слабому духом, в котором выплавляется характер и зреет ум. В котором, по преданиям, могли жить только боги... 1981 г За ведущим Солнце пронзительно яркое. На горизонте пена облаков. Истребитель ведущего подполковника Н. Рожкова правее и чуть выше нашей машины. Замполит эскадрильи капитан А. Кутузов, с поразительной точностью вторя ведущему, выполняет каждый маневр, и оттого, что расстояние между истребителями с момента взлета не меняется, самого движения не замечаешь. Лишь земля, близкая, словно ощетинившаяся, серо-белым фоном застилает фонарь кабины, разворачиваясь то над нами, то внизу, то сбоку. Ее улавливаешь краем глаза, а показания приборов, высвеченные табло, — их словно и нет. Есть только переменчивый звук двигателя, есть перегрузки. И есть МиГ-23М ведущего. Отчетливо видны надписи на киле, каждая деталь. Тонкое крыло словно упирается в фюзеляж нашего истребителя. — Включаем форсаж... Раз! — четко выделяется среди других команд, звучащих в наушниках защитного шлемофона, голос подполковника Н. Рожкова, и — ни долей секунды раньше, ни долей позже — капитан А. Кутузов сдвигает рычаг управления двигателем. Самолет по идеально отработанной траектории взмывает, запрокидывается. — Выключили... Раз! Петля, переворот на горке, бочки... И властное, дающее команду для смены режима «Раз!», как вехи пилотажного комплекса, расставленные в голубом пространстве мастерством, интуицией ведущего, который должен постоянно чувствовать ведомых — левого, правого, особенно хвостового, предугадывая их реакцию на команду, рассчитывая их положение в строю и относительно земли, помня особенности характера и летные способности каждого. Ведомые же должны верить ведущему больше, чем самим себе, Это — слетанность. Не четыре самолета, не четыре пары глаз, рук, а нечто единое целое, неделимое. Вот если бы на земле, в наших повседневных коллективных делах всегда добиваться такого! ...После летного дня тишина на аэродроме кажется хрупкой. Не хочется вспугивать ее. Разговариваем вполголоса. Чуть слышно поскрипывает под ногами снег. – Сначала пилотировать ромбом, да еще в такой близости друг от друга, было страшно. Но другие, смотрю, держатся, из строя не вываливаются. А я что, хуже? — капитан Кутузов, не замедляя шага, оборачивается ко мне. Взгляд темно-серых глаз открыт, внимателен. — Вот и выступать перед большой аудиторией сначала робел. Потом себя пересилил, привык... Многое не сразу дается. Но ведь правильно говорят: чтобы руководить другими, надо, как минимум, научиться командовать собой. 98 Улицы военного городка встречают возвращающихся с полетов покоем, детскими колясками, негромкой перекличкой женских голосов, гомоном мальчишек. Мы останавливаемся на перекрестке. – Александр Николаевич, вы не будете возражать, если завтра я стану у вас ведомой и пройду по кругу ваших замполитовских дел? – Отчего же, пожалуйста. Только много придется ходить... Утром следующего дня первым на пороге штаба атаковал Кутузова секретарь комитета комсомола части: нужно срочно десять женщин и двадцать мужчин. Для хора! – Может, один к одному? — молит Кутузов.— Где я столько поющих мужчин найду? – Нужно, Александр Николаевич. Одного я уже приметил — капитан Кутузов. Отличный запевала! В штабе эскадрильи на письменном столе замполита поджидают объемистые тетради: по работе с партийными документами, по текущей политике и еще, еще... Все их надо заполнить, расписать. Но если попасть в их плен и стать чересчур усидчивым, то с людьми работать времени не останется... Кутузов успевает до обеда провести занятия с активистами эскадрильи, заглянуть в казарму к солдатам — одному сделал замечание, с другим поговорил по душам, спланировал беседу на тему: «Как зависит безопасность полетов летчика от добросовестности солдата на доверенном ему посту». Потом мы едем на стоянку самолетов, к техникам. После деловых разговоров вспыхивает короткое, но оживленное обсуждение предстоящей поездки в лес с семьями — такие мероприятия проводятся всей эскадрильей. Возвращаясь в штаб, заглядываем в ленинскую комнату — в день полетов должны выпускаться «боевые листки». И по дороге в столовую Кутузова останавливают — вопросы служебные, бытовые. А в столовой, замечаю, взгляд замполита обегает столы. — Да нет, — опережает вопрос Александр Николаевич, — аппетит пилота — это по части доктора. Но иной раз и затревожишься: почему летчик хмурый? Может, не слишком уверен, что с заданием справится, — значит, надо напрямик спросить, совместный полет спланировать. Но бывает — ребенок болен или с женой в ссоре. Да, да, и конфликты семейные приходится разбирать. В другой профессии эта сфера, может быть, и сугубо личная. А для летной работы... Знаете, когда на душе муторно, а в голову мысли, не относящиеся к полету, лезут, задание можно не суметь выполнить. И до летного происшествия недалеко... Вот и приходится объяснять женам молодых летчиков особенности нашей работы, и что не будет она ни успешной, ни безопасной без душевного спокойствия, без понимания в семье... Кутузов словно размышляет вслух, и, прислушиваясь к его словам, я невольно думаю о том, что ведь ему самому-то всего двадцать семь, и стаж его супружеского опыта невелик. Вспоминается чувство, которое испытала, переступив порог его квартиры, познакомившись с женой, сынишкой, — чувство доброй надежности, которое так нужно мужчинам и придает им спокойную уверенность в себе. Замполит должен, обязан... Но замполит эскадрильи — прежде всего летчик, и обязанность, и право его — летать. И не просто летать, а делать это лучше своих подчиненных... Эскадрилья же капитана Кутузов а – эскадрилья показа мастерства летного состава и возможностей авиационной техники. В ней пилотажники, выполняющие высшие пилотажные комплексы одиночно, ромбом, шестеркой. Лишь во второй половине дня, проработав разного рода документы, а их всегда предостаточно, Кутузов садится, наконец, за подготовку к завтрашним полетам. Рядом работают другие офицеры. Тишина, шелест страниц, сосредоточенные лица. Выждав, когда Александр Николаевич закончит рисовать схему предстоящего пилотажного комплекса, спрашиваю негромко, стараясь не мешать остальным: – Трудно, наверное, и летную, и политическую работу выполнять на одинаково высоком уровне? 99 – Да как вам сказать... – Кутузов улыбается чуть приметно, одними глазами. – В замполиты эскадрильи, естественно, стараются назначить сильных летчиков. Но бывает, что загруженный земными делами, замполит начинает уделять меньше времени летной подготовке и снижает свое мастерство. А некоторые командиры вместо того, чтобы помочь, просто перестают доверять им обучение молодых. В результате падает профессиональный, да и партийный авторитет замполита. – Уровень летной подготовки не должен снижаться ни при каких обстоятельствах, – вступает в разговор замполит другой эскадрильи майор А. Кононов. — Но раньше, как ни старался, не успевал. Потом понял: один в поле не воин. Надо, чтобы командиры звеньев больше работали с людьми. Добиться этого труднее, чем делать самому, зато надежнее. На мой взгляд, работать с людьми сложнее, чем летать, потому что не сразу видишь результаты своего труда, хотя в специфике работы на аэродроме, обособленной жизни летного городка человек проявляется острее. Но доверие приходит лишь тогда, когда человек видит, что ты к нему внимателен и слов на ветер не бросаешь. Постепенно разговор становится общим, к нему подключаются и командиры, уже поднявшиеся на должностную ступеньку выше и поэтому сумевшие проанализировать замполитовские проблемы объективнее, глубже. – Сложилось мнение, что продвижение по службе замполита эскадрильи затруднено, и основание для этого есть, – поделился своими размышлениями подполковник А. Гунько. – С умным, грамотным замполитом легче работать, поэтому командир эскадрильи, получая благодарности, растет и уходит на повышение. А к опытному замполиту назначают молодого командира – надежный помощник, на первых порах подстрахует... Потом командир эскадрильи начинает бояться потерять хорошего замполита и сдерживает его продвижение. Так и получается: училище оканчивали вместе, а через несколько лет товарищ — командир полка, а ты все еще в замполитах эскадрильи, хотя и отличной. Но ведь такое явление наносит моральную травму не только конкретному человеку — это снижает престижность должности, и Военно-Воздушные Силы страны недополучают те кадры, которые могли бы проявить руководящие способности и летный талант на более высоком уровне и в более молодом и работоспособном возрасте. Подполковник Н. Рожков, прошедший путь и замполита эскадрильи, и ее командира, на мой вопрос, целесообразна ли такая последовательность, ответил не задумываясь: – Безусловно, потому что круг замполитовских обязанностей оцениваешь уже не только с командирской точки зрения. Знание людей с позиций политработника, умение видеть в них то, что не пройдя этой ступени не сумел бы заметить, все это во многом помогло мне, когда стал командиром. Можно научиться летать, если есть на то способности, командовать, когда появится необходимость. А стать замполитом? Замполитом, обладающим высокими нравственными идеалами, в основе которых мужественное, самоотреченное: «Делай, как я!», а не эгоистичное и сковывающее инициативу: «Делай, как я сказал...». Обладающим комплексом качеств, одни из которых природные, другие получены при воспитании, третьи человек вырабатывает в себе сам. Но в основе всего — потребность любить и понимать человека. Вспоминаются слова, сказанные как-то в разговоре с генерал-полковником авиации Игорем Михайловичем Дмитриевым: «Замполит в авиации — это и командирская твердость, и дружеское участие, и проницательность педагога, и талант летчика. А сверх того — высочайшее чувство ответственности за боеготовность коллектива». Не забывается и откровение замполита эскадрильи одной из истребительнобомбардировочной части майора Н. Щетинина: «Летчик всегда вспоминает инструктора, который выпустил его в первый самостоятельный полет, и командира звена, сделавшего из него бойца. А замполита эскадрильи?.. Я своего не вспоминаю. Значит, не сумел он стать для нас наставником. Молодой летчик — это же вчерашний учащийся, и что дашь ему в первые годы в первой 100 строевой части, какие заложишь качества — не только летные, но и нравственные — таким и будет расти». Стремление вглядеться и понять духовный мир окружающих людей, потребность и способность работать с коллективом — все эти качества можно уловить в молодом человеке еще с курсантской скамьи и подчеркнуть в аттестации, которая дается после окончания летного училища. Но не менее важно, наверное, с первых же курсов заронить в будущем летчике желание пойти в своем служебном становлении по политической линии, продолжая лучшие традиции комиссаров гражданской и Великой Отечественной войн. ...Синие зимние сумерки затопили землю, оставив на горизонте ясную, светящуюся линию — словно взлетно-посадочная полоса. Загорающиеся окна домов — как огни подхода. – Скажите, Александр Николаевич, – я приостанавливаюсь, хочется в полутьме разглядеть выражение лица капитана Кутузова, – какой принцип работы вы считаете самым результативным? Александр Николаевич мгновенно сосредоточивается, но лукавая улыбка щурит глаза: – Просто надо работать без шума и с толком. 1984 г. Крейсер к полетам приготовить! Когда взлетали, полетная палуба авианосца ―Минск‖ ширилась, тесня многоярусную надстройку к борту, и штурмовик Як-38У казался лишь деталью корабля, внезапно оторвавшейся от его зеленовато-серых палубных плит. Секунды вертикального взлета поражают странным состоянием взвешенного равновесия. Все чутко, вертко, напряженно, все как на одном глубоком вздохе. Но рука подполковника Чурилова дирижирует мощью двигателей уверенно, точно, и малейшие отклонения ручки управления отзываются осторожным смещением — самолѐт словно нетерпеливо топчется над палубой. В режиме «висения» есть, наверное, что-то общее с ручным управлением космическим кораблем. Поделилась после полета этой мыслью с летчиками — смеются: «Про космос не знаем, а вот если плыть по озеру в бочке, да с одним веслом...» Но вот, довернув на курс разгона, палубный штурмовик набирает скорость, приобретает стремительность и превращается в привычный самолет. Каким же сложным сочетанием, точнее, сплавом навыков истребителя и вертолетчика должен обладать летчик! Безбрежье океана... И небо не такое, как над землей. Синева стекает от зенита к воде, смывая линию горизонта, воздух словно набух странным, пронзительным светом, все искажается — высота, расстояние, не за что зацепиться взглядом. В непривычной тональности работает двигатель, и чувство настороженности не покидает весь полет. Где-то вдалеке, в мерцающей зыби волн чуть приметной точкой тяжѐлый авианесущий крейсер «Минск». Сейчас он — и дом, и кусочек Родины, и единственное место, где самолет может произвести посадку. В морской авиации сложность работы летчика увеличивается многократно. И дело не только в том, что в случае вынужденного покидания самолета его встретит не земля, а море, и катапультирование — не избавление от опасности. У летчиков палубной авиации прибавляются еще тяготы морской службы. Если полет — это какая-то ограниченная по времени мобилизация всех умственных и физических сил, то море требует экономного распределения их на долгие месяцы плавания. Перед полетами необходимо отдохнуть, сосредоточиться и в кабину самолета садиться физически и морально готовым к сложной и рискованной работе. Море же постоянно изматывает качкой, порой штормами, контрастом температур, однообразием обстановки. 101 Самый сложный, ответственный этап полета — посадка. Как непросто припечатать колеса шасси к палубе, когда она то вздымается, то опадает. Как точен должен быть расчет, как надо чувствовать и понимать повадки такой своеобразной машины, как самолет вертикального взлета и посадки, техника пилотирования которого на сегодняшний день считается сложнейшей. Палубный штурмовик — это, прежде всего, надежная «крыша» над противолодочным крейсером и кораблями сопровождения, поиск подводных лодок противника, при необходимости — бомбовый удар или обработке цели ракетами, а то и воздушный бой, Самолетом, насыщенным самыми совершенными автоматическими системами, управляет человек, со своим мастерством, характером, убеждениями. И сейчас, в воздухе, стараясь уловить и запомнить каждую деталь полета, я невольно сопоставляю все, что знаю уже о подполковнике Чурилове, о его манере пилотировать, вести радиообмен со стартовым командным пунктом, нацеливать мое внимание на то, что кажется ему наиболее интересным и важным в полете. Юрий Иванович невысок, плотен, взгляд небольших ярких глаз быстр, внимателен, движения неспешны и точны. В том, как увлеченно рассказывает он о полетах, как деловит и в то же время раскован в воздухе, улавливается аэроклубовская закваска, то, что закладывает в юные годы романтика досаафовских аэродромов. Летное училище окончено экстерном, потом — строевая часть, совершенное владение сверхзвуковым истребителем и — по собственному желанию — в морскую авиацию, на совершенно новый, известный лишь понаслышке, тип самолета... Обо всем этом подполковник Чурилов рассказал за несколько минут, умолчав о наградах и благодарностях, которых удостоен. Но именно ему было доверено произвести юбилейный, полуторатысячный полет с палубы корабля! После полетов сижу с летчиками в каюте. Отделанный под светлое дерево секретер забит книгами. За стеклом — ветки кораллов, морские раковины. Вокруг стола закреплены полу-кресла, за занавеской — двухъярусная койка, умывальник. Пробиваясь через иллюминаторы, по переборкам каюты блуждают неяркие блики от подрумяненных закатом волн. В глазах старшего лейтенанта Николая Николаевича Хапокныша лукавство: – Посмотрели бы, как первое время мы по кораблю плутали в поисках своих же кают! «Минск» – это же целый город: километры коридоров, сотни помещений, сходов, люков... А терминология! Матросы, слушая, как мы вначале по-сухопутному изъяснялись, улыбки не прятали... – К морю не то что привыкаешь, а как-то вживаешься в него. Вспоминаются потом чужеземные порты, светящиеся ночью волны... и тоска по дому, – на лице капитана Александра Николаевича Винокурова чуть застенчивая улыбка. Сосредоточенный, немногословный капитан Валерий Александрович Перепечко колдует над плановой таблицей предстоящих полетов и в беседу вступает лишь изредка и только по существу дела: — Летчиков для палубной авиации надо растить с курсантской скамьи. Развивать навыки полетов над водой, знакомить с особенностями корабельной службы, прививать интерес к флотской жизни. — Морской летчик — это ведь не просто профессиональное умение, — добавляет замполит подразделения Владимир Николаевич Красовский, — это и внутренняя готовность, настрой на полеты в необычных условиях. С рождением самолета вертикального взлета появился не только новый вид оружия, но и начал формироваться новый тип летчика. Сложность пилотирования требует от него ярких летных способностей, разнохарактерные ситуации, которые могут сложиться в небе над водами, — выдержки и стойких моральных качеств. Повышенное чувство ответственности при взлете и посадке на корабль вызывает большую напряженность. Все это говорит о том, что и отношение к этой летной профессии требуется особое. 102 ...В понедельник утром, как обычно, катер торопливо отваливает от пирса. Седые пряди тумана неспешно выползают из-за сопок на сонную гладь залива. Уже отчетливо виден гордый профиль корабля, серебристый шар, взметнувшийся над сложным переплетением мостиков. Внезапно кисея тумана подернула небо, море, крейсер. Нас словно всосало в белую морось. Катер сбавил ход. И вдруг, буравя тишину, взвился сверлящий рев – на палубе корабля начали опробывать двигатели самолетов. – Наши подали голос, – с улыбкой сказал кто-то из моряков. «Корабль к полетам приготовить! — звучит по громкоговорящей связи. – Группе обеспечения прибыть в помещение летных экипажей». Сейчас завалятся по борту леера и антенны, опустится платформа подъемника, и на полетную палубу выплывут зелено-синие самолеты со сложенными крыльями — словно согнутыми в локтях руками. На фюзеляжах эмблемы Военно-Морского Флота и изображение значка, которым награждают моряков за дальний поход. Тягач буксирует «Яки», летчики занимают кабины, герметизируются, техники снимают заглушки с воздухозаборников, оттаскивают стремянки, и палубе пустеет. Зато надстройка, оружейные площадки, мостики обрастают фигурами свободных от вахты офицеров, матросов. На мгновение корабль затихает, сосредотачиваясь, готовясь взорваться грохотом двигателей, летучим облаком дыма, кинжальным пламенем, бьющим из открытых створок... ... – Если говорить откровенно, то мы первое время, зная ракетно-торпедную мощь нашего крейсера, на авиацию поглядывали как на обузу, – капитан 3 ранга Александр Алексеевич Марчуков отрывает взгляд от самолетов, задумчиво усмехается. – А потом присмотрелись, как работают летчики по бурунной мишени, в каких условиях могут летать, и поняли: серьезное это оружие – палубный самолет. И сдружились по-настоящему в походе. – Без дружбы, взаимного доверия никак нельзя, – охотно поддерживает разговор капитан 3 ранга Шамиль Джаватович Мухтаров. – Полеты на корабле обеспечиваются всеми службами. Матросы понимают, что от того, как подается энергопитание, работает аппаратура, все системы корабля, зависит многое. – Так уж получается: мы, моряки, больше о полетах говорим, а летчики – о плавании, – улыбается старший лейтенант Василий Константинович Гончар. – Может быть, обратили внимание: все наши летчики тельняшки носят. Слушая летчиков и моряков, всматриваясь в будничную жизнь крейсера, начинаешь понимать, что «Минск» — это не просто корабль-гигант в десятки тысяч тонн водоизмещения, не только мощь торпедных и орудийных установок, современные ракетные комплексы, позволяющие успешно решать самые неожиданные тактические задачи. Это, прежде всего, новые отношения между людьми, принадлежащими к различным видам Вооруженных Сил. Понимание, доверие, взаимопомощь становятся постоянными, естественными, органично врастающими в жизнь. Моряки знают, что значит вдали от родных берегов увидеть красные звезды на крыльях самолетов. Ликующей песней прозвучит гул пронесшегося над головой палубного штурмовика. Радостью и гордостью отзовется он в сердце, и вскинется в приветствии рука с бескозыркой. 1982 г. Мгновения ...«За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, наградить капитана Кубракова Виктора Владимировича... — слова командующего авиацией Краснознаменного Черноморского флота ложатся скупо и торжественно. Лишь последнее слово — «посмертно» — он произносит глухо, понижая голос. 103 Лицо женщины, стоящей рядом с трибуной, отрешенно спокойно. Легкие брови, глаза серые, опустошенные. Тонкая рука, принимая коробочку с орденом Красного Знамени чуть вздрагивает. — Высокая награда, которой удостоен мой муж... — звучит неестественно высокий от напряжения голос. — Передаю орден в музей боевой славы части... Сколько же сил в этой молодой, хрупкой женщине! Лица летчиков, шеренгами замерших на плацу, замкнуто строги. Черные шинели седы от измороси, резкий ветер полощет тяжелый шелк Боевого знамени части, рвет алые галстуки пионеров, застывших в строю. На столе, покрытом кумачовой скатертью, лежит белоснежный защитный шлем — подарок командования части пионерской дружине, которой присвоено имя Виктора Кубракова, дружине той школы, на которую падал и все-таки не упал горящий самолет... С фотографии, вскинув гордо посаженную голову, смотрит летчик — сосредоточенно сведенные брови, решительные складки у красиво очерченных губ. «Здесь он мало похож на себя», — скажет позже Татьяна Николаевна и протянет другую фотографию мужа — густые, темные волосы, теплый, чуть застенчивый взгляд и губы, готовые раскрыться в доверительной улыбке. Трудно рассказать о человеке, которого никогда не видела, не разговаривала с ним. Еще труднее писать о летчике, с которым никогда не летала, не чувствовала в воздухе его манеры пилотировать. Как менялся его взгляд, когда он, надевая защитный шлем и застегивая ларинги, шел к самолету? Какими движениями отщелкивал тумблеры, нажимал кнопки, переключатели перед запуском двигателя и на предварительном старте? Каким тоном говорил с экипажем в полете? Как понять его характер, поступки, его отношение к людям? Как ощутить те последние секунды его жизни и первые секунды бессмертия? Мозаика мнений, оценок, рассказов тех, кто знал капитана Кубракова, летал с ним, жил рядом годы – как трудно сложить из них законченный образ. «Он был обыкновенным, ничем не выделялся. Разве что прямолинейнее других, но в то же время молчалив, скромен. И понадобился случай, чтобы человек проявился во всей красоте своей и силе»,— сказал мне замполит части. «Застенчив, исполнителен, в спорах сдержан, и замечания всегда воспринимал спокойно», — говорили почти все командиры и товарищи Кубракова. А врач части отметил: «Тонкая, ранимая натура, очень впечатлителен». «Виктор остро переживал неудачи. Несправедливость мучила его, выводила из равновесия. Он только со мной делился всем», — горько призналась Татьяна Николаевна. Как трудно подчас мы познаем человека... Тот день был по-майски теплым и ласковым. Щедро искрилось под солнцем море, облака подтаявшими льдинами застыли над землей, отбрасывая на поля и виноградники призрачные тени. Залитая светом кабина самолета деловито поблескивала приборами. «Влево первый — второй, крен тридцать», — неторопливо командовал штурман старший лейтенант Перелевченко. «Выполняю», — откликался помощник командира корабля старший лейтенант Кузнецов, плавно работая штурвалом. Кубраков молчал, привычно быстро скользил взглядом по шкалам приборов, телом ощущая, как послушен управлению мощный ракетоносец Ту-22М. Экипаж — это не просто группа людей, занятых хотя и нацеленным на полет, но каждый своим делом. Это — как пальцы одной руки, сжатые в кулак. Уметь чувствовать работу каждого, зависеть от нее постоянно, улавливать по интонации голоса, по коротким, чаще стандартным фразам настроение, самочувствие, привычную сосредоточенность или усталость... Понимать с полуслова, предугадывая действия, — это и есть слетанность, которая определяется не только количеством часов, проведенных совместно в небе. Но и той психологической атмосферой, которую создает командир, доверяя мастерству каждого и — отвечая за всех, 104 ...Толчок неожиданный, резкий, как удар. Самолет вздернул нос и разом свалился на крыло. «Проверь неисправность...» — врезался в нарастающий треск и скрежет невозмутимый женский голос речевого информатора. Непривычно безвольным стал штурвал... «Держи высоту, держи!» — крикнул командир Кузнецову. Почувствовал, как забилась в нарастающей вибрации кабина, и, затягиваясь в спираль, начал падать самолет. Краем глаза Кузнецов видел, как рука Кубракова метнулась к рычагу сектора газа двигателя, пытаясь перекрыть стоп-кран. Перегрузки, сминая тело, то вдавливали в сиденье, то отбрасывали, натягивая привязные ремни. «Пытался дотянуться до приводов катапультирования, но не хватило сил. Мелькнула мысль: конец... Когда меня все же выбросило из самолета, понял — это принудительно катапультировал командир», — рассказывал потом проверяющий штурман А. Каленихин. «По ощущениям почувствовал, что перевернуло. Потом хлопок и гарь. Обожгло руку, лицо. Потянулся к рукояткам катапультирования, в этот момент меня выбросило», — это строчки из рапорта В. Перелевченко. Маленький, похожий на восклицательный знак, туго отщелкивающийся тумблер на левой панели... Кубраков сумел включить его. И вряд ли вспомнились в этот момент слова, сказанные несколько месяцев назад, когда, проводя тренаж в кабине, отрабатывали вынужденное покидание самолета: «Если что — катапультирую вас, ребята...» Слова... Как много произносим мы их, порой необязательных, случайных. Но есть такие, цену которым определяет сама жизнь. Приходит момент и действием оборачивается то главное, что составляет натуру человека, что незаметно формировалось в ней с детства до зрелости. ...Большая рабочая семья — семь братьев и сестер, работа слесарем-ремонтником на заводе и одновременно — школа. Потом — аэроклуб, строгая романтика полетов, первые проверки и познание себя. Итог — высшее военное авиационное училище летчиков и выпускная характеристика: «Летать любит, летает смело, в полетах — спокоен, инициативен. В усложнившейся обстановке действует грамотно». А несколькими годами позже, уже в аттестации как командиру корабля: «...Летает по уровню первого класса. Несколько медлителен в принятии решения, но решение принимает всегда правильное». «Его отличало удивительное умение слушать и ценить откровение товарища, — вспоминают друзья. — Мы звали его — «дружище» — этим все сказано». «Он очень любил дочь. И мне помогал по хозяйству, уверял, что нет работы женской или мужской, есть только легкая или трудная. А все трудное должен делать мужчина». Ничто в человеке не бывает случайным, и это чуткое понимание, какое-то подсознательное ощущение другого человека, видимо, и составляло основу натуры Кубракова, заставляя его испытывать постоянное чувство заботы о том, кто рядом, и своей ответственности за него... «У нас в поселке привыкли к гулу двигателей над головой, но тут я сразу понял — стряслась беда...» «В школе шли уроки... А самолет падал кругами, точно лист. Дым, пламя, обломки, грохот... Было страшно — как война». «Я закрыл глаза руками: показалось, что самолет рухнет на пятиэтажные дома. А там у меня жена осталась, дети...» Это из рассказов очевидцев, жителей поселка. Сорок пять секунд... Из них семнадцать ушло на попытку овладеть самолетом, понять происходящее. Пять — чтобы катапультировать экипаж. 105 Теперь надо только успеть перебросить отяжелевшие руки на бело-красную штриховку рукояток приводов катапультного кресла, нажать их... Но перегрузки незримо и грубо расплющивают тело, сгибают голову, плечи. «Проверь выпуск шасси», «Проверь...» — бесстрастным женским голосом долбит уходящее сознание бесполезный сейчас информатор, отмечая неотвратимость снижения. А в месиве земли и неба, в калейдоскопе голубого и зеленого — светлые квадраты строений. Сорок пять секунд – мгновение. А может, вся прожитая жизнь? Каждое слово, поступок, мысль, убеждение – все, что вложено инструкторами, командирами и проявившееся сейчас в единственно необходимом решении... На кроки местности, на фоне четко обозначенных линий шоссе, канала, улиц поселка вычерчена приблизительная траектория падения самолета – всего несколько витков. Последний логически завершается над зданием школы... Но неожиданно – резкий разворот в сторону и – черный взрыв кромсает полосу деревьев в полукилометре. То, что могло стать трагедией для сотен семей, обернулось горем одной... «Самолет упал здесь, на лесополосу. Мы огородили это место, – директор плодопитомника бережно трогает якорную цепь, окольцевавшую обугленное дерево. Единственная ветка — как поднятая к небу рука. По углам квадрата – бетонные кольца, в них сложены небольшие куски металла, обломки. – Мы посадим здесь тополя...» Вокруг площадки – покореженные, мертвые деревья. Но от их корней, наперекор всему, пробивается сильная молодая поросль. И причесанные бороной поля окрест стелются ровно, опрятно — земля быстро затягивает раны. А в сердце человека навсегда остаются рубцы. ...Черные шинели, тревожный блеск погон, кортиков — четким маршем, поэскадрильно проходят летчики морской авиации, завершая торжественный и скорбный митинг. И так же твердо чеканят шаг двести пятьдесят участников военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок», правофланговые отрядов всех школ района — мальчишки и девчонки с не по-детски сосредоточенными, суровыми лицами. О чем они думают сейчас — пионеры и комсомольцы, искавшие скупые отголоски прошлого в документах, рассказах прославленных и безымянных героев гражданской и Великой Отечественной войн и вдруг оказавшиеся очевидцами подвига?.. По настоятельной просьбе жителей похоронен Виктор Владимирович Кубраков рядом со школой. Сейчас перед небольшим временным обелиском разбита площадь, в которую вливается центральная улица поселка — улица его имени. Посвящение в пионеры, прием в комсомол, праздники урожая, все митинги и демонстрации теперь проводятся здесь. Голубые ели, еще маленькие, совсем недавно посаженные, чутко стерегут тишину. На бережно ухоженной могиле не увядают цветы. Их несут по утрам школьники и женщины после работы. Бережно кладут свои букеты невесты — свадебные кортежи останавливаются у обелиска, это становится потребностью, традицией. О летчике-коммунисте Викторе Кубракове складываются песни и стихи... «По инициативе тружеников района собраны большие средства для сооружения монумента. Сейчас мы ищем исполнителей — скульпторов, мастерскую, — говорит секретарь районного комитета партии и добавляет задумчиво: — Надо создать что-то неповторимое, чтобы в памятнике воплотились и воинская доблесть, и наш мирный труд. Чтобы было величественно и — естественно, как то, что Кубраков совершил». Как по-разному проживаем мы жизнь... После одних остаются лишь фотографии в семейных альбомах, после других — их дела. После кого-то — памятники. Но памятник — это не просто творение из металла и мрамора. Это, прежде всего, — благодарная память живых. 1980 г. 106 107 Глубокий поиск Человек и машина — живая плоть и бесстрастный металл. Проблемы в их сложном содружестве существовали всегда: человек упорно приспосабливал машину к себе и приноравливался к ней сам. Наиболее ярко и трудно это проявляется в военной авиации. Для сегодняшнего дня характерна сложная, но закономерная связь: психолог — конструктор — летчик. Мой рассказ – об авиационном психологе. ...Монотонно гудящий полумрак тренажерного зала. На стене серым перламутром светится экран. Словно рассекая его, несутся плиты взлетно-посадочной полосы и в горизонт вонзается белый пунктир осевой линии. Идет эксперимент. Кабина тренажера одноместного самолета — без фонаря, и от этого в красной подсветке приборов она кажется непривычно оголенной. Летчик — без защитного шлема, на его руках и лице белеют узкие полоски пластыря, прижавшие бляшки чувствительных датчиков, невесомо сплетаются провода. Специальные очки, регистрирующие направление взгляда, длительность его фиксации и маршрут перемещения, делают летчика похожим на инопланетянина. Тонкая гофрированная трубка светопровода змейкой вливается в кинокамеру на борту кабины. Летчик поправляет наушники, трогает прилепившийся в углу рта рожок микрофона: «Первый готов, повторим заход?» Вслушивается в ответ руководителя эксперимента, который находится в соседней комнате за пультом управления. Подбородок и скулы твердеют, движения становятся скупыми, четкими: даже в имитированном полете летчик чувствует напряжение, и не только из-за сложности процесса управления. Движения воспроизводят, ассоциируют пеструю гамму неземных ощущений, и на сознание ответственности за эксперимент накладывается привычная, настороженная собранность полета. Теперь экран перед лобовым стеклом кабины безучастен, темен — заход на посадку должен производиться по приборам. И только когда самолет «пролетит» ближнюю приводную радиостанцию, экран вспыхнет обнадеживающе ясно, словно отпрянут от фонаря кабины плотные облака, обнажая землю, позволяя оторвать взгляд от стрелок приборов и визуально определить обстановку. Летчик и самолет... Как складываются их «взаимоотношения»? В чем залог безопасности полетов? Почему даже при условии исправной техники и достаточного опыта летчик может ошибаться? В какой степени надо подменять человека, поручая автоматическим системам пилотирование и самолетовождение? Эти вопросы я задала доктору медицинских наук профессору В. А. Пономаренко — одному из ведущих специалистов в области авиационной инженерной психологии — науки, в которой еще только определяются направления исследований. ...Осторожно, стараясь не отвлекать летчика, выходим из тренажерного зала в соседнюю комнату, где светится экран телевизора и за пультом управления, регистрирующей аппаратуры сидят молодые сотрудники исследовательской группы — инженеры, физиологи, психологи. — В конструкции должны быть заложены знания о человеке, его психических и физических возможностях, — говорит Владимир Александрович. — Обезопасить полет можно, лишь создав максимальный психологический комфорт, чтобы летчику на рабочем месте не просто легко дышалось, но и спокойно думалось... В авиацию сложнее, чем во что-либо другое, привнести что-то новое, хотя именно здесь сосредоточивается острие технической мысли, и многие научные открытия века находят отзвук в каждой последующей конструкции самолета. Но изменения влекут за собой не просто совершенствование летательного аппарата. 108 Например, автоматические системы управления, которые дают выигрыш в точности и видимое облегчение работы. Но вместе с тем, они, в какой-то степени, нарушают сложную связь летчика с самолетом. А ведь в любом, даже самом «стандартном» полете необходимо тонкое, пока не поддающееся анализу «чувство самолета» — состояние, когда человек ощущает машину в полете, как свое тело, когда органы управления, ритм работающего двигателя, представление о пространственном положении, определение своего места в воздухе неотделимо от сознания. Так как же найти ту грань, за которой автоматика из союзника летчика становится неуместным опекуном? — Техника должна подстраховывать человека, не ущемляя, однако, его сильные стороны. Самолет — лишь орудие труда, посредством которого летчик решает поставленные перед ним задачи, и в любой конструкции надо создать условия, достойные личности летчика, — продолжает беседу В. А. Пономаренко. Это бережное отношение и высокое уважение к личности летчика родилось у Владимира Александровича еще в те годы, когда он — выпускник Военно-медицинской академии, вступил в должность врача авиационной части. И скоро понял, что авиационный врач должен заниматься не только медицинским обеспечением, но и изучать деятельность летчика, которая проходит в условиях частого воздействия стресс-факторов. Он стремился понять особенности психических процессов в полете, проникнуть в напряженную работу мозга, самой спецификой полета поставленного в условия дефицита времени, постоянного риска. Но для этого надо было знать, как человек в полете воспринимает поступающую от приборов и от окружающей среды информацию, как функционирует память, мышление. Надо было понять, какие чувства доминируют в полете на предельно малых высотах и в стратосфере. Именно в те годы на страницах окружной военной газеты Пономаренко начинает нестандартный, обстоятельный разговор о необходимости участия врача в планировании летной нагрузки и предварительной подготовке летчиков, пытается проводить психологический анализ летных происшествий, а позже, получив разрешение командующего ВВС округа, участвует в полетах на учебно-боевых истребителях, положив начало уникальным летным экспериментам. ...Человеку свойственно ошибаться. Но в полете ошибка приобретает слишком высокую цену. Почему действия летчика были неправильны? Где причина — в методике обучения, в конструкции машины или возможностях человека? Владимир Александрович Пономаренко и доктор психологических наук Наталья Дмитриевна Завалова одними из первых доказали, что ошибка нередко возникает из-за недостаточной согласованности технических средств с возможностями человека, а это уже «человеческий фактор». Правильно поставить лабораторный эксперимент, смоделировать его под летный — это искусство. Но даже самый современный тренажер не может дать совокупности ощущений, которые сопутствуют реальному полету: нет неинструментальных сигналов — звуков, перегрузок, обстановки за бортом, нет того высокого напряжения, которое в какой-то момент мобилизует, а в какой-то сковывает летчика. Летный эксперимент — самый ответственный этап испытаний. К нему готовятся тщательно и приступают, когда уже исчерпаны возможности тренажера. ... Въедливая вибрация, скользящая тяжесть ускорений, слитный гул двигателей. Фюзеляж тяжелого самолета загроможден смонтированной на стеллажах и этажерках контрольно-измерительной аппаратурой, а кабина, распахнутая остеклением в синеву, сдавлена панелями приборов и кажется теснее обычного — между сиденьями пилотов притулился оператор, шланги светопроводов ползут к киноаппарату. Пономаренко в качестве ведущего эксперимент с коробкой портативного пульта связи в руках стоит за креслом командира экипажа, пытаясь видеть показания приборов, лица правого и левого летчиков одновременно. Голос его звучит настойчиво: – Что у вас?.. Двигатели все работают?.. А второй?.. 109 В ответы командира Владимир Александрович вслушивается настороженно, поглядывая на красный огонек лампочки, сигнализирующей отказ. Почему опытный летчик ее не замечает? – Падают обороты второго, упало давление, — докладывает тот. В голосе — напряженность. На энцефалограмме зафиксируется, конечно, учащение пульса, дыхания, движений кисти и пальцев рук... Лишь через двести долгих секунд: – Второй отказал. – Что помешало быстро распознать отказ? Летчик смущен: – По управлению чувствовал — тянет влево, но не ожидал, что выключите без предупреждения... Моя вина не посмотрел на сигнализацию. Но если не один, а большинство летчиков в подобном эксперименте не воспринимают сигнализацию с необходимой быстротой, значит, она неэффективна. И хотя расположена в поле зрения, но — не в поле внимания, и надо менять ее место, делать мигающей, выносить на табло. Суммируя, анализируя наблюдения, магнитофонные записи, данные осциллографических лент, педантичные кинокадры, можно понять, как прогнозируются действия в условиях дефицита времени, где кроется ошибка в логике мгновенных рассуждений, какими методическими рекомендациями или конструкторскими решениями можно помочь. Всматриваюсь в сосредоточенное лицо Владимира Александровича, и невольно в памяти всплывают его рассказы о летчиках, с которыми много раз поднимался он в воздух на истребителях и тяжелых машинах, с кем проводил сопряженные с риском эксперименты и кого в научных трудах согласно общепринятой этике пришлось именовать «летчик К.», «летчик М.»... Ради безопасности тех, чье рабочее место — безбрежье неба, инженерный психолог, обладая сплавом глубоких знаний — медицинских, авиационных, чутьем конструктора ищет и находит пути внедрения в металл тончайших человеческих качеств. Но, вникая в таинства летного мастерства, исследователю приходится внедряться как бы и в душу летчика. И бескровный процесс этот не всегда безболезнен... Как бережны и точны должны быть эти руки, взвешены и стойки убеждения, каким тактом призван обладать ученый, возложивший на себя право ответственности за полет, который выполняют другие. 1979 г. Величие малых высот Небо бездонно, а нам отмерены считанные метры высоты. Вершины деревьев несутся под фюзеляж истребителя-бомбардировщика Су-24 с околозвуковой скоростью, сливаются в бурый поток хвои, сучьев, стволов. Лишь в отдалении, у горизонта, все постепенно замедляет движение, давая возможность разглядеть поселки, сместившиеся в непривычной проекции. Скопление домов не привлекает внимания, зато телевизионная вышка, церквушка, опоры электропередачи бросаются в глаза, сознание отмечает их сразу. Лицо заслуженного летчика-испытателя Владислава Ильича Лойчикова, ведущего в этот момент работу по маловысотному маршруту, вижу в профиль: кислородная маска, защитный шлем. Открыт лишь лоб, часть щеки и глаз под светлой бровью. Взгляд спокойный, без прищура, без напряжения. Сосредоточенность проявляется лишь в движениях — мелких, точных. Поток воздуха у земли упруг, плотен и реакция летчика на малейшие отклонения должна быть мгновенной. 110 Командный пункт сейчас, наверное, не слышит и не видит нас. С момента, когда в эфире прозвучало: «Работу по маловысотному маршруту разрешаю» и самолет решительно прильнул к земле, мы словно выпали из привычного, заполненного голосами пилотов мира. Накануне, помогая готовиться к полету, Лойчиков рассказывал мне о возможности маневрирования истребителя-боибардировщика на предельно малых высотах, чертил на доске змейки, развороты, траектории маневров для атак по наземным, малоразмерным целям. В воздухе все воспринимается иначе. Даже в прямолинейном полете взгляд не успевает схватить показания радиовысотомера, проверить по приборам курс, скорость — все внимание поглощает земля. Ее близость завораживает, искажает высоту, а скорость словно деформирует пространство, нарушает чувство времени. В глубоком крене Су-24 ложится на крыло и все остекление фонаря кабины до самой верхней точки заслоняет бело-черный рисунок полей, перелесков, дорог, Кажется, что самолет выписывает вираж не в воздухе, а по земле, как циркулем на карте. Лицо Лойчикова запрокинуто вверх, взгляд зацепился за точку у горизонта. Стрелка вариометра застыла на нулевой отметке – нет ни набора высоты, ни снижения, рука в кожаной перчатке плотно держит управление. Железнодорожный мост перекинулся через заснеженную речку. Мы выскочили на него, пройдя над шоссе, трещиной расколовшим массив леса. Толчок — включен форсаж, самолет в боевом развороте рывком набирает высоту, и земля словно падает вниз. Перегрузка, скользящей тяжестью спеленавшая тело, привычна, без нее полет казался бы бесформенным плоским, как рисунок, сделанный со скульптуры. Синевой и солнцем небо врывается в кабину, мир – теперь неторопливый, медлительный – в привычной огромности своей распахивается внизу, и Су-24 словно зависает, приостановив движение. Как просто кажется сейчас, глядя с такой высоты, оценить направление, отыскать речку, полотно железной дороги, станцию. Но в зрительной памяти сохранилось последнее, что успел схватить взгляд на земле: переплеты моста, а рядом — коробочка трактора с прицепом и ровные груды снега, расчертившие поле. Истребитель-бомбардировщик в перевороте почти ложится на спину — нос под цель, мост словно дефис, поставленный между двумя берегами, впечатался в плексиглас фонаря над головой. Сейчас — атака... Сплетение железа и бетона, струны рельс, заметенное снегом русло реки — все приближается, укрупняясь, обрастая деталями... Вывод из атаки экономный, расчетливый — мы уходим от цели стремительно, на той же предельно малой, спасительной высоте, где не могут схватить прицелы зениток, не успеют сработать системы наведения ракет, не сумеют засечь курс наземные наблюдатели... Каждый раз, слушая рассказы летчиков-ветеранов, читая мемуары авиационных командиров, думая о подвигах и опыте, пытаешься представить себе, как в годы Великой Отечественной войны над территорией, занятой врагом, в бреющем полете проносились наши штурмовики, как жались к земле связные и транспортные самолеты. «... И заметить летящий у самой земли самолет трудно, и для того, чтобы атаковать его, остается не полная сфера, как в небе, а лишь верхняя его половина...» — поясняет Герой Советского Союза заслуженный летчик-испытатель Марк Галлай в своей книге «Через невидимые барьеры». «... Аэрофотосъемку переднего края обороны противника произвели с высоты 20 метров, на бреющем прочесали немецкие позиции из пушек и пулеметов», — вспоминает в книге «305 рейдов» дважды Герой Советского Союза Т. Бегельдинов. «... Бомбили, в основном, с бреющего полета... Ходили под низкой облачностью, «ниже костыля», как говорят летчики... Штурмовали морской транспорт с малых высот», — рассказывает генерал-майор авиации С. Александров в книге «Крылатые танки». Атаки цели с бреющего полета, с пикирования, с горки, поиск противника змейками, галсами, и всѐ — на предельно малой высоте. Уход на бреющем полете от атакованной цели, противозенитный маневр, подскоки для уточнения местонахождения — множеством разнообразных, порой неожиданных тактических приемов заставила овладеть война. Категорично и жестко внесла она поправки там, где было что-то недоучтено, недодумано, недооценено. 111 «Над нами сплошная низкая облачность. Она как щит прикрывает нас сверху от фашистских истребителей, поэтому мы идем без прикрытия...» — эти строчки из мемуаров дважды Героя Советского Союза маршала авиации А. Ефимова невольно пришли на память, когда мы с летчиком-испытателем Э.В. Каарма вылетели по маловысотному маршруту в сложных метеоусловиях. Облака провисли над землей рыхлым войлоком. Горизонта не видно, от самого взлета с бетонной полосы идем, словно замурованные в подвижной сфере. Впереди будто сизый дым хмуро завис между облаками и вершинами сосен. Размытая стена раздвигается неохотно, уступая истребителю-бомбардировщику километры пути. И что скрывается за ней — силосная башня, телевышка? Успеем ли отвернуть? Вот когда чувствуется, что летчик крайне напряжен... Сейчас другие скорости, другие самолеты, рядом с которыми гордость отечественной авиации прославленный штурмовик Ил-2 кажется тихоходным и маломощным. Сейчас полет по маловысотному маршруту на скоростях, в два-три раза превышающих прежние, создает особое состояние. Своими ощущениями делятся военные летчики: «Контроль курса осуществляется беглым движением края глаза, все внимание – земле». «Очень устают шея, руки. Голова находится почти в фиксированном положении, а руки напряжены для немедленного действия. Скованность пропадает лишь с приобретением навыков». «Работа двигателя контролируется на слух. В таких полетах настолько обострены все чувства, что отлично слышишь все шорохи и хрипы в работе двигателя. Любой звук, которого не было, фиксируется сознанием. Мигание какой-то лампы, назначение которой сразу не определишь, заставляет немедленно набрать чуть большую высоту, осмотреться в кабине и пространстве и опять начать снижение». Даже опытный, но мало тренированный в этом виде полетов летчик может выдержать предельно малую высоту лишь ограниченное время. И волевого усилия здесь недостаточно. Оно заставит лишь прижаться к земле, но продолжить полет позволит только устойчивый навык. Припоминается один полет на предельно малой высоте над морем. Близкие пенные гребни и совсем молодой командир корабля, выполняющий такое задание впервые. Внешне летчик казался спокойным, но когда истекало расчетное время прохода по прямой и надо было менять курс, он брал штурвал «на себя» поспешно, с облегчением. Бомбардировщик Ту-16 набирал высоту для разворота и лицо командира словно размягчалось, а спина и плечи расслабленно сникали. И пока самолет выписывал вираж, летчик отдыхал. Потом снова, делая над собой усилие, снижался осторожно, словно крадучись припадал к волнам... Мысленно представляя карту местности, помня и замечая характерные ориентиры, изменяющиеся при большой скорости и малой высоте почти до неузнаваемости, летчик должен постоянно знать свое местонахождение. Но зимой стираются припорошенные снегом дороги, речки, овраги. Весной, в период разлива, знакомая местность становится неузнаваемой. В осеннее время унылое однообразие красок сглаживает рельеф, а летом стекла кабины мутнеют из-за попадающих на них насекомых. На малых высотах воздухозаборник может захлебнуться птицей, турбулентность, «рытвины» нисходящих и «бугры» восходящих потоков невидимо, опасно сминают воздушную дорогу. И хотя сам летчик из-за большого психологического напряжения и необходимости ежесекундно парировать отклонения самолета не всегда ощущает неприятные явления болтанки, однако усталость накапливается. Но ведь смысл задания не сам полет, не просто пилотирование самолета, а уничтожение наземных объектов, чаще замаскированных. Их надо увидеть в пестроте красок и теней проносящейся земли, опознать, принять решение на атаку. И на все — считанные секунды. Мгновенно построить маневр, не потеряв при этом намеченной цели, помня, что не дремлют боевые расчеты зенитных установок противника... 112 Анализируя деятельность летчика на предельно малых высотах, психологи установили, что поиск малоразмерной цели, опознание ее и принятие решения на маневр настолько сковывают внимание летчика, что изменение показаний приборов он замечает не с первого, как обычно, взгляда, а лишь с третьего. И потерю или набор высоты может уловить не сразу. Значит, нужна не просто отработка переключения внимания от приборной доски к просмотру внекабинного пространства, отточенный глазомер, координация движений. Необходима настойчивая тренировка на специально оборудованных тренажерах, применяя при этом самые разные методики и упражнения, вырабатывая у летчика способность к быстрому переключению от одной деятельности к другой. Важно еще на земле «проиграть» в уме все свои действия в полете. Обязательны тренировка по опознанию целей, развитие умения по минимальному количеству признаков мгновенно определить объект. Нужно привыкнуть к непривычному: многое в поведении самолета на предельно малых высотах начинает казаться неожиданным, тревожным. Но, наверное, самым главным является психологический настрой. «Перед таким полетом, — полушутя-полусерьезно уверяют летчики, — нельзя, чтобы дома ворчала жена или журило начальство; и сон должен быть хорошим, и завтрак повкусней...» Вредна излишняя настороженность, возбуждение или апатия — обязательно чувство уверенности, собранность мыслей и мышц, желание и готовность. Опыт летной работы и заключения авиационных психологов доказывают, что «полет на малых высотах доступен любому летчику, освоившему их специфические особенности». Когда плохая видимость и рельеф местности не позволяют идти на предельно малой высоте, на помощь летчику приходят самые разнообразные системы автоматического управления. Они обеспечивают возможность полета на таких высотах и скоростях, при которых в режиме ручного управления человек мог бы выдержать лишь незначительное время. Автоматические системы могут вывести на полигон или в любую другую запрограммированную в районе полетов точку и помочь произвести бомбометание или пуск ракет. Малые высоты используются не только для перехвата низколетящей цели или работы по наземным объектам. Истребитель может сковать маневр самолета противника, заставив его находиться в непосредственной близости от земли. Но для этого нужно блестящее владение всеми приемами маловысотного воздушного боя. Есть в полетах на предельно малых высотах какая-то величественная и притягательная сила. Воспитывая характер, чувство ответственности, оттачивая мастерство, близость земли заставляет сделать трезвую переоценку своему умению и летным способностям. Она дисциплинирует и спрашивает строже, чем самый придирчивый проверяющий. Она — как совесть, как экзамен самому себе. Готовность к полетам на малых высотах — залог безопасности всех высот. 1982 г. «Глиссада» Ночь липнет к стеклам кабины моросью дождя, бомбардировщик Ту-16 потряхивает несильно, но назойливо; иногда он проседает или чуть взмывает, как на крутой, нестойкой волне. Розовые сполохи от вспышек проблескового маяка на фюзеляже самолета ритмично высвечивают то лохмотья облаков, то вялую дымку, опустившуюся до земли. Огни подхода сквозь нее кажутся размытыми, блеклыми, а посадочная полоса словно растекается, теряя очертания, хотя подсвечивают ее с земли три мощных луча прожектора. 113 Лицо командира корабля — молодого летчика — напряженно-замкнуто. Взгляд проверяющего — неторопливого, уверенного в движениях полковника — обостренно внимателен. Глаза обоих летчиков непрерывно следят за приборами. — Скорость... Высота... Прошли дальний привод, — информирует штурман и командует: — Влево два градуса... Тонкие усики директорных стрелок на командно-пилотажном приборе сошлись крестом — самолет на глиссаде, на невидимой, мысленно прочерченной траектории снижения, угол наклона которой и направление надо выверять каждое следующее мгновение, упреждая снос по ветру, парируя толчки, сверяя свое, опытом выработанное понимание происходящего с показаниями приборов, подсказками штурмана и руководителя посадки. Человеку, случайно взглянувшему с земли на снижающийся самолет, посадка кажется процессом естественным и скоротечным. А для пилотирующего — это цепкая сосредоточенность, нацеленность зрения, слуха, чуткость каждой мышцы тела... Секунды, помноженные на предельное физическое и эмоциональное напряжение. Измерительные приборы, средства индикации и сигнализации, находящиеся в кабине, помогают летчику. Они отражают режим полета, давая объективную, точную информацию, но в закодированной, символической форме. И надо за доли секунды из разрозненных показаний составить целостное представление, понять свое место и положение в любой момент времени. Насколько проще, казалось бы, визуальный полет, когда видна земля. Но вот наш самолет вынырнул из рыхлой массы облаков в темноту без горизонта, под ним — провалами чернота, световые пятна поселков. Те, что поярче, кажутся ближе, те, что вдалеке, словно взобрались на пригорок, хотя здесь — равнина. А если аэродром рядом с городом, тогда, огни подхода и взлетно-посадочной полосы тускнеют, «съедаются» блеском реклам, сиянием улиц, вытянувшихся, как нити стекляруса. Под нами лишь небольшое озерко света, залившего летный городок, но разбухшие огни искажают расстояние, создавая ложные ощущения, а значит, дополнительные трудности, и спина летчика, наверное, влажна от пота, как будто тащить ему приходится многопудовый груз. И это после утомительного, сложного полета, после напряженной работы на полигоне... «Сейчас бы сюда «Глиссаду»...» — невольно подумалось мне, и разом припомнились испытательные полеты, в которых довелось участвовать совсем недавно. Перед глазами в мареве земных огней вспыхнула ярко-алая точка и колкие лучи, властно завладев пространством, притенили и свет ночного городка, и огни посадочной полосы. Густые, будто гранатовый сок, струи света били из темноты, от торца посадочной полосы, слагаясь в гигантскую букву «Т». И словно они, а не самолет, перемещались в пространстве, то опадая, то взмывая, то покойно ложась на места: центральный, курсовой — под фюзеляж; боковые, глиссадные — по горизонту; два средних луча, схлестнувшись перекрестием в фиксированной точке над ближним приводом, падали за плоскости самолета устойчиво и надежно. «Я с проходом», — возникал в эфире голос командира корабля Г.И. Арбузова, и чернота вновь захлестывала кабину. «Георгий Иванович, передайте, пожалуйста, управление второму пилоту и ответьте на такой вопрос...» — по-домашнему просто прозвучало по переговорному устройству. «Управление отдал. Слушаю вас, Владимир Александрович», — с готовностью откликнулся командир, снимая руки со штурвала. «Облегчается ли контроль за глиссадой снижения? Нагляднее ли конфигурация лучей «Глиссады» в сравнении с обычной освещенной посадочной полосой? Представляете ли за лучами неподвижную землю?» — руководитель эксперимента доктор медицинских наук В. А. Пономаренко вслушивался в ответы. Он стоял здесь же, в кабине Ан-26. Портативный пульт управления в его руках посвечивал зелеными лампочками — проводился летный эксперимент, изучалась принципиально новая взлетно-посадочная лазерная система «Глиссада». 114 Сама система была заявлена, опробована и получила высокую оценку летчиковиспытателей несколько лет назад. О ней упоминалось в прессе, и патентуется она сейчас в шестнадцати странах мира. Но творцы «Глиссады», и в первую очередь главный конструктор доктор физикоматематических наук И. А. Бережной, с дальновидностью и добросовестностью вдумчивых специалистов считали необходимым продолжить исследования. Углубляясь в область психики и физиологии человека, они стремились уяснить перспективы и направления дальнейшего совершенствования системы, возможности увеличения диапазона ее применения в сложных метеоусловиях и обоснования безопасности лазерных лучей данного спектра и мощности для глаз летчика. Помочь конструкторам в решении этих и некоторых других вопросов могли только учѐные – психологи, медики, работающие в области авиационной инженерной психологии. Когда летчик заходит на посадку вне видимости земли, он каждые полсекунды – секунду переводит взгляд с прибора скорости на указатель высоты, с прибора курса – на авиагоризонт... И на основании переработанной в уме информации мысленно строит глиссаду. Чтобы удержать эту условную линию в своем представлении, летчик вынужден посекундно добирать информацию с приборов и прогнозировать свое движение в пространстве на небольших отрезках пути. Правда, в зависимости от своих индивидуальных особенностей, летчик может просто выдерживать стрелки около заданных значений, помня, что тем самым он удерживает самолет на глиссаде. Но это чисто механическая работа, и человек в этом случае стоит за событиями, а не впереди них. — Лазерные лучи, с точки зрения психологии пространственной ориентировки, есть не что иное, как протяженный ориентир, полоса, где отчетливо видно начало пути снижения и конец. Другими словами, пространство и время объединены: вижу место приземления, то есть цель. Вижу — наглядно, зримо, понятно, — как она приближается. У летчика появляется резерв времени, успокоенность, значит, напряженность спадает, — рассказывал мне перед полетом Владимир Александрович. — В данном эксперименте мы стремимся понять, насколько надежна взаимосвязь летчика с системой, как и с какой ошибкой, воспринимается данный код в различных ситуациях, насколько упрощается расчет на посадку. В фюзеляже самолета Ан-26, превращенном в летающую лабораторию, десятки приборов записывали физиологические характеристики летчика, точность и чистоту пилотирования. Кинокамера, смонтированная со специальными очками, фиксировала направления взгляда, отмечая, сколько времени уделяет летчик приборам и внекабинной обстановке. «Сейчас вы войдете в луч и сразу переведете взгляд на приборы, — неторопливо и внятно говорил Пономаренко. Вслушивался в привычное «Понял», произносимое летчиком каждый раз с различной интонацией, и перещелкивал тумблер, связываясь с врачомофтальмологом приготовившимся к замеру плотности мощности луча, — Внимание...» На мгновение кабина словно взрывалась красным сиянием, но оно не слепило и приборы просматривались ясно, отчетливо. Поток света соскальзывал так же внезапно, подставляя взору мерцание огней города. «Ослепления нет? Пелены? На какие приборы посмотрели после вспышки?..» — Пономаренко вглядывается в лицо летчика, пытаясь понять его состояние, увидеть то, что не смогли уловить приборы, хотя зафиксировали все: подрагивание пальцев, сокращение век, участившееся дыхание. В следующем заходе лучи погасли неожиданно для летчика и по киноленте, запечатлевшей направление взгляда, можно было судить, насколько быстро летчику удалось переключить внимание и начать пилотировать по приборам. На это ушли лишь доли секунды, потому что отсутствие лучей осознается мгновенно. Не так, как, например, отказ приборов, когда обнаружить неисправность одного можно, лишь сопоставив его показания с показаниями других, а на это нужно время. В случае отказа «Глиссады» для летчика есть резерв — обычная радиотехническая система посадки. 115 ...Сейчас, стоя за креслами летчиков и глядя на плавно приближающийся торец бетонной полосы, увенчанный, как пешеходный переход, «зеброй», я мысленно возвращаюсь к тому моменту, когда наш Ту-16 еще только пробивал низкую облачность. Как было бы хорошо, если бы минуту назад сквозь редеющую пелену призывно, как маяк, блеснули яркорубиновые лучи! Бомбардировщик неожиданно мягко коснулся плит бетона, подернутых серебристой пленкой воды. В голубоватом свете прожекторов взлетно-посадочная полоса казалась рекой, берега которой тонули во мраке. Самолет плыл по ней сначала стремительно — белооранжевые фонари на обочинах проносились растянутым пунктиром. Потом движение замедлилось, бомбардировщик неторопливо свернул на рулежную дорожку, обозначенную синими огнями, и замер на стоянке. Все так же моросил дождь, и в опадающем гуле выключенных двигателей слышался его шелест на плоскостях и стеклах кабины. Командир снял шлемофон, устало провел рукой по волосам. — Вы знаете что-нибудь о взлетно-посадочной системе «Глиссада?» — негромко спросила я. Летчик ответил не сразу, задумчиво погладил ладонью штурвал, обернулся. — О «Глиссаде»? К сожалению, мало. Однажды читал в газете, что ведутся исследования, а больше от летчиков слышал: земля слухами полнится. Мы называем «Глиссаду» лучами надежды. 1979 г. Режим — предельный 1 – Олег Васильевич успел передать: «Вращает, вра-ща-ет...» Последнее слово врастяжку, как при больших перегрузках. Гудков был талантливым, опытнейшим летчикомиспытателем и все-таки в режим, который искал и должен был исследовать, попал, когда уже не ожидал его... Моей вины как ведущего инженера здесь не было. Знаю это, десять лет прошло и все же... Голос ведущего инженера бесцветен, глаза смотрят сухо. Несколько секунд он молчит, собираясь с мыслями, в лице что-то меняется, оно словно стареет. — Ведущий обязан предвидеть все и заранее «подстелить соломку». Как, например, в полете другого летчика-испытателя. Виктор Егорович Чукаткин разворачивает длинный лист кальки. Четкие линии — изменение во время полета высоты, скорости и других параметров — взмывают, опадают, напоминая кардиограмму. Но это не ритмичные удары сердца — это штопор на сверхзвуковом самолете, двадцать витков. Палец ведущего скользит по кривым и все, что происходило в полете, воспринимается почти зримо. — Вот здесь, после запланированного режима сваливания, самолет неожиданно начал штопорить. Летчик-испытатель И.Волк применяет один, потом второй, третий метод вывода — не помогает. Хотя в этом месте, если бы не поторопился... но об этом на земле, когда есть время, легко рассуждать... А тут заметно легкое движение руки — летчик вытащил из-под ручки управления катапультные держки. Нет, бросать машину не собирался — хладнокровие и выдержка у Игоря Петровича поразительные — просто держки мешали. Теперь снова рули поставлены против штопора. Летчик держит их в этом положении упорно, понимая, что это — последний шанс... И на пятистах метрах самолет из штопора, наконец, выходит. А если бы я, словно предчувствуя, не прибавил в полетном задании высоту, так, на всякий случай?.. Виктор Егорович проводит рукой по лбу. В усталом движении чувствуется отголосок пережитого волнения, хотя и было оно запоздалым — испытатель, живой, невредимый, 116 рассказывал обо всем сам, и ведущий инженер пытался вжиться в происходившее и понять, объяснить больше, чем мог сделать это даже летчик... Рождение истребителя, бомбардировщика, пассажирского лайнера – процесс многоплановый, длительный. Хотя сейчас даже при первом подъеме самолета ни у кого не возникает сомнения, что он полетит. Дальнейшие исследования, совершенствование всех систем в воздухе, доводки занимают больше половины всего времени создания летательного аппарата. И рядом с летчиком-испытателем, направляя, поддерживая его на всех этапах летных испытаний, ведя его и в то же время идя за ним — как бы соединяя землю и небо, — ведущий инженер. Если вдуматься, каким объемом знаний нужно обладать ему, как много должностных, моральных и нравственных обязанностей ложится на плечи, какая ответственность за каждым его словом, решением... Зная направление исследования, ему надо составить программу летных испытаний и утвердить ее по всем инстанциям научного подразделения. Обсудить с летчиком конкретное полетное задание, где все должно быть расписано толково и однозначно, с максимальной эффективностью и предельной безопасностью, что на критических режимах, по существу, взаимно исключается. Обеспечивая подготовку всех систем и агрегатов самолета, ведущему инженеру приходится сталкиваться с самыми неожиданными вопросами. Он связан со многими службами подразделения, взаимодействие между которыми не всегда налажено должным образом. Поэтому ведущего инженера в шутку называют «бегущим ведущим», хотя за этим кроется и другой, более глубокий и грустный смысл: не всякий выдерживает на этой должности длительное время. Бывают моменты, когда перед ведущим инженером возникает дилемма: пойти на конфликт с конструктором или со своей совестью, когда летчик-испытатель, находя какие-то конструктивные недоработки в самолете, настаивает на устранении их, а это, естественно, сопряжено с большими трудностями. «Лучшее — враг хорошего» — это правильный лозунг, но в жизни все много сложнее, потому что связано не только с ломкой привычного, сложившегося, но и с нарушением планов, сроков, финансовых смет. И ведущему инженеру требуется порой проявить немало стойкости, чтобы, заняв позицию летчика, отстоять не просто свою и его точку зрения, а безопасность тех, для кого создается самолет. Самой спецификой работы определено, что инженер, ведущий истребительную тематику, обречен ожидать результаты испытаний на земле. Ведущий тяжелых самолетов и летающих лабораторий в этом отношении находится в более благоприятном положении – он сам принимает участие в полете. ...Даже внешний вид летающей лаборатории ИЛ-76М необычен: «родные» двигатели привычных размеров и один огромный — это испытуемый. Самолет, на который его поставят, возможно, еще только в чертежах или мастерских конструкторского бюро, а будущее сердце его уже в полете. Высокая стремянка вместо комфортабельного трапа, в центре фюзеляжа — стеллажи, заставленные осциллографами, на экранах катодников светятся пульсирующие линии. На пульте управления ведущего инженера разноцветные табло, сигнальные лампочки — все как в исследовательской лаборатории, и лишь парашюты, уложенные в чаши сидений, и кислородные маски напоминают, что лаборатория эта работает в небе. Земля скрывается за облаками, в редких разрывах проступают лоскуты зелени, иногда голубым осколком мелькнет водоем. Штурман-испытатель С. Баранов что-то рассчитывает, поглядывая на карту, бортрадист-испытатель Ю.Букштынов вслушивается в радиообмен – каждый занят своей работой. — Проверить кислород на местах, — звучит в наушниках голос командира экипажа лѐтчика-испытателя П.Левушкина, когда самолет набирает определенную высоту. И чуть погодя – голос ведущего инженера Ю.Петрухина: — Командир, выполняю номинальный. 117 Рычаг управления экспериментальным двигателем ползет вперед и в слаженном хоре начинает набирать силу мощный рокот. Самолет норовит развернуться, но, качнувшись, занимает прежний курс — командир и бортинженер В.Евдокимов, балансируя машину, ставят на нужные режимы остальные двигатели. В фюзеляже все оттенки в гуле двигателей слышатся отчетливее. Юрий Николаевич Петрухини и два его помощник записывают показания приборов, изредка перебрасываются короткими фразами – всѐ, как всегда, обычный испытательный полѐт. Но разве испытательный полет может быть обычным? Ведь всего две недели назад... ...Удар неожиданный, резкий — по фюзеляжу, по гандолам шасси. С хлопком спомпировал и один из основных двигателей. Взгляда в иллюминатор достаточно, чтобы понять, что произошло. «Экспериментальный — на малый, а резко нельзя — заклинит... Хватит ли рулей отпарировать разворачивающий момент?» — теперь командир и ведущий инженер мыслили словно одним общим мозгом. Второй пилот летчик-испытатель В.Короткий, понимая с полуслова, помогает решать то непонятное, что возникало теперь ежесекундно, что не расписано в инструкциях и надо мгновенно предугадать, рассчитать. Сбалансировать самолет сейчас можно только рулями, а высота убывает стремительно... Хватит ли ее, чтобы дотянуть до аэродрома? «Прошу посадку с ходу. Правый двигатель выключен, второй неисправен», — запрашивает летчик землю и, получив разрешение, дает команду экипажу приготовиться к возможному покиданию машины... Однако всѐ тогда обошлось, причина сбоя в работе двигателя была выяснена. И всѐ же... Оглядываюсь на пульт управления ведущего инженера. Помощники сбросили с плеч лямки подвесной системы парашютов — тяжело несколько часов сидеть неподвижно. А Юрий Николаевич пристегнул, как положено, парашют, в шлемофоне и демисезонной куртке, хотя в самолете жарко. Ведь в случае аварийной ситуации он должен помогать командиру в управлении машиной и покинет ее одним из последних. Почему одного инженера тянет работать в воздухе, другого не оторвешь от земли? Нет, дело не в оплате, она примерно одинакова, хотя условия работы несравнимы: в полете дискомфорт и опасность. — В полете я могу следить за ходом эксперимента и управлять им, вовремя улавливая отклонения, по своему усмотрению изменить что-то, и вообще, полет — это же полет! Там совсем другими категориями мыслишь... — отвечая на мой вопрос, призналась ведущий инженер С.Сергеева. Двадцать три года работает она в этой должности. Ее дочь Галина Викторовна — тоже инженер и летает с ней в одном экипаже. Летчик-испытатель и ведущий инженер... Свой объект исследования — летательный аппарат — они понимают по-разному. Инженер, как бы ни были широки его знания и богато воображение, в основе видит работу механизмов, а полет представляет по отклонению кривых на графиках, по тождеству реального и ожидаемого. В то время как ощущения летчика конкретны, он улавливает и прогнозирует, как будет чувствовать себя в самолете строевой летчик или пилот пассажирского лайнера. Как подвести инженерное мышление к пониманию образа полета и восприятию летного эксперимента с оттенком собственных ощущений? И в то же время, как привить летчику потребность мыслить инженерными, исследовательскими категориями, творчески вникая в полет? В какой степени можно приблизить к идеалу взаимодействие науки с человеком, который в полете осуществляет ее замыслы? – Нужна новая методология отношений ведущего инженера с летчиком-испытателем. Необходимо поднять статус и престижность этой редкой инженерной профессии, – утверждают не только инженеры и летчики, но и авиационные психологи. 118 – Убеждена, ведущий инженер должен иметь хотя бы начальные навыки пилотирования. Хоть немного, но полетать самостоятельно, тогда ему будет проще понять, что стоит за тем или иным элементом полета и действиями летчика, – эту естественную, хотя и непросто осуществимую мысль высказала кандидат технических наук Т. Ежова. В юности она летала в аэроклубе на спортивных самолетах, потом работала ведущим инженером, участвовала в сложных и опасных испытательных полетах. Но летать постоянно совсем необязательно. Сейчас становится возможным управлять летным экспериментом наземными средствами. ...Шум кондиционеров в машинном зале управления летным экспериментом напоминает приглушенный гул двигателей. Настроение полета усиливает трансляция радиообмена с бортом самолета, выполняющего задание. На пульте ведущего инженера установлены дисплеи — большие телевизионные экраны с выведенными на них параметрами движения самолета. На основном — телеметрическая информация в реальном масштабе времени: светящиеся линии словно текут по зеленоватой поверхности стекла. На цифровом дисплее — точные величины в каждый конкретный момент времени. Можно снять копию с экрана, что-то просчитать, прикинуть, а заметив признаки начала развития непонятного или нежелательного отклонения в поведении самолета, предложить летчику изменить что-то в режиме или совсем прекратить полет. Здесь же в зале присутствуют самые разные специалисты и в случае чрезвычайной ситуации можно провести мгновенный консилиум. Для этого надо обладать не только глубокими профессиональными знаниями, но и уметь тотчас реализовать их, взяв на себя ответственность за принятое решение. Как не каждому дано летать, так и не каждый может анализировать картину полета на дисплее — время скоротечно. Здесь достигается то необходимое слияние неба и земли, при котором инженер вправе сказать: «Мы летаем». Да, прошли времена, когда ведущий был в полной зависимости от умения летчика рассказать о том, как вела себя в воздухе машина. Но если заглянуть в здание команднодиспетчерского пункта, не нового, что высится в стекле и бетоне и откуда ведется руководство полетами, а в старое, приземистое и тесноватое – отсюда, оформив летные документы, разъезжается по самолетам не одно поколение летчиков-испытателей. Здесь на диванчиках и старых самолетных креслах, украдкой поглядывая на часы, вслушиваясь в переговоры диспетчеров за перегородкой, ожидают из полета своих летчиков инженеры. Ждут не только потому, что данные контрольно-записывающей аппаратуры будут расшифрованы лишь на другой день, а узнать результаты испытаний не терпится. Ждут потому, что в летном деле все чувства — уважение и сплоченность, уверенность и волнение, радость удачи и горечь невозвратных утрат — все обнаженно и подлинно, какой бы напускной деловитостью или житейскими мелочами не было затенено. Они ждут... И когда летчик появляется, наконец, в дверях, еще не остывший после полета, еще живущий им, его окружают и, сдерживая нетерпение, начинают расспрашивать. Никакие, даже самые совершенные приборы не смогут заменить инженерам в этот момент слов, движений рук, выражения лица лѐтчика. Они верят испытателю, порой больше, чем кривым на ленте записывающей аппаратуры: приборы могут давать погрешность, а глаза человека, выполнившего предельно опасную работу, обмануть не могут. — Ведущий инженер — это словно бы я сам, так слитны должны быть наши чувства, разум, летный и исследовательский талант. Только в таком единении возможно рождение крылатой машины, — сказал мне однажды лѐтчик-испытатель Римантас Станкявичюс, совсем не склонный к внешнему проявлению эмоций... В этих словах зерно испытательской работы: чем глубже взаимопонимание и острее потребность взаимообогащения, чем прочнее не только профессиональные, но и духовные связи, тем продуманнее, а значит, безопаснее, результативнее испытательный полет и надежнее самолеты, которым предстоит жить в небе. 119 II Не забуду услышанный однажды разговор в поезде. «Какие люди! Преклоняюсь...» — сказал мужчина, сворачивая газету с очерком о летчике-испытателе. «А зарплата у них...» — откликнулась соседка. «Ну, знаете, — подал голос кто-то с верхней полки, — рисковать ради денег жизнью?..» А у меня перед глазами полыхнуло белизной пронизанных солнцем облаков — темной каплей под ними возник истребитель. Он шел не по привычной посадочной прямой, а падал почти отвесно, как ныряльщик с вышки, только ждала его не вода, а твердь бетона... Словно от глотка морозного воздуха перехватило дыхание, хотелось крикнуть: «Пора! Выводи...» А самолет пикировал, и выпущенные шасси, закрылки, казалось, мешали ему дотянуться до торца полосы — все было замедленно, вязко и страшно, как во сне. Направление движения изменилось неуловимо — нос истребителя повело вверх, самолет чуть просел на выравнивании... Тонкий посвист крыльев, шорох покрышек о бетон, штрих дымка, выбившегося из-под колес... Скользнув мимо нас, истребитель припал к земле и покатился по полосе, замедляя движение. Чувствую, как облегченно опускаются плечи, перевожу дыхание — посадку самолета с остановившимся двигателем наблюдаю впервые. Но и лицо стоящего рядом летчика-испытателя тоже меняется, оттаивает. Скатертью-самобранкой стелется перед нами аэродром, вдоль рулежных дорожек — самолеты, от тяжелых транспортных до истребителей. Чуть дальше — строения. Поблескивая остеклением, возвышается новое здание, рядом — тренажерный комплекс. Мы в школе летчиков-испытателей. — За годы работы школы родилось немало хороших традиций, — неторопливо рассказывает заслужѐнный летчик-испытатель, лауреат Государственной премии. Герой Советского Союза Ф. Бурцев. — Тридцать два наших выпускника, если считать на сей день, удостоены звания Героя Советского Союза, трое — лауреаты Государственной премии, сто девяносто пять летчиков удостоены почетных званий «Заслуженный летчик-испытатель СССР» и «Заслуженный штурман-испытатель СССР»... Что влечет опытного военного или гражданского летчика, уже достигшего определенного служебного положения и профессиональной зрелости, к испытательной работе? Потребность летного совершенства? Исследовательские наклонности? А может, мотивы моральные или материальные? Есть профессии, которые прощают ошибку выбора и могут выдержать несоответствие должностных требований с возможностями человека. Бывает, что в повседневной жизни допускаются компромиссы: чья-то «доброжелательная» рука благосклонно помогает молодому подняться на ступеньку выше той, какую он должен был бы занять соответственно своим способностям и стараниям. В профессии летчика-испытателя это недопустимо. Специфика требований, предъявляемых летно-испытательной работой, настолько жестка и бескомпромиссна для всех, что попытка пренебречь ею рано или поздно оборачивается трагедией. Существуют разные мнения по поводу принципа отбора слушателей для школы летчиков-испытателей. Бесспорно одно: право окончательного решения за инструктором, его собственным опытом летно-испытательной работы, его дальновидностью методиста и принципиального человека. Научить испытывать самолеты... Есть ли в педагогической практике задача более сложная и ответственная? Она заключается не только в обучении специальным приемам и навыкам, но и в формировании определенных черт характера, этических взглядов и гражданских качеств. ... Взлет, шасси еще не убрано и высота всего несколько метров. 120 – Четвертый выключить, — дает команду инструктор летчик-испытатель А. Фирсов, и рука бортмеханика резко сдвигает назад один из рычагов управления двигателями. Бесцветный круг крайнего винта зачерняется замедляющими вращение лопастями, машина норовит развернуться — косо проносятся совсем бликие колпачки фонарей на краю бетонной полосы. Самолет, не успев набрать скорость, чуть задирает нос. – Придави его, Сережа, придави, — стерегущие руки Александра Ивановича, не касаясь штурвала, страхуют каждое движение. — Скорость наращивай, ногу больше дай... Лоб слушателя, занявшего командирское кресло, покрывает испарина. Для истребителя, свыкшегося с чуткой отзывчивостью ручки управления, тяжелая машина, как груженый воз для скакуна. Пальцы еще не приспособились к штурвалу, и привычка все оценивать в полете самому заставляет метаться взглядом от земли к приборной доске, хотя о нарастании скорости докладывает штурман. Сергей Тресвятский — еще вчера военный летчик первого класса, чувствует себя, наверное, сейчас школьником, выводящим первые слова летно-испытательной грамоты. Когда Ил-18 входит в нормальный режим полета, Александр Иванович оборачивается ко мне. – Прежде чем учить основам испытательной работы, где критические ситуации будут заложены уже в самом задании, нужно на примере как можно большего количества разнотипных машин показать, что принцип летания — единый. Приучить к необычному – в сложной обстановке все решает четкое понимание происходящего и психологическая готовность. Инструкторы школы летчиков-испытателей... Неторопливый, рассудительный А. И. Фирсов, весь словно из граней, жестко нацеленный Ю. А. Усиков, принципиальный и вдумчивый В. В. Назарян — им доверено воспитание нового поколения испытателей. Разные пути привели их к одному делу. Если Валентин Вазгенович Назарян, еще будучи курсантом Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков имени Ленинского комсомола, готовил себя в испытатели, то Юрий Александрович Усиков в юности мечтал о море и только случай привел его в высшее военное авиационное училище. Летные способности стали очевидны после первых полетов, а педагогические наклонности проявились в годы инструкторской работы в училище. Тогда и вошло в правило анализировать, а не просто разбирать полет, еще тогда понял он, что безопасность заключается в основательном обучении самым сложным и опасным элементам полета, в раскрытии причины и сущности возможных при пилотировании ошибок и грамотном, хладнокровном исправлении их. ... Наше задание — сложный пилотаж, показ характерных ошибок. Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-17У маневрен. А может, эта лаконичность фигур и гармоничная плавность переходов заложена не в самой машине, а в думающих руках Юрия Александровича? Петля Нестерова — по темпу нарастания перегрузки всем телом ощущаешь ее отточенную округлость. Машина словно в глубоком вздохе достигает наивысшей точки и «зависает». – Если сейчас выйти на закритические углы атаки... — Усиков действием договаривает мысль. Ручка управления энергично идет на себя. Машину начинает знобить, она чуть оседает на хвост, словно изнемогая. – Не допустить скольжения... Если оно появилось... Самолет грубо передергивается и сваливается на крыло. Что-то в нем от раненой, падающей птицы... Длинный нос начинает виток, но прекращает вращение. Истребитель переходит в пикирование, набирает скорость. – Умница машина, не хочет штопорить, – одобрительно говорит Усиков, но в голосе сквозит досада летчика, привыкшего к тому, что самолет слушается его беспрекословно. – Попробуем еще раз... На мгновение становится неуютно: мы вторгаемся в запретную область — вся практика летной эксплуатации предписывает ее обходить. 121 При упоминании о штопоре твердеют лица и настораживаются глаза всех летчиков: непроизвольный срыв в азарте воздушного боя не сулит ничего хорошего. А здесь будущих летчиков-испытателей штопору учат буднично, на разных машинах, как одному из обязательных элементов летных испытаний. С Валентином Вазгеновичем на другом типе истребителя — на перехватчике МиГ-25У нам повезло больше. Самолет, входя в некоординированный вираж, словно затягивает невидимый узел. «Режим предельный», — в предостерегающем женском голосе речевого информатора чудится тревога. – Слышите, как забеспокоилась эта дама? – шутит Назарян и сильным толчком «дает ногу». Самолет, бросив через крыло, положило на спину и он заштопорил послушно, теряя километры высоты, размазывая витки по размытой пелѐне облаков, непрочно затянувшей землю. Один виток, второй, третий... – Теперь рули на вывод, – движения ручки управления и педалей неспешны, и в голосе Валентина Вазгеновича не проступает напряжения, словно все эти долгие секунды самолет в неуправляемой фигуре, вопреки всем законам аэродинамики, подчинялся его рукам... Научить в совершенстве владеть серийными летательными аппаратами – это лишь заложить фундамент, от которого начинает расти летчик как испытатель. Расти постепенно, не оставляя в теоретической и летной подготовке пустот, которые, как раковины в отливке, грозят изделию изломом в момент особого напряжения. Принцип, заложенный в основе наземной подготовки, своеобразен — слушателю предоставляется полная самостоятельность. В такой методике есть свой резон: в предстоящей работе испытателю придется, оставаясь наедине с заданием, решать нестандартные, никем до него не опробованные задачи. И хотя ставить их будет ведущий инженер, а проработать задание помогут опытные специалисты, но продумать пути решения всех неизвестных, прогнозировать в испытательном полете все возможные и невозможные варианты ему придется самому. Полет потребует творческого подхода и той скрупулезной добросовестности, без которой нет, и не может быть науки. Новый летательный аппарат получает прописку в небе, естественно, не сразу. Его исследуют по определенным методикам с тем, чтобы после полета инженеры могли снять показания контрольно-записывающей аппаратуры и провести нужные доработки. И эти, чаще всего монотонные полеты, однообразная, внешне элементарная работа требуют особой чистоты и подлинного искусства. «Азбука испытаний» — так назвала я для себя полет, в котором Валентин Вазгенович, словно разбирая слова по слогам, показывал типовые маневры, применяемые при летных испытаниях. — Для начала прогоним площадку. Три минуты — замри и не дыши... Стрелки приборов собраны «по нулям», Назарян словно зажимает самолет в кулаке — нет ни крена, ни набора, ни снижения. Неподвижен и рычаг управления двигателем, только желтая стрелка топливомера чуть приметно напоминает о расходе горючего. «Вираж-спираль», «зубцы», «импульсы», «дача» — десятки специфических терминов, за которыми кроются конкретные задания и которые в полете надо не просто предельно чисто выполнить, а наивыгоднейшим образом расположить, сберегая высоту, время, топливо и — усилия тех, кто будет потом расшифровывать ломаные линии и плавные кривые, зафиксированные на пленке контрольно-записывающей аппаратуры. Определяя не просто характеристики самолета, а его надежную способность перевозить пассажиров или выполнять учебные и боевые задания. То, что инструктор как летчик обязан постоянно совершенствовать свое пилотажное мастерство — очевидно. Но может ли он сам быть оторванным от испытательной работы? Не потеряет ли те сложнейшие и тончайшие, а потому легко разрушаемые навыки, которые приобретаются не просто с годами, а с практикой трудных, сопряженных с риском заданий и присущи лишь испытателю высокого класса? Как совместить инструкторскую работу с проведением испытаний, требующих полной отдачи физических и умственных сил? 122 Оказывается, и эта проблема находит свое решение: Валентин Назарян проводит ответственную работу на одном из новейших типов – самолете вертикального взлѐта и посадки Як-38 с палубы корабля. А Юрий Усиков недавно за доводку модифицированных и опытных машин и ряд других работ был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Все возрастающие требования современности заставляют создавать, исследовать и совершенствовать авиационную технику в жестко регламентированном темпе. Поднимает ли летчик-испытатель опытные самолеты, облетывает ли уже готовую серийную продукцию или проверяет в воздухе расчеты и прогнозы ученых — во всех случаях он реализует труд большого коллектива, умственное, физическое и духовное напряжение множества людей. Это придает летчику-испытателю социальную значимость общегосударственного масштаба и делает его талант общественным достоянием. Наивно думать, что в этой нацеленной, исключительно сложной работе, особенности которой не сглаживают, а обостряют противоречия, нет столкновения взглядов и убеждений, характеров и умов, а чувство долга не конфликтует порой с чувством самосохранения, заложенным в нас природой. В испытательной работе прежде всего самому летчику приходится определять границы допустимого риска. И если он дает заключение о поведении машины на предельных режимах, не доводя испытаний до конца, он не просто вводит в заблуждение ведущего инженера, конструкторов. Оставляя область нераскрытых явлений, оберегая себя – испытателя, он ставит под удар строевого летчика или пилота гражданской авиации, которые верят в надежность самолета. – Но и смелостью невозможно возместить недостаток умения, и честность не должна заставлять испытателя выходить за пределы того, что может он на сегодняшний день, – заместитель начальника летно-испытательного Центра Э. Каарма словно припечатывает слова. Все в нем выразительно, крупно — лоб, губы кисти рук. – Значит, определяя молодому испытателю задание, – продолжает он, – надо учитывать и степень подготовки, и нравственные стороны личности летчика, анализировать сложность предыдущих заданий и качество выполнения их. С одной стороны, летчик-испытатель должен летать на всех режимах, поддерживая и повышая свою летную подготовку, но в то же время высокие требования, предъявляемые к качеству исполнения, заставляют ввести узкую специализацию... Зная, что за испытательную работу Энн Веллович награжден орденом Ленина, пытаюсь перевести разговор на полеты, но Каарма сразу же словно теряется, отгораживаясь смущенной улыбкой. Зато в воздухе раскрывается неожиданно и щедро. ...Сверхзвуковому истребителю характерны большие скорости, и вираж на форсаже напоминает тугой обруч, стянувший воображаемый столб пространства. Но сейчас стрелка на приборе показывает скорость, характерную для винтомоторных самолетов с прямым крылом. Непонятно, на чем только держится истребитель МиГ-21У — поток воздуха под треугольными плоскостями ненадежный, дряблый. Все в машине сосредоточилось, словно затаило дыхание, а в голосе Энна Велловича слышу удовлетворение: — И на таких скоростях можно летать, — рука летчика дозирует усилия с аптекарской точностью, истребитель живет в диапазоне режимов, где еще можно, но не рекомендуется летать А Каарма умудряется подходить к минимальному пределу. — Вот сейчас свалится на крыло... выводим аккуратно. А теперь позволим войти в штопор... Из левого можно перевести в правый, из нормального в перевернутый... Только не дать развиться. Летчик-испытатель — первопроходец, но не только в неопробированных режимах. Он первым познает ощущения, еще не изведанные другими, и все рождает мгновенное недоумение, но не растерянность. Не потому, что летчик-испытатель сделан из другой плоти и крови. Плоть та же — ранимая, невечная, и кровь так же толчками учащенно бьет в виски... Нацелить мысль и волю, отключить эмоции — летная профессия и отбирает тех, кто способен подавить посторонние, чувства. Без этого летчик растерялся бы в первой же сложной ситуации. 123 Но на том этапе мастерства и опыта, какими владеет Энн Веллович, подавлять уже ничего не нужно: мозг, нервы, руки, чувства — все оттренированно и подвластно. Среди испытателей не принято рассуждать об опасности. Риск воспринимается здесь, как понятие относительное и естественное. Говорят сосредоточенно, скупо: «Серьезное задание». Это не бесстрашие самоуверенности и не психологическая защита. Это нечто более сложное. В летном эксперименте требуется не только чистое выполнение режима и умение прогнозировать его поэтапно. Надо видеть динамику, перспективу его развития, понимая причинную Связь явлений, заметить аномалии там, где теоретически их не ожидали и, подойдя к пределу возможного, но не перешагнув его, привезти на землю не просто сотни метров пленки контрольно-записывающей аппаратуры, а ценнейшие данные, ради которых стоило идти на риск. Здесь мало хладнокровия и даже исследовательских навыков. Само предназначение летчика как испытателя подразумевает высокий уровень сознания, творческие качества ума и высокую культуру мышления, а значит, и широту интересов, духовных запросов, философское и социальное понимание научных и производственных проблем — всего, от чего в конечном итоге зависит рост технического прогресса. «Нельзя ограничивать летчика-испытателя рамками инструкций» — эта мысль, однажды высказанная Игорем Петровичем Волком, в первый момент показалась противоречащей тому, что раньше считала незыблемым в летном деле. Лишь позже поняла: как бы продуманно и тщательно ни составлялось задание, испытательный полет вносит свои коррективы, которые требуют быстрой перестройки прежних навыков, гибкого формирования новых. И чем свободнее импровизация, тем больше надежность. Об Игоре Петровиче я слышала задолго до знакомства: неординарная, сильная личность, не умещающаяся порой в рамки привычных суждений о человеке. Одаренный испытатель, и то, что от других потребовало бы полной отдачи сил, для него нормальный ритм работы. ...В этом полете все показалось мне необычно: на взлете истребитель, словно лизнув бетон, пронесся над полосой на метре, круто взмыв, в боевом развороте пошел в зону, бочками погасил на нужной высоте скорость. Фигуры сложного пилотажа — лаконичные, словно поджарые. МиГ-21У с покорной преданностью шел за рычагами управления — движения Игоря Петровича энергичные и казались бы резкими, не будь поразительной точности, нацеленности их. И даже в момент преднамеренной потери скорости сваливание на крыло походило на пилотажную фигуру, а штопор — как взведенная пружина с туго сжатыми стальными витками. У каждого опытного летчика есть как бы свой «запас безопасности», четкое понимание предела, до которого он может позволить себе дойти, пилотируя машину. Испытатель определяет этот уровень надежности сам, трезво оценивая способности и опыт. Одни обходят сравнительно далеко границы опасных зон, другие, с ростом мастерства, подходят к ним ближе. У лѐтчика-испытателя Волка этот буферный слой очень тонок, он работает почти на грани возможного. «Каждый полет с Игорем Петровичем что-то дает», «Он не был моим инструктором, но я считаю себя его учеником», «Раньше казалось — все могу, и только слетав с ним, понял: до совершенства мне еще далеко», — признаются многие сильные испытатели. Наверное, каждый опытный мастер на каком-то этапе профессиональной и нравственной зрелости начинает ощущать потребность обучать других. Тем более, если этот опыт не просто летный, а испытательский. — Есть же наставники в других профессиях. Они назначаются официально, перед ними ставятся определенные задачи, — с настойчивостью и тревогой доказывает Игорь Петрович. — В воздухе настораживает непонятное, еще не прочувствованное, не объясненное себе. И то, к чему молодой испытатель методом проб и ошибок идет иногда годами, можно показать в нескольких полетах. Но надо умело составить задание, уловить сильные и слабые стороны 124 его летных способностей, научить понимать не только самолет, но — себя в самолете, подсказать, как управлять не просто машиной, а — собой. Творческий поиск испытателя не завершается с окончанием полета. Готовясь к сложному заданию и в период выполнения его летчик не в состоянии остановить нацеленное течение мысли, да и не хочет этого: мозг требует тренировки так же, как и руки. Анализируется проделанное, моделируется предстоящее и этот внутренний диалог с машиной не ограничивается разговорами с инженерами научных подразделений, не замыкается в стенах конструкторских бюро, библиотек. Задание преследует везде — дома, за едой, у телевизора... Но когда задание выполнено и в отчете поставлена последняя подпись, вместе с удовлетворением приходит опустошение, словно на смену давящей тяжести положительной перегрузки приходит отрицательная, перенести которую много трудней. Сколько лет может выдержать организм на таких предельных режимах? Сдают нервы, здоровье. И если вовремя, с пониманием специфики именно этой летной специальности, медицина не поддержит человека, наступает необходимость подчас преждевременного ограничения, а потом и списания с летной работы. А что значит для летчика запрет летать? На земле для него нет профессии равноценной по загруженности, самоотдаче, самовыражению. Расставание с небом — как потеря самого себя... Но списание с летной работы испытателя — беда не только личного плана. Затраты средств на обучение, формирование летчика высочайшего класса исчисляются огромными цифрами. Это обязаны учитывать специалисты врачебно-летной экспертизы, в медицинском заключении которой не допустимы перестраховка, бездушие, формализм. Это должны понимать все, от кого зависит обеспечение испытателей — не просто денежное вознаграждение, а создание условий для нацеленной работы, спокойного отдыха, спортивных занятий, профилактического лечения. ...Вечер. Стихает гул двигателей на аэродроме, пустеет здание школы летчиковиспытателей. Светится только одно окно — в инструкторской обсуждаются текущие дела, пути совершенствования учебного процесса, методические вопросы. – Прививать навыки инженерного мышления... – жестко щурит глаза Усиков. – Летчики, приходящие из строевых частей, привыкли летать, когда все, в основном, нормально, а отклонения расцениваются как ЧП. И требуется врастить в их сознание: в испытательной работе каждый полет — исследование, эксперимент. – Тренажерное оборудование пора научиться применять максимально приближенно к заданию, которое будет потом в полете. И летающую лабораторию бы нам... — мечтательно улыбается Фирсов. – Имея летающую лабораторию, а точнее — пилотажные стенды, мы имели бы инструмент для имитации характеристик нескольких типов самолетов в одном полете, — поддерживает инструктора заместитель начальника школы по научной работе А. Крупенин. Но касаясь проблем сугубо производственных, они понимают, что существует и другая сторона дела — моральная. И от того, насколько высоки будут их собственные идеалы, сильны бойцовские качества, шире круг интересов и духовных запросов, зависит способность вырастить из сегодняшнего слушателя специалиста предельно эрудированного, с понятиями и потребностями той высокой профессиональной и личностной нравственности, без которой искусство испытателя превратится в заурядное ремесло. Понимание общественной значимости и ответственности перед страной определяет летчика как испытателя. Если он забывает об этом и начинает отделять свой талант, возводя себя в степень исключительности, работа приобретает для него узкий смысл личного благополучия. И эта занятость своей персоной принижает его и как личность, и как специалиста, потому что человек не может быть в полной мере требователен к себе, если им не движут силы более мощные, чем обывательские интересы. 125 Школа летчиков-испытателей — не цех, где штампуют летчиков-испытателей, а скорее, ювелирная мастерская, в которой бережно и строго шлифуют грани летного таланта и человеческих достоинств. Пронести свой личный мир ощущений и желаний на самом высоком уровне общественного сознания — в этом летчику-испытателю может помочь только вдумчивое и чуткое отношение к его суровой работе государства в целом и – каждого из нас. 1983 г. 126 127 Подруги Земля стелется каменно и голо. Горбушки сопок, опаленные солнцем, чернеют неприютно, долина высохшей реки словно дышит зноем. Не верится, что под слоем изнывающей от жажды почвы притаилась вечная мерзлота. Взлетно-посадочная полоса внизу кажется мутным ручьем, а жилые дома — россыпью светлой гальки. На стоянке, на рулежной дорожке серебрятся истребители — идут полеты. Самолет приземляется, заруливает на стоянку. Через распахнувшуюся дверь в фюзеляж врывается холодный ветер. И яркое солнце словно остывает, а бурая, плоская, как стол, долина, усыпанная гравием, кажется еще неприютнее. Тем неожиданнее и желаннее протянутые навстречу ветки с нежными розовыми лепестками... Багульник! Кустарник невзрачный и ломкий, а поставь прутик в воду, в тепло — и зацветет даже зимой, наперекор лютующему за окном морозу. Невольно представляется, как трепетно вдыхали аромат воины-ветераны, прибывшие на празднование юбилея части. В декабре стояли сорокаградусные морозы, и вдруг — трогательная улыбка весны... Можно было бы подробнее рассказать о том празднике — очередной годовщине со дня присвоения части наименования гвардейской. О торжественном митинге, о том, как поотечески требовательно всматривалось старшее поколение в лица нынешних авиаторов, как тревожной радостью сжимались сердца ветеранов, когда они, уже расставшиеся с небом, садились в кабины сверхзвуковых истребителей — так неузнаваемо преобразившихся и все же родных... Основное место в жизни летчика — аэродром, основная работа — полеты. Здесь все ясно, четко, нацелено. Но есть еще и те, кто делит с мужчинами летные заботы, оставаясь на земле. Умеет ждать, умеет находить нужное слово, а иногда — просто помолчать рядом... Умеет растить детей без бабушек, быстро собираться в дорогу, легко вживаться вот в такие отдаленные, кажется, от всего мира отрезанные места. Жены авиаторов... Лидия Васильевна Гандер. Мягкая улыбка, спокойный взгляд, легкие светлые волосы окаймляют милое лицо. – Мы здесь уже девять лет. Таких старожилов не очень много: семьи Кленина, Кудрявцева, Падалки... Здесь и дети выросли. Вначале трудно было, ведь привыкла к садам, фруктам. Но еще в школе знала — муж обязательно будет летчиком. Лидия Васильевна смеется тихо, в глазах проскальзывает застенчивость: – Мы в школе вместе учились, он уже тогда авиамоделизмом увлекался, потом – в летное... А я – в мединститут. Специализация – лицевая хирургия, хотелось делать людей красивыми. Но потом пришлось переквалифицироваться на стоматолога. Что поделаешь? А вообще я счастлива... Любови Николаевне Черненко пророчили будущее певицы: – В консерватории начинала учиться. Но ведь здесь в самодеятельности, мое пение, может быть, даже нужнее? – улыбается широко, и все в ней энергично, добро. В голосе украинская напевность и непреклонность хлебосольной хозяйки. Гость, переступивший порог ее квартиры, прежде всего слышит: «Сидайте за стол, таким борщом угощу...» В Валентине Григорьевне Козенко внутренняя интеллигентность и простота сплетаются естественно и легко: – Вот сетуют иногда, что тоскливо, от культурных центров далеко... Но скучать можно и в большом городе. Многое зависит от нас самих... И неожиданно, с откровенной радостью: – А я в детсад воспитательницей устраиваюсь... Вот только справлюсь ли?.. Хотя раньше детским хореографическим кружком руководила. По образованию я преподаватель английского. 128 Светлане Владимировне Козловой в этом отношении проще. Она – механик по ремонту радиоэлектронного оборудования. Работа по специальности. – Трудно ли быть постоянно в курсе летных дел мужа? – Умные, чуть насмешливые глаза еѐ неуловимо сосредоточиваются. – Да, трудно. В неведении спокойнее... Но ведь и от моей работы зависит безопасность летчика. На аэродроме занято немало женщин, и можно положиться на их добросовестность. Вряд ли кто-нибудь бывает внимательнее... Ночь, спохватившись, теснит затянувшийся день – в этих краях солнце перед заходом цепляется за горизонт долго, а потом словно проваливается и наступает темнота — густая и тревожная. На сотни километров — чернота сопок, долин под холодным ясно-звездным небом. Только аэродром живет подвижными огнями, холодными лучами посадочных прожекторов, ревом взлетающих на форсаже самолетов. Но отсюда, с вышки командно-диспетчерского пункта, видны негаснущие окна домов летного городка. Кажется, что дома, квартиры, уютные и теплые, стоят возле взлетнопосадочной полосы и ждут. Молча, терпеливо и напряженно, как умеют ждать только женщины, вбирая всем существом своим каждый звук, дыхание летного поля. – Когда самолеты летают, грохота двигателей почти не замечаем – привыкли. Но если какая-нибудь заминка – замираешь, пока снова не загудят. И не уснешь... Сидишь и ждешь, когда ключ в двери заскребет, – Галина Витальевна Диденко задумчиво поправляет волосы. Рука маленькая, ласковая, в глазах тихая, нескрываемая нежность. В молодых семьях все выглядит проще. – Мой говорит: «Спи, чего себя мучаешь?» Я свет не гашу, но засыпаю – ребенок маленький рано будит. Правда, теперь, после того, как побывала на аэродроме... Это хорошо, что политотдел пригласил нас туда. Мужья о полетах рассказывают, но все как-то просто у них получается... – Оля Турчина теребит в руках детскую шапочку. Галя Ольшанская молчит. Помню их лица у взлетно-посадочной полосы, когда, борясь с сильным боковым ветром, самолеты заходили на посадку, и даже женщины, не посвященные в летные тонкости, чувствовали эту борьбу летчика со сносом. Замечали и неодновременность касания колес шасси, и легкий крен, и дымный росчерк покрышек... Потом – вздох облегчения и чья-то попытка шуткой снять скованность: – Теперь на него и не поворчишь лишний раз... Дети на аэродроме чувствуют себя свободнее. Не так давно их знакомили с высотным снаряжением летчика. Сегодня заведующая детским садом Людмила Михайловна Еременко привела старшие группы показать, как производят регламентные работы на самолетах. Ребятишки льнут к ней, как цыплята. – А у меня книжка про двигатели есть. – А на этом самолете мой папа летает... – Нет, это моего папы самолет! Людмила Михайловна широким жестом подгребает ребятишек к себе: – Сейчас мы пойдем туда, где работает мама Димы Чурина. Надежда Ивановна Чурина в комбинезоне. Неяркая косынка, стянувшая густые темные волосы, подчеркивает румянец щек и глубину ясных глаз. – Я проверяю работу прибора, регистрирующего все параметры. Даже не знаю, как рассказать проще? – Она смущается, но как-то сами собой находятся понятные слова, и дети, довольные, идут на рабочее место мамы Светы Кирейцевой. Дождь... Земля ловит его, жадно впитывает, и все, что может, распускается. Бурая корка земли покрывается несмелой дымкой травы, которая вскоре выгорит, так и не успев завоевать усеянные галькой плешины. И, наверное, потому, что земля здесь скупа на зелень, в каждой квартире много цветов — вьющихся по стенам, свисающих с полочек, льнущих к стеклам окон. – Скоро начнем высаживать рассаду на балконах, – председатель женсовета Галина Алексеевна Першина всматривается в еще пустые цветочные ящики и тонкую паутину 129 веревочек на стенах домов. – В прошлом году даже конкурс провели. Такая красота была! Каждый балкон, как клумба. Зимой посреди городка поставят елку, и Дед Мороз обойдет детей с подарками. На катке, залитом прямо по коричнево-серой гальке, загремят клюшками мальчишки. Девочки в уголке начнут старательно выписывать коньками восьмерки. Некоторые, сумев найти тощие снежные языки между сопками, встанут на лыжи. – Знаете, как здорово каждое утро вместо зарядки к сопкам бегать! Я и дочку приучаю. Воздух сухой, небо синевы удивительной, нигде такого не видела. – Таня Завражнова помальчишески порывисто вскидывает руки, и ветер точно подхватывает ее – длинноволосую длинноногую. – А если к озерам пойти... – Вы же не знаете, какая у нас рыбалка, – перебивает ее Валентина Перегуда. – Щучье озеро, Карасиное, и всего километров десять отсюда. По воскресеньям, вместе с детишками... И понимаешь, что дело не в клеве, не в ухе. Просто это так важно знать, что за выветренными лысинами пригорков есть тальниковое затишье и прохлада воды. Есть успокаивающие глаз заросли осоки и лепестки цветов в пестром разбеге. И пусть холода быстро потеснят короткое знойное лето, все же можно пособирать грибы на дальних лесистых сопках, полакомиться черникой. Здесь многое переоценивается: вкус овощей, практичность обуви, необходимость книг и хорошей музыки. Здесь глубже ощущается дружба, острее переживается радость встречи с новыми людьми, а приезд актеров становится событием. ...Тесный зал клуба не вмещает всех желающих. Дружный смех, пылкие овации, о которых, увы, забыли иные театры больших городов. Зал внимал доверчиво и благодарно. Видимо, и артисты филармонии чувствовали, что сюда, в эти дальние гарнизоны, нельзя привозить посредственное, заигранное. Как важно, чтобы, приезжали сюда поэты, музыканты, лекторы. Как хорошо, что скоро начнется строительство нового Дома офицеров с просторным залом, комнатами отдыха, кружками — от авиамодельного до кройки и шитья. Ведь именно здесь так нужны сияние паркета, блеск зеркал, яркий свет, музыка, чтобы даже в лютый мороз женщины смогли надеть, наконец, свои самые красивые платья... Хрупок и неприметен багульник. Но чуть запахнет весной, и полыхнут зарей склоны сопок, радуя глаз, тревожа душу. Милые, скромные женщины далекого, но в памяти сердца сохранившегося гарнизона, что-то в вас от этого неожиданного и прекрасного дара суровых краев. 1977 г. Три из тысяч ... Двойной удар стеганул воздух, белой зарубкой вспыхнул и растаял в синеве след самолета.... Виктор Игнатьевич Кузнецов оторвал взгляд от неба и ускорил шаги, но гул, родившийся в вышине, продолжал звучать. На мгновение показалось, что он снова сидит в кабине, только не современного тяжелого ракетоносца, на котором летал в последние годы, а в хрупкой кабине грузового планера. В глаза плеснуло чернотой ночи, прильнувшей к остеклению фонаря. В ушах зазвучали характерный, то шепелявый, то с хрипотцой, посвист плоскостей планера и приглушенный осторожный рокот буксировщика. Может, об одном из таких полетов и рассказать ребятам? Тогда ему было немногим больше, чем этим недавним десятиклассникам... Только как передать то чувство близости земли, когда идешь над ней в бреющем полете? Как рассказать об обманчивости ночного затишья, об уязвимости планерного поезда с воздуха и земли? 130 ...Немеет нога на педали, удерживая планер в нужном пеленге — буксировочный трос второго планера проходит опасно близко. На ручке управления ощущается неправильное размещение груза в фюзеляже — планер норовит задрать или опустить нос, и надо все время парировать это движение. Все в тебе — мысли, нервы, мускулы — словно взведенная пружина. И так все четыре часа полета к линии фронта, где на поляне костры, где планерный поезд ждут, настороженно вслушиваясь в ночь. Остро, словно кольнув темноту, вспыхивает огонек — с буксировщика подали сигнал: «Приготовиться». И с небольшим временным интервалом двойная вспышка: «Отцепка!» Однообразие обрывается. Всем телом, чутко проверяя перегрузку, в резком крене отвалить в сторону, стремясь набрать метры высоты, подаренные скоростью. Осмотреться быстро, цепко, приметить излучину проблеснувшей реки, темное в темном — массив леса и три всплеска огней. Огни плывут навстречу, как окна родного дома. Видишь сейчас только их, они — то единственное, что связывает с землей, с людьми, с жизнью прифронтовой полосы, затаившейся рядом... Ком снега подвернулся под ногу. Виктор Игнатьевич приостановился, подумал с усмешкой: «Нет, рассказывать надо не об этом: планеры для теперешней молодежи — слишком обыденно. Чтобы слушали, затаив дыхание, надо удивить. А чем удивишь мальчишек, если даже о космосе они говорят, как о соседнем районном центре, в который пока им доступа нет, но со временем...» Двое мальчишек перебежали дорогу перед самым капотом неспешно идущей «Волги». Машина скрежетнула тормозами, на гололеде ее занесло, и женщина с ребенком шарахнулась от края тротуара. В глазах мальчишек вызов. Им хочется доказать свою смелость и самим верить в нее. Только не знают — как? Это к взрослому приходит понимание истинного мужества, осознанного риска, которого может потребовать долг, а иногда работа, каждодневная, будничная. А для мальчишек риск — утверждение своего мужского «я», вопреки опеке бабушек, наставлениям учителей, окрикам сердобольных прохожих. И если не направить порыв, они будут придумывать себе самые нелепые испытания и рисковать бессмысленно. Но еще страшнее, когда юность не жаждет подвига, когда духовная дряблость гнездится в тщедушном теле. Тяжело застучало в висках, сдавило грудь. «Я слишком быстро иду, надо спокойнее, — Виктор Игнатьевич приостановился, перевел дыхание. — В авиации все настоящее: и опасность, и преодоление, и уважение к себе... А рассказывать ребятам надо о том, что смогут представить, примерить к себе — о работе летчика-испытателя. За четверть века всякое бывало...» Были работы, где он шел вслед за летными происшествиями — горькими, непоправимыми. Повторяя условия, приведшие к ним, преднамеренно вводя самолет в аварийную ситуацию, он искал причину. И находил. В других испытательных полетах надо было шагнуть за рамки освоенного, осторожно пробуя непонятное, неисследованное, непрочувствованное еще никем, чтобы расширить боевые, тактические и технические возможности самолетов. ...Облака внизу то как торосы с завитками снежных грив, то вытягиваются легкой фатой, словно самолет летит не над Уралом, а в Заполярье, где были всего несколько часов назад. Только глыбы льда сверкали там в изломах многоцветьем радуги, а сейчас облака отсвечивают перламутром, успокаивая глаз. Где-то в этом районе заправщик должен пробить их многоярусный слой — командный пункт помогает свести самолеты. Впереди, белоснежной бороздой пропахав небо, обозначился силуэт танкера. Прибавить скорость — хвостовое оперение и плоскости заправщика увеличиваются в размерах постепенно, плавно. Вот он занял часть лобового стекла кабины, теперь — почти половину его и, наконец, разросся перед глазами, поблескивая на солнце заклепками на фюзеляже и крыльях. 131 Привычный порядок команд и действий привычная собранность и точность движений. Сейчас из правой плоскости танкера покажется заправочный шланг с парашютиком на конце. Глотнув струю воздуха, маленький купол словно затвердеет в своей фарфоровой белизне... «Командир, стабилизирующий парашют поврежден. Шланг «гуляет». Что будем делать?..» — в голосе помощника командира корабля больше недоумения, чем тревоги, хотя нетрудно понять, чем может обернуться для них этот полураскрывшийся, с порванными стропами купол, не способный удержать шланг от раскачки и «хлыстов». «Командир, на запасном аэродроме погода ухудшилась. До своего — топлива не хватит»,— опережая вопрос, скучным голосом доложил штурман. «Ну что же, попытаемся укротить «гуляющий» шланг. Экипаж, внимание!» Маневр точный, без спешки. Левое крыло самолета сближается со шлангом медленно, словно с опаской, зависает над ним. Теперь, осторожно снижаясь, накрыть, слегка придавить его плоскостью, будто прижать ладонью. Потом отойти чуть-чуть вправо, пытаясь ввести шланг в «захват» — все время «чуть-чуть, слегка, еле-еле», словно на цыпочках, затаив дыхание... Если маневр удастся — замереть на десятки долгих, как часы, секунд и ждать, пока будет подтянут шланг и командир огневой установки подаст долгожданную команду: «Контакт». «Шланг под плоскостью прыгает, в «захват» не попадает», — доложил командир огневой установки — с его места в хвостовой части самолета все видно отчетливо. Но это можно понять и без доклада: руки на штурвале чувствуют удары по элерону. Мгновение — шланг выскользнул из-под крыла и заходил вверх-вниз. Смятым цветком трепетал на уцелевших стропах маленький белый купол, потом его сорвало совсем. «Попробуем еще раз», — даже сейчас, много лет спустя, Виктор Игнатьевич помнит, как произнес он эту фразу, прервавшую ненужные разговоры, сомнения. Даже голос помнит — негромкий, властный. Эту интонацию он сохранял всегда, когда в воздухе случалось что-нибудь непредвиденное и надо было мобилизовать экипаж. В такие моменты все в нем настораживалось, замирало. А мозг начинал с поразительной быстротой и ясностью отсчитывать, вспоминать, анализировать. Зрение, слух, ощущение рук на штурвале, каждая клетка тела, все чувства странно обострялись, что-то словно обновлялось в нем, и он молодел в одновременной раскованности и напряжении. Это было как вдохновение. Потом оно забывалось. Оставалась пригнувшая плечи усталость, мокрые от пота подшлемник, комбинезон и заострившиеся черты похудевшего лица. Они пробовали состыковаться еще пять раз. Глаза заливал пот. Чем вытирали ему лицо, носовым платком или подшлемником, он не заметил. Запомнилось только ощущение чего-то мягкого, скользящего по лбу, бровям, горьковатый привкус резины во рту, хотя в маску поступал чистый кислород. Сейчас он словно со стороны видел синеву неба и два самолета в нем, сцепившиеся пуповиной заправочного шланга. Остекленевшее в яростном блеске крыло самолета-танкера рядом со своим крылом и нервную стрелку топливомера... Но рассказывать об этом — все равно, что пытаться передать музыку словами или писать картину бесцветными красками. Слова становятся такими беспомощными, блеклыми, когда стремишься выразить ими чувство полета. Это в тридцатые годы мальчишки щеголяли летной терминологией, и каждое слово было для них как призывный набат. Сейчас эти слова затерялись в быту, утратили то удивительное звучание, которое гордой радостью щемило грудь, будоражило воображение, рождая бесконечно прекрасное чувство летной романтики. Юность... Самоуверенная и доверчивая, неумелая и дерзкая. Как бережно, мудро надо питать ее душу, какие главные говорить слова. ...Дома с заиндевевшими окнами словно следили за ним. В плотном и нежном налете инея, в незрячих стеклах было что-то поразительно знакомое. Он даже ощутил холод снега 132 на кончиках пальцев и жгучую струю ледяного воздуха. Но сначала было падение — секунды обреченности и борьбы; неестественно задранный к небу нос вздыбившегося тяжелого ракетоносца, бессильные рули управления и расчетливо выверенные, но бесполезные движения. «При подходе к заданному режиму самолет самопроизвольно вышел на предельные углы атаки, потерял скорость и...» Позже, анализируя случившееся, просматривая официальные бумаги, разговаривая с друзьями, продумывая все с той скрупулезной точностью, на которую способен только опытный и хладнокровный летчик, он пытался понять: можно ли было избежать этого срыва в штопор? Памятью ощущений, движений, зрительно, отстранив чувства, эмоции и все личное, что могло помешать ему быть объективным, он искал ошибку в своих действиях и — не находил ее. Когда испытания новой машины проходят на грани теоретических допусков, практика может внести свои коррективы. Недаром в этом полете было решено сократить экипаж до минимума. Стрелка высотомера словно сжирает сотни метров высоты. На втором витке штопора длинный нос полез вверх еще энергичнее. Сейчас самолет снова свалится на крыло... Перегрузка растет. «Юра, приготовься, — предупредил радиста. — Пошел!» Негромкий, как показалось, выстрел катапульты и странное облегчение: теперь в самолете он один. Внизу, словно подернутые туманом — запотело стекло фонаря кабины, — вращались лес, речка, нить дороги. Отчужденно подумал: «Мне прыгать рано». Машину била дрожь, все в ней стонало, сопротивлялось. Он переламывал ее траекторию осторожно, чутьем, настоянным на опыте, понимал, предугадывал, что она должна сдаться, нужно только терпение. Не «рвать» штурвал на себя, иначе самолет, не выдержав перегрузки, разрушится, он же сделан всего лишь из металла. Туман за стеклом фонаря стал непробиваемо плотен, земля исчезла, только стрелка высотомера бесстрастно фиксировала — восемьсот метров, шестьсот... Самолет вышел в горизонтальный полет на пятистах метрах. Стрелки приборов успокоено замерли, привычно натужно забасили двигатели, уводя самолет к аэродрому. Он сорвал с лица кислородную маску и протянул руку к стеклу фонаря — пальцы ткнулись в шероховатый, холодный иней: слишком резкий перепад температуры на высоте и у земли возник в разгерметизированной кабине. На мгновение он почувствовал себя словно замурованным, наглухо, навечно. И это ощущение слепоты было неожиданно и страшно... – Виктор Игнатьевич, допризывники в большом зале, – военрук стоял на пороге Дома офицеров. «Допризывники... — невольно отметил Виктор Игнатьевич. — Звучит вяло, растянуто. И как энергично, строго – боец, солдат, воин». Они разделись, прошли в зал, гудящий голосами. Военрук произнѐс: – Тише, товарищи. Перед вами — Герой Советского Союза, заслуженный летчикиспытатель Виктор Игнатьевич Кузнецов. Он расскажет вам... «Что же рассказать? — Виктор Игнатьевич чувствовал тяжесть возникающей паузы. — Как посадил машину, воспользовавшись маленькой боковой форточкой, предназначенной для связи с наземным экипажем? Но это все частное, это лишь эпизод... У каждого в жизни бывают свои испытательные полеты. Человек мужает только в трудном... А много ли трудного видели вы — мальчишки? Как научить жить на пределе того, на что способен? Ведь в этом смысл и счастье, иначе жизнь становится бесцельной, пустой...» Лица — веселые и строгие, с пушком пробивающихся усов и давно привыкшие к бритве, серьезные и насмешливые... А он стоит перед ними в броне своих знаний, опыта, и радость за них, у которых все впереди, как боль, щемит сердце. 133 «Мне бы ваши годы, ребята. Все повторил бы сначала, через все трудности, через смертельный риск...» — он чуть не сказал это вслух, но только перевел дыхание, облизнул пересохшие губы. Чувствуя, как затягивается пауза, он смотрит в глаза юности, еще светящиеся чистотой, еще не потушенные житейскими заботами, еще способные загореться страстью на всю жизнь. Но пока в них не было ни любопытства, ни восхищения. Пока в них угадывалось лишь ожидание. И он заговорил негромко, сам вслушиваясь невольно в звучание каждого слова: – Когда я был таким, как вы, молодые люди, я мечтал только об одном — стать летчиком. Ясно, словно было это вчера, помню свой первый в жизни полет, свою первую встречу с небом... 1983 г. Эхо далекой войны На земле лежит ночная тень, а воздух, слоисто расчерченный тонкими полосками облаков, уже налился рассеянным светом. Внизу, как в колодце — расплывчатые пятна лесов, огоньки незаснувших домов, пряди рек. Северо-восток впереди светел и чист, а за спиной — чернота. Мир поделился на ночь и день. Как приятно лететь в день! А тогда... Неспокойное фронтовое небо тревожило настигающим утром. Хотелось нырнуть в ночь, раствориться в ее сумерках... Иван Аврамович Лугинец отвел глаза от горизонта, привычно, не вчитываясь в показания приборов, скользнул взглядом по приборной доске — все нормально. Автопилот отключен. Иван Аврамович не любил заученных, угловатых движений штурвала: монотонность расслабляет внимание. Да и второму пилоту полезнее чувствовать самолет в своих руках постоянно. В наушниках привычная скороговорка команд и запросов, деловито басят двигатели. И почему-то именно в эти рассветные часы чаще всего наплывают воспоминания. Кажется, сбрось с плеч тридцать незаметно ускользающих лет и в теплый мирный уют кабины Ил-14 ворвется хлесткий ветер и беспокойное тарахтение малосильного двигателя По-2, безмолвие эфира. А внизу в черной пустоте, вспышками трассирующих пуль обозначится ломаная линия фронта... – Проверь фактический ветерок, – Иван Аврамович включил автопилот и откинулся на спинку кресла. Искоса поглядывая, как второй пилот работает с навигационной линейкой, прикинул скорость ветра в уме. Воспоминания не отвлекали. За многие годы инструкторской работы привычка постоянного контроля стала рефлекторной. Второй пилот — парень смышленый. Сколько ему? Лет двадцать пять? А им, выпускникам летной школы, в сорок третьем едва перевалило за двадцать. В трудном взрослеешь быстрее. И если в юности бредишь полетами, а судьба упрямо приковывает к земле, тогда романтическая мечта становится целью жизни, а неустойчивое «хочу» — твердым «буду». В седьмом классе они почти все хотели быть летчиками. Тридцатые годы сделали страну крылатой. Даже на глухой дальневосточной станции с необычным названием «Ерофей Павлович» жили подвигами Чкалова, полетами полярных летчиков. И неуклюжий самодельный планер, способный делать лишь небольшие пробежки с резинки, казался трамплином в небо. Думали, если авиация — значит, полеты. А военное авиационное училище, куда они поступили, готовило техников. Поняли слишком поздно. И каково было потом – служить в истребительном полку, готовить машины, и каждый раз уступать пилотское кресло летчику, а самому оставаться на земле... 134 Иван Абрамович усмехнулся. Сейчас, из дали прожитых лет, было смешно и чуточку грустно смотреть на себя, ершистого, упрямого даже в своей старательности... Война обрушилась на аэродром бомбежкой. И сейчас перед глазами — взметнувшаяся в воздух земля, коптящее пламя и ослепительные вспышки. А на рулежной дорожке — звено истребителей. Они не успели взлететь и теперь кажутся беспомощными в оголяющем свете дня. Хотелось вскочить, набросить маскировочную сеть, закидать их ветками, прикрыть своим телом. Проходят минуты растерянности, и боль за погибших товарищей сменяется ненавистью к врагу. Летать! Встретиться в воздухе с ненавистным черным крестом, всадить в него свинцовую очередь. В эти дни он часто думал о том, как будет воевать. Тот, кто знает, каким потом омыта каждая деталь самолета, кто в сорокаградусный мороз согревал его прикосновением голых пальцев, в кровь сдирал руки и, затянув последнюю гайку, засыпал под крылом, не в силах дойти до землянки, тот будет и в воздухе обращаться с самолетом, как с живым существом. Верить в него, как в друга. Беречь истребитель в бою — значит наступать, первым атаковать, уничтожить врага, чтобы не раскроила пулеметная очередь тонкую обшивку крыла. Значит быть осторожным и смелым, как те, кто сбивает десятки машин неприятеля и дотягивает до аэродрома, даже если баки почти сухие и плоскости как решето, сквозь которое просвечивает небо. «Дайте мне летать!» — с этой мыслью он подходил к командиру. А говорил другое: «Дайте вторую машину, я успею обслужить и ее». Командир эскадрильи старший лейтенант Коломин внимательно приглядывался к смышленому парню, замечал, с какой тоской провожает тот каждый взлетающий истребитель, как возится с мотором, неохотно вылезает из кабины. Однажды сказал: «Ладно, Лугинец, при первой возможности помогу тебе, поедешь в летное». И когда пришел приказ о наборе в летное училище техников из воинских частей, его фамилия в списке стояла первой... Иван Аврамович почувствовал – запершило в горле. Мельком взглянул на бортмеханика – не заметил ли тот, как влажно блеснули у командира глаза. «Сентиментальничать начал, видно, на пенсию пора», – подумал о себе с укором. Неожиданно спросил второго пилота: – Давно летаешь? – Да лет пять уже, из них три — на «химии». А что? – глаза пилота тревожно метнулись к приборной доске, но, не заметив отклонений, остановились на командире. Лугинец успокаивающе улыбнулся: – Это хорошо, «бреющий полет» приучает к аккуратности. – Хотел добавить: «К эталону техники пилотирования», но подумал, что этому надо учить, а не говорить. На земле можно доказывать словами, в воздухе убедительно только действие. Иван Аврамович вдруг остро позавидовал своему второму: сколько парню еще летать! Заново открывать мудрость инструкций, учиться не расхолаживаться при «нудном» задании. Понять необходимость самодисциплины, шлифовать любой, даже простой на первый взгляд, полѐт, чтобы, потом в «сложняке» не ерзать, не «терять» приборы, не обливаться холодным потом. Сколько вторых пилотов, прикрепленных к нему для ввода в командиры, пересидело «слева», впитывая опыт внештатного инструктора. Сколько разных характеров способностей, но у каждого — четкая дорога, которую строишь себе в основном сам. А тогда, в сорок втором... Им оставалось сдать экзамены. Ждали комиссию, но пришел приказ — училище расформировать: положение на фронте тяжелое. И снова — техником в авиационную истребительную дивизию ПВО. Не выдержал, написал письмо Верховному Главнокомандующему, просил не только за себя. Через несколько месяцев трое лучших техников дивизии были посланы в летную школу. 135 В приказе значилось: «Как поощрение». В жизни каждого человека есть годы-вехи, по которым можно проследить весь пройденный путь. Они высвечиваются из прожитых лет, где одни события уже стерлись, значит, были не столь значительными. Другие приобрели иную окраску, — взрослея, переоцениваешь многое. Год-веха — сорок третий. В этом году он стал коммунистом. В этом году, сдав теорию экстерном, а летную подготовку пройдя с выпускной группой, он получил звание пилота. Ему предлагали остаться в школе инструктором — отказался. Мечтал об истребителях, хотел бить врага. «Вы назначаетесь старшим группы и направляетесь в полк гражданской авиации», — это был приказ и возражать бесполезно. Только прибыв в полк, молодые летчики поняли, что гражданская авиация тоже воюет, и фанерный, тихоходный По-2 может стать в умелых руках грозным оружием. — А ну, посмотрите, где находимся? — негромко приказал Иван Аврамович второму пилоту. Нахмурился, заметив, что тот достает карту, прицеливается взглядом, сравнивая паутину рек и лесные массивы. «Мало тренируем визуально. Привыкли к бесперебойной связи и дорожкам приводных радиостанций. Но на высотах, где можно видеть землю, надо ее знать». А вслух сказал: — Определите местоположение с предвычисленным курсом, — с удовлетворением кивнул головой, когда пилот уверенно закрутил рукоятку настройки радиокомпаса. Как упростилось всѐ, хотя и приборов стало больше, и скорости повысились, и от лѐтчика порой требуются знания инженера. Но ни один самолѐт сегодня, взлетев, не отрывается от опеки земли. Весь пут в небе земля ведѐт самолѐт бережно, не выпуская светлячка его метки с экранов локаторов, нацеливая, поправляя. А тогда, над партизанскими краями... Низкая облачность прижимала к земле, тѐмные массивы деревьев среди тѐмных полей – чѐрное в чѐрном, как подтѐки дѐгтя. Только озѐра отливали старым серебром. Радиосвязи нет. На приборной доске зеленовато светятся четыре-пять приборов. Курс и время – единственные проводники, которые могут вывести к «конверту» костров. Огни вспыхивают на узкой поляне, заходить на которую, словно снижаться в ущелье. Стволы сосен в неспокойном свете будто сдвигаются с места, а фигуры людей замирают. Глиссада снижения... Это сейчас еѐ вычисляют, фотографируют точность выполнения. А тогда – глазомер, интуиция, накопившийся опыт и та подготовка, которая предшествует каждому полѐту. «Маршрут ты должен знать, хоть завяжи глаза! Костры видеть раньше, чем их зажгут. Высоту и скорость на снижении чувствовать телом, а не приборами... Научись ходи крадучись, даже если ты на тысяче метрах. Надо видеть в темноте, предугадывать, откуда могут появиться истребители врага, где тебя обстреляют зенитки... И помни, ночь – твой союзник. Сдружишься с ней – победишь и останешься невредимым», – внушал лѐтчикам командир полка майор Золотов. Иногда в обозначенном квадрате костры не вспыхивали. Значит гитлеровцы рядом, самолѐт принять нельзя. Второй пункт назначения километрах в сорока... И так – по треугольному маршруту, в поиске знакомого сигнала. Когда, закончив пробег, самолѐт замирает, смолкает тарахтение двигателя и наступает тишина, начинают властно вторгаться звуки: встревоженный шелест листьев, непокойный плеск реки. Потом – сдержанные голоса, шум торопливых шагов. Крепкое рукопожатие, короткие вопросы: «А у нас, браток, опять дети... Вчера ещѐ пятнадцать ребятишек у фашистов отбили. Кровь брали у них, гады. Троих не довезли, по дороге померли...» В груди холодеет, глаза невольно ищут маленькие фигурки, руки бережно подхватывают почти невесомые тела. Забрать бы всех, да больше шести во вторую кабину не уместишь. 136 Позже было много других заданий: вывозил раненых, садился иногда на такие «пятачки», взлететь с которых, казалось, почти невозможно; доставлял разведчиков в тыл врага. И когда на крыло забирались девушка или паренек, неуклюжие под тяжестью парашюта и рации, становилось тревожно и неловко: их встретит вьюжная чернота, неизвестность, риск... А он, прилетев, несколько часов сможет поспать в теплой землянке. Собственная работа начинала казаться будничной, и становилось проще летать среди разрывов зениток, в обнажающем сиянии осветительных ракет. Курляндия... Предательски белые ночи, зеркальный блеск бесчисленных озер, призрачное зарево пожаров. Здесь он сбрасывал листовки о сдаче в плен Паулюса. Здесь с остановившимся двигателем садился на вынужденную, падал в обледенении... Почти тысяча часов над территорией врага! Но в памяти неизгладимы те сотни полетов к партизанам. Дети, познавшие страшную уродливость войны и нечеловеческую жестокость. Ордена... Они, как память каждодневного подвига. Но самая дорогая награда — медаль «Партизану Отечественной войны» I степени. Сколько пассажиров перевез он уже в мирные годы — тысячи. Руководил полетами, организовывал работу Казанского аэропорта. С тех пор Татария — родной дом, а каждый второй командир Ил-14 в авиапредприятии — его воспитанник. Он передал им то, что понял сам еще в те, мужеством отмеченные годы. ...Тепло светится приборами пульт управления, самолет идет в мирную ночь. Дремлют в салоне пассажиры. А Ивану Аврамовичу кажется, что сейчас откроется дверь в кабину и знакомый с дальних лет голос скажет: «Ты давай повнимательней, браток, здесь дети...» 1984 г. Ожидание Она не сразу поняла, отчего проснулась. Сквозь узор занавесок лунными бликами пробивался свет неоновых фонарей, от этого темнота ночи становилась еще плотнее. Тревожно заскрипела не закрытая на шпингалет балконная дверь, свежий порыв ветра умыл лицо. «Что-то случилось...» — чувствуя, как холодеет все внутри, подумала Зинаида Никифоровна. Резко села в кровати, торопливо пошарив по тумбочке, нажала кнопку настольной лампы. Неяркий свет ослепил и словно придвинул пестрые корешки книг за стеклом книжного шкафа, зеркало, тонконогую вазу. Вид знакомых предметов успокаивал. Зинаиде Никифоровне стало неловко за свою мгновенную панику, как будто кто-то мог подсмотреть, насмешливо покачать головой: «Столько лет, а все привыкнуть не можешь? Разве в первый раз так? Кажется, ясно было сказано: на аэродроме вылета «нет погоды». Спи». Но не спалось. Сейчас зайти в детскую, поправить у Сережки сползшее одеяло, увидеть, как он хмурит черные брови — младшенький Фирстов — копия отца. А Юрка как ляжет с вечера на правый бок, так и не шелохнется, только руки иногда во сне вздрагивают, наверное, клюшкой орудует на хоккейном поле. У Татьяны лицо нежное, мечтательное. Если вглядываться пристально, то обязательно проснется, спросит тревожно: «Папа еще не прилетел?» и тоже до утра не заснет, а утром ей идти в институт... Зинаида Никифоровна осторожно встала, тихо прикрыла балконную дверь, не заглядывая в детскую, вышла в столовую. Шаги приглушены ворсом ковра. Неожиданно резко взревели на аэродроме двигатели. Звук разом опал, словно захлебнулся. «Выключили, зарулив на стоянку, — безошибочно определила Зинаида Никифоровна. — Значит, кто-то сел. Может, Сережа? — инстинктивно шагнула к двери. Захотелось сорвать пальто и бежать на угол, к будке телефона-автомата. — Нет, так нельзя: Сережа опять будет сердиться. И диспетчер сказал: «Раньше утра не ждите». А как трудно — не ждать». 137 За окном медленно падал снег, сплетая фантастические узоры. Мерцали в свете фонаря снежинки, похожие на рой светлячков. Сколько их было в те душные, южные ночи. ...Комната длиной в пять шагов, казенная кровать шаткий стол и — окно. Огромное окно в ночь, где зрели желтые звезды, загадочно шелестели без ветра листья тутовника. А Зине красота ночи казалась издевкой: в такое время нужно быть только вдвоем, тем более, если женаты лишь месяц и до свадьбы были знакомы всего четыре дня. Четыре дня... Сережа любит иногда в шутку побравировать этим: «Видишь, какой я был тогда неотразимый!» ... Он приметил ее сразу: глаза большие, не слишком говорливая, но как запоет... «Матери сказал, что жениться не собираюсь, а забрел на концерт в соседнее село — и словно обухом по голове, — подумал Сергей. Взъерошил смоляные волосы, зыркнул веселым глазом на товарищей. — А ведь увезу у них из-под носа. Вот только отпуск кончается...» — погрустнел, исподлобья покосился на сцену. Зина, румянясь от радости успеха, раскланивалась, небрежно откидывая косу за плечо. Она была такой же далекой и недоступной, как два часа назад, когда стояла среди подружек и ребята знакомили их, а она говорила что-то о художественной самодеятельности и теребила кончик косынки. На другой день Сергей пришел в военной форме. Зина недоверчиво поглядывала на припечатавшиеся к широким плечам полоски погон. «Сейчас пока бортмехаником летаю, но командир говорит – летный талант есть, «землю вижу». Не веришь? Да я уже заявление в училище подал», – Сергей плотнее надвинул на лоб форменную фуражку. «Боюсь выходить замуж за летчика, – сказала Зина на третий день. – Волноваться все время, ждать... Не смогу. И разве можно так, сразу? Несерьезно это». А на четвертый день Сережа закинул в попутную машину легкий Зинин чемоданчик. Мать, встретив Сергея с женой, только ахнула: «Зарегистрировались уже? А без свадьбы-то как же?» «А у нас свадебное путешествие будет», — пошутил Сергей. Свадебное путешествие началось с машины, груженной дровами. Потом был поезд, самолет — долгий путь в раскаленный и душный Душанбе. А закончилось оно первой вылазкой на базар, где Зина потеряла сознание, перегревшись с непривычки на солнце. ...Зинаида Никифоровна оторвала взгляд от заснеженной улицы, отошла от окна, зябко спрятала руки в карманы халата. «Надо спать... Утром на работе перепутаю всю отчетность. Наверное, нигде такой писанины, как в отделе кадров, нет. Еще профоргом избрали...» — но вместо того, чтобы устало вздохнуть, улыбнулась, оглянулась на часы, пытаясь в полумраке разглядеть циферблат. Захотелось, чтобы скорее утро обрушилось заботами, свистом закипающего чайника, смехом детей, торопливым перестуком пишущей машинки — жизнью. И в эту жизнь неизменно должен врываться рев идущих на взлет самолетов. От него жалобно звенят стекла, и весь домик, стоящий в створе посадочных знаков, словно приседает, втягивает крышу, как голову в плечи. А люди морщатся и прикрывают ладонями уши. Только жены летного состава, Зинаида Никифоровна замечала это не раз, невольно оборачиваются к окнам, на мгновение в глазах их мелькает тревога, и тут же напряжение тает: рев переходит в медленно затухающий гул. А если самолет заходил на посадку — в шепот, значит, колеса шасси коснулись полосы. «Час ночи... Спать!» Зинаида Никифоровна садится на диван, набрасывает плед. Пушистая ткань греет, бегут по спине запоздалые «мурашки» холода, плечи сводит зябкая дрожь. Хочется свернуться калачиком, подтянуть под себя ноги. Странно, но именно в такие, особенно теплые, уютные минуты диссонансом приходит воспоминание детства — вязкая, засасывающая ботинки грязь, тяжелая сырость долгополого пальто, не греющего, а только связывающего движения. 138 ...Она жалась к обочине, пропуская тяжелые повозки, машины со снарядами. Впереди — руины недавно освобожденного города, перемычка понтонной переправы, стянувшая берега Днепра. Далекий гул канонады звучал эхом бомбежек, ужасом оккупации, отчаянием последних дней. Замедляя шаги, девочка останавливалась. Мысли метались, хотелось сесть в грязь и уснуть прямо здесь, среди хлюпающих по воде ног. Оглядывалась назад: там, в полусгоревшем селе — небольшой холмик. Он вырос среди покосившихся крестов недавно, и уйти от него насовсем невозможно. Лошадь фыркнула у самого уха, обдала парким запахом сена. Отшатнувшись, Зина прикрыла лицо руками, ожидая, что сейчас из-под колес брызнет фонтан грязи. Но повозка остановилась, звонкий женский голос окликнул: «Далече, доченька? — жесткая рука прихватила холодную ладошку, помогла взобраться на поклажу. Быстрые глаза прямо глянули в заплаканное, осунувшееся лицо. — Беда какая? Не молчи? Горе — оно на людях отходчивее. А мамка-то где?» От усталости и слез все плыло перед глазами, и мягкий хлеб, что дала женщина, казался камнем во рту. «Будет плакать-то, — рука женщины гладила Зинины волосы и от этой ласки боль в груди притуплялась. — Отец, значит, без вести... А мамка всю войну перетерпела, а потом сразу...» Голос женщины словно вбирал в себя тоску одиночества, но не жалостивился, а поддерживал, помогая подняться. «Ко мне поедем, — неожиданно просто сказала женщина. — Дочка моя помоложе тебя на годок, сестренками будете». ...Зинаида Никифоровна откинула плед, торопливо подошла к письменному столу. Захотелось достать старый альбом, потрепанный, с пожелтевшими фотографиями, еще раз вглядеться в доброе, полное лицо, в яркие, как чернослив, глаза чужой женщины, ставшей ей второй матерью. Что ж с того, что всего пять лет, пока Зина в техникум не поступила, вместе жили. Разве не в эти годы юности податливее всего на хорошее и плохое душа? Разве не тогда, медленно оттаивая от страха одиночества, поняла она, что человек не может жить только для себя, и еще девочкой решила, что нарожает, когда вырастет, много детей. И будут они дружны, как она со своей названой сестренкой Людмилой... Ящик письменного стола поддается туго. Зинаида Никифоровна, засунув пальцы в узкую щель, осторожно провела рукой, выравнивая застрявшую книгу, и вместо потершейся обложки фотоальбома доверчиво легла на ладонь книга в сером рабочем переплете. Английский язык. Почему, слушая, как дочь заучивает иностранные слова, она испытывает странное чувство зависти и легкой досады? Нет, не на мужа, и даже не на себя. В тот памятный день все было решено правильно. Сергей тогда почти вбежал в комнату, ударился ногой о стол и, потирая ушибленное колено, широким жестом выложил на затертую клеенку невзрачный листок шероховатой бумаги с бледно отпечатанными под копирку буквами. Только сверху — «Фирстов Сергей Михайлович» — было написано от руки четкими лиловыми буквами. – Летное училище, – словно декламируя, прочел Сергей и, подхватив Зину, закружил ее на месте. Она съежилась, боясь удариться о спинку кровати. Такого ликования их тесная комнатушка вместить явно не могла. Сергей осторожно посадил Зину на единственный стул и, медленно сложив вызов, спрятал его в карман кителя. – На сборы два дня. – Помолчал, задумчиво повертел попавшийся под руку учебник. – Подожди, а как же твой институт? Зина молчала. Латинские буквы от слов Сергея словно тускнели. Десять неповторимых по яркости дней, проведенных в институтских аудиториях, показались таким далеким и 139 значимым отрезком жизни, что в горле запершило. Она отвела глаза и, стараясь казаться беспечной, сказала: «Подумаешь, переведусь. Главное — тебе удача». Но учиться больше не пришлось. Родилась Таня. Два года, пока Сергей был в училище, жили в деревне, у свекрови. Дружно жили, а все равно, как получил Сергей направление вторым пилотом Ли-2, чемодан в одну руку, Татьянку в другую — и снова на попутной машине в аэропорт... Зинаида Никифоровна улыбнулась, задумчиво перелистала учебник, положила в стол бережно, плотно задвинула ящик. Что ж, это справедливо: неосуществленные мечты должны завершать дети. И разве может быть тяжела добровольно взваленная, дорогая ноша, которую несет женщина всю жизнь? «А помнишь, как было в Таллине?» — строго одернул ее внутренний голос. «Помню, — Зинаида Никифоровна жестко сцепила пальцы рук. — В одной комнате двумя семьями жили. Кривоногий стол вместо стенки — зато с Сергеем вместе. Зато можно было, сварив обед, бежать на стоянку и, спрятавшись под крыло от дождя, вместе есть суп из кастрюльки, поставленной на перевернутую стремянку. Зато можно было среди десятков других самолетов, приземлявшихся в порту, безошибочно определить тот, единственный, который ждешь. А если его нет слишком долго, — плакать, представляя себе самое страшное. Для любви это тоже нужно — тревога и радость встречи. Они всегда рядом, они как тень и свет... И свое потрепанное пальтецо на «рыбьем меху» помню, и вечные ангины, и поездки через весь город в детский сад, и промозглый аэродромный склад, где работала кладовщицей...» Зинаида Никифоровна резко встала, заходила по нарядному рисунку ковра. За окном уже не мело, фонари, пригашенные дымкой рассвета, тлели голубоватыми головешками. Почему-то вспомнился недавний разговор: «Хорошо вам, — в запале спора сказала молоденькая сотрудница.— Муж летает на «Ту». А у меня — второй пилот Ан-2, месяцами на «химии». До детей ли?» Тогда не нашлась, что ответить. А сейчас сказала бы: «Милая девочка, разве ты не знала, что жена пилота должна быть мужественной и сильной? Она должна уметь ждать, верить и – надеяться... Женой летчика надо суметь стать». «Расфилософствовалась! Чуть ли не памятник себе сотворила, – Зинаида Никифоровна тихо рассмеялась. – Кажется, я собиралась спать? Подушку повыше, до подбородка укутаться одеялом и ни о чем не думать... Считать до ста, потом обратно...» Чуть уловимый скребущийся звук, его не спутаешь ни с чем, услышишь в любом гомоне — ключ осторожно поворачивается в замке двери. И разом уходит напряжение, теперь можно уснуть успокоено, сладко... Но рука сама выскальзывает из-под одеяла, а ноги уже нащупывают тапочки. — Сейчас приготовлю тебе завтрак. Я не сплю, Сережа... 1974 г. Дочь Родины Иду к человеку, которого никогда не видела, но восхищаюсь с детства. Его жизнь была чередой подвигов – об одних знала вся страна, о других – никто, кроме близких. Его имя стало легендарным для тех, кто, как и я, воспринимает небо над головой не просто воздушным пространством, а сферой необычной деятельности, местом приложения особых способностей, духовных и физических сил... Валентина Степановна Гризодубова – Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, летчик и дочь летчика, одного из первых в России самолетостроителей Степана Васильевича Гризодубова. Более ста лет назад родился этот самобытный, талантливый самоучка — создатель четырех конструкций самолетов и первого в России бензинового авиамотора. 140 Помню фотографию, когда-то удивившую меня: травяное поле, самолет начала века — подкосы, расчалки — все ажурно и кажется хрупким. На открытом всем ветрам пилотском сиденье, ухватившись за расчалки, сидит девчушка лет двух и, по-взрослому нахмурив лоб, смотрит вперед... С воспоминаний о детстве и начинается наш разговор с Валентиной Степановной. Она сидит рядом, в неглубоком кресле, одетая по-домашнему просто, опрятно. Когдато густые, тѐмные волосы тронула седина, красивое лицо избороздили морщины, в некогда больших, выразительных глазах накопилась усталость — годы есть годы. Но голос остался прежним — решительным, и взгляд внимательно цепким. – Отец, беря в полет, привязывал меня за спиной, – лицо Валентины Степановны светлеет, словно на него упал солнечный луч. – В самолетах все до единой детали были сделаны его руками. Картер для мотора отливал одиннадцать раз, пока не получилось то, что надо. Мама – Надежда Андреевна, обшивая плоскости парусиной, разработала свой способ крепления материала с нервюрами. Первый самолет установили в сарае, а когда запустили двигатель, то от потока воздуха крыша приподнялась и стены завалились... Хочется узнать подробности, не повредился ли самолѐт? Но Валентина Степановна, ничего не уточняя, смотрит выжидающе, и я задаю заранее подготовленный вопрос. – Вот вы окончили Харьковский технологический институт и музыкальную школу, учились в консерватории по классу фортепиано. Иностранные языки вам с детства легко давались. Но все это в итоге стало лишь приложением к главному — летной деятельности... Какую роль сыграли пример и увлечение родителей? – От родителей, воспитателей передается не только увлеченность делом, но и отношение к людям, вещам, деньгам, – Валентина Степановна неожиданно улыбается. – Не так давно увеличили фотографию, где мама с папой на самолете. Присмотрелись, а у папы ботинки до дыр протерты: все, что зарабатывал — на самолеты... А работал Степан Васильевич механиком на единственной тогда в Харькове электростанции, дежурил с Надеждой Андреевной в обсерватории, и лаборантом в технологическом институте был. Но основные заработки давали курсовые и дипломные работы, которые он выполнял для богатых студентов. Самому же учиться в институте так и не довелось. – Как вы думаете, Валентина Степановна, почему в последние годы нет конкурса в авиационные институты? И в летных училищах, несмотря на современнейшие методы профотбора, велик процент списания курсантов по летной неуспеваемости... Это тревожит. – Авиационные профессии – будь то конструирование или самолетостроение требуют особого к ним отношения, тем более на современном уровне развития авиационной техники. А летные способности можно выявить лишь в полете. Во времена моей юности в военное летное училище поступали, чаще всего, полетав сначала в клубах и в школах Осоавиахима, – лицо Валентины Степановны молодеет, взгляд тянется к окну, где сквозь облачную дымку просвечивает синева неба. Подавив лѐгкий вздох, она продолжает: – Сейчас мы много говорим о том, как нацелить подростков на серьезное дело, как занять свободное время молодежи. Авиамоделирование, любительское самолетостроение, авиационные виды спорта — все это не просто увлекательно. Эти знания воспитывают личностные качества молодого человека, его творческие наклонности. В более раннем возрасте быстрее формируются и летные навыки. – Вы начали летать самостоятельно?.. – я не успеваю закончить фразу. – В четырнадцать лет, на первом слѐте планеристов в Коктебеле, – подсказывает Валентина Степановна. – Но полеты на учебном планере можно начинать и раньше... Зная проблемы, существующие сейчас в молодежной авиации, убеждена: для того чтобы поднять ее былую массовость и престижность, надо не бояться инициативы, эксперимента, поиска. Но и спрашивать строго. Сейчас я покажу вам снимки... Валентина Степановна достает альбом, перелистывает страницы. Рука задерживается на фотографиях: группа летчиков из агитэскадрильи имени М. Горького, созданной работниками печати. Босой старик стоит на крыле, в глазах удивление и торжество. Ребятишки и взрослые плотным кольцом окружили самолет. 141 – Обратите внимание на юношей, девушек – какие взволнованные лица! Я летала на самолете, подаренном агитэскадрилье Героями Советского Союза — летчиками, спасавшими челюскинцев... Тогда мы облетели почти всю страну. Кабардино-Балкария, Ферганская долина – где только не были, с кем только не встречались... И сейчас привлечение молодежи в авиацию должно быть нагляднее, ощутимее, нежели с экранов телевизоров и кино. Тем более что и там оно недостаточно. – Но перелеты, воздушные выступления, парады в дни праздников, даже показательные парашютные прыжки местные комитеты ДОСААФ (со ссылкой на безопасность полетов) разрешают крайне редко. Хотя в руководящих документах ЦК ДОСААФ прямого запрета нет, – в моѐм тоне прорывается накопившаяся досада. – Безопасность полетов – это, прежде всего, продуманное руководство, мастерство и дисциплина летчиков. Но не перестраховка, которая рождает недоученность, а значит, и аварийность, – Валентина Степановна хмурит брови, голос становится жестче. – В летном деле был и всегда останется элемент риска. Профессия воспитывает характер, поэтому идут в авиацию смелые... Хотя смелость не только в воздухе нужна – начальнику она нужна и в стенах своего рабочего кабинета, если не хочет руководить по принципу: чем меньше летают – тем спокойнее жить. – Из восьмидесяти шести курсантов, которых вы обучили, будучи летчикоминструктором Тульского аэроклуба «Добролѐт, а позже инструктором летной школы в Подмосковном Тушино, больше половины в годы Великой Отечественной войны стали Героями Советского Союза. Это, конечно, не случайно. Значит, сумели привить своим питомцам какие-то особые качества? Ведь одной отваги здесь недостаточно. Так поделитесь секретами инструкторского и летного мастерства! – Никаких секретов нет, – пожимает плечами Валентина Степановна. – Есть определенное отношение к летной работе, к своему поведению в воздухе. А главное — к подготовке к полетам. Взять хотя бы наш беспосадочный перелет на Дальний Восток. Большая часть полета проходила в облаках и ночью... – Но в то время во всех видах авиации «слепой», то есть исключительно по приборам, полет осваивали очень немногие! – пытаясь углубить тему, напоминаю я. Валентина Степановна кивает, улыбается. В тоне голоса – доверительные нотки: – Мне в какой-то степени помогли обстоятельства: когда я кормила сына, пришлось переключиться на работу только на московских аэродромах. Летала я на зондирование – для обеспечения более точных прогнозов погоды к дневным полетам Аэрофлота. До рассвета взлетала – бывало, что и туман прихватит, и в облаках блуждала... Тогда и стало ясно, что надо серьезно осваивать «слепой» полет... Получив разрешение на переоборудование одного из самолетов, я в свободное время уезжала на аэродром в Серпухов, к мужу. (Соколов Виктор Александрович был лѐтчиком-испытателем). Там тренировалась. Такая подготовка многое дала мне позже, возможно, и уберегла... В 1937 году Валентина Степановна устанавливает пять мировых рекордов скорости и высоты полета на лѐгкомоторных самолѐтах. В 1938-м – женский рекорд дальности полета. Вот они — снимки в большом семейном альбоме, знакомые мне по старым газетам и кадрам кинохроники. Девичьи лица в меховых шлемофонах — Валентина Гризодубова, Полина Осипенко, Марина Раскова. Самолет АНТ-37 «Родина» конструкции П. Сухого в полете и на заснеженном озере среди таежных дебрей в районе Амуро-Амгуньского междуречья. Поисковые группы – охотники, парашютисты... Командир экипажа гидросамолета М. Сахаров, первым увидевший «Родину». Ещѐ какие-то фотографии и, наконец, ликующие толпы людей – столица встречает своих героинь. – Но рекорд – не самоцель, – Валентина Степановна издали присматривается к снимкам. – Рекорд венчает достижение авиационной техники страны и уровень летного мастерства. Но не только рекордсмена, а и всей методической школы обучения. Это своего рода исследование, эксперимент. 142 – Позже, когда вы стали начальником Управления международных воздушных линий СССР, опыт «слепых» полетов, конечно, помог вам быстрее переучить пилотов Аэрофлота? – замечаю, как оживилось лицо Валентины Степановны, и лукаво прищурились глаза. – В Берлинском международном аэропорту наши пилоты считались лучшими. Бывало, метеоусловия синоптики обещают сложные, все сидят, а нас диспетчер одних выпускает, – Валентина Степановна улыбается и тут же лицо ее становится серьезным. – А как нам всем пригодился этот опыт в годы войны! Летчиков своего полка я приучала летать по вражеским тылам на предельно малых высотах. Ночью мы использовали вражеские светомаяки, отыскивая лесные аэродромы. Учились по различным приметам распознавать ложные. Медикаменты, оружие, вплоть до пушек, перебрасывали летчики 101-го гвардейского, авиационного, бомбардировочного полка дальнего действия полковника Гризодубовой, когда готовились в поход соединения С. А. Ковпака. Помогали партизанскому соединению генерала А. Н. Сабурова. Вывозили раненых и детей из Белоруссии, с Брянщины, Украины... Видимо об этом вспоминает сейчас и сама Валентина Степановна. – Маршал авиации Евгений Яковлевич Савицкий рассказывал мне, что в одном из городов Западной Украины видел плакат, на котором была напечатана моя фотография и назначена крупная сумма за сбитого летчика из «эскадрильи Гризодубовой» и за мою голову. Она говорит о себе как-то отвлеченно, словно взвешивая с высоты лет дела и поступки той молодой женщины, которой к началу войны исполнилось только тридцать. «Матушка» – так нежно и уважительно называли ее летчики. «Матушка в воздухе» – эта короткая фраза, скороговоркой брошенная в эфир, звучала и заботой — поберегите командира, и предупреждением — командирское око не дремлет. После войны Гризодубова создаѐт научно-исследовательский летно-испытательный центр (НИЛИЦ), где разрабатывается и испытывается новейшая авиационная электроника. «Она была эмоциональным ядром, вокруг которого объединялись люди деятельные и способные, — вспоминаются мне слова Героя Советского Союза, заслуженного летчикаиспытателя СССР М. Л. Галлая. Несколько лет, уже после войны, он проработал под началом Гризодубовой. – Но, оценивая профессиональные качества специалиста, она чутко всматривалась в его внутренний мир. Создавала и берегла чистоту нравственного климата в коллективе». Как связано и последовательно в человеке все: страстная увлеченность любимым делом дает возможность полностью раскрыть одаренность цельной натуры. Отношение к людям и обязанностям своим определяет место и положение человека в жизни страны. Валентина Степановна избиралась депутатом Верховного Совета СССР первого созыва, была первым председателем антифашистского Комитета советских женщин, членом Государственной чрезвычайной комиссии по расследованию фашистских злодеяний. Как взаимосвязано, зависимо все и в самой авиации. От постановки летной работы и технического творчества среди молодежи зависит положение дел в большой авиации — военной, гражданской, даже испытательной. Завершая свой деловой визит, превратившийся в душевную беседу, я спрашиваю то, что волновало меня всегда, что я пытаюсь понять, разговаривая и летая с лѐтчиками: – Валентина Степановна, после войны вы занимали пост заместителя директора научно-исследовательского института, позже – заместителя Генерального директора научнопроизводственного объединения, знакомы с работой летчиков-испытателей – значит, можете судить об авиации, о летном деле в полном объеме. Какое профессиональное качество, независимо от рода летной деятельности, наиболее ценно в летчике? Жду, что Валентина Степановна заговорит о летном таланте, особых чертах характера. – Любовь к Родине, – без тени пафоса, не задумываясь, отвечает она. – Без этого он не нужен ни как военный летчик – отступит в первом же трудном бою, ни как испытатель – пойдет на сделку с совестью. Ни как спортсмен – отстаивая честь страны, будет думать лишь о своей выгоде... Человек уходит в небо таким, каким воспитала его земля. 1984 г. 143 144 Документальная повесть Пламя Вечного огня и резко очерченные тенями, вырубленные в стене слова: «Вечная слава героям» Заслуженный военный летчик СССР генерал-майор авиации Олег Борисович Суслов наклоняется, поправляет цветы на постаменте. Оживая бликами, проступают лица — черные шлемофоны, сурово сжатые губы, пытливые глаза. Сколько молодых летчиков стояло здесь под требовательными взглядами своих сверстников — воинов Великой Отечественной войны! Что думали они, рассматривая фотоснимки и стенды Музея боевой славы, где рядом с прямокрылыми, верткими «ястребками» — сверхзвуковые истребители, а легкие комбинезоны, перехваченные парашютными ремнями, соседствуют с высотными костюмами и гермошлемами? Бои тридцатилетней давности и сегодняшние учения. Отцы и сыновья... — А этот стенд посвящен гвардейской истребительной авиационной части, о которой вы хотите писать. Вы спрашиваете о традициях? — Олег Борисович задумывается. Понимаю – вопрос общий, и ответить несколькими фразами трудно. Тем более ему – недавнему командиру этой части, поднявшему еѐ до уровня лучшей. Сейчас воспоминания делают лицо генерала напряжѐннее и светлее. Он словно всматривается в то время, когда впервые вступил на неприветливо встретившую его землю... — Познакомитесь с людьми, полетаете — и все поймете сами, – улыбается Олег Борисович, угадывая мои мысли. I Мела поземка. Снег набивался в трещины лопнувшей от мороза, искромсанной ледяным ветром почвы. Струи воздуха сбивали с ног, а стрелы сверхзвуковых истребителей на стоянке коченели под задубевшим брезентом чехлов. «Как же здесь летают?» – невольно мелькнула мысль. Те несколько минут, пока командир дивизии представлял его, нового командира полка, выстроившимся для встречи офицерам, Олег Борисович пытливо всматривался в лица людей, с которыми ему предстояло вместе летать, работать. Поднимая летчиков на самые сложные и ответственные задания, он должен быть уверен в них, как в самом себе. Сейчас лица казались одинаковыми — сосредоточенные, покрасневшие от холода. В ворс шинелей въелись крупинки льда... Помещение штаба окутало полумраком, хотя в большие окна просторных комнат свободно лился свет зимнего дня. «Чего-то не хватает...» — невольно подумал Суслов, оглядывая голые стены коридора. Командир дивизии ввел его в кабинет, кивнул на круглую стойку вешалки, снял шинель. — Климат тяжелый, — он потер пальцы, пытаясь согреть их, отошел к окну, приложил ладони к радиатору. Минуту молча разглядывал серое небо за стеклом, потом живо обернулся, посмотрел на Суслова неожиданно посветлевшими глазами. — А люди толковые, смелые. Только не везло: командиры менялись часто. Дисциплина есть – твой предшественник умел «закручивать гайки», да дело не только в этом... Проводив командира дивизии, Суслов вернулся в кабинет. Письменный стол, глыбой застывший посреди комнаты, давил своей массивностью, садиться за него не хотелось. От окна из щелей дуло. За стеклом — картина бесцветная, скучная: кирпичные коробки зданий, линии проводов, столбы. Между строениями — пустыри. Ветер закручивает лихие смерчи, обнажая голую, обожженную морозом землю. Летом здесь, наверное, разбухнет болото. «Чего-то не хватает...» — подумал Олег Борисович и нахмурился. В дверь кабинета негромко постучали. Вошел начальник штаба — невысокий, застенчивый. Остановился в нерешительности. — Пригласите, пожалуйста, всех командиров, — мягко приказал Суслов. 145 Командиры приходили, бесшумно отодвигали стулья, молча рассаживались. Лица, отогревшись, уже не казались одинаковыми, и только настороженность и какая-то привычная, отшлифованная дисциплиной, подчеркнутая сдержанность роднила их. «Откуда это?» — с тревогой подумал Олег Борисович. Невольно вспомнился разговор с командующим армии, состоявшийся несколько дней назад... «У летных командиров и инженеров выговоры. Да не по одному. Выдавались оптом и в розницу. — Командующий, сдерживая себя, жестко сцепил пальцы рук, пригнулся к столу, несколько секунд молчал, потом заговорил четко, словно диктуя: — Когда командир перестает уважать подчиненных и понимать их, тогда кончается в нем воспитатель, а значит, и право командовать людьми... Легко рубить с плеча, легко, когда знаешь, что дисциплина исправит недостаток убедительности приказа. А необходимо, чтобы в привычном «Есть» была готовность к действию, а не сковывающая инициативу покорность». В словах звучала боль, она передалась, словно перелилась и Суслову. Он чувствовал, что именно эта еще не знакомая часть станет для него родной... ... Взгляд скользнул по голым стенам кабинета, задержался на пустыре за окном. «А ведь там деревьев нет, — подумал с неожиданной ясностью — Деревьев не хватает... — вздохнул с облегчением, словно это открытие было залогом успеха всех дел. — Весной посадим обязательно». В девять лет Олег Суслов остался сиротой, в четырнадцать встал к станку, пронеся на своих детских плечах наравне со взрослыми всю тяжесть военных лет. Работал, учился. Старшая сестра тоже работала и училась. Твердила: «Буду врачом. Буду лечить так, чтобы не умирали...» Засыпала, уткнувшись в книжку, словно тараня страницы лбом. Бабушка прикручивала фитиль керосиновой лампы, в лице ее что-то расслаблялось, как будто в полумраке можно было дать ему отдохнуть. Своих бабушек вспоминают, чаще всего, глядя на только вынутый из духовки пирог с шелковистой корочкой или ощущая под руками что-то мягкое, как стариковские плечи, укутанные пушистой шалью. Олегу Борисовичу бабушка припоминалась рядом с поленицей дров. Маленькая, вся словно из острых углов. Плотно запахнутый ватник, туго стянутая платком голова. Блеснув на солнце, взлетает топор. Полено чуть соскальзывает в сторону — и алым пятном разгорается снег... Бабушка только вскрикивает негромко, замирает на мгновение. Потом, неторопливо пошарив по карманам, отыскивает тряпочку, перетягивает то, что осталось от пальца, зубами завязывает узел. И дрова дорубила, и печь истопила, сварила обед. Когда внуки пришли, усадила за стол, сказала мимоходом, словно винясь: «Палец порубила вот, в больницу, поди, сходить надо, а то мокнет. Перепачкаю все, а кровь — она отстирывается плохо...» В военном авиационном училище Олегу, привыкшему ко всякой работе, все казалось легко — и землю рыть, ровняя аэродром, и казарму строить, и на кухне помогать. Только к жаре солончаковых песков да к дисциплине долго не мог приноровиться: самостоятельное, взрослое детство толкало на самовольные поступки. Но, попав в основную группу, почувствовав близость полетов, посерьезнел, словно повзрослел на несколько лет. Первый полет потряс, восхитил. По-стариковски покладистый Ут-2 показался чудом техники. В тринадцатый полет инструктор выпустил самостоятельно. Талант, о котором иногда забывают, характеризуя летчика главным образом с точки зрения добросовестности и упорства, летный талант, необходимый так же, как музыкальный, поэтический, был здесь налицо. И инструктор только улыбался, предчувствуя, как разделит оставшиеся у курсанта полеты на других, кому вывозных надо дать больше, чем запланировано. А значит, хватит и горючки, и времени — в послевоенные годы и то и другое было на жестком лимите. Все давалось Олегу просто. Он вживался в воздух интуицией, цепко схватывая отточенность движений инструктора, добавляя что-то свое, поражаясь новизне ощущений и той легкости, с какой он привыкал к ним. 146 И вдруг — осечка! Она возникла неожиданно и показалась особенно обидной: вираж на Як-11 — как по стиральной доске — вверх, вниз... Никакие советы инструктора не помогали выполнить фигуру в горизонтальной плоскости. Соленый пот, разбитое усталостью тело, отчаяние... Ночное небо в квадрате окна казармы. Переплет рамы перечеркнул его, точно фонарь кабины. Лежа на кровати, Олег смотрел, как перемигивались и дрожали звезды. Угол верхней полки заслонял кусок Вселенной и казался затененной частью капота двигателя. Моментами Олегу начинало мерещиться, что он летит, самолет беззвучно врезается в полчища огней, и подсознательно, отгоняя сон, подкрадывалась одна и та же мысль: «Почему потеря высоты? Инструктор учит: «Смотри переплет фонаря — капот мотора. И — горизонт...» Олег впивался взглядом в посеребренный светом угол рамы окна, казалось, сейчас все накренится и, отсекая звезды, в стекло вползет линия — рубеж неба и земли. Он еще не осознавал, что этот мысленный полет был его первым анализом. «А если смотреть чуть дальше — по кромке капота? Угол зрения станет больше, «цена» линейной ошибки получится меньше и легче заметить отклонение», — с этой мыслью заснул и проснулся. Предполетная подготовка показалась тягучей — радость открытия, тревога сомнений мешали настроить себя на привычный лад. Наконец, взлет, зона... «Ты чего?.. – удивлѐнно прокричал по СПУ инструктор, когда Олег, словно на листе бумаги, выписал «чистенький» вираж — левый, правый, потом восьмерку. – Чего голову мне морочил?» Олег только радостно улыбнулся. Еще в училище он понял, что для летчика мало быть способным, трудолюбивым, вдумчивым. Мало быть просто смелым. Это случилось в разгар летной смены: курсант затянул с выводом из петли, инструктор не успел исправить ошибку... Катастрофа была до отчаяния нелепа, непростительна, и потрясла своей неожиданностью, заронив в души многих курсантов страх. Можно бодриться друг перед другом, замедлять движения, подгоняя ремни парашюта, с безразличным видом захлопывать фонарь кабины. Но каждый раз, когда надо было нажать кнопку рации и запросить запуск, легкий холодок перехватывал горло. Хотелось скорее взлететь, уйти подальше от земли или не отрываться от нее совсем. И каждая фигура в зоне выполнялась осторожно, словно крадучись. Командир звена Задорожный хмуро присматривался к курсантам. Ему, прошедшему через войну – сотни боевых вылетов, таран, гибель друзей, – было понятно: если не преодолеть, не сломить барьер страха, вырастет, заслоняя горизонт, стена неверия в свои силы. Угаснет убежденность в бессмертии, необходимая летчику не меньше, чем бойцу, идущему в бой... В задании значилось: «Полет под шторкой». Кабина тускло освещена неровным светом, пробивающимся сквозь выгоревший материал, истребитель кажется чужим. Олег настороженно вглядывается в приборы, от напряжения начинает неметь спина, и когда командир, резко качнув ручкой, берет управление на себя, — вздыхает с облегчением, словно избавился от неприятной работы. Удивиться незнакомому чувству не успевает, слышит приказ: «Открой шторку...» В первый момент показалось, что кругом — не привычная холмистая степь, а горы. Вымахнувшие вершинами, они заслонили горизонт седой гривой высохших трав. И в этом ущелье самолет буравит винтом раскаленный воздух. Вдруг — бочка, одна, вторая... Тень от самолета, чиркнув по склону, метнулась в сторону. «Давай сам», — точно само собой разумеющееся приказал командир. Олег, почувствовав, как доверчиво припала к ладони ручка управления и «обмякли» педали, понял, что машина полностью отдана ему и от него зависит не просто их жизнь. Сейчас в его руках все — летная судьба, уважение этого немногословного, сдержанного человека и признание самого себя. 147 Он цепко взял управление и спокойно, только на мгновение каменея где-то внутри, свалил машину вправо — земля, близкая, не умеющая прощать ошибок, заслонила все. Потом в глазах — покой неба, словно выпустило на секунду из рук своих в непонятное, рискованное и снова забрало в голубые объятья. Теперь близость земли не пугала. Не по приборам, не зрением, а накопившимся за десятки полетов и, наконец, родившимся чутьем ощутил Олег безопасную высоту и тот предел, до которого можно рисковать. Перешагнув барьер страха, он постиг грань разумного риска, степень необходимости его, первую ступеньку на бесконечной, крутой лестнице мастерства, подняться по которой может только сильный духом. Человек с маленькой, себялюбивой душой никогда не станет хорошим летчикомистребителем. В бою, в стремительном нарастании скоростей, когда нервная система перегружена и многое подсказывает лишь интуиция, когда чувство долга и инстинкт самосохранения сплетаются, а летчику трудней контролировать себя, он реагирует так, как заложено в его натуре. Трус отвалит от ведущего в сторону, подставив его пушкам противника раньше, чем успеет понять, что это — подлость, а боец прикроет собой командира, не думая о том, что это — подвиг. Утро будоражит. Плечам зябко, а грудь невольно ширится, вбирая настоянный на травах, хмельной, кочующий по аэродрому ветер. Навстречу спешит дежурный офицер, вскидывает руку к козырьку. За время дежурства никаких происшествий... «Никаких происшествий...» — привычные слова, но сколько в них значимости, какой труд стоит за трафаретной фразой. Сотни людей, их надо научить работать с любовью к делу. Начальник штаба — умница, организатор, каких мало, но ершист. В кабинет не входит — влетает. «Разрешите доложить...» И докладывает, словно произносит обвинительную речь. В потоке деловых предложений какой-то просчет, а если возразить — замолчит, замкнется обидой. Значит, надо выслушать не перебивая, обсудить сначала ясные вопросы, а в спорных навести на правильную мысль исподволь, так, чтобы человеку казалось — сам нашел решение. Потом он его разработает детально и принесет как свое, не подозревая, что подсказал командир. Суслову нравилась эта кропотливая, мало заметная со стороны работа с летчиками, инженерами, техниками. О старшем лейтенанте Соловьеве говорили по-разному: «Способный летчик, подготовлен отлично». И тут же: «Ленив, завалит любое дело». И неожиданно: «Рисует хорошо». Олег Борисович приглядывался долго, с выводами не торопился. Как-то застал Соловьева в пустом летном классе. Тот с насмешливым удивлением рассматривал старый транспарант с трафаретным призывом. — Вам не кажется, что здесь надо оформить стенд? «Лучшие летчики части» или... — Олег Борисович говорил и видел, как усмешка на лице старшего лейтенанта сменяется удивлением, потом в глазах его засветилось любопытство. Подождав, когда любопытство сменится заинтересованностью, и почувствовав, что летчик слушает его не только из почтительности, Суслов резко оборвал себя: — Стенд за вами? Обдумайте композицию. Вечером, после полетов, спросил: – Что получается? С удовольствием заметил, как старший лейтенант отвел в сторону всегда скучающие, а сейчас растерянные глаза. – Не успел, завтра... И в забитом неотложными делами «завтра» командир нашел время спуститься в методический класс и постоять за спиной корпящего над листом ватмана старшего 148 лейтенанта. Потом дал машину, чтобы съездить за красками в город. А через месяц первый стенд празднично засветился улыбками лиц, солнечными стрелами истребителей. – Хлопотно? А вы как думали? — говорил Суслов командирам. — Людей надо не поучать, а любить, стремиться понять, искать ключи к характеру. Поменьше назойливой опеки, но постоянно прививать чувство ответственности... Бывают люди, в которых все — как хорошая песня. Они просто входят в жизнь коллектива, и каждое дело спорится в их руках. С ними легко и надежно в полете и на земле. Капитан Александр Иванович Колесников понравился Олегу Борисовичу прямотой взгляда, неумением идти на компромисс в вопросах летной подготовки, даже мальчишеской прядью волос, сползающей на лоб. «Будет отличным заместителем по летной подготовке, — не раз думал Олег Борисович, слушая, как капитан глубоко ставит задачу, как готовит к предстоящим полетам подчиненных. — Методистом надо родиться, желание анализировать должно стать потребностью, как есть или дышать», — улыбался, вспоминая упрямые, но подчинившиеся ему виражи, клочок звездного неба в окне казармы... В День Советской Армии устроили торжественный ужин. Зал старого бревенчатого клуба украсили хвоей, десятками оранжевых солнц засветились на столах вазы с апельсинами, тѐмным янтарѐм затеплился в тонком стекле стаканов чай. Гремела музыка. Похорошевшие женщины кружились в танце, и весенние краски их платьев были вызовом стынущей за стенами клуба зиме. – А знаешь – хорошо! – прошептала жена. – У нас, помнишь, какие вечера устраивали? Оркестр, артисты с концертами, полы – зеркало... И всѐ равно здесь удивительно... – она запнулась, подыскивая слово. – Здесь пять лет не отмечали праздников, – невесело усмехнулся Олег Борисович. – Почему? – Надежда Яковлевна удивлѐнно посмотрела в глаза мужу. – Считали, что это в ущерб дисциплине? Ответить Олег Борисович не успел. Молодая женщина вышла на эстраду, потянулась к микрофону. – Я стихи прочту, – голос метнулся под потолок, замер в углах. Женщина взглянула вверх и заговорила мягко, широко: Касаясь трѐх великих океанов, Она лежит, раскинув города... Как естественно и торжественно звучали стихи Константина Симонова здесь, рядом с одним из этих «великих океанов». Как нужны были сейчас эти суровые слова: ... Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, Да, можно голодать и холодать, Идти на смерть... Голос женщины дрогнул, сорвался на шепот, но усиленные безмолвием зала, слова прозвучали отчѐтливо и сильно: ... Но эти три березы При жизни никому нельзя отдать. Тишина, аплодисменты. Потом запели о лѐтчиках, и песня военных лет звучала свежо и гордо. Суслов, почувствовав, как защипало глаза, торопливо закурил. «Значит, можно в бой, и не оглядываться на ведомого». В авиации, где все на пределе, жизнь человека стоит в жесткой зависимости от умения выполнить свою работу. И как бы ни оберегали с земли, напряженно следя за серебристой меткой на экране локатора, как бы бережно ни подводили к полосе, и руководитель полетов ни вглядывался придирчиво, поднеся микрофон к губам, готовясь подсказать в любой момент: «Подтяни... Придержи... Парашют!», главное зависит от способностей летчика, от того, чему его научили. 149 Безаварийность... Опыт многих лет работы на разных командных должностях подсказывал Суслову, что путь к ней идет не через перестраховку. Кажется, трудно совместить безаварийность и желание научить летать смело, не боясь сложности задания. Но даже в обыденной жизни, если мать постоянно ограждает ребенка десятками «нельзя», кольцом испуганных рук своих, он вырастет хилым, робким. И когда однажды ляжет под ноги рытвина, которую другой легко перешагнет, ему она покажется пропастью. — Научить скрупулезно готовиться к каждому полету, творчески, с любопытством первооткрывателя подходить к каждому заданию, не просто анализировать выполненный полет, а оценивать его с точки зрения перспективы — значит, обеспечить и безаварийность, и боеготовность... — Суслов не просто говорил это командирам. Вся летная подготовка строилась на основе его богатого опыта методической работы, всего объема знаний, который многогранен в человеке, если он хочет быть специалистом и любит свое дело. Чтобы рассказать о летной работе Олега Борисовича, надо написать не один очерк, а несколько. Здесь будет и рассказ о первых в практике сверхзвуковых истребителей посадках на неосвещенную полосу, когда небо, мерцающее звездами, ярче, чем земля, а сияние города вблизи аэродрома, блуждающие огни автомобилей — все может отвлечь. И надо поверить себе, довериться тянущемуся к темному бетону пучку света фары. Здесь будет беспредельная пустота стратосферы, где небо, тусклое серебро фюзеляжа меняют привычную окраску, где даже гул двигателя кажется стершимся в почти космической тишине. И тут, на «потолке», когда, теряя опору воздуха, беспомощными, «дряблыми» становятся рули, когда наступает предел возможностей машины, мастерство человека должно быть беспредельно. Только тогда удастся найти и уничтожить противника. Летчики-испытатели, говоря словами песни, «учат самолеты летать». Военные летчики учат самолеты воевать. Безошибочно действовать в боевой обстановке. И те, кто не связан с этой работой, вряд ли полностью осознают, ценой какого труда достигается то, что официально называется боеготовностью. Говоря о летчике, как правило, стараются вспомнить случаи, когда он попадал в непредвиденные обстоятельства и справлялся с ними. Но более веской характеристикой летного мастерства и зрелости генерал-майора Суслова является лаконичное: «Летных происшествий не имеет». Снова зима, мороз, стынут за окнами трогательно хрупкие, но надежно вросшие в землю деревья с крепкими корнями. Те же коридоры штаба, стены, освещенные скупым зимним солнцем, но классы не безлики — методический, объективного контроля, подготовки к воздушным боям. Те же люди — летчики, техники. Это о них говорят «молнии», доска Почета. Отличники боевой подготовки, отличные эскадрильи, звенья, экипажи... На грубой ткани летного комбинезона не предусмотрены знаки различия. Не носятся и ордена Красного Знамени, Красной Звезды, медали, не приколот и скромный значок заслуженного военного летчика СССР — почетное звание, присвоенное О. Б. Суслову за большую исследовательскую работу, за овладение в совершенстве полетами на сверхзвуковых самолетах днем и ночью в сложных метеоусловиях. — За время дежурства никаких происшествий... Сейчас, начиная новый день, доклад принимает уже другой командир части — полковник Николай Дмитриевич Лапига. А для Олега Борисовича Суслова она по-прежнему — как сын-первенец, который вырос, не обманув ожиданий отца. II «Познакомитесь с людьми, полетаете и все поймете сами...» В Музее боевой славы в первый день моего приезда слова Олега Борисовича звучали как-то отвлеченно. Мне еще предстояли открытия — каждый день по насыщенности 150 впечатлений можно было приравнять к неделе — неделе сложной, многообразной, напряженной жизни. Летчики части... Почему-то сейчас, вспоминая, я представляю себе не шелест рабочих тетрадей, инструкций в методическом классе, не скупую точность фраз и сдержанность движений на стоянке в день полетов и даже не торжественное построение в День Воздушного Флота СССР, когда алым пламенем вспыхивает Знамя части. Мне вспоминаются похожее на травяной аэродром футбольное поле, спортивные майки, мальчишеский азарт, отчаянные схватки у ворот. – Пас на меня... Мазила! – майор Кормянский, кряжистый, порывистый, мелькает на поле, кажется, и в защите, и в нападении одновременно. – Поднажмем, старики! У подполковника Колесникова сосредоточенное лицо, но в глазах лукавство: сейчас определенно комбинирует что-то, решая молниеносно, как привык в воздухе. – Гол! – Восторг зрителей – жен, детей. Они сидят тут же, на траве, переживают отчаянно, и, кажется, нет сейчас ничего важнее стремительно влетевшего в ворота мяча. Подъезжает машина. – Майор Кормянский! Вам скоро заступать на боевое дежурство, а предполетный отдых? – врач неумолим. – А разве это не отдых? Проверьте, доктор, пульс, еще лучше стал, – горячится Анатолий Кузьмич, но идет к машине. Игра останавливается, футболисты одеваются и превращаются снова в лейтенантов, капитанов... Молодежь шутливо оправдывается: – Нельзя же пасовать перед отцами-командирами, – и тут же планируют матч-реванш. Но состоится он не раньше ближайшего праздника: программа полетов насыщенная. Все расходятся по домам, дети цепляются за руки отцов, что-то смеясь, рассказывают жены. А по дороге на аэродром пылит машина, увозя летчиков на боевое дежурство. И может, через час-другой вспыхнет красное табло и истребитель взлетит по тревоге. Вспугивая тишину городка, полоснет по крышам грохот двигателя. Надежда Кормянская невольно поднимет голову, подумает с беспокойством и гордостью: «Мой полетел». Гордое чувство заглушится в домашних хлопотах, а беспокойство останется до тех пор, пока не дрогнут снова стекла окон и не осядет, теперь уже успокоительно, шелестящий свист. Облака тяжелые, въедливые, гул двигателя глохнет в них, фонарь захлебывается пепельно-серой лавиной, и в стеклах приборов мелькают торопливые тени. Истребитель МиГ-21 ведущего как вписался в левый угол фонаря кабины еще там, на взлете, под двухъярусной толщей облаков, так и застыл, словно склеенный с нашей спаркой – МиГ-21У. Иногда его захлестывает дымкой, очертания стираются, потом самолет исчезает совсем. Тогда начинает казаться, что ручка управления в ладони настораживается, еще точнее становятся движения ее в «слепом» полете, она словно пульсирует в напряжении. Перед моими глазами — заголовник катапультного кресла первой кабины, в верхней части остекления отражаются защитный шлем и темное полукружие светофильтра. Иногда подполковник Виктор Алексеевич Агузаров слегка поворачивает голову в сторону ведущего, рычаг управления двигателем еле заметно смещается вперед или назад: движения лаконичны и бережны. Та кажущаяся легкость, с какой в сомкнутом строю летчик пробивает облака, наверное, и отличает истинное мастерство. Эфир заполнен голосами: – Пуск... Оружие выключил... – это летчики отстреливаются по радиоуправляемому самолету-мишени учебными ракетами. На уничтожение цели идут двое: впереди — капитан Могильный и наш ведущий майор Болдырев. Пелена облаков редеет, кабину пронизывает солнце. Истребитель Болдырева, выточенный светом в каждой детали своей, поблескивает боевыми ракетами под плоскостями. Он готов к атаке на тот случай, если выпущенные В. Могильным ракеты пройдут мимо цели. 151 Облака сползли вниз и кажутся землей, покрытой торосами и ледяной коркой. Небо над ними пустынно, только в эфире — требовательно: – Доворот вправо десять... Включить форсаж... – это с командного пункта наводят на цель капитана Могильного. И, наконец: – Цель вижу! Вот она — его первая реальная цель. Не заснять на пленку, не сбить условно, а уничтожить... – Цель ваша. Стрелки приборов, голоса в эфире, потоки воздуха на рулях — все, отступая, чувствуется в то же время обостренно. Взгляд прикован к светящейся метке цели, которую надо вогнать в «лузу» радиолокационного прицела и только тогда плавно, словно припечатывая ускользающий «зайчик» к центру желтовато-зеленого экрана, нажать кнопку, уловить, как через долгую-долгую секунду вздрогнет под плоскостью. Пуск!.. И уже в развороте увидеть, как вздулся бесшумно огненный шар и черный дым мазнул синеву. — Цель сбита, — голос с командного пункта удовлетворенно спокойный. А что чувствует он, молодой летчик? Наверное, захлестнуло ликующее чувство победы. И тут же одернул себя: работа не закончена, до аэродрома сотни километров, толща облаков и убывающий запас горючего. И еще многое надо сделать, чтобы сказать: «Задание выполнено». Безмятежная бирюза неба, две чуть растрепанные воздушными потоками дорожки инверсионного следа истребителя и мишени – все, что осталось майору Болдыреву и нам... Когда цель сбивают с первой атаки асы — это закономерно. Здесь — характер, привычки, открытия, сделанные в сотнях полетов. Но если на уровне мастеров задание выполняют молодые летчики, и это не кажется никому странным... Стремление воспитать в летчике инициативу, научить не просто смело, но и умно летать, подчинять все существо свое тому, ради чего пришел не в аэроклуб, не в гражданское, а именно в военное училище, — вот что помогает командирам боевых частей вытачивать из материала, который дает военное авиационное училище, настоящего бойца, закалять сталь его характера. И ещѐ – умение ощущать в будничности полетов, которые с годами становятся обычной работой, романтику. Послеполетный разбор — не просто подведение итогов летного дня. Это — урок. Впечатываются в память образные, оживленные юмором слова заместителя командира по летной подготовке подполковника Колесникова: – По тебе же стреляют! Создать все условия, чтобы не попали: маневр, перегрузка — и ушел. Сначала поаккуратнее, потом на предельных режимах. А ты: «Пуск!» — и сидишь... Осколков нахвататься всегда успеешь. Это умное, толковое задание, его продумывать надо. Можно и шею свернуть, если зазеваешься... В зоне, на боевом, когда один на один с собой сделал что-то не так или фигуру запорол, прекрати, встань в вираж, успокойся, потом продолжай. Или на посадке: не чувствуешь уверенности — уйди на второй круг. Не так страшны предпосылки, как повторение ошибки. Повторение ошибки опасно! Вовремя вскрыть, разобрать. Пусть поругают, зато потом это даст возможность товарищу грамотно выйти из подобного положения... А к другому летчику подход иной. Взлет парой. Проверяющий — подполковник Колесников, ведомый — старший лейтенант Валеев. Задание — простой пилотаж парой: виражи, пикирование... Вдруг машина ведущего на форсаже уходит вперед вверх. Инстинктивно, подчиняясь только мысли: «Не отстать!», Валеев, повторяя маневр, идет на петлю. Неожиданность не обескураживает, мысль работает четко, движения напряженно отточены. Холодок возбуждения, трезвый расчет... А после посадки подойти к командиру: «Разрешите получить замечания», — и что-то дрогнет от волнения в душе. – Все время видел? – Александр Иванович закуривает, с доброй усмешкой посматривает на ведомого. 152 – Когда переворотом ушли – потерял. Вы спросили: «Видишь?» – тут засек и держался. Риск? В какой-то степени — да. Оправданный. Безусловно. Колесников творчески подходит к полету, подводя к воздушному бою, который всегда — импровизация. Он учит не бояться неожиданностей, которых в воздухе с избытком, особенно у истребителя. Учит, не переступая той границы, где кончается творчество и начинается нарушение, взвесив уровень подготовки летчика, состояние матчасти, свой собственный инструкторский опыт. Не пытаясь удивить своим мастерством, понимая, что молодости свойственно подражание, все эффектное кажется героическим, а свои силы рассчитать еще трудно. Но бывает и так... – Разрешите получить замечания... – голос вялый, плечи и вся сильная, спортивная фигура молодого летчика обмякли, взгляд потерянно скользит куда-то, избегая глаз командира. – Ошибки свои поняли? Летчик перестает высматривать что-то у себя под ногами и неохотно поднимает голову. – Понял, – но нет в голосе нацеленной собранности, лишь виноватость. Командир отводит летчика в сторону, не спеша снимает защитный шлем, потом стягивает с головы шлемофон, подставляя ветру волосы. Все движения нарочито растянуты, пауза сейчас необходима. – Ну и что же поняли? По-юношески румяные щеки парня блекнут, смятение, горечь, смущение – вся эта сложная гамма чувств проскальзывает по лицу, морща лоб и заостряя скулы. – На петле ручку перетягиваю... А на посадке... Командир не столько вслушивается в слова, сколько следит за выражением лица летчика, пытаясь понять, что происходит сейчас у него в душе. «Неужели сломался? – думает подполковник. – И боязнь повторить ошибки будет теперь накапливаться нерешительностью, и все, чему научили в курсантские годы и уже здесь, в части, будет теряться незаметно, но неотвратимо. Потом давай хоть десятки контрольных полетов, убеждай, наставляй, наказывай — бесполезно. Летчик будет чувствовать себя чужаком в небе, а каждый полет станет мучительно трудной, подневольной работой. И это тщательно скрываемое от всех чувство начнет ломать, гнуть, пока не спишется человек с летной работы». Ветер легонько путает волосы, обдувая лицо, но не успокаивает. Хочется сказать чтонибудь резкое, чтобы встряхнуть этого неглупого и небесталанного парня, так неожиданно потерявшего веру в себя. Но командир сдерживается. – Что у вас по плану? – По плану? — летчик замолкает на полуслове, растерянно смотрит на командира. Ему казалось, что предыдущий, так скверно выполненный им полет «зарубит» все остальные, по крайней мере на сегодняшний день. Поэтому в голосе — растерянность, слабая надежда и тревожное чувство неуверенности. – На боевом, по маршруту... – Полетите, как запланировано. Ошибки поняли, рассуждаете правильно. На пилотаж слетаем еще разок, а пока – укрощайте боевой на маршруте, – командир улыбается. – Есть, укротить боевой на маршруте! – принимая шутку и разом чувствуя облегчение, откликается летчик. – А сейчас, пока есть время, можно и подзаправиться. Стартовый завтрак, кажется, привезли. Не то силенок на виражи не хватит... – командир лукавым взглядом окидывает плотно сбитую фигуру парня и всю дорогу до «высотного» домика говорит о чем-то постороннем, расспрашивая о делах, совершенно не касающихся полетов. Но быстрый, пытливый взгляд его нет-нет, да и скользнет по лицу шагающего рядом парня, подметит и сосредоточенно сведенные брови, и ответы невпопад. «Это хорошо, значит, уже выскребает из памяти каждый штрих предстоящего полета, мысленно повторяет маршруты. Значит, верит все-таки в свои силы...» Проверить себя, впервые почувствовать, на что ты способен в сложной ситуации, — втайне страшась, к этому готовит себя еще с училища каждый летчик. 153 Первый бой самый трудный. Иногда это бой с непредвиденным, со случайностью. Старшего лейтенанта Катеренюка неожиданность подстерегла на взлете: сошло правое колесо шасси. «Шасси пока не убирать, высота две тысячи, по кругу», — приказал руководитель полетов. Потом пояснил, что случилось. Решение — сажать. Катеренюк ходил по кругу, вырабатывая горючее, слушал, как, прерывая задания, из зон к аэродрому подтягивались самолеты, садились, торопливо заруливали на стоянку, оставляя ему свободными небо и полосу, хотя бетон был сейчас не нужен, а грунтовая готовно стелилась рядом. Память цепко выхватывала строчки инструкций и с земли подсказывали настойчиво и четко. Волнению в такие моменты места нет. Оно зажато глубоко в подсознании и не мешает работать. После посадки навалится усталость, а сейчас — дальний привод, ближний... Двадцать метров высоты, пять... Передняя стойка выпущена, основное шасси убрано, и земля кажется чуть ближе. Толчок — фюзеляж скребет землю. Скорость погасил тормозной парашют. Как ни старался избежать крена, плоскость все же коснулась земли — самолет развернулся, движение оборвалось... Сбросил привязные ремни, откинул фонарь, выскочил из кабины и только тогда увидел бегущих к самолету людей. То, что сам Г. Катеренюк рассказывает об этом неохотно, пытаясь отделаться общими фразами, понятно. И дело не только в скромности. Просто считает: в каждой профессии свои особенности и не надо делать из них сенсаций. Сколько людей готовит к полету одну машину? Сколько часов затрачено на земле ради минут, проведенных в воздухе? Все это можно подсчитать. А как подсчитать то душевное напряжение, которое испытывает техник, выпуская машину? Томительно длинными кажутся ему полчаса ожидания от взлета до посадки, когда сквозь разговоры и шутки вынужденного безделья просачивается назойливая мысль: «Контровку не забыл?..» Со старшим техником А. Соловьевым осматриваю спарку – Миг21У. Десятки лючков готовно раскрывают свои сокровища — провода, клеммы, переплетение трубок. Здесь надо проверить, там подтянуть. Посмотреть, не ослабло ли. Сюда заглянуть обязательно, а если тут не заметить... Так десятки узлов, сотни деталей. Контрольный осмотр, предполетный... И постоянное: не забыть, не пропустить. – Волнуетесь? – спрашиваю. – Конечно. Точно знаю: надежно все, а каждый раз, как фонарь закрываю, даже не летчику, а про себя: «Счастливого полета». Да все техники так. Тяжело на земле ждать. На земле тяжело не только ждать. Зимой, сбивая с ног, задувают штормовые ветры, мороз прошивает полушубок иглами холода, а пальцы, теряя гибкость, перестают чувствовать детали. Весной – ливни, на полосе – реки воды. Но полеты не должны срываться. И нередко по ночам стоянка не спит, живет светом огней, усталыми голосами инженеров и техников. С новым командиром части полковником Николаем Дмитриевичем Лапигой я познакомилась позже. Он вернулся из отпуска и несколько дней вникал в дела гарнизона. Генерал-майор Суслов, приезжая на полеты, поглядывал на него по-отечески внимательно. Чувствовалось, что эти два совершенно разных по характеру человека отлично понимают друг друга. Обычный летный день. Солнце нещадно, но ветер прохладен. Фонарь самолета на посадке отсвечивает острой вспышкой, а на рулежной дорожке мерцает бликами, не давая рассмотреть лица сидящих в кабинах. Наконец спарка подруливает к технической позиции, затихает свистящий гул турбины, истребитель словно оседает на хвост, качнувшись на амортизаторах. Техник помогает открыть фонарь. Они остановились у кромки бетона. 154 – Разрешите получить замечания, – полковник Лапига рывком распускает ремешки защитного шлема, глаза напряженно следят за выражением лица Олега Борисовича. Не вслушиваясь в разговор командиров, присматриваюсь к их движениям. Поворот плеча, рука Николая Дмитриевича плавно взлетает, разворачивается, не замедляя движения, ладонью вверх и, завершая петлю, выпрямляется... – Здесь поплавнее, — рука Суслова словно перехватывает у Лапиги управление и, продолжая полет, уходит вниз. Напряженная осторожность. Чувствуется, как тесно становится у земли, в зоне малых высот она словно притягивает к себе. Взгляд не успевает фиксировать высоту, мне кажется, что она ощущается по плотности потока под плоскостями, по тому, как, ударяясь в землю в начале вертикального маневра, «пружинит» реактивная струя, как от рева до шепота спадает гул двигателя в верхней точке маневра и уже на безопасной высоте выдыхается турбина... Часто, разговаривая с молодыми летчиками о полетах, слышала: «Командир сказал... Командир делает это так...» И с особым значением и внутренней собранностью: «Сегодня проверяет командир». Но лишь слетав с Николаем Дмитриевичем в зону, поняла, что стоит за этими словами. Это было не просто выполнение сложного пилотажного комплекса, не воспроизведение чего-то давно заученного, отшлифованного сотнями полетов, возведенного в степень мастерства. И дело не в том, что все – на пределе допустимых перегрузок, в жестких рамках малых высот, на грани возможности машины. Просто жил в воздухе человек, каждой клеткой своего организма сросшийся с истребителем, и видел не показания приборов, чувствовал не темп выполнения фигуры, не величину перегрузки, не плавность переходов, не небо и землю в сложном чередовании, а – самого себя. Отдавая полету страсть натуры, цельность характера, свое вдохновение... Такой полет не может оставить равнодушным. Он не просто учит технике пилотирования, а словно открывает в человеке черты, которые на земле стушевываются десятками мелочей, условностями, привычками. Звезды мешаются с огнями аэродрома. Лунным сиянием неоновых фонарей залита стоянка, но свет лишь островками ложится у самолетов, а дальше — темнота. Иногда вспыхивают посадочные прожекторы, разливая над бетонкой прозрачную голубую реку. В ней самолет кажется невесомым, призрачно-легким. Скользнул, как тень, прильнул к полосе, замедляя стремительность движения, неторопливо порулил к стоянке. А кто-то уже запрашивает взлет. Секунда – желто-голубой факел форсажного пламени лизнет бетон, розовым глазом мелькнет в темноте фонарь кабины, и самолет рванется в мерцание звезд. Растает грохот двигателя, а оранжевая пульсирующая точка еще долго будет светиться угольком... Кто-то идет на перехват, настороженно вглядываясь в прицел, и красоты ночи отступают назад, съеживаются за спиной, не мешая. Мы идем с Николаем Дмитриевичем к штабу. Белыми линиями светлеют обочины дороги, шагни в сторону – топкое болото. Но каждую весну распускаются деревья, те, что были посажены при Суслове, и совсем молоденькие, только-только прижившиеся. – Хотим еще вырыть пруд, карасей запустить. А спортивный городок наш видели? Да, видела и спортивный городок, и ожившие на стендах в искусно выполненных рисунках фигуры пилотажа, варианты воздушного боя, и действующие схемы самых разнообразных тренажеров, собранные умельцами части. Кондиционер в домике боевого дежурства, панель с сигнализацией объективного контроля, смонтированную на столе руководителя полетов. И десятки других, на первый взгляд второстепенных, вещей, которые, создавая настрой на земле, неизменно переносят его в воздух. – Здесь будет аллея Героев. – Командир останавливается. – В середине, как обелиск, два сваренных под углом листа. На них будут нарисованы награды части, гвардейский знак. А в стороны, словно распахнутые крылья, – портреты героев. Каждый, от летчика до солдата, проходящего здесь службу, должен знать их имена и подвиги. Традиции надо хранить... 155 Ill Бесконечность плит бетонной полосы – как обещание полета. Рассветное небо настороженно и словно стекает широким потоком, теряясь в розовом тумане. Туман накатывается волнами, очертания предметов смазываются и кажется, что строения, ажурные полумесяцы локаторов нереальны, зыбки. Надежна только серая лента бетона, прочно вросшая в землю. Понять летчика, его индивидуальность, внутреннюю собранность легче всего в сложном пилотажном комплексе. Там каждая фигура – откровение. А сам полет в зону – емкий, полный глубокого смысла рассказ, прочитать который можно, лишь овладев «языком» воздуха. Один такой полет дает гораздо больше, чем дотошное выспрашивание летчика. Полигонные же стрельбы – это более строгий, лишенный внешнего эффекта полет. Да и что можно увидеть и понять из второй кабины за те считанные минуты, которые отведены мне на все: восприятие приборов, воздушной обстановки, построения маневра для захода на цель – то, чему учат годами в классах, на тренажерах, в воздухе? Как, не имея перед глазами прицела, уловить то собственное, никем не подсказанное и неповторимое умение летчика увидеть цель, ту скрупулезную точность, с которой определяется дальность открытия огня? Мысли тревожили все время, пока не села в кабину истребителя, не затянула привязные ремни. Техник снял предохранительные чеки с катапультного кресла, и разом стало спокойно — эмоции земли на этом кончаются, полет требует человека целиком. Мне предстоит лететь на полигон с генерал-майором Сусловым. Рычаг управления двигателем перемещается легко и в каждом миллиметре живет турбина, звучит как хорошо настроенный инструмент. Меняется не только звук — весь истребитель словно наливается сдержанной яростью укрощенного огня. Упирая шасси в массивные колодки, как в стену, он дрожит мелко, настойчиво. Оглушительнее ревет двигатель, но вибрация не усиливается, а точно углубляется, врастает, становится такой же естественной, как дыхание или толчки сердца — ее перестаешь замечать. В воздухе голос двигателя станет другим: он словно разделится – все рокочущее, резкое отбросится к земле, потянется шлейфом, кабине достанется только свистящее, монотонное. Но в этом однообразном гуле турбины и шелесте обтекающего потока зазвучат сотни оттенков, в которые не вслушиваешься и ощущаешь только тогда, когда они начинают выдавать фальшивые ноты... Небо вялое, размытая синева стекает к подернутой дымкой земле. Солнце слепит, и от этого все краски кажутся полинявшими. Над лесами воздух очищается, дымка редеет и, наконец, сдергивается совсем, словно порывом ветра. Полигон – лысина на плоской макушке холма. Темным пеньком среди пожухлых трав застыла вышка наблюдательного пункта. Там руководитель полетов, наверное, придерживая плановую таблицу рукой, щурится на небо. А вокруг – осенние переливы ландшафта: рыжие леса на дальних увалах, чуть светлее – кустарник на склонах и пятна непросыхающих болот. – Подход разрешаю... Слова врезаются в тишину. Земля словно придвигается, настораживается, готовясь дрогнуть грохотом взрывов. Все преломляется, меняя настрой, – в грубо сколоченной фанере, досках начинают вырисовываться танки, белесые пятна превращаются в ряды самолетов, притаившихся на стоянке. Сейчас из дымки насыщенного солнцем неба, словно каплями выплавляясь из солнечных лучей, выскользнут истребители, блеснут в вираже треугольниками плоскостей. Их нагонит тонкий, свистящий звук, потянется на одной ноте... Как просто и сложно: воображаемый бой ради реальности мира. – Цель номер три, – приказывает земля. – Понял, – в голосе летчика не чувствуется напряжения, он ровный, будничный. 156 Отсюда, с высоты, все кажется игрушечным, по-детски наивным и чистеньким: цистерны – серебристыми монетками, танки – спичечными коробками, самолеты – рыбинами. Вот она – цель, третья в первом ряду. Лежит, распахнув плавники-крылья. Рядом четвертая, пятая... Из передней кабины все смотрится по-другому. Там не может быть места четвертой, пятой... Третья, только третья в первом ряду ползет по стеклу фонаря кабины. Сейчас «ввести» ее в прицел, уловить, когда размеры будут соответствовать дальности стрельбы. Словно вижу, как блеклая рыбина становится в стекле прицела зеленоватой, маленькой, потом начинает расти, укрупняться. Ромбики меток обрамляют ее, точно захлопывают в клетку. Движения истребителя плавны, и секунды словно удлиняются, расстояние до цели растягивается. Нет, не потому, что прибраны обороты – меняется концентрация чувств. Все уплотняется – цель в прицеле. Сейчас истребитель словно встрепенется, дрогнет, стряхивая груз, и белый дымок слизнется из-под фюзеляжа потоком. Сейчас... еще доля секунды... Кажется, все в машине как живой, чувствительный нерв, даже гул двигателя словно натянутая тетива. Та-та-та... Пульсирующая очередь дрожью вгрызается в тело, она как выход напряжению, которое казалось нестерпимым в бесконечности ожидания. Оглянуться нельзя, да и ветер рассеял дробный дымок разрывов. Разноцветье лесов скатывается вниз, фонарь захлестывает синева – мы уходим от земли резким отворотом с энергичным набором высоты. Тяжелеют руки, лопатки впечатываются в спинку катапультного кресла и словно упругий, басовитый, стремительно вырастающий столб звука подпирает снизу, отбрасывая от земли. Полигон не провожает нас грохотом зениток, небо не раздирается осколками, самолеты-макеты не взлетают следом, не закручивают смерчи воздушных атак. И все-таки этот рывок в вышину, а потом к земле не кажется деталью пилотажного комплекса. Он — элемент боя, и истребитель не просто уходит от цели. Он уходит от аэродрома «противника». – Выключить оружие. – Понял, – в голосе генерала что-то не растаявшее, жесткое. Никогда не замечала этого оттенка, не подозревала, что он может существовать, словно блеснула на мгновение оголенная сталь клинка. И я вдруг ясно почувствовала, что для бойца в этом полете нет места имитации. И полигон – настоящий, вражеский аэродром, и не фанеру загонял летчик в перекрестие прицела – он уничтожал неприятельский самолет. Для него сейчас земля огрызалась огнем, и было тревожным небо, и, выполняя маневр, он учитывал все. Не понять, не поверить в реальность боя – значит обречь себя в будущем на поражение. Можно летать годами, тысячи белоснежных полос инверсионного следа растворятся в небе, но не сотрутся в памяти. Можно привыкнуть к заоблачным высотам, к сверхзвуковым скоростям, к тому, что шагнуло за пределы привычных понятий. Только к неожиданностям в небе привыкнуть невозможно. И чем выше звание, командная должность, тем блистательнее, умнее должен быть выполненный полет. Там, где молодость берет силой, выносливостью, зрелость побеждает вдумчивостью и мастерством. В этом полете, как и в сотнях других, генерал-майор авиации Суслов опять искал новое, уточнял, совершенствовал: ведь истребитель – острие авиационной мысли, и возможности его беспредельны, как беспределен в своем мастерстве человек. 1972-1973 гг