Сборник Клуба любителей аудиокниг
advertisement
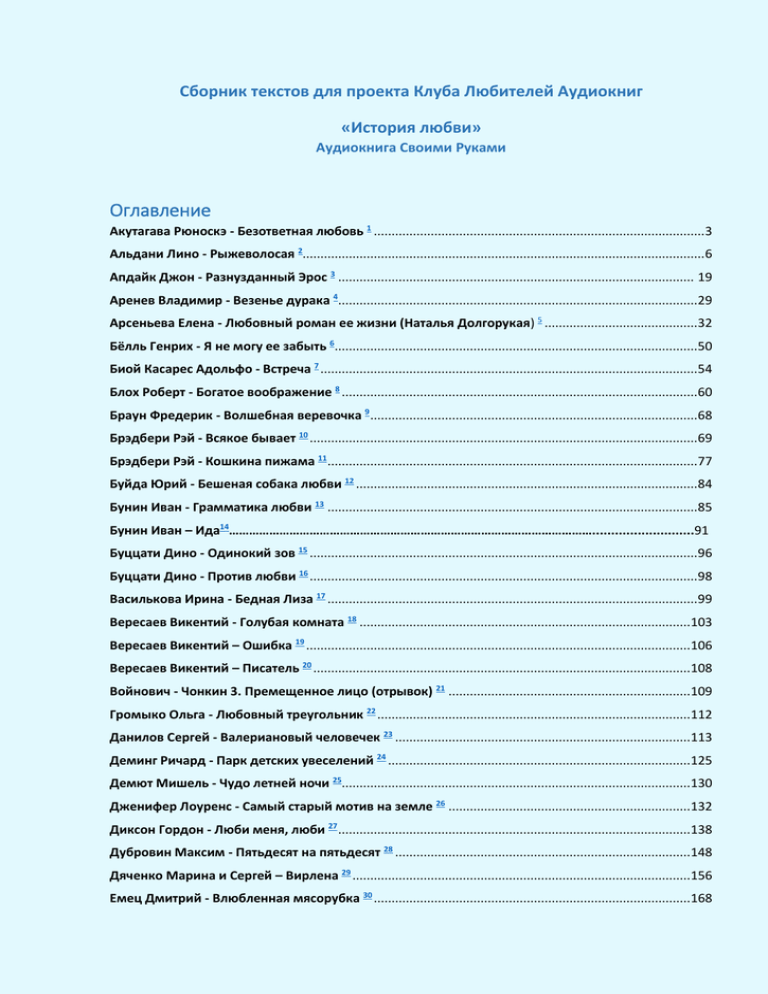
Сборник текстов для проекта Клуба Любителей Аудиокниг
«История любви»
Аудиокнига Своими Руками
Оглавление
Акутагава Рюноскэ - Безответная любовь 1 ............................................................................................. 3
Альдани Лино - Рыжеволосая 2................................................................................................................. 6
Апдайк Джон - Разнузданный Эрос 3 .................................................................................................... 19
Аренев Владимир - Везенье дурака 4.....................................................................................................29
Арсеньева Елена - Любовный роман ее жизни (Наталья Долгорукая) 5 ...........................................32
Бёлль Генрих - Я не могу ее забыть 6......................................................................................................50
Биой Касарес Адольфо - Встреча 7 ..........................................................................................................54
Блох Роберт - Богатое воображение 8 ....................................................................................................60
Браун Фредерик - Волшебная веревочка 9 ............................................................................................68
Брэдбери Рэй - Всякое бывает 10 .............................................................................................................69
Брэдбери Рэй - Кошкина пижама 11........................................................................................................77
Буйда Юрий - Бешеная собака любви 12 ................................................................................................84
Бунин Иван - Грамматика любви 13 ........................................................................................................85
Бунин Иван – Ида14………………………………………………………………………………………………...........................91
Буццати Дино - Одинокий зов 15 .............................................................................................................96
Буццати Дино - Против любви 16 .............................................................................................................98
Василькова Ирина - Бедная Лиза 17 ........................................................................................................99
Вересаев Викентий - Голубая комната 18 .............................................................................................103
Вересаев Викентий – Ошибка 19 ............................................................................................................106
Вересаев Викентий – Писатель 20 ..........................................................................................................108
Войнович - Чонкин 3. Премещенное лицо (отрывок) 21 ....................................................................109
Громыко Ольга - Любовный треугольник 22 ........................................................................................112
Данилов Сергей - Валериановый человечек 23 ...................................................................................113
Деминг Ричард - Парк детских увеселений 24 .....................................................................................125
Демют Мишель - Чудо летней ночи 25..................................................................................................130
Дженифер Лоуренс - Самый старый мотив на земле 26 ....................................................................132
Диксон Гордон - Люби меня, люби 27 ...................................................................................................138
Дубровин Максим - Пятьдесят на пятьдесят 28 ...................................................................................148
Дяченко Марина и Сергей – Вирлена 29 ...............................................................................................156
Емец Дмитрий - Влюбленная мясорубка 30 .........................................................................................168
Емец Дмитрий - Невеста графа 31..........................................................................................................172
Искандер Фазиль - Влюбленная парочка (Козы и Шекспир) 32.........................................................174
Каганов Леонид - Любовь Джонни Кима 33 .........................................................................................179
Катаев Валентин - Уже написан Вертер (отрывок) 34 ..........................................................................190
Кинг Стивен - Человек, который любил цветы 35 ................................................................................193
Киплинг Редьярд – Бими 36 ....................................................................................................................198
Кристи Агата - Любовные перипетии 37 ................................................................................................202
Ле Гуин Урсула - Апрель в Париже 38....................................................................................................221
Лейбер Фриц - Порядочная девушка и пять ее мужей 39 ..................................................................232
Лилэн - Нас свела зима 40 .......................................................................................................................246
Миллер Генри - Первая любовь 41 ........................................................................................................256
Мисима Юкио - Джунгли чувственности 42 ..........................................................................................258
Никольская Ева, Зимняя Кристина - Белая ворона 43 .........................................................................267
Нэш Огден - Мужьям – по секрету 44 ....................................................................................................278
Нэш Огден - То, что знает почти каждая женщина, а если не знает, то скоро узнает 45 ................279
Пелевин Виктор – Ника 46.......................................................................................................................279
Пру Энни - Горбатая гора 47 ....................................................................................................................287
Райхер Виктория - Букет невесты (отрывок) 48 ....................................................................................312
Резник Майк - Влюбленная метла 49 ....................................................................................................316
Ритчи Джек - Ланч со смаком 50 ............................................................................................................328
Роллинс Джеймс - Влюбленный Ковальски 51 ....................................................................................331
Рудазов Александр - Мой герой 52 ........................................................................................................350
Сахновский Игорь - Быть может 53 ........................................................................................................354
Сахновский Игорь - Нелегальный рассказ о любви 54 ........................................................................357
Сахновский Игорь - Непорочное зачатие 55 .........................................................................................364
Силверберг Роберт - Влюбленный Измаил56.......................................................................................368
Соллогуб Владимир – Метель 57 ...........................................................................................................379
Стаут Рекс - Гидра семиглавая 58 ...........................................................................................................389
Стаут Рекс - Еще одна маленькая любовная история 59 .....................................................................398
Стаут Рекс - Проклятая эмансипация 60 ................................................................................................410
Стаут Рекс – Санетомо 61 .........................................................................................................................415
Тенн Уильям - Она гуляет только по ночам 62 .....................................................................................424
Тенн Уильям - Чисто человеческая точка зрения63.............................................................................429
Тертлдав Гарри - Женщина, которая брала уроки 64 ..........................................................................433
Трускиновская Далия - Жертва страсти 65 ............................................................................................437
Трускиновская Далия - Сказка о кобыле 66 ..........................................................................................442
Уиндем Джон - Дела сердечные 67 .......................................................................................................443
Уласевич Светлана - Древняя история 68 ..............................................................................................450
Уласевич Светлана - Не шутите с судьбой! 69.......................................................................................454
Уласевич Светлана - Страшная жизненная история Ричарда и Фёклы 70 ........................................458
Успенский Михаил - Любовный напиток 71 .........................................................................................462
Уэбб Рон - Девушка с глазами цвета виски 72 ......................................................................................464
Уэстлейк Дональд - Девушка из моих грез 73 ......................................................................................470
Чарская Лидия - Кис-кис 74 .....................................................................................................................475
Чекмаев Сергей – Нетерпеливые 75 ......................................................................................................487
Чендлер Бертрам - Половина пары 76 ..................................................................................................500
Шекли Роберт - Язык любви 77 ..............................................................................................................504
Шмитт Эрик-Эмманюэль - Босоногая принцесса 78 ............................................................................513
Шрайер Вольфганг - Детектор любви 79 ...............................................................................................519
Эме Марсель – Помолвка 80...................................................................................................................523
Янг Роберт - Девушка-одуванчик 81 ......................................................................................................531
Янссон Туве - Любовная история 82 .......................................................................................................541
Акутагава Рюноскэ - Безответная любовь
(~14 мин.. соврем. проза
Красивая и грустная история о безответной любви. Не каждому суждена встреча со "Счастливым
драконом")
(Перевод В. Гривнина).
Этот рассказ я услышал от своего близкого университетского товарища, с которым встретился
однажды летом в поезде Токио Иокохама.
История, которую я хочу рассказать, относится к тому времени, когда я по делам фирмы ездил в И.
Однажды меня пригласили там на прием. В ресторане, где он был устроен, в нише кабинета,
висела литография генерала Ноги дело ведь происходило в И., - а перед ней стояла ваза с
пионами. С вечера лил дождь, посетителей было мало, и я получил большее удовольствие, чем
ожидал. На втором этаже тоже как будто шел прием, но, к счастью, не особенно шумный, как это
бывает обычно. И вдруг, представь себе, среди гейш…
Ты, наверное, её тоже знаешь. В числе официанток, куда в свое время мы частенько ходили
выпить, была О-Току. Такая забавная девица с приплюснутым носом и низком лбом. И вот,
представляешь, вдруг входит она. В костюме гейши, с бутылочкой сакэ в руках, подчеркнуто
серьезная, как и остальные её подруги. Я было подумал, что обознался, но когда она ко мне
подошла, убедился, что это О-Току. Ещё с тех времен у неё сохранилась привычка во время
разговора вздергивать подбородок. Я остро ощутил, как быстротечна жизнь. Ты ведь помнишь в
неё в те годы был безнадежно влюблен Симура.
Теперь генерал Симура, а то время он покупал в баре Аокидо бутылочку мятного ликера и угощал
О-Току с величайшей серьезностью: «Выпей, очень сладко». И ликер был приторным, и сам
Симура тоже.
И вот эта самая О-Току служит теперь в таком месте. «Каково было бы находящемуся в Чикаго
Симуре узнать об этом», - подумал я и уже хотел было заговорить с ней, но постеснялся… Ведь это
была О-Току. Значит, нужно было говорить о том времени, когда она служила на Нихонбаси.
Но неожиданно О-Току сама ко мне обратилась:
- Как давно я вас не встречала. В последний раз мы виделись, когда я служила в U. Вы совсем не
изменились. Она сказала мне что-то в этом роде. Ну и девица эта О-Току, день только начался, а
она уже навеселе.
Хотя она и была навеселе, но мы так давно н виделись, да и тема была Симура, и мы болтали без
умолку. Но тут остальная компания подняла страшный шум, делая вид, будто ревнует меня, а
устроитель приема заявил, что не даст мне уйти, пока я во всем не признаюсь, - в общем, все это
было не очень приятно. Рассказывая им историю с мятным ликером Симуры, я сморозил ужасную
глупость: «Мой близкий друг увивался за ней, а она его коленкой под зад». Устроитель приема
был человек почтенного возраста, к тому же привел меня на прием родной дядя.
Правда, «коленкой под зад» вырвалось у меня как-то не произвольно, и остальные гейши
принялись дружно поддразнивать О-Току.
Но О-Току не признавала Счастливого дракона… Встретиться со Счастливым драконом, видимо,
великое счастье. В комментарии к «Восьми псам» есть такое место: «Счастливым драконом
называют счастье, ниспосланное человеку свыше». Странно только, что в большинстве случаев
Счастливый дракон не приходит к человеку без страданий с его стороны. Впрочем, об этом можно
было и умолчать… Но то, что О-Току не признавала Счастливого дракона, было в общем-то вполне
логично. «Если Симура-сан, как вы говорите, был безнадежно влюблен в меня, это вовсе не
значило, что и я должна была безнадежно влюблена в него».
И еще она говорила: «Случись это так, я сама чувствовала бы себя гораздо счастливее в те годы».
Это называют грустью безответной любви. Наверно, поэтому О-Току и захотелось рассказать, что с
ней произошло. И она поведала мне историю своей странной любви. Её я и хочу рассказать. Хотя,
как всякая любовная история, она не так уж интересна.
Удивительно, правда? Нет более скучного занятия, чем выслушивать пересказы снов или
любовных похождений.
(Я ответил на это: «Просто потому, что такая история не может быть интересна никому, кроме тех,
кто замешан в ней». «Верно, даже в романе и то трудно рассказать о снах или любовных
похождениях». «Скорее всего потому, что сон относиться к области чувств. Среди снов, описанных
в романах, нет ни одного, который был бы похож на настоящий». «А любовных романов, которые
можно было бы назвать выдающимися произведениями, сколько угодно, ты этого не можешь
отрицать». «Но среди них не менее легко можно вспомнить великое множество дурацких
творений, которые не останутся в памяти людей».)
В общем, если ты представляешь себе, что за историю услышишь от меня, я могу спокойно
продолжать. Из всех дурацких творений, какие только можно вообразить, она самая дурацкая. ОТоку назвала бы её «История моей безответной любви».
Слушая, что я рассказываю, имей это в виду.
Человек, в которого безнадежно влюбилась О-Току, был актером. О-Току пристрастилась к театру,
ещё когда жила с родителями на улице Таварамати, и все время бегала на представления в парк
Асакуса, недалеко от дома. Ты, вероятно, думаешь, что это был какой-нибудь актеришка на
выходных ролях в театре «Миятодза» или «Токивадза». Ничего подобного. Прежде всего ты
ошибаешься, если полагаешь, что он японец. Представляешь, европеец. На амплуа комических
злодеев.
К этому ещё нужно добавить, что О-Току не знала ни имени его, ни адреса. И уж конечно, не
знала, холост он или женат. Странно все это, правда? Безответная любовь всегда абсурдна.
Посещая театр «Вакатакэ», мы могли не знать названия пьесы и имени актера, исполнявшего
главную роль, но уж то, что он японец, что его сценическое имя Сёгику это-то уж нам доподлинно
было известно. Я насмешливо сказал об этом О-Току, но она ответила вполне серьезно:
«Понимаете, я очень хотела узнать. Но не удалось, ничего не поделаешь. Я встречала его только
на полотне».
На полотне странно. Если бы она сказала на простыне, я бы еще понял. Я стал её расспрашивать и
так и сяк и наконец выяснил, что человек, в которого она влюблена, комик, снимающийся в
западном кино. Тут уж я окончательно был сбит с толку. Действительно на полотне.
Может быть, слова О-Току покажутся кому-то плохим каламбуром. И кто-то, не исключено, даже
скажет: «Да она просто насмешничает». Ведь их портового города, так что остра на язык. Но помоему, О-Току говорила чистую правду. Во всяком случае, глаза у неё были абсолютно
правдивыми.
«Я готова была хоть каждый день бегать в кино, но на это не хватило бы никаких денег. Поэтому
ходила все раз в неделю. Но это ладно, самое потрясающее дальше. Однажды я долго
выпрашивала у мамы деньги, а когда наконец выпросила и прибежала в кино, там было уже
полно народу и оставались только крайние места. Оттуда лицо его на экране казалось мне какимто сплющенным. И так грустно мне стало, так грустно». Она говорила и плакала, прикрыв лицо
фартуком. Ей было грустно оттого, что лицо любимого человека на экране было искажено. Я
искренне ей посочувствовал.
«Я видела его раз двенадцать-тринадцать в разных ролях. Длинное худое лицо, усики. Обычно он
носил строгий черный костюм, вот как у вас». На мне была визитка. «И он был похож на меня?» спросил я. «Гораздо лучше, - с вызовом ответила она, - гораздо лучше». Не слишком ли это было
жестко? «Ты говоришь, что встречалась с ним только на полотне. Я мог бы тебя понять, если бы ты
видела его во плоти и крови, если бы он мог с тобой разговаривать, взглядом выражать свои
чувства а тут просто изображение. Да еще на экране». Она была бессильна отдаться этому
человеку, даже если бы и хотела. «Говорят: «желанный»… Но если нежеланный, ни за что не
притворишься, что желанный. Возьмите хоть Симуру-сан он часто угощал меня зеленым вином.
Но я все равно не могла притворяться, будто он желанный. Судьба от нее никуда не уйдешь». Она
говорила вполне разумно. Её слова поразили и в то же время тронули меня. «Потом, когда я стала
гейшей, гост часто водили меня в кино, но, знаю почему, этот человек совсем перестал появляться
в фильмах. Сколько я ни ходила в кино, там показывали одну чепуху вроде «Вожделенных денег»,
«Зигомара», даже смотреть не хотелось. В конце концов я совсем перестала ходить в кино чего
зря ходить. Понимаете…».
В этой компании О-Току не с кем было поговорить, и, понимая это, она буквально вцепилась в
меня и говорила, говорила. Чуть не плача.
«Через много лет, уже после того, как я переехала сюда, я пошла однажды вечером в кино и вдруг
снова увидела его на экране. В каком-то городе на Западе. Там была мощенная булыжником
площадь, посреди площади какие-то деревья, похожие на китайские зонтики. А по обеим
сторонам гостиницы. Только, может быть, потому, что фильм был старый, все выглядело
коричневато-тусклым, точно дело происходило пол вечер, дома и деревья странно подрагивали
грустная картина. И вдруг, представляете, с маленькой собачкой, дымя сигаретой, появляется он.
В своем черном костюме, с тростью ну нисколько не изменился с тех пор, как я видела его в
детстве…»
Через десять лет она снова встретилась с любимым человеком. Тот не изменился, потому что это
был старый фильм, а она, О-Току, поверила в Счастливого дракона. Мне было невыразимо жаль
её.
«Около деревьев он останавливается, поворачивается ко мне и снимая шляпу, смеется. Скажите,
разве нельзя было подумать, будто он здоровается со мной? Знай я его имя, обязательно
окликнула бы…»
Попробовала бы окликнуть. Приняли бы за сумасшедшую. С тех пор как стоит город И., не было
ещё гейши, безнадежно влюбленной в кинофильмы. «Потом вдруг появляется маленькая
женщина и набрасывается на него. Чтец-сопроводитель пояснил, что это его любовница. Она уже
немолодая, да ещё на голове у нее огромная шляпа с перьями до чего мерзко она выглядела».
О-Току ревновала. Опять-таки к изображению на экране.
(Поезд подошел к Синагава. Мне нужно было сходить на Симбаси. Мой товарищ знал это и, боясь,
что ему не удастся закончить историю, торопливо продолжал, время от времени поглядывая в
окно.)
В фильме происходило ещё множество событий, и кончался он, кажется, тем, что мужчина
попадает в полицию. О-Току подробно рассказала мне, за что его арестовали, но я, к сожалению,
не помню.
«На него налетели, в момент скрутили. Нет, это было уже не на той улице. В каком-то баре. Там
стояли в ряд бутылки вина, а в углу висела клетка с попугаем. Видимо, уже наступила ночь, все
было в синей дымке. И в этой синеве, в этой синеве я увидела плачущее лицо того человека. Если
бы вы увидели, вам тоже стало бы безумно жаль его. В глазах слезы, рот приоткрыт…»
Потом раздался свисток фильм окончился. Осталось только белое полотно. И тут О-Току
произнесла замечательную фразу: «Все ушло. Ушло и превратилось в дым. И ничего не осталось».
В её слезах не было притворства. Не исключено, что история её безнадежной любви к
изображению на экране выдумка, а на самом деле она безответно любила кого-нибудь из нас.
(Наш поезд в это время, уже в сумерках, подошел к станции Симбаси.)
Альдани Лино - Рыжеволосая
(~38 мин., фантаст. рассказ
"Пятнадцать дней, полных любви, провел доктор Андре Клеман с Вееной, прекрасной
рыжеволосой девушкой. Ночью, во время бури, при свете молнии Андре увидел, что рядом с ним
лежит не красавица, а безобразное чудовище. Это длилось несколько мгновений и показалось
ему кошмарным сном. Но наутро Веена исчезла." © Nina)
(пер. Вершинин)
Больше всего его раздражали усы, тонкие, иссиня-черные и напомаженные.
Андре Клеман еще раз взглянул на своего собеседника. Тут не могло быть сомнений: весь облик
этого человека выдавал в нем частного детектива добрых старых времен. Но, может, это
сплошное притворство, не что иное, как попытка пустить пыль в глаза?
Человек с усиками пальцами левой руки постукивал по краешку пепельницы. Правую руку он так
и не вынул из кармана, и она слегка шевелилась — вероятно, господин частный детектив тихонько
почесывал ногу.
Андре обратил внимание на обтрепанные манжеты его рубашки, не слишком чистые ногти,
подушечки пальцев, желтые от никотина.
«Значит, — подумал он, — этот человек не курит трубки и хоть этим отличается от привычного
стереотипа».
— Случай крайне сложный, — сказал детектив, внезапно перестав стучать по пепельнице.
— Да, очень сложный, — подтвердил Андре.
Он вдруг понял, что лучше бы ему оставаться дома. Пришедшая в голову в минуту крайнего
отчаяния мысль обратиться за помощью к частному сыщику оказалась не из самых удачных.
— Но, — продолжал детектив, — Жюль Лафорг никогда не складывает оружия заранее. Вы,
вероятно, заметили, что на дверях моего кабинета написано «Рысий глаз», и это полностью
соответствует действительности.
Сказано это было таким самонадеянным тоном, что Андре стало совсем невмоготу. И он, злясь на
самого себя, спросил робким, почти умоляющим голосом:
— Что же можно предпринять, господин Лафорг?
Детектив стукнул кулаком по столу.
— Куда вы торопитесь, молодой человек? — спросил он сердито.
Он открыл ящик письменного стола и вынул чистый бланк.
— Порядок, прежде всего порядок.
Он отвинтил колпачок самопишущей ручки.
— Имя, фамилия?
У Андре появилось сильнейшее желание встать и уйти.
— Андре Клеман, — буркнул он.
— Возраст?
— Тридцать два года.
— Профессия?
— Врач.
— У вас свой кабинет или вы работаете в больнице?
— Работаю в Биологическом центре.
— Женаты?
— Нет. Послушайте, какое это имеет значение? Я пришел, чтобы…
— Господин Клеман, — прервал его Лафорг, — заполнение бланка предписано законом. Поэтому
прошу вас отнестись к этому с должным пониманием. Где вы проживаете?
— Шато Борегар, Сент-Жюльен.
— Чудесное местечко, Сент-Жюльен. Прошлым летом я провел там неделю отпуска.
— Вот как? Приятно слышать! — воскликнул Андре, стараясь изобразить на своем лице живой
интерес.
— Вернее, это был не отпуск, а служебная поездка. Но мне она показалась отдыхом. Один
ревнивец поручил мне проследить за своей красавицей женой, которая на курорте имела
обыкновение заводить романы.
Андре нахмурился. «Сейчас этот индюк доверительно поделится со мной, что она и с ним завела
роман», — подумал он. Но Лафорг больше не возвращался к этому эпизоду. Он протянул Андре
ручку и пододвинул к нему бланк со словами:
— Прошу вас, распишитесь вот здесь, внизу… Требуется также внести аванс в размере двадцати
пяти тысяч франков.
Сумма была достаточно высокой, но Андре молча выложил деньги.
— Итак, — задумчиво сказал Лафорг, кладя бланк в ящик стола. — Итак, нам предстоит отыскать
классическую иглу в классическом стоге сена.
— Да, но прошу вас помнить: у Веены рыжие волосы, а это, полагаю, облегчит вашу задачу.
— Согласен. И все-таки найти ее будет весьма непросто. Видите ли, в какой-то мере сообщаемые
вами подробности могут даже нам помешать, направить на ложный след. Ведь сейчас у каждой
пятой женщины рыжие волосы. Не спорю, чаще всего они крашеные, но в том-то и заключается
вся сложность: женщине ничего не стоит изменить цвет волос. Интересующая вас дама за это
время вполне могла побывать у парикмахера. Какой-нибудь час — и от ее рыжих волос не
осталось и помина. Теперь волосы у нее могут быть зеленого цвета либо даже седые.
— У Веены веснушки на лице и на плечах, она неподдельно рыжая.
Лафор открыл блокнот и записал: «Веснушки».
— Настоящая рыжая, не так ли?
— Вот именно.
— Вы в этом совершенно уверены, доктор?
Андре негодующе фыркнул.
— Послушайте, господин «Рысий глаз». Я провел с Вееной пятнадцать дней и ночей. Не думаю,
чтобы она стала рисовать веснушки не только на щеках, но и на теле.
Лафорг кашлянул.
— Прекрасно вас понимаю, доктор. Но поймите и вы — я отнюдь не стремлюсь удовлетворить
нездоровое любопытство. Своими вопросами я преследую одну-единственную цель —
наилучшим образом помочь клиенту. В такого рода расследованиях предварительные данные
крайне важны.
Он полистал блокнот, после чего с важным видом произнес:
— Итак, попробуем подвести итог. Впервые вы встретились с рыжеволосой незнакомкой на пляже
в Сеит-Жюльене восемнадцать дней назад, верно?
Андре устало кивнул.
— Будьте любезны, напомните мне подробности вашей первой встречи.
— Но я уже все рассказал! — взорвался Андре. — И вообще, какой смысл в этих несущественных
подробностях?!
— Они весьма существенны, друг мой. Прошу вас, расскажите с предельной точностью, как все
произошло.
— Ну, хорошо, — нехотя согласился Андре. — Я лежал на пляже, загорал. Время близилось к
полудню.
— На пляже было много отдыхающих?
— Человек десять — пятнадцать. Но они находились сравнительно далеко от меня. Вы ведь
бывали в Сент-Жюльене? Места там красивые, но гостиниц и пансионатов маловато. Итак, я лежал
почти у самого берега и грелся на солнце. Внезапно меня словно что-то толкнуло: я открыл глаза и
увидел ее.
— Вашу рыжеволосую красавицу?
— Да. Веена в открытом купальном костюме-бикини стояла рядом и пристально смотрела на
меня.
— Как именно она на вас смотрела?
— Что тут объяснять! Я же сказал — пристально. Может быть, она смотрела на меня довольно
долго, кто знает? Ведь я лежал с закрытыми глазами.
— Поймите меня правильно, доктор Клеман. Поверьте, мой вопрос закономерен. Конечно, про
Сент-Жюльен не скажешь, что это модный курорт, но, увы, авантюристки встречаются где угодно.
Андре побагровел.
— Веена не авантюристка! Уж я — то знаю. Мы провели вместе пятнадцать дней, и ни разу…
Словом, я бы это заметил. Вы забываете, что, хотя Веена и исчезла, в моем доме не пропало ни
одной вещи, ни единой булавки.
— Ну, стоит ли так волноваться! Я высказал лишь предположение. В нашей работе подчас
приходится прибегать к самым фантастическим домыслам. Успокойтесь, доктор, я вам верю, ведь
одно кольцо с бриллиантом на вашем мизинце стоит уйму денег. А оно, как я вижу, в целости и
сохранности. — И Жюль Лафорг широко улыбнулся. — Но вернемся к вашей первой встрече. Что
же произошло потом?
Андре полез в карман за сигаретами. Лафорг протянул ему свою пачку.
— Вы хотите сказать — сразу же? Да ничего особенного. Едва Веена заметила, что я открыл глаза и
в некотором смущении взглянул на нее, как она отошла, но недалеко, и присела на скалу, метрах
в десяти от меня.
— Стандартная тактика. Ручаюсь, что она не удостоила вас больше ни единым взглядом.
— Напротив, она поминутно оборачивалась и смотрела на меня. Тогда я встал, спустился к самой
воде и поплыл. Обычно не в моих правилах отказываться от любовных приключений. Но когда
такая красивая женщина не спускает с тебя глаз… Словом, где-то внутри меня прозвучал
тревожный звонок. «Лучше держаться от нее подальше», — решил я.
— Вот оно что. Ну, а как дальше развивались события?
Андре пододвинул пепельницу поближе и раздавил недокуренную сигарету.
— Я доплыл до плотика и огляделся. Кругом ни души. Я наслаждался блаженным одиночеством и
красотой моря, как вдруг из воды, неподалеку от плотика, вынырнула моя незнакомка. «Привет»,
— сказала она. Потом легко, без малейших усилий взобралась на доски. Мы с час молча лежали
рядом, глядя в небо.
— А затем?
— Затем вплавь вернулись на берег. На пляже она взяла меня за руку и повела к поросшему
кустарником холмику. Там лежала ее одежда. Моя машина стояла метрах в ста от дороги. Я
оделся, сел в машину и принялся ждать девушку.
Лафорг снова раскрыл блокнот.
— Опишите, в какой она была одежде.
— Веена? Она была одета очень просто: черные бархатные брюки, серебристые сандалии и
зеленая кофточка с блестками. Да, еще у нее была сумочка на длинном ремне с медной пряжкой.
Записывая, Лафорг поинтересовался:
— Вы куда-нибудь ее отвезли?
— Мы пообедали в прибрежном ресторанчике на открытом воздухе.
— Разрешите узнать, о чем вы говорили.
Андре поморщился, как бы желая сказать, что не помнит и вообще не понимает, какое это имеет
значение.
— Так, о всяких пустяках. Она сказала: «Меня зовут Веена». «Веена?..» «Просто Веена». Мне
хотелось узнать о ней побольше: откуда она приехала, чем занимается и какая работа ждет ее по
окончании отпуска. Помню, она рассмеялась. Сказала, что отпуск каждый вправе проводить
инкогнито. А значит… Она с одинаковым успехом могла быть продавщицей, школьной
учительницей либо иранской принцессой. Впрочем, это меня не так уж и интересовало, как не
интересовало, замужем ли она или нет, разведенная или вдова. Она мне нравилась, и этого было
достаточно. Да и позднее у меня не возникало желания узнать, кто же она на самом деле.
— Понятно, — буркнул Лафорг. — Продолжайте.
— Что еще вас интересует, господин Лафорг?
— Куда вы отправились после обеда?
Андре Клеман вскочил и гневно взглянул на собеседника.
— С меня довольно! — воскликнул он, стукнув кулаком по столу. — Из ресторана я отвез Веену к
себе. И там мы любили друг друга. Но если вы думаете, что я намерен посвящать вас в
подробности, вы жестоко ошибаетесь! Долго еще вы будете меня мучить?
Лафорг слегка поклонился и медоточивым голосом произнес:
— Спокойнее, доктор, спокойнее. Судя по всему, девушка была чертовски хороша, и вы не на
шутку влюбились. Это так же точно, как то, что меня зовут Жюль Лафорг. Не волнуйтесь, я отлично
понимаю, как неприятно рассказывать постороннему человеку об интимных переживаниях. Но,
повторяю, я действую исключительно в ваших интересах. Вы весьма облегчили бы мне задачу,
если бы…
— Мне нечего добавить, — сухо ответил Андре. — Я сказал вам, как ее зовут, как она была одета,
описал ее внешность. Теперь дело за вами… Буду ждать от вас добрых вестей.
Он застегнул пиджак и собрался уходить.
— Минутку, доктор. Мне хотелось бы уточнить одну деталь. Вы сказали, что девушка пробыла у
вас в доме пятнадцать дней. За это время она куда-нибудь отлучалась?
— Нет, — прорычал Андре. — Мы были неразлучны, как двое молодоженов в медовый месяц.
Этого вам достаточно?
— Увы, я хотел бы знать поточнее, когда голубка упорхнула?
— Три дня назад. Я проснулся один, и кровать показалась мне огромной и пустой. Честь имею,
господин Лафорг.
Однако детектива не так легко было смутить. Он встал и, выйдя из-за стола, настиг Андре у дверей
кабинета.
— Еще один вопрос, доктор, — сказал он, схватив Андре за руку. — Прошу вас, не сердитесь. Вы
говорите, что Веена исчезла три дня назад, то есть в четверг утром. Скажите, а накануне вечером у
вас случайно не произошло ссоры? Вы не заметили каких-либо странностей в поведении Веены?
Видите ли, женщины нередко склонны вспылить из-за сущего пустяка и реагируют на простое
замечание самым неожиданным образом. Возможно, Веена спряталась где-нибудь неподалеку от
дома, чтобы отомстить вам. Тогда она может не сегодня-завтра вернуться.
— Не было никакой ссоры, — резко ответил Андре. — Ни в среду, ни до этого. Все пятнадцать
дней между нами царило полнейшее согласие. И ни разу не случилось ничего странного. Будьте
здоровы, господин Лафорг.
«Будьте здоровы, господин Лафорг!» Он ушел, отмахнулся от просьб детектива задержаться и
ответить еще на один вопрос. А ведь Лафорг, очевидно, не лгал — его назойливые вопросы были
продиктованы отнюдь не любопытством, а желанием получить как можно больше сведений
перед весьма нелегкими поисками. Теперь он, Андре, понял, что был несправедлив к нему. Было
бы куда лучше рассказать Лафоргу все до мельчайших подробностей. Помнится, он сказал, будто
между ним и Вееной не было никаких недомолвок, но погрешил против истины. В их отношениях
все время проскальзывало что-то загадочное, неясное. «Отпуск приятно проводить инкогнито», —
сказала Веена, и он с нею согласился. Вначале он строго соблюдал правила игры и ни разу не
спросил, откуда она и чем занимается. Веена казалась ему существом таинственным и потому
особенно притягательным. Но в конце второй недели эта неопределенность в их отношениях
стала его раздражать. Веена была сфинксом, женщиной без прошлого. Ему никак не удавалось
узнать что-либо о ее детстве. Казалось, все ее воспоминания о прошлом исчезли в тот день, когда
они встретились на пляже в Сент-Жюльене.
Да, он многое утаил от Лафорга. Не рассказал, например, о том, как однажды, мучимый
любопытством, открыл сумку Веены: там не было ни документов, ни денег, но в целлофановом
мешочке лежала горсть бриллиантов. А главное, умолчал об одном странном эпизоде. Это
произошло в ночь на среду. Веена лежала с ним рядом и вдруг… Возможно, это было всего лишь
кошмарное сновидение, порожденное его возбуждением и чрезмерной нервозностью. Веена
исчезла под утро, скорее всего, она даже не дождалась рассвета. Между ужасным сном и
исчезновением Веены, казалось бы, не было никакой логической связи. И все-таки Андре
инстинктивно чувствовал, что такая связь существует.
Вот и сейчас, сидя на берегу моря и глядя на горизонт, где в вечерних сумерках медленно таял
огромный красный шар, он упорно пытался воссоздать из отдельных кусочков мозаики целую
картину.
Веена ушла навсегда. Он вдруг с неумолимой ясностью понял, что никогда больше ее не увидит.
Никогда, никогда. Тогда к чему это море и этот закат?
Он подобрал голыш и вяло бросил его в воду. Затем медленно встал и поплелся вдоль берега.
Пляж был пустынен.
Он дошел до эвкалиптовой рощи.
Никого.
Вечер окутывал тенями рощу и желтый песок.
— Тебе следует развлечься, — отеческим тоном сказал ему Жан Амон. — Через неделю кончается
отдых, а ты, похоже, совсем не в форме…
Андре мрачно покачал головой.
— Что с тобой? — не унимался Жан. — Неужели ты не в силах преодолеть апатию? Да на тебя
смотреть тошно. Подумать только, до какого состояния тебя довела женщина! Право же, так и
хочется встряхнуть тебя хорошенько!
Наклонив голову, Андре упорно разглядывал узоры на ковре.
— Послушай-ка моего совета, — продолжал Жан, — уезжай из Сент-Жюльена на несколько дней.
Прокатись в Биарриц. Там можно встретить тьму красивых девочек. Прибегни к старому,
испытанному методу — «клин клином вышибают».
Андре смерил его ледяным взглядом.
— Ты ведь видел Веену?
— Да, неделю назад, когда ты пригласил меня к себе. К тому времени эта девица окончательно
воцарилась в твоем доме. Поверь, это был самый томительный обед в моей жизни. Помнишь, я
даже не распаковал чемоданов. Сразу же после обеда уехал.
— Но ты же познакомился с Вееной?
— Да, Андре, я ее видел. И растерялся, не зная, как тебе помочь. А что ты попался, я сразу понял.
Очень красивая женщина, но что с того? Конечно, нелегко подыскать ей достойную замену…
Андре неожиданно ударил себя кулаком по лбу.
— Я с ума сойду! — Он встал и зашагал по комнате. — Если б я только мог о ней забыть, выбросить
ее из головы…
— Послушай, — терпеливо, как ребенку, повторял Жан. — Тебе надо развеяться, поездить. При
желании ты всегда можешь попросить дополнительный отпуск…
— Бесполезно, Жан. — Андре остановился и посмотрел другу в лицо. — Пожалуй, сейчас лучше
всего вернуться в лабораторию. Только работа поможет мне заглушить боль.
Жан скорчил гримасу и неодобрительно покачал лысой головой.
— У тебя воспаленные глаза. Ты, верно, совсем перестал спать?
— Да! — признался Андре. — Но это моя вина — я всеми силами стараюсь не заснуть: ночью меня
мучают кошмары.
— Кошмары? Ну, это уж чересчур. Ты явно болен.
— Послушай, Жан. Ты ведь не знаешь, что произошло в последнюю ночь, перед тем как Веена
исчезла. Мне такое почудилось… До сих пор не могу прийти в себя. И чем дальше, тем больше я
убеждаюсь, что то был не сон, не галлюцинация.
Жан посмотрел на друга широко раскрытыми глазами, на его худом лице отразились
растерянность и сильнейшее изумление.
— Только не волнуйся, — сказал он, стараясь не выказывать особого беспокойства, — и расскажи,
что же случилось в ту ночь?
Андре налил себе вина.
— Заснули мы по обыкновению поздно. Во всяком случае, я заснул. Но ночью разыгралась
сильнейшая буря, и я проснулся. Веена в страхе прижалась ко мне. За окнами грозно шумело
море и злобно хлестал ветер. От вспышек молний в спальне становилось светло, как днем. Я
подошел к окну, чтобы закрыть ставни, но резкий свет проникал даже сквозь щели…
Он умолк.
— Так что же тебя поразило? — Жан не в силах был скрыть свое любопытство.
— Раскаты грома становились все яростнее. Внезапно яркая вспышка молнии озарила комнату… и
я увидел Веену. Ее лицо было белым, как полотно, а глаза… Не могу тебе передать, какие у нее
были глаза! Огромные, как будильники. Понимаешь, Жан? Рядом со мной лежало безобразное
чудовище…
Жан уехал. На прощание он покровительственно похлопал Андре по плечу и подмигнул ему. Для
него, Жана, было ясно: вся эта история с внезапным превращением Веены в чудовище плод
больного воображения. Андре явно переутомился, и ему надо отдохнуть.
«Возможно, Жан прав», — подумал Андре.
Но он не мог заставить себя уехать из Сент-Жюльена, упорно оставался в Шато Борегар, хотя все
здесь напоминало ему о Веене. К тому же он ждал приезда Лафорга либо в крайнем случае — его
подробного письма.
Несколько дней Андре пребывал в состоянии полнейшей депрессии. Он раз десять звонил в бюро
Лафорга, но шефа на месте не было, секретарша же сказала, что господин Лафорг уехал куда-то из
Бордо по служебным делам. Пусть мсье не беспокоится, она записала номер его телефона, и, как
только господин Лафорг вернется, она ему сообщит.
Прошла неделя. Андре с нетерпением ждал почты, то и дело справляясь у Габриэля, своего
дворецкого, не звонили ли ему и нет ли телеграммы из Бордо…
На восьмой день Лафорг, наконец, прибыл в Шато Борегар. Андре стоял у окна, когда в воротах
появилась красная, замызганная малолитражка. Машина пересекла двор и остановилась. Андре
бросился навстречу потному, усталому Лафоргу.
— Зверски хочу пить, — сказал Лафорг. — Ну и жарища!
Андре провел его в гостиную. Лафорг осушил два стакана лимонада со льдом и лишь потом
сказал:
— Ну, теперь можно и поговорить.
Андре не мог усидеть в кресле от нетерпения. А детектив не спешил. Он отер ладонью усы,
порылся в карманах, вытащил пачку сигарет, с наслаждением затянулся.
— С этими рыжими сущая беда, — негромко, словно обращаясь к самому себе, начал он. — Что я
вам говорил, доктор Клеман? Во Франции полно крашеных девиц. Знаете, сколько километров
пришлось мне отмерить? Я трижды шел по ложному следу и лишь в четвертый раз мне повезло…
— Вы ее нашли? Где она?
Лафорг поморщился и сокрушенно развел руками.
— Не все сразу, доктор. Боюсь, вы меня неверно поняли. Видите ли, первый след привел меня ни
много ни мало в Ля Рошель. Женщина, за которой я следовал, и в самом деле была рыжая, но,
увы, крашеная. Я должен был сразу догадаться, только…
— Ближе к делу, — сухо сказал Андре. — Эти подробности меня не интересуют. Я хочу знать, что
стало с Вееной. Где она?
— В Рошфоре, на берегу Дуза. Ее видели там на прошлой неделе. Мне удалось найти по меньшей
мере человек двадцать, которые встречали молодую рыжую женщину в черных брюках и зеленой
блузе. Это, бесспорно, была она. Но след ее потерялся. Я обошел буквально все дома, обшарил
окрестный лесок, побывал в самых различных местах, даже в полицейском участке. У нас, частных
сыщиков, повсюду есть знакомые…
В комнату вошел Габриэль с крохотным серебряным подносом в руках.
— Господин доктор, вам письмо.
Андре, не глядя, сердито отмахнулся от него.
— Продолжайте, — сказал он Лафоргу. — Меня интересуют все подробности.
— Выяснилось, что Веена покинула Сент-Жюльен на взятой напрокат машине. Я отыскал шофера,
который ее вез. Его зовут Рене, у него гараж в нескольких километрах отсюда. По его словам,
Веена уехала часов в восемь утра. Лил проливной дождь, и девушка промокла до нитки. Она
страшно торопилась так, словно по пятам за ней гнались полицейские. Рене сказал, что при
взгляде на нее, мокрую, продрогшую, со слипшимися волосами, ему стало не по себе. Дорога
была преотвратная, и они только через два с лишним часа добрались до Рошфора. Шофер
добавил, что рыжеволосая пассажирка вызывала у него инстинктивное чувство страха. Она сидела
на заднем сидении. Рене, который отлично видел ее в зеркале заднего обзора, заметил, что с ней
что-то стряслось. Всю дорогу она просидела, закрыв лицо платком. Он так и не понял, то ли ее
пугала гроза, то ли…
Лафорг на мгновение умолк, как бы колеблясь, следует ли ему продолжать, но потом решился:
— Не знаю, как бы это поточнее выразить, доктор. Рене утверждает, что пассажирка сидела,
откинувшись головой на спинку сиденья и закрыв лицо платком. Ему кажется, что она плакала и
не хотела, чтобы он это заметил. Но у меня сложилось другое впечатление.
— Какое же? — дрожащим голосом спросил Андре.
— Веена отпустила шофера на перекрестке у Сент-Жюстена и вошла в придорожный бар. Я
побывал там, разыскал бармена и выяснил кое-какие любопытные подробности. Вы же
понимаете, доктор, в одиннадцать утра шоферы обычно еще не успевают сильно напиться. Да и
бармен показался мне человеком спокойным, рассудительным. Он вспомнил, что интересующая
нас девушка не вошла, а прямо-таки влетела в бар и залпом осушила несколько стаканов воды.
Казалось, внутри у нее все горит. А потом… потом ей стало плохо… Она сделалась мертвеннобледной, обмякла, кожа у нее внезапно стала морщинистой, как у старухи. Конечно, за
достоверность сказанного трудно ручаться, может, и в самом деле шофер был пьян… Но, по
словам бармена, лицо девушки непрерывно менялось: оно то было прекрасным, то становилось
уродливым, с огромными круглыми молочно-белыми глазами.
— Довольно! — вскричал Андре. — Хватит описывать ее лицо! Я хочу знать, что случилось потом,
куда она девалась.
Лафорг сокрушенно развел руками.
— Исчезла. Испарилась. Из бара она направилась в лес. Последним ее видел один лесоруб. Он-то
и рассказал, что какая-то рыжеволосая девушка промчалась мимо его домика и скрылась в лесной
чаще. Немного погодя раздался глухой взрыв, словно кто-то ударил по гигантскому барабану. Я
прочесал лес, но не нашел никаких следов Веены. Когда же я возвращался, то на поляне,
неподалеку от опушки леса, увидел обгоревшие кусты и траву. Возможно, там стояли табором
цыгане, а возможно…
Однако Андре, охваченный безотчетным волнением, уже не слушал его. Он не сразу мог понять,
что именно его гнетет, мысли путались… Но он вновь и вновь возвращался к пережитому. Нет, он
не должен придавать значение абсурдным предположениям. Просто разыгравшееся
воображение сыграло с ним злую шутку. Одно бесспорно — Веена ушла от него навсегда. Но кто
она, эта Веена? Андре вновь вспомнил ее белое, как полотно, лицо, дряблую кожу,
неправдоподобно большие круглые глаза…
До него не сразу дошел смысл слов Лафорга. Извиняющимся тоном детектив сказал, что его
миссия окончена, но если господин Клеман считает, что поиски следует продолжать…
Андре покачал головой. Он встал, проводил Лафорга до двери, а потом в каком-то оцепенении
стоял у окна и следил за тем, как малолитражка с грохотом выехала за ворота.
— Господин доктор, — напомнил Габриэль, — письмо у вас в кабинете, на письменном столе.
Андре, словно лунатик, вошел в кабинет. Письмо. Еще не вскрывая его, он понял, что оно от
Веены. Но не спешил его прочесть. Где-то в глубине его души зрела уверенность, что письмо это
не доставит ему радости.
Он ощупал плотный, слегка пожелтевший конверт. Его имя и фамилия были выведены
старательно, крупными буквами — так обычно пишут первоклассники. Медленно, неуверенно он
разорвал конверт: в его руках оказались четыре листа, исписанных неразборчивым почерком, а в
конце огромными буквами подпись: «Веена».
И снова он оказался во власти неудержимо налетевших воспоминаний. А когда они схлынули,
неожиданно ощутил полнейшее безразличие, словно эта лавина воспоминаний обрушилась не на
него, а на кого-то другого.
Он взял письмо.
«Дорогой Андре (кажется, так обычно начинаются письма?)!
Прости меня: я невольно вызвала у тебя иллюзии, которые не могли длиться вечно. Андре, мой
ненаглядный, моя единственная любовь! Когда ты получишь это письмо, я буду далеко-далеко от
тебя, за пределами доступного человеческому воображению барьера. Не спрашивай, где, не
пытайся понять, тебе это не удастся. Но одно я обязана объяснить, хотя сомневаюсь, чтобы ты мне
поверил: ты должен знать истинную причину моего бегства. Мне нелегко будет тебя убедить. Но я
попытаюсь.
Если б ты хоть на миг смог превратиться в доверчивого ребенка, быть может, тогда… Слушай же.
Попробуй представить себе далекий мир, похожий на твой. Обитатели его тоже радуются и
страдают, но своим внешним видом они очень отличаются от людей и, естественно, могут
показаться им уродливыми. Представь себе также, что там живет женщина, которая при желании
может изменять свою внешность. И все-таки она несчастлива, так как природа лишила ее дара,
которым наделены все другие женщины ее планеты. Она не способна стать матерью. Существует,
однако, целебное средство, чудесная трава, которая позволит волшебнице познать материнскую
любовь. Знаю, я покажусь тебе безумной, фантазеркой. Но, поверь мне, сколь нелегкой и
страшной ни показалась бы тебе эта история, в ней нет ни грана вымысла. В мире, откуда я
появилась и куда теперь возвращаюсь, я представляю собой редчайшее исключение — ни один
мужчина не может сделать меня матерью. Ни один.
Кроме тебя. Тебя или любого другого землянина. Вот по чему я прилетела к вам. Помнишь,
Андре, нашу первую встречу на пляже? Ты стоял на берегу и в лучах солнца казался прекрасным
бронзовым изваянием. И все-таки… все-таки я испытывала к тебе отвращение! Потому что мы
другие, любовь моя! Не спрашивай, как я потом смогла, сумела привязаться к тебе. Может ли
пчелиная матка влюбиться в трутня? Нет. И однако же со мной это случилось.
Андре, я чувствовала, как мое тело, мое подлинное тело, а не то, которое знал ты, сливалось с
твоим. Чувствовала, что ты становишься неотъемлемой частью моего существа. И я любила тебя,
Андре. Преданно, горячо, как только могла. А потом… Меня не оставляет мысль о последней ночи,
которую мы провели вместе. Помнишь, ярко сверкнула молния, и ты на миг увидел меня в моем
истинном обличье. Нет, Андре, то не была галлюцинация. Я читала в твоей душе, видела, как
тобою внезапно овладел ужас. Ты ведь не забыл, как я попросила, чтобы ты зажег свет, и
невероятным усилием воли постаралась вновь предстать перед тобой во всей своей обманчивой
красоте. Трудно передать, как я страдала! Ты крепко прижимал меня к себе, яростно обнимал за
плечи… Казалось, ты хотел проверить на ощупь каждую частичку моего существа, плотность кожи,
крепость тела. Все это было обманом, Андре. Мне удавалось казаться красивой лишь ценою
невероятного усилия воли. Это еще было в моей власти. Но знаешь ли ты, какие запасы
жизненной энергии я тратила на то, чтобы быть рядом с тобой и казаться тебе красивой все время,
днем и ночью! Тебе не понять, как меня страшило приближение того момента, когда я не смогу
более полностью управлять своим организмом.
Мы пробыли вместе пятнадцать дней и ночей, долгих и в то же время таких коротких. Две
недели любви, в которой сгорела моя молодость. Я все это знала заранее, Андре. И все же
оставалась с тобой. Отныне я — пожилая, немощная женщина, и достаточно одной твоей ласки,
чтобы я превратилась в дряхлую старуху либо вообще рассталась с жизнью.
Теперь ты понимаешь, почему я бежала, исчезла? Прости меня. Я вернусь на свою далекую
планету с бесценными воспоминаниями. И рожу ребенка, плод нашей прекрасной любви. Да,
Андре, я это безошибочно чувствую, я в этом уверена. В противном случае моя жизнь лишается
всякого смысла. Прекрасно таинство любви, но материнство, поверь мне, еще прекраснее. В нем
теперь единственная цель моей жизни.
Твоя навсегда Веена»
— Габриэль! — слабым голосом позвал Андре. — Кто принес это письмо?
Оно лежало у вас на письменном столе, господин доктор.
Господин доктор. Никакой он не доктор, а сумасшедший, слепой глупец! Повинуясь инстинкту,
вопреки логике, он верил, точнее, старался поверить в несбыточное.
Он распахнул окно и тихо повторил:
— Веена!
Бедная женщина. Она пришла в надежде напиться, а источник-то иссяк. Многое может сделать
волшебница, но и ее могуществу есть предел. Достаточно слепой случайности — и все ее
волшебство будет сведено на нет.
Андре провел дрожащей рукой по лбу. Целая жизнь загублена ради краткого мига любви.
Великая, но бесполезная жертва…
Шатаясь, словно пьяный, он вышел из дому и сквозь кустарник по пустынному пляжу побежал к
морю. В голове молоточком стучало: «Биологический центр. Пять лет работы в лаборатории с
радиоактивными веществами. Пять лет».
— Веена! — крикнул он.
Море поглотило отчаянный зов, вернув взамен неумолчный шум прибоя.
— Веена! Веена!
Жертва, принесенная впустую: ни одной в мире женщине не мог он дать радости материнства.
Апдайк Джон - Разнузданный Эрос
(~35 мин., соврем. проза
Аннотация к книге "Рассказы о Маплах"
Трагикомическая семейная сага о жизни Ричарда и Джоан Мапл. Цикл рассказов, который
Апдайк писал - ни больше, ни меньше - несколько десятилетий, вновь и вновь возвращаясь к
любимым героям. Счастливые и трудные времена. Дети. Измены. Отчуждение. Вражда.
Развод. Ненависть. От любви до ненависти - один шаг. От ненависти до любви - тоже. Но…
когда и почему этот шаг делается?)
Перевод Аркадия Кабалкина
Дом Маплов полон любви. Шестилетняя Бин любит собачку Гекубу. Восьмилетний Джон,
ангелоподобный мистик, не умеющий ездить на велосипеде и различать время на часах, влюблен
в героев мультиков, в чудищ с открыток, в свою коллекцию динозавров и в деревянную фигурку
носорога из Кении. После школы он проводит в своей комнате долгие часы, раскладывая все эти
предметы то так, то эдак, любуясь ими и что-то мурлыча себе под нос. Больно ему бывает только
тогда, когда его старший брат Ричард врывается к нему в комнату, заряженный скепсисом, и рвет
его плаценту довольства. Сам Ричард-младший питает любовь к жизни и вообще ко всему миру,
включая Карла Ястржемского, Бейба Парили[1], хоккеистов из «Бостон брюинз», группу «Битлз» и
ту шуструю персону с расческой и усами из зубной пасты под носом, что пялится на него по утрам
из зеркала. Он получает от девчонок вызывающие записки, вроде этой: «Дикки Мапл, кончай на
меня глазеть». Он приносит их домой в мятом виде вместе с диктантами и каракулями,
считающимися результатами проверки его глаз, зубов и легких. Свое отношение к молоденькой
миссис Брайс, предстающей перед его пятым классом с эмалированным личиком и студийной
дикцией стюардессы, он высказывает с подозрительной неохотой. Почти не вызывает сомнения
его постоянная и глубокая любовь к старшей сестре, Джудит. Ей скоро тринадцать, и она уже
неуправляема, даже если инструментом управления выступает кровосмесительная, то есть
братская любовь. Она самоуверенно заслоняет от него телеэкран, издевается, когда он слушает
«Битлз», дразнит его, не жалеет подзатыльников и вообще находится под влиянием мощного
космического излучения. Она часами торчит на углу, около дома мистера Ланта, своего учителя
истории, пачкает стены своей комнаты переводными картинками с изображениями группы
«Манкис», одаривает мать перед сном французским поцелуем, панически боится бессонницы,
надолго устраивает на диване томную возню с собакой. Золотистый ретривер Гекуба,
стерилизованная сука, носится из комнаты в комнату, терзаемая жаждой обожания, как блохами,
прижимает уши и молотит хвостом, бросается на кошек, которые ее не любят, в конце концов
валится в изнеможении на кухонный линолеум, радуясь своему поражению, и засыпает.
Кошки, Эстер и Исав, вылизывают друг другу шерстку и едят из общей миски. Они из одного окота.
Эстер, мать тридцати с лишним котят, сильно смахивавших на ее братца, стала жертвой
мстительности, позаимствованной у черного меньшинства: надоедливый гортанный зов
соседского кота привел к тому, что ее стерилизовали, в отличие от Исава, которому из
сентиментальности сохранили его мужское естество, отчего он теперь вынужден покидать
жилище в поисках блаженства, прежде доступного прямо на дому. Возвращается он изрядно
потрепанным. Эстер зализывает его раны, пока он валяется в полуобморочном состоянии у
холодильника и даже урчит с хрипом. Выпрашивая ужин, они усаживаются, как книжки
двухтомника, соприкасаясь спинками, очень похожие на опытную престарелую пару на пособии.
Чувствуется, что Исав все еще любит Эстер, а та его просто принимает. Его платоническое
внимание вызывает у нее презрение. Озадачена ли она внезапным исчезновением того, что
раньше влекло его так неумолимо? Но озадаченной выглядит, скорее, его квадратная морда, а не
ее треугольная. Младшие дети отлично чувствуют разницу: Бин и Джон после стерилизации Эстер
стали больше ласкать Исава. Происходит это, возможно, потому, что она лишила их
происходившего раз в полгода чуда появления котят, крохотных существ, выползавших живыми
из черного отверстия, из загадочной пещеры. Ричард-младший, словно демонстрируя свою
мужественность и право на сострадание, ласкает обеих кошек в равной степени: гладит то одну, то
другую. Джудит утверждает, что питает к ним ненависть; сейчас как раз ее очередь их кормить, и
она ноет, что терпеть не может запах конины. Зато лошадей она любит — пускай абстрактно.
Мистер Мапл любит миссис Мапл. У него бывают, особенно днем в субботу, трудные периоды,
когда он не может оторвать от нее глаз, плененный смешным убеждением, будто бы изгиб ее
бедра скрывает некое трепетное богатство, вверенное его заботам. Будь на то его воля, он бы
никогда не переставал ее трогать. Пока она занимается йогой в своем черном эластичном трико с
зацепками, у него заходится сердце и прерывается дыхание. Когда она сливает остатки белого
вина в горшки с геранью, ему кажется, что ее движения бесконечны, как те мгновения, которые
запечатлевал Вермеер при божественном свете слева. По ночам он пытается прижать ее к себе
как можно крепче, пристроиться к ее вялому во сне телу, как будто без этого ему не выжить. Спать
в такой позе он не может, но сохраняет ее еще долго после того, как ее дыхание приобретает
равномерность забвения; быть может, определение любви простое — это отказ от сна? А еще он
любит Пенелопу Вогель, маленькую привлекательную секретаршу из своего офиса, пытающуюся
воспрянуть после катастрофического романа с неким уроженцем острова Антигуа; он также
влюблен в свои воспоминания о примерно шести особях женского пола, начиная с семилетней
подружки, воровавшей его охотничью шапочку; влюблен он, пускай только наполовину, и в
смерть. Кажется, он — один на всю страну — любит президента Джонсона, не знающего о его
существовании. Еще обожание Ричарда распространяется на Луну, стал бы он иначе так жадно
изучать все фотографии ее безжизненной поверхности?
А Джоан? Кого любит она? Безусловно, своего психиатра. Своего отца — неизбежный ответ.
Вероятно, своего инструктора по йоге. Она работает на полставки в музее и возвращается домой
разрумяненная и говорливая, как после секса. Наверное, она любит детей, то-то они спешат к ней,
как воробьи на сало. Они дерутся за местечко у нее на коленях и отворачиваются от своего отца,
как будто этот самозабвенный труженик, зарабатывающий им на хлеб, — какой-то нелепый
чужак, трубочист на крыше снежного замка. За кого бы он ни выдавал себя детям — за вожатого
скаутов, товарища по играм, друга-приятеля, финансовый бастион, колдуна, ночного сторожа, —
они его небрежно отвергают; Бин все еще зовет в слезах маму, когда ушибется, Джон просит у нее
денег на новые открытки с чудищами, Дикки требует, чтобы она последней целовала его на сон
грядущий, и даже Джудит, как будто обязанная быть папиной дочкой, приберегает свой влажный
поцелуй для мамочки. Джоан плавает во всей этой любви, как рыба в воде, и больше ни на что не
обращает внимания. Любовь замедляет ее шаги, льется на нее из радиоприемника, окружает на
кухне в виде детских рисунков с домиками, семьей, кошками, собаками и цветочками. Мужу к ней
не пробиться: она живая, прочная, но существует тайно, как Всемирный банк; она правит, но не
проявляет пристрастий, словно федеральное правосудие. Что-то холодное и
нескоординированное толкает его бессильно свисающую руку; это нос Гекубы. Жирная
кастрированная сука с золотыми глазами, она, как и он, до ужаса боится одиночества и лезет из
кожи вон, чтобы влить свое тепло в общий котел, всех любит, обожает запах еды, запах жизни.
Пенелопа Вогель старательно избегает в своей речи сантиментов; она на шесть лет моложе
Ричарда, но целое десятилетие испытывала муки любви и теперь, в двадцать девять лет, бережет
себя и говорит сухо, рублеными фразами совсем юного поколения.
— Нам было хорошо, — рассказывает она о своем антигуанце, — а потом стало плохо.
Она словесно теребит свои прежние романы, как засушенные цветы, сидя напротив него за
столиком в ресторане. Ричард нервно дергается от ее деликатности, словно перебирает вместе с
бабушкой загадочные хрупкие письма.
— Все кончилось отвратительно, — продолжает Пенелопа. — Что для меня было хорошо, для него
оказалось плохо. Он связался с наркоманами. Я не могла на это смотреть.
— Он хотел на вас жениться? — робко спрашивает Ричард, наслушавшийся офисных сплетен.
Она пожимает плечами.
— Было такое дело.
— Наверное, вам его не хватает.
— Не без этого. Больше я таких красавчиков не встречала. Какие плечи! В Диккенсон-Бей он клал в
воде мою руку себе на плечо и так, вплавь, тащил меня за собой милю за милей. Он был
инструктором по сноркелингу.
— Как его звали? — Ему страшно бередить эти воспоминания, страшно продолжать эти
переговоры, поэтому он допивает коктейль и тут же жестом просит официанта повторить.
— Хьюберт, — отвечает Пенелопа, терпеливо вытирая рот салфеткой. — Правильно говорила
подруга: нельзя клевать на мужскую красоту, иначе будете драться за зеркало.
Личико у нее маленькое, белое-белое, нос длиннющий, розовые ноздри воспалены от вечной
простуды. Только чернокожий, размышляет Ричард, счел бы ее хорошенькой; но эта мысль
наделяет ее красотой в неугомонном, кишащем тенями ресторане. Подходит сменить скатерть на
их столике чернокожий официант. Пенелопа продолжает, но так тихо, что Ричарду приходится
напрягать слух, чтобы расслышать.
— Когда Хьюберту было восемнадцать, одна женщина из-за него развелась с мужем и бросила
детей. Она, между прочим, принадлежала к старой плантаторской семейке. Он на ней не
женился. Если она так поступила с мужем, говорил он мне, то и от меня уйдет. Он был страшным
моралистом, пока не переселился сюда. Только представьте, чтобы восемнадцатилетний парень
так подействовал на зрелую замужнюю женщину тридцати с лишним лет!
— Пожалуй, я не стану знакомить его со своей женой, — шутит Ричард.
— Лучше не надо. — Она не улыбается. — Им это раз плюнуть. Настоящие профессионалы!
Пенелопа часто бывает на островах Вест-Индии. Как постепенно выясняется, на Сен-Круа у нее
был Эндрю с козлиной бородкой, занимавшийся обработкой отходов и имевший политические
амбиции, на Гваделупе — таможенник Рамон, на Тринидаде — Каслри, игравший на альтсковородах в шумовом оркестре и танцевавший лимбо. В этом танце он мог так выгнуться назад,
что от его затылка до земли оставалось всего девять дюймов. Но хуже — или лучше? — всех был
Хьюберт, один он поехал за ней на север.
— Он думал, что я стану жить с ним в отеле в квартале Джамайка-Плейн, но мне было страшно
даже близко подходить, там сплошь какие-то опустившиеся типы, а лифт пропах «травой». Всего
раз я нажала там кнопку вызова и за минуту успела получить два предложения от стоявших рядом
парней. Та еще была сценка!
Официант приносит им сладкий рулет. В полутьме ее профиль кажется поникшим, и он борется с
желанием вырвать ее, этот бледный цветок, из горшка с мусором, в который она залезла.
— Стало так худо, — делится она с ним, — что я попыталась вернуться к одному старому
знакомому, ужасно симпатичному, только с больным от нервов желудком и с мамашей. Он
системный аналитик, весь в работе, но не знаю, меня он как-то никогда не впечатлял. Может
говорить только про свой гастрит и про то, как мать ему твердит: найди себе жену, в конце концов,
а он не знает, серьезно ли она. Его мать.
— Он... белый?
Пенелопа поднимает глаза, ее нож для масла опасно поблескивает, голос становится медленнее и
суше.
— Вообще-то нет. Это называется «афроамериканец». Вы против?
— Нет, что вы, просто подумал: нервы, желудок... Не то что другие.
— Да, не то. Говорю же, он меня не впечатляет. Когда имеешь что-то хорошее, трудно
возвращаться назад, вы не считаете?
У слов богатый подтекст, хотя ее взгляд вполне равнодушен, но, пока она жует щедро намазанную
маслом булку, он пытается решить непростую геометрическую задачу: найти точку, в которой она
перешла с белых любовников на черных.
Но тут его занимает новый предмет. Сердце начинает биться сильнее, он наклоняется к ней.
— Видите ту женщину? Ну которая только что вошла. Вся в коже, цыганские серьги, уже сидит. Это
Элеонор Деннис, живет неподалеку от нас. Развелась.
— А кто это с ней?
— Понятия не имею. Элеонор больше не принадлежит к нашему кругу. А этот тип с виду
настоящий головорез.
Там, у противоположной стены, Элеонор поправляет серьги, осматривается, скользит взглядом
мимо его столика.
— Судя по выражению вашего лица, Элеонор была не просто в вашем круге... — произносит
Пенелопа.
Он делает вид, что разоружен ее догадкой, но на самом деле считает удачей появление его
собственной старой пассии — есть чем компенсировать темный поток ее любовников. Остаток
времени они говорят уже о нем: о нем и Элеонор, Марлин Броссман, Джоан и девочке,
воровавшей его охотничью кепочку. Перед лифтом в доме Пенелопы он изъявляет готовность
подняться вместе с ней.
— По-моему, вам этого не хочется, — говорит она осторожно.
— Как раз хочется!
Дом современной постройки находится в историческом квартале Бэк-Бэй. Свет в вестибюле
слепит глаза, искусственные растения в кадках не нуждаются в поливе, в обтянутых искусственной
кожей креслах никто никогда не сидел, на мозаичное панно лучше не смотреть. От света некуда
деться, это ровное и чистое свечение, как в морозильнике, оно вездесуще, словно эфир или
либидо, которое, как утверждает Фрейд, сопровождает нас с раннего детства до гробовой доски.
— Нет, — стоит на своем Пенелопа, — у меня тонкий слух на искренность в таких вещах. Думаю,
вы с потрохами принадлежите дому и семье.
— Собака во мне души не чает, — сознается он и на прощание целует ее в щеку под прицелом
светильника. Вопреки сухости тона ее губы поразительно мягки, широко раскрыты, горячи, имеют
привкус сожаления.
— Так, значит, — обращается к нему Джоан, — ты переспал с этой офисной мышкой.
На календаре суббота, неоформленное эротическое напряжение дня — теннис у нее, сеанс
мультфильмов у детей — сошло на нет. Маплы одеваются у себя в комнате, готовясь идти в гости,
в окно сочатся пепельные сумерки и размытый свет далекого уличного фонаря.
— Ничего подобного! — отказывается он, хотя допускает, что знает, кого она имеет в виду.
— Ты с ней ужинал.
— Кто тебе сказал?
— Мак Деннис. Элеонор видела тебя с ней в ресторане.
— Разве Деннисы разговаривают? Я думал, они развелись.
— Все время разговаривают. Он ее по-прежнему любит. Это всем известно.
— Ладно. А когда это ты разговаривала с ним?
Как ни странно, на это она не готова отвечать.
— Ну... — Пока она подыскивает слова, у него душа уходит в пятки. — Скажем, я встретила его
сегодня в магазине скобяных товаров.
— Неужели? И чего ради ему тебе это рассказывать? Похоже, вы с ним в приятельских
отношениях.
Он говорит это, чтобы она возразила, но вместо этого она долго молчит, потом, медленно
смещаясь к своему шкафу, сознается:
— Мы понимаем друг друга.
Запугивать его как будто не в ее характере.
— Когда меня там якобы видели?
— Ты хочешь сказать, что это бывает часто? В эту среду, где-то в двадцать тридцать. Наверняка ты
с ней спал.
— А вот и нет! Если помнишь, к десяти я уже был дома. Ты сама только вернулась из музея.
— Что тебе помешало, дорогой? Ты оскорбил ее своим несносным одобрением вьетнамской
войны?
В такой полутьме он с трудом узнает эту женщину, ее отрывистые движения, хриплый голос.
Серебристая комбинация мерцает и потрескивает, пока она натягивает на себя черное вязаное
платье; с решительным волнением она расхаживает вокруг кровати, подходит к туалетному
столику, возвращается. Чем больше она движется, тем больше объема и динамичной гибкости
впитывает из теней ее фигура. Он делает попытку примирения, предлагая в знак его правду:
— Нет, оказалось, что Пенелопа встречается только с чернокожими. Я для нее бледноват.
— Ты сознаешься, что пытался?
Утвердительный кивок.
— Что ж... — Джоан делает полшага в его сторону, и он вздрагивает, как в ожидании удара. — А
хочешь узнать, с кем спала в эту среду я?
Он снова кивает, но совсем другим кивком, как если бы между ними вдруг с невероятной
скоростью вырос целый континент.
Она называет едва знакомого ему человека, заместителя директора музея с булавкой на
воротнике и с длинной седой шевелюрой, зачесанной назад в пижонском английском стиле.
— Было здорово, — продолжает Джоан, пиная туфлю. — Он считает меня красавицей. Так ко мне
относится, как тебе и не снилось. — Она сбрасывает вторую туфлю. — Для меня ты тоже
бледноват, забулдыга!
Он так поражен, что ищет спасения в смехе.
— Мы все считаем тебя красивой.
— Только ты не даешь мне этого почувствовать.
— Я сам это чувствую.
— А я чувствую себя с тобой уродливой шваброй.
Они пытаются нащупать новые позиции, но он видит, что она, как шахматист, импульсивно
сделавший ход ферзем, теперь может только занимать оборону. В отчаянной попытке удержать
инициативу она говорит:
— Разведись со мной. Побей меня.
Он спокоен, придерживается фактов, он восхищен собой.
— Ты часто с ним бываешь?
— Не знаю. Это длится с апреля. То прекращается, то опять... — Ей как будто мешают собственные
руки, она то кладет их на бедра, то хватается за щеки, то цепляется за столбик кровати, то роняет
их. — Я все время пытаюсь с этим покончить. Чувствую себя страшно виноватой, но он не нахал,
поэтому с ним не поссоришься. У него становится такой обиженный вид, что...
— Ты хочешь, чтобы он оставался?
— Когда ты знаешь? Не глупи!
— Он ведь относится к тебе не так, как я.
— Как всякий любовник.
— Да поможет нам Бог! Тебе лучше знать, ты специалистка.
— Это вряд ли.
— А как же Мак?
— С тех пор прошло много лет. И это длилось недолго.
— Фредди Веттер?
— Нет, мы договорились не встречаться. Он знал про нас с Маком.
Любовь, как мутные черные чернила, переполняет его нутро, возникает покалывание в ладонях.
Он подступает к ней вплотную, ее лицо опрокинуто и напряжено в ожидании пощечины.
— Шлюха! — выговаривает он восхищенно. — Моя нетронутая невеста! — Он целует ее руки,
ледяные и порочные. — Кто еще? — умоляет он так истово, словно каждое имя — это
драгоценное бремя, которое она возлагает на его опущенные плечи. — Назови мне всех своих
мужчин.
— Уже назвала. Вполне аскетический список. Знаешь, почему я тебе сказала? Чтобы ты не
чувствовал себя виноватым из-за этой Вогель.
— Ничего ведь не произошло. Это у тебя происходит все.
— Милый, я женщина, — объясняет она. В темнеющей комнате, над немой телевизионной
картинкой, они словно бы возвратились к основам своего брака, к его элементарным составным
частям. Женщина. Мужчина. Дом.
— Что говорит обо всем этом твой психотерапевт?
— Немного. — Торжествующий всплеск ее исповеди уже позади, в такой угасающей манере она
теперь будет днями, неделями отвечать на его вопросы. Она тянется за туфлями, которые в пылу
откровенности отшвырнула. — Это было одной из причин моего обращения к нему. Все эти
романы...
— Все эти? Ты меня убиваешь!
— Не перебивай, пожалуйста. Все происходило вполне невинно. Я приходила к нему в кабинет,
ложилась на кушетку и говорила: «Я только что от Мака, от Отто...»
— Otto? Что за шутки? Если читать это имя задом наперед, получается тот же самый «Otto», а если
вывернуть наизнанку — «то-то»...
— ...я говорила: «было чудесно», «ужасно» или «средне», и мы переходили к моей детской
мастурбации. Его дело не осуждать меня, а помочь перестать осуждать саму себя.
— Бедняга, все это время я ревновал тебя к нему, а он годами мучился, каждый день выслушивая
эту канитель... Ты приходила, плюхалась, еще не остыв, на его кушетку...
— Вовсе не каждый день, даже не каждую неделю. Я у Otto не единственная женщина.
Искусственное смятение на телеэкране внизу сопровождается реальным сотрясением —
поднимающимися по лестнице воплями и ударами, которые угрожают аквариуму с Маплами,
плавающими, как темные рыбки в чернилах: они едва различимые контуры, знакомые друг другу,
словно водовороты тепла, загадочные трещины на поверхности пространства. Боясь, что теперь
он долгие годы не подберется к Джоан так близко, что она еще долго не раскроется с такой
полнотой, он спешит с вопросом:
— Как насчет твоего инструктора по йоге?
— Вот еще глупости! — фыркает Джоан, застегивая сзади на шее жемчужное ожерелье. — Он
вегетарианец преклонных лет!
Распахивается дверь, спальню захлестывает поток электрического света. Ричард-младший не
помнит себя от гнева, он рыдает.
— Мамочка, Джуди дразнит меня и все время загораживает телевизор!
— Вот и нет, вот и нет! — Джудит отличается отчетливостью речи. — Мама, папа, он «тормоз» и
врун!
— Что поделать, она растет! — говорит Ричард сыну, представляя себе, как Джудит старается
превратиться в один из детских силуэтов на экране, и жалея ее, как он жалеет Джонсона, тянущего
всеми презираемую президентскую лямку.
В спальню влетает Бин, испуганная скандалом уже не в телевизоре, а наяву, Гекуба с шалыми
золотистыми глазами валяется на кровати, Джудит нагло, даже бесстыдно косится на Дикки, тот,
захлебываясь от избытка эмоций, выскакивает из комнаты вон. Вскоре из другого угла второго
этажа несется ошалелый визг: это Дикки, вторгшийся в комнату Джона, усугубляет тамошний
кавардак нашествием своих динозавров. Внизу всеми забытая, одинокая женщина, запертая, к
тому же, в ящик, поет про amore. Бин виснет на ногах у Джоан, не давая ей двигаться.
— О чем вы тут говорили? — спрашивает с родительской резкостью Джудит.
— Ни о чем, — отвечает дочери Ричард. — Мы одевались.
— С выключенным светом?
— Экономия электричества.
— А почему мама плачет?
Он не верит своим глазам: по щекам Джоан и впрямь катятся слезы.
На вечеринке, среди клубов знакомых и дыма, Ричард отказывается отходить от жены. Она
осушила свои слезы и слегка покачивается, как покачивалась на пляже, когда щеголяла в бикини.
Но сейчас ее нагота доступна только его взору. Ее голова, касающаяся его плеча, ее серьезные,
вежливые шутки, глубокая нераскаявшаяся расселина между грудей — все кажется по-новому
ценным для его свежеиспеченного «я», все обладает новой важностью. Став рогоносцем, он
вырос, стал стройнее, приобрел в собственных глазах новое изящество и человечность,
невесомость и подвижность. Когда вспыхивает обычный спор о Вьетнаме, он слышит собственный
голос, превратившийся в воркование голубки. Он соглашается, что Джонсон не достоин любви.
Допускает, что Азия бесконечно сложна, страшно далека, неблагодарна, женственна; но значит ли
это, что мы должны бросить ее на произвол судьбы? Когда Мак Деннис, отяжелевший от
холостяцкой жизни, приглашает Джоан на танец, Ричард чувствует себя лишенным мужского
достоинства и сидит на диване с таким скучающим видом, что Марлин Броссман подсаживается к
нему и впервые за много лет принимается с ним флиртовать. Он пытается дать ей понять своим
тоном, а не произносимыми бессмысленными словами, что любил ее и мог бы полюбить снова,
но в данный момент ему совершенно не до этого, прости. Он подходит к Джоан и спрашивает, не
пора ли им домой. Она против: «Это слишком невежливо!» Ей безопаснее здесь, среди
выставленных напоказ социальных признаков, поскольку она предвидит, как активно он будет
эксплуатировать сданную ею территорию. Любовь безжалостна. В полночь они все же едут домой
под плоской луной, совершенно не похожей на свои фотографии: где все эти накрытые тенями
каньоны, пронзительные горные хребты, резкие углубления у стальных ног механического
предмета, присланного с висящего в небе голубого шара?
Они не знают отдыха, пока он не вытягивает из нее кучу подробностей: даты, места, интерьеры
мотелей, определения испытанных чувств. За сим следует самокритичный акт любви. Он вымогает
у нее, как должное, новое качество распутства и пытается расплатиться за это, словно старый
ловелас, видимостью мастерства. Он успокаивает себя мыслью, что в каком-то
основополагающем смысле так и не был отвергнут, что она месяцами билась в объятиях
любовника, в мелкоячеистых сетях любви потому, что ее крылья связывали узлы тактичности. Она
уверяет его, что призналась при первой же возможности; откровенничает, что Otto брызгает себе
волосы спреем и пользуется духами. Рыдая, клянется, что нигде и никогда не встречала такой
страстности, как у Ричарда, таких приятных телесных пропорций и изящества, такого
вдохновляющего садизма, такой мужской силы. Тогда почему?.. Она уже спит. Дыхание
свидетельствует о глубоком забытьи. Он вжимает в себя ее бессильное тело, тратит свое
прощение на ее призрачный во тьме силуэт. Удаляющийся грузовик туго натягивает ночное
безмолвие. Он чуть было не испытал насыщение; ее исповедь пусть совсем чуть-чуть, но не
доведена до конца. На лунообразном циферблате стрелки показывают три часа. Он
поворачивается, взбивает подушку, долго не может удобно сложить руки, крутится и вроде как
бредет вниз, выпить стакан молока.
К его удивлению, в кухне горит яркий свет, Джоан сидит на линолеуме в своем трико. Он с немым
изумлением наблюдает, как она подворачивает ноги в позе лотоса. Он снова задает вопрос про
инструктора йоги.
— По-моему, это не в счет, если было частью упражнений. Вся штука в том, чтобы соединились
душа и тело, милый. Это пранаяма — управление дыханием. — Она величественно зажимает себе
одну ноздрю и медленно вдыхает, зажимает другую и выдыхает. Руки возвращаются ладонями
кверху на колени. На лице улыбка. — Сплошное удовольствие! Называется «твист-гимнастика». —
Она принимает новую позу, мышцы гибко перекатываются под черной тканью с зацепками. — Ох,
забыла сказать, я спала с Гарри Саксоном.
— Нет, Джоан! Часто?
— Когда нам этого хотелось. Обычно мы шли за бейсбольное поле. Там божественно пахло
клевером!
— Но почему, милая, почему?!
Она улыбается, считая про себя секунды в этой позе.
— Сам знаешь. Он просил. Когда мужчины просят, им трудно отказать. Нельзя оскорблять их
мужскую природу. Во всем есть гармония.
— А Фредди Веттер? Про Фредди ты наврала, да?
— А эта поза хороша для мышц горла. Называется «лев». Только не смейся. — Она встает на
колени, садится ягодицами на пятки, запрокидывает голову, широко разевает рот и далеко
высовывает язык, словно в желании достать им потолок. И при этом не умолкает: — Теория здесь
такая: мы так высоко носим голову, что кровь не достигает мозга.
Он пытается побороть боль в груди, исторгая из себя вопль: «Назови мне всех!»
Она перекатывается к нему, встает на голову, лицо багровеет от старания удержать равновесие и
от прилива крови. Она машет ногами, как ножницами, разводя и снова сводя.
— Некоторых ты не знаешь, — продолжает она. — Они ходят по домам и предлагают купить
канализационный отстойник. — Голос доносится из живота. Нет, хуже, это жужжание. Он в ужасе
просыпается и рывком садится. Вся грудь у него в поту.
Он находит источник жужжания — трансформатор на телефонном столбе за окном. Всю ночь,
пока жители спят, город шепчется сам с собой электрическим голосом. Ричарда не покидает страх,
реальность того, что он испытал во сне, подтверждается. Тело спящей рядом с ним Джоан кажется
маленьким, немногим длиннее Джудит и более тонким из-за возраста, зато ему присуща глубина,
бездна таинственности, вероломства и соглашательства; от боязни высоты у него потеют ладони.
Он сползает с кровати, как будто пятится от кромки водоворота, снова плетется вниз. После
откровений жены ступеньки стали круче, ладони съезжают по скользким стенам.
В кухне темно, он включает свет. Голый пол. Привычные предметы здесь приобретают какой-то
просроченный, натянутый вид, как будто сейчас развалятся от напряжения, порожденного их
преданной узнаваемостью. Эстер и Исав крадутся из гостиной, где они спали на диване, и
профессионально клянчат еду, для чего уподобляются корешкам двухтомника. На часах уже
четыре. Ночная вахта. Но, как ни ищет Ричард признаки преступного проникновения, следы своего
сна, он не находит ровным счетом ничего, кроме улик, уже самим своим количеством служащих
насмешкой, — развешанных повсюду рисунков, творений детских пальчиков, неуклюже
сжимающих карандаш: домики, машины, кошки, цветы.
Примечания
1. Знаменитые американские бейсболисты.
Аренев Владимир - Везенье дурака
( ~ 8 мин., юморист. фэнтези
"День у жабы сегодня выдался — не дай бог никому: сперва чуть не пристрелили, теперь
целоваться лезут без серьезных намерений."
Старая сказка, да на новый лад)
Длинная, с черным древком и пестрым оперением стрела не вонзилась даже — плюхнулась в
вязкую болотную грязь. И тотчас начала тонуть. Неподалеку в два голоса выругались, чьи-то
сапоги зашлепали от кочки к кочке, тревожа комаров и стрекоз.
— Видишь, куда упала?
— Вижу, ваше высочество.
— Рядом лягушки наблюдаются?
— Ни одной. Жаба, правда, сидит пупыристая, но…
— Полагаю, сойдет и жаба.
— Ваше высо…
— Не канючь! Зря, что ли, целый день в грязи бултыхаемся? Готовься давай… Где она, твоя жаба?
— Не моя — ваша… Ладно, ладно, не буду, молчу. Вот. Под самыми вашими ногами.
Жаба действительно сидела аккурат возле Царевичевых сапог — когда-то роскошных, расшитых
золотом и жемчугом, а теперь изрядно изгвазданных в болотной жиже, утративших и свой
прежний блеск, и изначальную форму.
— Привет, — сказала жаба. Была она чрезвычайно пухлая, с салатового цвета пупырышками, с
пучеглазой мордочкой и ехидной улыбкой на ней. — Неважно стреляешь. А ну, присядь на
корточки.
Царевич послушно подтянул кафтан (как будто мог еще больше его испачкать!) и присел.
— А ты ничего, — сказала жаба. И глазом разбитно подмигнула. — Сойдешь.
— В смысле?
— Ну, ты ж супругу себе ищешь или просто пострелять из лука вышел? Если из лука — тогда,
конечно, извиняюсь. Вон стрела, забирай и шагай дальше. Ни пуха ни пера, доброй охоты и все
такое.
Царевич смущенно кашлянул.
— Значит, все-таки за супругой, — подытожила жаба. — Оно и правильно. Давно пора.
— Не такой уж я и старый! — обиделся Царевич.
— Я про себя, — пояснила жаба. — Ну, и долго ты будешь на меня пялиться? Или не знаешь
обычаев? Ох уж эта молодежь!.. Подсказываю: целовать меня надобно. С любовью, от чистого
сердца. И не с тем выражением лица, что у тебя сейчас проступило.
— Не царское это дело — лягушек целовать, — заявил Царевич, поднимаясь с корточек. — Дурак,
давай!
Его спутник и тезка (а также незаконный брат по волшебной рыбе, которую съела не только
Василиса Премудрая, но также и Марья-Молочница) вздохнул и попятился. Дураком он был
только по батюшке. Целовать земноводное — не хотел.
— На дыбу пойдешь, — устало сказал Царевич. Видно было, что разговор этот случается уже не в
первый раз и Дурака стращания незаконного брата впечатляют все меньше и меньше. — А
поцелуешь — озолочу.
— Министром сделаешь?
— Сделаю. Внешних сношений.
Насчет сношений Дурак не был уверен, словечко вызывало смутные подозрения, но он решил не
привередничать, потребовал только:
— Поклянись.
— Эй-эй! — встряла жаба. — Хочу заметить… — Ее отвлекла пролетавшая мимо стрекоза, которая
была машинально подбита языком и схрумкана. — Хочу заметить, — продолжила наконец жаба,
— что целовать меня кому попало не стоит. Опасно для жизни.
— Рассказывай, — протянул Царевич. — Учти, я в своей семье лжи не потерплю. Мне нужна жена
честная, не обманщица.
— Это кто обманщица?! Я ж, наоборот, — предупреждаю!
Если нет в ком истинно царского происхождения, волшебство не сработает.
И она между делом схарчила еще одного комара.
Иван-Дурак вопросительно посмотрел на Ивана-Царевича: мол, какие будут указания?
— Целуй, — решительно велел тот. — Там разберемся.
— Я проте!.. — Жаба оказалась недостаточно прыткой и не успела ускакать. Иван-Дурак, придав
лицу торжественное (как на похоронах) выражение, припал к будущей царевне губами. «Заодно
проверю, правду ли батька говорили, когда пьяный бывали».
«Врали», — понял Дурак. Не превращалась ни в кого жаба, так и сидела на ладони, дышала
горлом часто-часто и глаза пучила с перепугу. День у нее сегодня выдался — не дай бог никому:
сперва чуть не пристрелили, теперь целоваться лезут без серьезных намерений.
«Ну и ладно, — подумал Иван-Дурак, выпуская ее на кочку. — И хорошо, что батька выдумывали
все».
— Тьфу! — в два голоса воскликнули жаба и Царевич. Последний добавил раздумчиво:
— Неужели просто говорящая?..
— Дурак! — возмутилась жаба.
— Ась? — наклонился к ней Дурак.
Жаба слизнула из воздуха еще одного комара и заявила довольным тоном:
— Я предупреждала! — И с уважением на Дурака зыркнула. — Учти, — сказала Царевичу, — я тут
долго рассиживаться не собираюсь, у меня времени мало и вообще. Будешь целовать — целуй,
нет — проваливай. Брезгует он, понимаешь…
— Не брезгую! — покраснел Царевич. — Я… Сейчас, я…
«Нецелованный, — поняла жаба. — Это хорошо. Если б еще и впрямь чистокровным оказался…
Нынче царицы ой какие непостоянные!»
Тем временем ее снова подняли высоко-высоко над кочкой и всерьез-таки намеревались
облобызать. Правда, над радостным выражением лица Царевичу еще было работать и работать,
но это ничего, дело наживное. Да и понять его можно было…
— Получилось! — прошептал Иван-Дурак. — Ишь!..
— А ты думал, что? — хмыкнула она. — Волшебство — это тебе не просто так! Ну-тка, помоги ему
из кафтана выпутаться. Кстати, одежду можешь себе оставить. Скажешь царю…
— Придумаю, что сказать, — отмахнулся Иван. — А что, правда мы с ним так похожи?
— Как две капли воды.
— То-то батя матушку подозревали…
— Ну, батя твой и впрямь дураком был, если о таких вещах трепался. А ты помалкивай! Ладно,
ступай себе с богом. Переодеться не забудь, как из лесу станешь выходить, а все свое в трясине
утопи или сожги. Справишься с новой жизнью-то?
— Я — да. А как же он?
— И он справится. Не первый, чай, да и не последний. Проверено. Ну, иди.
Она посидела, глядя вслед Дураку, потом перевела взгляд на своего суженого. «Все ж не так
одиноко заживу, будет теперь с кем словом перемолвиться».
А тут и Иван-Царевич пришел в себя. Возмутился было: «Что случи?!.» — да не договорил.
Отвлекся, чтобы сбить языком пролетавшего мимо комара.
Арсеньева Елена - Любовный роман ее жизни (Наталья Долгорукая)
(~ 1 час 15 мин., исторический любовный роман)
Судьба бывает иногда невероятно злобна и коварна. То есть настолько, что никакому завистнику и
мизантропу не выкопать под куполом ночи, покровительницы всех и всяческих подлецов и
доносителей, таких глубоких ям ближнему своему, каких нароет Фортуна на пути не просто
существа доброго и милого, но и совершенно безгрешного, с ангелом сравнимого душою. И этому
страдающему ангелу одно, наверное, бывает в утешение: уподоблять себя многотерпеливому
Иову, которого Бог любил, за то и терзал, за то и мучил, проверяя его преданность и любовь к
себе.
Очень может быть, что и Наталью Долгорукую судьба терзала и мучила, проверяя ее любовь к
мужу, который был для нее первым после Бога на земле, а в глубине влюбленного сердца –
пожалуй, и превыше Господа. Столько преград, сколько было выставлено на пути ее преданности
к обожаемому человеку, трудно себе вообразить и даже нарочно нагромоздить вроде бы
невозможно.
В конце концов там, на небесах, похоже, развели руками и поняли, что дольше мучить эту
воистину святую женщину попросту жестоко и несообразно. Ее оставили в покое, никак не
вознаградив за беспредельное терпение, потому что тот, кого она так безумно и беззаветно
любила, нацеплял на себя чрезмерно много всяких грехов, своих да и чужих, за что и принужден
был расплатиться преждевременной и мучительной смертью.
А невероятная страсть к нему жены его стала основой для первого русского любовного романа.
Вдобавок дамского, то есть написанного женщиной.
***
– Ну, ну, девонька, полно плакать да рыдать. Слезами горю не поможешь. Долгоруким теперь
конец, это все кругом промеж себя шепчут, а кто посмелей, те и вслух говорят.
– Я ничего такого не слыхала.
– Да ведь ты и не бываешь нигде, не видаешь никого, сидишь в четырех стенах, словно баба
старая, а не девица молодая на выданье.
– На каком еще на выданье? Я невеста обрученная! Разве вы позабыли, братец Петр Борисович?
Вы же сами присутствовали в ноябре прошлого года на нашем обручении. Сначала праздновали в
честь императора Петра Алексеевича, царство ему небесное, божьему ангелу, и княжны
Екатерины Алексеевны Долгорукой, а на другой день – в нашу честь с князем Иваном… Какая
радость была, какое торжество! Боже ты мой, сколько мне надарили всего! Бриллиантовые
серьги, часы, табакерки… Руки не могли всего бы забрать, когда б не помогали поднимать! А
перстни, которыми мы обручались, были его – в двенадцать тысяч, мой – в шесть тысяч рублев…
И улыбка скользнула по заплаканному девичьему лицу при этих блаженных воспоминаниях.
Петр Борисович Шереметев, старший сын знаменитого фельдмаршала Бориса Петровича,
посмотрел на свою сводную сестрицу с печальным раздражением.
Тоже мне, сестрица… Да у него меньшие детки старше этой сестрицы! Конечно, ее матушка,
вторая жена фельдмаршала, Анна Петровна Нарышкина, баловала Наталью и нежила, как не
всякая мать дитя свое ласкает да балует. Однако Анна Петровна была гораздо младше и своего
пасынка, Петра Шереметева-старшего (у нее вскоре родился и свой сынок, Петр), и всех остальных
детей мужа от первого брака, поэтому никто в семействе ее слишком всерьез не принимал. Вот и
видно, что никакому уму-разуму она не успела дочку научить за те четырнадцать лет, что провела
близ нее, пока не умерла. Последние два года после этого печального события Наталья жила в
семье старшего сводного брата и, нечего сказать, вела себя как разумная девица, свою и
семейную честь блюла и какого нашла жениха – позавидуешь! Князь Иван Алексеевич
Долгорукий, фаворит юного императора Петра II, отпрыск знатнейшего рода…
Да, позавидуешь лютому врагу, что не его сводная сестрица нашла себе такого жениха, как Ванька
Долгорукий, любимчик умершего мальчишки-государя, отпрыск семейства, которое восстановило
против себя стольких людей, что теперь немало найдется охотников сверзить их с тех высот, на
которые они столь незаслуженно взобрались! И Головкины, и Ягужинские, и Лопухины против
них, и Голицыны, Волынский, и Феофан Прокопович… Это только явные враги, а сколько тайных
неприятелей! С часу на час полетят Долгорукие вверх пятами. Не хотелось бы, чтоб и глупая
девчонка загремела вместе с ними.
А ведь чует, конечно, Наталья, будущую судьбу свою, по сравнению с которой юдоль печали
цветущим садом покажется, – то-то слезами обливается…
– Ты человек молодой, – вкрадчиво проговорил Петр Борисович. – Не сокрушай себя так
безрассудно. Князю Ивану можно и отказать.
– Как – отказать? – переспросила Наталья, уставив на старшего брата большущие заплаканные
глаза.
– Ну, как другие отказывают? – пожал тот плечами. – Напишем письмо: так, мол, и так, бог нас
простит да рассудит… пошлем человека с сим посланием… И все покончено разом будет. Ты за
себя не тревожься, в девках ты не засидишься. Будут и другие женихи, не хуже его достоинствами,
разве что не такие великие чины иметь будут. Одно только слово твое, и все переменить
возможно. Волынского сын тебя и прежде за счастье почитал взять, и теперь с радостью возьмет.
А сам Артемий Петрович Волынский при новой государыне Анне Иоанновне непременно в такую
честь войдет, что твоим Долгоруким и не снилось. Еще и посмеешься, что раньше мечтала о князь
Иване…
– Как же так? – недоумевающе перебила Наталья. – Одного обрученною невестою была, потом за
другого пошла с тою же охотою…
Старший брат раздраженно пожал плечами: а ведь девка, похоже, глупее, чем он думал!
– Ничего, сие дело представить можно так, будто тебя на первое обручение принудили.
Сошлешься вон на свою сводную, а мою родную сестрицу Анну Борисовну Головину (она ведь
повиснет удавкою – не снимешь!) или на нарышкинскую свою родню: мол, они настояли. Ну и
Долгорукие-де обошли, обаяли: всем известно, сколь хитер да велеречив князь Алексей
Григорьевич, народу своими лисьими хитростями извел несчитано. И какого народу, самого
Александра Даниловича Меншикова со свету сжил, где тебе, молоденькой, было против него
устоять! А со временем ты-де одумалась и хочешь все вспять повернуть… Ну что? Решилась?
Пошлем к Долгоруким с отказом?
Наталья понуро молчала.
Петр Борисович впервые пожалел, что эта девка – не настоящая родня ему. На родную-то он бы
слов не тратил – выпорол, да и дело с концом. Уже нынче же взяла бы слово у Долгорукого да
отдала Волынскому!
Ага, наконец-то перестала глаза тупить. Надумала. Что-то скажет?
– Войдите в рассуждение, братец Петр Борисович, – заговорила Наталья голосом, еще
прерывающимся от слез, но с каждым словом звучащим все тверже. – Честна ли будет после того
моя совесть, что, как суженый мой велик был, я с радостью за него шла, а когда он стал
несчастлив, отказала ему? Я такому бессовестному совету согласиться не могу. Я сердце одному
отдала, положив жить или умереть с ним вместе, тут другому уже нет участия в моей любви. Я не
имею такой привычки сегодня одного любить, а завтра другого. Я всему свету докажу, что в любви
верна!
Тут она не выдержала и зарыдала снова.
Петр Борисович, глубоко оскорбленный тем, что его совет назвали бессовестным, взирал на эти
слезы не без презрения.
– Ну, коли ты так глупа, – пробормотал он, – то пусть будет как будет.
Однако все же пожалел сестру – не сказал того, что думал и что, как он считал, сказать следовало
бы: «Коли ты так глупа, вся жизнь твоя отныне будет – одни сплошные слезы!»
…Пожалуй, в декабре 1729 года во всей России невозможно было отыскать молодой пары,
которой более щедро и солнечно улыбалось бы счастье, чем этим двоим: двадцатидвухлетнему
князю Ивану Долгорукому и шестнадцатилетней графине Наталье Шереметевой.
Даже состоявшееся лишь днем ранее обручение молодого императора Петра II с первой
красавицей Петербурга, сестрой Ивана Долгорукого, княжной Екатериной Алексеевной меркло
перед блеском нынешнего обряда, потому что всем, кто хотел знать, было ведомо: княжна
Екатерина, эта гордячка, императора не любит, а любит она Альфреда Миллесимо, племянника
австрийского посла Вратислава. За императора же «взялась» из опасного тщеславия и по
наущению отца своего, князя Алексея Григорьевича, до славы и благ мирских зело жадного – еще
более, чем жаден был его предшественник, несостоявшийся императорский тесть и великий
временщик Алексашка Меншиков, который, к слову сказать, в эти же самые дни отдал богу душу в
заметенном метелями Березове, который и находится неведомо где: там, где Макар телят не пас.
Ну так вот, венценосный жених с гордячкой-невестою сидели на своем обручении надутые и
веселились из-под палки, с тоской поглядывая в совместное будущее, а князь Иван и графиня
Наталья сияли, потому что без памяти были друг в друга влюблены и нарадоваться не могли, что
отныне станут вечно принадлежать друг другу.
Князя Ивана еще несколько лет назад назначили гоф-юнкером к великому князю Петру
Алексеевичу, внуку императора Петра и сыну несчастного царевича Алексея Петровича. То есть
великий князь приходился полным тезкою своему деду, однако ничего, кроме высокого роста,
маленького, крепко сжатого рта и темных глаз, от деда не унаследовал. При дворе сначала самого
Петра, потом императрицы Екатерины Алексеевны он находился в совершенном небрежении и
забвении. Право слово, кабы умер тогда мальчишка (наследника престола в нем в ту пору еще не
видели, вернее, не хотели видеть), никто и не почесался бы. Воспитывал его кто ни попадя, учили
люди совершенно случайные: не слишком доброго поведения вдова какого-то портного и столь
же высоконравственная вдова какого-то трактирщика. Диву, впрочем, даваться сему не
приходилось, ибо при дворе «бабушки» Петра, императрицы Екатерины (Марты Скавронской
тож), водился в большинстве своем только этакий народ, добропорядочностью не отличающийся.
«Бабушка» ведь и сама была из тех вечных девушек, которые о женской чести понятие имеют
своеобразное… Может быть, и не совсем плохое, однако с этим понятием с большим трудом
уживается забота о людях других, тем паче – о детях, тем паче – о детях чужих. Чтению и письму
Петра учил танцмейстер Норман, а поскольку он служил некогда во флоте, то заодно посвятил
великого князя в основы обожаемого дедом-императором морского ремесла, возбудив, между
прочим, во внуке великое отвращение к морю. Настолько сильное, что он потом на время своего
недолгого правления даже вернет русскую столицу из отсыревшего и продутого морскими
ветрами Петербурга в теплую и сухую Москву! Побывав в руках какого-то еще Маврина и столь же
значительного Заикина, юный Петр был отдан затем в ученье к умному и злому человеку Андрею
Ивановичу Остерману, а под присмотр – к семнадцатилетнему князю Ивану Долгорукому.
И вот тут-то он впервые в жизни почувствовал себя счастливым.
Князь Иван при всей своей бесшабашности и разболтанности (он ведь рос и воспитывался, как
положено недорослю из богатой русской семьи, – то есть рос сам собой, аки трава в чистом поле,
а воспитывался кем ни попадя, вернее, не воспитывался никем) оказался человеком добрейшим.
Забитый, всеми затурканный царевич был достоин жалости. И князь Иван его пожалел. Одарил
своей великодушной дружбой, начав учить всему тому, что сам умел делать в совершенстве: пить,
курить, играть в карты, драться, скакать верхом, фехтовать, ну и, само собой, волочиться за
барышнями, девицами, дамами, женщинами, бабами… короче, за всяким существом в юбке,
потому что князь Иван был величайшим юбочником своего времени. Но при этом он имел
редкостный талант ладить со всеми своими многочисленными любовницами: теми, что важно
разгуливали по мраморным или паркетным полам, и теми, которые застенчиво шмыгали по
черным лестницам; теми, которые пользовались плодами его любвеобилия нынче, и теми, кто
уже получил у него отставку. Всякая его обожала, всякая благословляла. Мужчины были к нему не
столь расположены, особенно те, головы коих по его милости украсились ветвистой порослью. А
впрочем, те, кому с ним нечего было делить, считали его лучшим и надежнейшим товарищем на
свете.
Вскоре точно так же стал думать и Петр. Он весьма привязался к князю Ивану и ни за что не
пожелал расстаться со своим другом, когда против того ополчился сам Александр Данилович
Меншиков – Иван Долгорукий осмелился неодобрительно отозваться о намерении светлейшего
обручить свою дочь Марию с великим князем Петром. Разумеется, решение это взбрело на ум
хитрому Алексашке не раньше и не позже того времени, как забитый и забытый всеми великий
князь вдруг превратился в единственного реального наследника короны Российской империи. Об
этом тоже было князем Иваном молвлено, да не слишком тихо.
Алексашка вспыхнул порохом: был он обидчив и мстителен. За насмешки и дерзости решил он
отправить князя Ивана в полевые полки, на его место назначив своего сына Александра. Хоть
воспротивиться этому новому назначению великий князь Петр не смог, но верного друга от себя
не отпустил. Унылый, скучный Меншиков-младший, увы, ни умом, ни нравом не напоминал
своего батюшку в молодости, а ведь именно безудержными выдумками и весельем тот когда-то
прочно завоевал сердце первого Петра и положил начало своей головокружительной карьере.
Поэтому фаворитом будущего Петра-второго остался все же Иван Долгорукий, а близ него начали
насиживать себе местечки другие Долгорукие, прежде всего – князь-отец Алексей Григорьевич.
Верно говорили, что другого такого пролазы и проныры на всем свете не сыскать! Он был подобен
воде, которая камень точит. Вот и подточил он камень Алексашкиного благополучия, вот и унесло
светлейшего той водою в далекое далеко, вот и возвеличилась при дворе молодого императора
не фамилия Меншиковых, а фамилия Долгоруких.
Больше всего на свете князь Алексей Григорьевич мечтал сделаться императорским тестем,
справедливо рассуждая, что тот, кто владеет незрелым умом этого большого ребенка – государя,
тот владеет всеми богатствами страны. Подсовывая Петру свою старшую дочь Екатерину, бывшую
и в самом деле невероятной красавицей, он мечтал этим браком подставить ножку сыну, которого
тайно ревновал и который оставался первой привязанностью и первым другом мальчишкиимператора. Лишь только Петр оказался на престоле, князь Иван получил чин майора
Преображенского полка, что равнялось чину генеральскому, и назначен был обер-камергером
двора. Без преувеличения – он сделался самым влиятельным человеком в государстве, перед ним
раболепствовали не только придворные, но и иностранные министры. Человек с добрыми
задатками и великодушным сердцем, князь Иван, к несчастью, не имел ни воли, ни ума большого.
Высочайшее положение, которого он достиг без особых заслуг и без всяких усилий, совершенно
вскружило ему голову – очертя голову кинулся он в жизнь распутную, разгульную и невесть до
чего докатился бы, как вдруг в 1729 году взбрело ему на мысль, что не грех бы жениться и
сделаться самостоятельным человеком, избавившись таким образом от отцовской власти, которая
все более приобретала характер деспотического невыносимого гнета.
Жениться, как известно, дело нехитрое. Тем паче – в России, богатой красавицами, будто какаянибудь Лапландия снегом. И князь Иван считался женихом завиднейшим. Однако ведь если
невеста уродилась пригожа, то, значит, у нее и маменька все еще молода и хороша собой (порою
даже лучше дочки!), а всех таких маменек князь Иван знал наперечет, всех отпробовал, оттого
лишних трудностей ему не хотелось приобретать, входя в семью, где обе хозяйки вдруг да начнут
из-за него волосы друг у дружки выдирать. Опять же слышал он про такое слово – любовь и, хоть
сам раньше никогда ничего подобного не испытывал, очень сильно узнать хотел, что ж это за
штука – любовь и с чем ее едят.
О том, что есть такая богатая невеста – Наталья Шереметева, дочь знаменитого фельдмаршала, –
Долгорукий тоже слышал, но видеть девушку не видел. После смерти матери она жила в доме
старшего брата затворницей, слыла теремницей. Ходили также слухи, что слишком уж девушка
переборчива: и одному жениху отказала, и другому, и третьему. Как бы не засиделась за
пяльцами…
Он и думать не думал об этой Наталье, она заранее казалась плаксой и несмеяной вроде ледяной
статуи Марии Меншиковой, с которой без сожаления расстался молодой император именно из-за
ее неприветливости и холодности. Но вот как-то на куртаге появился граф Петр Борисович
Шереметев в обществе молоденькой девушки в желтом роброне и с желтой косой вокруг
головы…
Князь Иван один только раз на нее взглянул – и решил: моя будет! В этом желтом наряде она
сияла, как цветок-одуванчик в солнечный весенний день, а глаза у нее оказались зеленые –
зеленей не бывает. С первого взгляда он сам влюбился, со второго взгляда понял, что и она
влюбилась. Конечно, князь Иван успел привыкнуть, что женщины прямо так и валятся к его ногам,
и вроде бы не должно, не могло быть иначе, однако сейчас обрадовался так, словно в его жизни
случилось величайшее чудо и сбылось его самое заветное желание. С этой минуты свадьба с
Натальей Шереметевой стала его самым заветным желанием.
Ну что ж, с точки зрения людской молвы, можно было считать, что повезло обоим: Наталье
Шереметевой достался жених – первейшая персона в государстве, Ивану же Долгорукому
посчастливилось найти богатую и родовитую невесту, бывшую в родстве с самой царской
фамилией.
Отец ее, граф Борис Петрович Шереметев, был любимец Петра Великого. Матушка, Анна
Петровна, рожденная Салтыкова, родня царице Прасковье Федоровне), жене царя Ивана Пятого
Алексеевича, прежде была замужем за Львом Кирилловичем Нарышкиным, родным дядей
императора, и вот уже который год вдовела. Разница между мужем и женой оказалась большая:
35 лет, у 61-летнего Шереметева уже внуки имелись взрослые от троих детей, однако это не
помешало ему народить с Анной Петровной еще четверых деток: Петра, Наталью, Сергея и
Екатерину.
Наталье было всего пять лет (она появилась на свет в 1714 году), когда умер фельдмаршал Борис
Петрович Шереметев. Она была слишком тогда мала, потому не могла ощущать даже горя и
вообще плохо помнила его смерть.
Анна Петровна очень любила свою Натальюшку – пригожую, живую, понятливую и
рассудительную девчоночку.
– Я была ей дорога… – рассказывала Наталья жениху. – Матушка льстилась мною веселиться:
представляла себе, как приду я в совершенные леты и буду ей добрый товарищ во всяких случаях,
в печали да в радости, и так меня содержала, как должно доброй девушке быть. Да, пребезмерно
меня она любила…
Мать старалась о воспитании дочери, о ее солидном обучении и образовании. К ней была
приставлена гувернантка-«мамзель» – немка Мария Штауден, которая не только воспитывала
Наталью, но и стала ей поистине второй матерью.
Анна Петровна была женщина веселая, широкого нрава, большого круга знатного родства,
деньгами не считалась – все это располагало Наталью в детстве к веселой и счастливой,
привольной жизни. Она очень любила удовольствия. Но все для нее изменило страшное событие
– смерть матери… Графиня Анна Петровна скончалась 28 июля 1728 года, когда Наталье шел
четырнадцатый год.
Горе от потери повергло девушку в страшное отчаяние.
– Сколько я ни плакала, – жаловалась Наталья потом князю Ивану, – однако ни слезами, ни
рыданием ее не воротила.
Тогда она впервые заподозрила, что слезы и рыдания наши в глазах небес – слишком мелкая
монета для того, чтобы на нее вымолить даже мелочь какую-нибудь, где там что серьезное, тем
паче – жизнь или смерть… Заподозрила, но еще не поверила в это. Хотя уже вскоре ей предстояло
убедиться в том вновь – и убеждаться, увы, не единожды.
Ее сводных сестер от первого материнского брака, Нарышкиных, взяли к себе их родственники, а
Наталья очутилась в зависимости от старшего брата, Петра Борисовича Шереметева. Тот
недолюбливал мачеху, недолюбливал и ее любимицу. Наталья ударилась в слезы и переживания,
замкнулась в себе, полюбила одиночество, полюбила серьезные размышления. Поняла она, что
человеку не на кого в жизни надеяться, только на бога, да и тот отвлечься может: ведь он один, а
народищу на земле – ого сколько, поэтому лучше полагаться во всем на себя, на свою волю и
характер.
– Пришло на меня высокоумие, – доверчиво рассказывала она будущему мужу. – Вздумала я себя
сохранять от излишнего гулянья, чтоб мне чего не понести, какого поносного слова. Я свою
молодость пленила разумом, удерживала на время свои желания в рассуждении том, что еще
будет время к моему удовольствию.
Жених слушал и диву давался. Летать близ огня соблазнов и не опалиться даже краешком
крылышка – этого ему было не понять. Сам-то он обгорел чуть не до основания, поддаваясь
всяческим испытаниям… Какое счастье, что бог вовремя послал ему это чистейшее существо,
около которого он сможет очиститься сам!
Конечно, что и говорить, знатность и яркость жениха льстили Наталье. Голова у нее кружилась от
предвкушения будущего счастья. Интересно, а у кого не закружилась бы? Во время сговора вокруг
ограды шереметевского дома собралось столько народу, что ни пройти ни проехать – вся улица. И
кричал простой народ:
– Слава богу, что отца нашего дочь… – это правда, что фельдмаршал Борис Петрович был всю
жизнь очень любим всеми, кто его знал, – восславит род свой и возведет братьев своих на степень
отцову!
Все ухищрения роскошества, о которых только можно помыслить, упущены в тот день не были.
Вся императорская фамилия была на сговоре, все иностранные министры, все знатные господа
русские, весь генералитет. А обручали жениха и невесту архиерей и два архимандрита.
Казалось Наталье, что все это прочно настолько, что на целый век ее хватит. Она еще того не
знала, что нет в мире ничего прочного, все на час. Счастье ею только поиграло: показало, как это –
жить, когда все твои желания исполняются, каково это – чувствовать себя у Христа за пазухой. Да,
поиграло счастье, будто солнышко, да и за тучку зашло.
Счастья ей было отмерено от 24 декабря 1729 да по 18 января 1730 года, потому что в этот день от
оспы (хотя иные умные люди уверяют, будто от отравления!) умер молодой император Петр
Алексеевич. И Наталья оплакивала не только его смерть, но и свои мрачные предчувствия: она
довольно знала обычаи своего государства, что все фавориты после смерти своих повелителей и
покровителей пропадают – чего ж было ее жениху ожидать? Рыдая, девушка беспрестанно
причитала:
– Пропала я, пропала!
Наталья с первой минуты ни на капельку не отделяла себя от князя Ивана, свою судьбу от его
судьбы. Она уже сразу готова была с ним хоть на высылку, хоть на плаху, хотя, честно говоря, в
своих полудетских страхах и вполне взрослых, женских предчувствиях она даже и вообразить не
могла себе того, что их ждет. Ей-то казалось, что жених ей достался – ангел божий, ни в чем
дурном не замешанный и ни о чем дурном не помышляющий.
Было, однако, нечто, о чем она знать не знала, ведать не ведала, нечто, что скрывалось от всех
людей и будет скрываться еще девять лет… пока сам же князь Иван не откроет тайну и не погубит
окончательно и себя, и еще множество своей родни и усугубит несчастья своей безвинной
страдалицы-жены. Тайна сия была – история духовного завещания молодого императора Петра
Алексеевича. И она, как станет сейчас ясно, не относилась к числу тех, которой можно хвастаться
на каждом углу и даже хвалиться ею шепотком.
Когда сделалось неоспоримо, что дни злосчастного императора сочтены, князь Алексей
Григорьевич собрал у себя всех Долгоруких. Все были – тертые калачи, им нечего было
рассказывать о том, что счастье зыбко и переменчиво, а люди живут не по божьим милосердным
заповедям, а предпочитают падающего толкнуть. Сам Алексей Григорьевич никогда не жил иначе,
а потому и не ждал ни от кого милости. Единственное средство спасения для Долгоруких было –
не выпускать ту власть, которую они вот только что держали так крепко и которая теперь из рук
песком высыпалась, угрем выскальзывала. Известно было, что царь молодой не написал
духовной, то есть последнего завещания передачи власти, а сейчас он в таком состоянии, что вряд
ли уже что-то напишет. В агонии он.
Алексей Григорьевич безо всяких экивоков предложил составить подложную духовную, а в оной
провозгласить преемницей власти государыню-невесту Екатерину Долгорукую. Духовную он
предлагал изготовить в двух списках: один князь Иван будет держать наготове и, буде случится у
царя прояснение сознания и прилив сил, подсунет ему на подпись, ну а сам тем временем на
всякий случай подмахнет второй список как бы под руку царя (князь Иван умел подделывать
государев почерк неотличимо). Если подпишет Петр бумагу – хорошо, ну а если помрет, не сделав
последнего и столь жизненно важного для Долгоруких распоряжения, – что ж, они подстелят
своей собственной соломки…
Братья Долгорукие – и Григорьевичи, и Владимировичи, и Лукичи – не все согласились с князем
Алексеем. Фельдмаршал Василий Владимирович вообще хлопнул дверью и ушел из дворца
Алексея Григорьевича. И то спустя девять лет спасет ему жизнь. Остальные же гласно или
негласно замысел Алексея Григорьевича одобрили. Князь Иван хоть и с робостью в душе, но и
впрямь неотличимо подписал за императора фальшивую духовную, а со вторым, чистым, списком
отправился в государеву опочивальню – стеречь удобный случай.
Однако случая сего он так и не устерег. При умирающем императоре неотлучно находились
Андрей Иванович Остерман и камердинер Степан Васильевич Лопухин (их-то и винит молва в
злоумышлении на жизнь молодого царя), а также доктор Николас Бидлоу, который, увы, получил
доступ в царскую опочивальню слишком поздно, когда все дело было уже заговорщиками
слажено. Петр в сознание прийти-то пришел, но лишь на миг – чтобы привстать и выкрикнуть:
– Запрягайте! Я еду к сестре! – разумея свою любимую сестру Наталью Алексеевну, умершую
двумя годами раньше.
После слов сих он упал на постель и отправился туда, куда и собирался.
Рыдающий, испуганный, нетвердо державшийся на ногах князь Иван попробовал было
пробежаться по коридорам Кремля и прокричать:
– Да здравствует императрица Екатерина! – однако никто его не поддержал.
Тогда молодой Долгорукий отправился к отцу и отдал ему оба списка завещания, которые
Алексей Григорьевич спустя несколько дней сжег, понимая, что дело проиграно и надобно во
всем полагаться на волю божию…
Именно это оставалось делать и бедной графине Наталье, к которой вечером того же несчастного
дня приехал жених и с рыданиями принялся рассказывать о последних минутах повелителя и
друга. О духовной он, понятно, ни словом не обмолвился. Да и, казалось, к чему об этом
говорить? Довольно того, что влюбленные рыдали и многажды поклялись: их ничто не разлучит,
кроме смерти! Наталья и впрямь готова была тогда с милым все земные пропасти пройти.
Собственно, что ей и придется вскоре сделать.
А между тем чуть ли не на другой день после смерти молодого императора Верховный тайный
совет порешил избрать на престол курляндскую герцогиню Анну Иоанновну, племянницу Петра
Великого, которая и мечтать не смела о столь высокой и сверкающей доле. Строго говоря, ее
потому и выбрали на царство, что считали забитой и несчастной бабенкой, которой умные
верховники легко станут управлять с помощью ею подписанных кондиций, ограничивающих
власть. Долгорукие, которые пуще всех настаивали на сих условиях, и не подозревали, что при
дворе давно и тайно действовала пронемецкая партия (и Остерман, и фельдмаршал Миних, и
Степан Лопухин, а главное, его жена Наталья Федоровна, бывшая в родстве с приснопамятной
Анной и Виллимом Монс и другие), которая уже снеслась с герцогиней Курляндской и
предупредила: пусть подписывает любые бумаги, от них потом и отречься можно!
Что Анна Иоанновна и сделала в самом скором времени. Князя Василия Лукича Долгорукого она,
изорвав кондиции в клочки, пребольно ухватила пальцами за нос да едва не сломала его:
– Вы, Долгорукие, думали меня за нос водить? Ну так я тебя поведу!
А Алексею Григорьевичу новая государыня решила отомстить горше всей его фамилии: за то, что с
пеной у рта настаивал на непременном разлучении Анны Иоанновны с обожаемым ею ЭрнестомИоганном Бироном, бывшим в Митаве ее секретарем и любовником, а также тайным отцом ее
детей.
Как странно в жизни бывает: порешит человек во что бы то ни стало разлучить женщину с
возлюбленным, а этим возьмет да и подпишет себе смертный приговор… И добро бы только себе!
Когда Анна Иоанновна воцарилась, самому простодушному и легковерному человеку стало ясно,
что участь Долгоруких ждет самая печальная. Над ними уже многие смеялись, их уже многие
сторонились. После встречи новой императрицы Наталья возвращалась домой в карете через
полки, еще выстроенные для парадной церемонии. Некоторые солдаты-преображенцы,
любившие своего майора, кричали:
– Это отца нашего невеста!
Подбегали к окошку ее кареты, плакали:
– Матушка наша, лишились мы своего государя!
Однако нашлись и другие, которые орали:
– Прошло ваше время, теперь не старая пора!
И все-таки Наталья продолжала надеяться, что невозможно без суда человека обвинить и
повергнуть опале, все еще верила в какое-то лучшее будущее. Настолько сильно верила, что
торопила жениха со свадьбой. На самом деле семья, в которую она входила, была ей тошна:
злоехидный князь Алексей, вечно испуганная жена его, противные дочки, а всех вредней –
красавица Екатерина. Хотя ей-то было с чего вредничать – государыню-невесту не зря называли
злые языки разрушенной – чтобы понадежнее привязать к себе мальчишку-императора, она, по
настоянию отца, соблазнила его, а теперь тщетно пыталась скрыть от всех последствия сего
поступка, которые, увы, не замедлили сказаться. Впрочем, Наталья готова была хоть с дикими
зверями породниться, только бы возлюбленный князь Иван был при ней!
И вот в начале апреля 1730 года свадьбу сыграли-таки. Случилось это в знаменитой подмосковной
вотчине Долгоруких – Горенках, где, бывало, живал безвыездно молодой государь и куда после
его кончины удалилось семейство Алексея Григорьевича.
Свадьба оказалась весьма печальна – полная противоположность пышному, блистательному
обручению! Всем казалось, что брак этот больше плача был достоен, а не веселия. Родня,
Нарышкины и Шереметевы, отчаявшись совлечь неразумную девчонку с пути, который
неминуемо должен был привести ее в полную пропасть, окончательно от Натальи отступилась. К
тому же всяк из них за себя боялся, да так сильно, что в дом жениха невеста приехала в карете
одна, с двумя только старушками-вдовами. Спасибо им, что хоть они смилостивились, не дали
дочери фельдмаршала Шереметева в одиночестве отправиться к венцу…
Два дня Наталья и Иван искренне радовались своему счастью, почти забыв обо всем остальном,
кроме своей любви. На третий день собрались делать обычаем положенные визиты к его родным.
Как раз в то время, как уже все готово было к отъезду новобрачных из Горенок в Москву, явился
туда сенатский секретарь и объявил Алексею Григорьевичу со всем семейством указ, ссылающий
их в дальние деревни, но в какие – неизвестно.
От ужаса при получении этого указа княжна Екатерина родила преждевременно мертвого
ребенка, по поводу чего саксонский посланник Лефорт ехидно докладывал в Дрезден:
«Девственная невеста покойного государя счастливо разрешилась в прошлую среду дочерью…»
Наталья никак не могла допустить и отказывалась верить возможности такой несправедливости,
какую предстояло испытать ее новому семейству. По ее малоопытности она понять не могла, как
это можно без суда ссылать людей! Молодая жена принялась уговаривать мужа и свекра поехать
к императрице и объясниться с нею, оправдаться. Воображала, что если они были на дружеской
ноге с Петром Алексеевичем, то и с Анной Иоанновной так же случится: и к ней войдут без
доклада, и новая государыня их выслушает сочувственно… Наталья также настояла все же делать
свадебные визиты. И вот тут-то, объезжая по очереди всех Долгоруких, она удостоверилась: увы,
можно без суда людей ссылать, потому что, оказалось, все они получили указы или ехать в
дальние деревни, или на губернаторские или воеводские места в дальние провинции. Например,
Василий Лукич Долгорукий получил назначение сибирским губернатором. Правда, спустя
несколько дней предписание изменится – он будет сослан в Соловецкий монастырь. Теперь
только Наталья вполне уразумела смысл слов об искоренении всей фамилии. От кого-то раньше
она слышала, будто турецкий султан подданным своим, впавшим в немилость, посылает веревку,
чтобы те удавились, – ну вот теперь и в России времена подобные настали, казалось ей.
Но все же отрада ее была в том, что князь Ванечка, любимый муж, был рядом. Наталья настолько
жалела его, пребывающего в великой горести, что боялась, как бы он в отчаянии чего-нибудь с
собой не сделал, какого-нибудь греха. Поэтому она повсюду ходила за ним и следила за ним, все
целовала, да миловала, да утешала, уверяя, обстоятельства-де непременно переменятся к
лучшему и небеса вновь сделаются к ним милостивы. А между тем ей бы следовало обратить
взоры от небес к земле, потому что на сборы Долгоруким было дано всего ничего: уже через три
дня они должны были выехать из Горенок.
Иван был в отчаянии. Да и не привык он к мелочным заботам – все предоставил молоденькой
жене, которая о практичности и запасливости имела самое приблизительное представление.
Свекровь и золовки набивали карманы бриллиантами, а Наталья взяла только самое необходимое
в дорогу, думая, что их скоро простят и вернут опять ко двору.
Брат Петр Борисович прислал ей на дорогу тысячу рублей. Наталья оставила себе лишь четыреста,
а остальные вернула, думая, что ей вовек таких денег не издержать, и не зная, что скупые
Долгорукие не собираются оплачивать ни ее с мужем питания, ни пути, ни даже сена их лошадям
(в те безумные времена ссыльные отправлялись в изгнание на свои собственные деньги, сами
обеспечивая собственный комфорт… у кого было чем его обеспечить).
Присылка этих денег была последней милостью, которую оказали родные Наталье – никто, ни
единственный человек не явился ее проводить, только ее гувернантка Мария Штаден да
крепостная горничная отправились разделить ее участь в ссылке. В весеннюю распутицу, в начале
апреля, двинулись Долгорукие по рязанской дороге, только теперь узнав, что им предназначено
жить в их собственной касимовской вотчине – в Селище. Одновременно с этим известием был
получен приказ вернуть все жалованные прежними императорами ордена…
Селище было одной из самых плохоньких долгоруковских деревенек. Даже господский дом
оказался там настолько мал и плох, что новобрачным пришлось жить отдельно, в сенном сарае у
какого-то мужика. Там была их брачная постель, колючая и пыльная, на которой Наталья
исступленно доказывала мужу свою любовь и на которой она зачала своего первого ребенка…
Только стали привыкать к изгнанию и приспосабливаться к тяготам жизни в Селище, как грянула
новая беда: явилась команда солдат и повелела немедля, ни минуты не мешкая, собраться и
выехать под жестоким караулом еще в какой-то дальний город, а куда – сказывать было не
велено.
Наталья от ужаса, что ее могут разлучить с мужем, впала почти в бесчувствие. И настолько была
ужасна картина ее горя, что даже суровый офицер, явившийся проследить за отправкой ссыльных,
не смог скрыть жалости к ней: заходил в комнатушку, где она лежала почти без чувств, заливаясь
слезами, пожимал плечами, вздыхал…
Помочь он все равно ничем не мог, даже если бы и хотел.
Утешило в конце концов Наталью только твердое обещание, что с мужем ее никто не собрается
разлучать. Лишь тогда она нашла в себе силы собираться в путь, по-прежнему слезами заливаясь.
Тоска на нее нашла нестерпимая, кровь так и закипела от несносности, от невероятности
обрушившихся на нее напастей. Думала, что больше никогда не увидит уже своих родственников,
отныне вечно будет жить в странствиях. Ни вестей от нее, ни вестей от них… Когда-нибудь
сообщат им, будто ее и на свете нет, а они только поплачут и скажут: «Лучше ей умереть, а не
целый век мучиться!»
Князь Иван, за эти месяцы изгнания понявший, что единственная душа на всем свете, которая
воистину любит его и которая без памяти ему предана, – это его жена, утешал ее как мог. И так
велика была их взаимная любовь, что мысль: мы предназначены друг для друга, мы рождены
друг для друга, нам друг без друга жизни нет, – могла в те горькие дни и ночи утешить их и
вселить надежду на милосердие божие.
Да, приходилось им уповать только на небеса, потому что люди от них совершенно отвернулись.
Даже и свои, родные.
Долгорукие дали волю своей неприязни к князю Ивану (а ведь именно ему они были в прежние
времена обязаны всеми почестями, богатством, чинами!), как если бы именно его считали
виновным в обрушившихся на них бедствиях. Ну а заодно претерпевала множество мелочных
придирок, криков, упреков и Наталья. Больше всего ее винили в дурости да глупости: жестокая
долгоруковская фамилия словно бы презирала ее за то, что она не бросила Ивана, не отреклась от
него. Окажись у кого-то из них, из Долгоруких – у того же князя Алексея Григорьевича, у той же
злосчастной разрушенной невесты Екатерины – возможность купить себе хотя бы остатки
прежнего роскошества ценой отречения от родных, они сделали бы это, не оглянувшись! Поэтому
беззаветная преданность Натальи бесила их. А также бесила ее непрактичность, неумение
собраться в дорогу, нехватка у молодых съестных припасов – это ведь значило, что у них нечем
было поживиться.
Придирались ко всякой мелочи, не щадили ни в чем. Снимаются с места для дальнейшего
следования – молодых не ждут. Разбивают палатки, чтобы стать на ночь, – лучшее место князюотцу, потом устраиваются сыновья и дочери, потом только черед молодых. Как-то раз среди ночи
Иван с Натальей палатку себе разбили в темноте на болотине, а утром подивились, что не
потонули!
Единственным человеком, кто о Наталье заботился (князь Иван хоть и любил милую жену, и
жалел, но заботиться все же не мог – не умел попросту), оказалась ее «мамзель» – Мария Штаден.
Она готова была сопровождать любимую воспитанницу хоть на край света. Однако, когда
добрались до Касимова, выяснилось, что дальше ей следовать нельзя: путники отправятся далее
водою, и чужестранке должно было воротиться. Пока судно для ссыльных строили, Мария
утеплила каютку для молодых, стены обила тряпками, щели законопатила, чтобы сырость не
проникала. А потом, когда Наталья отправилась в дальнейший путь, отдала ей свои последние
деньги – 60 рублей. Больше у нее не было, а на милость Долгоруких, как поняла воспитательница,
надежды никакой…
Лишилась в эти дни Наталья и своей горничной: прислуги велено было оставить лишь десять
человек на всех, ну, княжны-золовки и настояли, чтобы вместо ее девки взять помощницу прачке,
она-де и станет прислуживать молодой княгине. Но та ничего не умела, поэтому в дальнейшем
Наталье приходилось надеяться только на себя.
И вот отправились… От Марии Штаден оторвали Наталью без памяти, потом она долго в каютке
своей лежала, приходя в себя. Да и потом большинство времени она проводила именно там, лежа
на руках у Ивана, потому что начинались первые месяцы ее беременности, самые тяжелые:
Наталью беспрестанно тошнило, и эти страдания усугубляли тяготы пути.
А был путь долог до невероятности – долог, труден, уныл… Наталья развлекала себя, как могла.
Например, купит у рыбаков осетра (в те времена рыба дешева была), привяжет на веревочку, и он
рядом плывет, чтобы не она одна невольница была, осетр с нею. Девчонка она была еще,
конечно. Ей бы в куклы играть, а тут такие напасти, да к тому же беременность…
Солдатская команда, которая правила судном, мало что понимала в деле хождения по рекам. И
сколько раз путники оказывались на волосок от гибели! Как-то раз попали в водоворот, даже
якорь оторвало. Потом течением затянуло в сущий омут, который начал засасывать прибрежную
землю… Команда солдатская приготовила лодки, чтобы спасаться, бросив арестантов, но, видимо,
те еще не исчерпали своих страданий, не доверху чашу испили, потому что омут смилостивился и
добычу свою выпустил.
Когда доплыли до Соликамска и отправились дальше в повозках, Наталья сначала радовалась:
очень сильно настрадалась она на воде. Однако дольнейший путь пролегал по горным тропам,
где повозка жалась к отвесной скале, чтобы не сорваться в пропасть, а лошадей приходилось
запрягать только цугом. О, эта дорога стала несчастным воистину приснопамятна! Как-то раз весь
день шел дождь и так всех вымочил, что путники вышли из колясок, будто из реки – со всех
ручьем текло. Вдобавок, заходя в избушку, где надлежало в тесноте ночевать, Наталья, которая
была высока ростом, нечаянно ударилась головой о низкую матицу и едва не разбила голову.
Иван уж думал, что она насмерть убилась. Но она была молода, оклемалась, а вот свекровь ее,
княгиня Прасковья Федоровна Долгорукая, в тот день так простудилась, что у нее руки и ноги
отнялись, а спустя два месяца она умерла, исхлопотав, таким образом, для себя досрочное
помилование у судьбы.
Остальные же путники вскоре получили точное известие, куда именно их везут. И разразились
рыданиями, услышав страшное: да в тот же самый Березов, ужасный, невесть где находящийся,
куда еще так недавно не без их стараний законопатили несчастного Алексашку Меншикова с
семьей. То-то аукнулась теперь Долгоруким их прежняя злоба, то-то вспомнила Екатерина, как она
завидовала княжне Марии Меншиковой, которая тоже побывала государевой невестой… Какие
козни против нее она строила, как старалась прельстить Петра, чтобы на трон взобраться, спихнув
с него Марию, а теперь вот и сама скатилась в такую яму, ниже которой и придумать трудно. Да,
умер тот, из-за кого Екатерина некогда тужилась до позору, умерла и сама княжна Мария
Меншикова, теперь в Березове жили, по слухам, только сын и младшая дочь покойного
Александра Даниловича – Александр и Александра.
Ну что ж, теперь Долгорукие наконец-то узнали, где расположен этот неведомый, баснословный,
страшный Березов! И в самом деле – никакой Макар там телят не пас хотя бы потому, что ни
коров, ни телят в тех краях не водилось. Водились там только олени с оленятами, а земля не
родила ничего: ни хлеба, ни даже капусты. Вогулы, жившие в тех краях и в Березовском остроге,
ели только сырую рыбу. И дики показались Наталье их свычаи и обычаи: ездят на собаках, носят
оленьи кожи – как сдерут с животного, не разрезавши брюха, так и наденут, а с передних ног –
вместо рукавов. Избы в тех краях рубили кедровые, окончины ледяные ставили вместо стекла:
ведь зима с несносными морозами длилась восемь-десять месяцев…
Сначала вновь прибывших поселили в полуразвалившихся кельях Воскресенского монастыря, но и
тут, как всегда, не нашлось места молодым Долгоруким. Им родня отвела очередной хиленький
сарайчик, который князю Ивану пришлось перестраивать и утеплять своими руками. Отыскался у
него учитель – Александр Меншиков. Встретились Догорукие и Меншиковы в церкви, срубленной
еще руками Александра Даниловича, который смолоду какому только ремеслу не был научен.
Светлейший и избу добротную сам срубил для своей семьи, и чванливого, заносчивого сына коечему успел научить до того, как умер от удара, во время которого не нашлось никого, кто бы ему
кровь отворил.
Александр и помогал Ивану Долгорукому отстраивать жилье. Наталья при виде дружбы,
завязавшейся между двумя изгнанниками, снова ударилась в слезы. Когда плыли водою, она
боялась, что утонут. Теперь плакала о том, что не утонули…
Князь Иван не переставал казнить себя за то, что по его вине, по его себялюбию столько
страданий терпит жена. Мог ведь он отказаться от свадьбы, мог. И должен был сделать это. Но
понадеялся на русский авось, побоялся счастье свое упустить, пожадничал себя ради – ну вот и
сделал возлюбленную самой несчастной на свете.
Его раскаяние, его горе было для Натальи – как нож острый: видя его слезы, она еще сильнее
страдала. Тогда князь Иван начал свои страдания таить, а пытаясь купить милость божью,
ударился в благотворительность, жалуя от своих скудных (даже сверхскудных!) средств нищим.
Но, строго говоря, тут было дело не только в надежде сторговаться с небесами. Страдания кого-то
озлобляют, кого-то учат и даже каменных сердцами Долгоруких они научили кое-чему.
Здесь, в столь суровых краях, можно было надеяться только на себя да на доброту человеческую.
А ведь каков ты с людьми, таковы и они с тобой. Испытания смягчили всех. И когда пришло
императорское повеление – воротить из ссылки невинно пострадавших Меншиковых-детей, с
ними уже расставались не как с бывшими врагами, а как с добрыми друзьями.
Ну что ж, если и не замолвили Александр с Александрою слова за своих товарищей по несчастью,
бог им в том судья. Так ведь и не слишком-то располагала к милосердию обстановка при дворе…
Впрочем, Анна Иоанновна отыскала для Александры завиднейшего жениха – Густава Бирона,
сына своего любовника (поговаривали, что ее собственного тайного сына), но спустя два года
после свадьбы та умерла. Александр же Александрович дожил до преклонных лет, был удостоен
всех отцовых титулов – звался и фельдмаршалом, и светлейшим князем – и умер уже при
Екатерине Великой.
Но господь с ними, с уехавшими, вернемся к оставшимся.
Весной 1731 года у князя Ивана и княгини Натальи родился первый сын – Михаил.
Сначала ссыльные содержались довольно строго, но потом им удалось задобрить своего пристава
майора Петрова и воеводу Боровского. Воевода сей вообще был человек добрейший, дружил с
Александром Даниловичем Меншиковым, помогал ему и его детям чем мог. Начал он делать
послабления и новым узникам.
Правда, Алексей Григорьевич уже не успел повольней вздохнуть – он умер вскоре после приезда в
Березов.
Шли годы. Ссыльные кое-как приспособились к новой жизни.
Князь Иван, человек блестящий, веселый, остроумный (чины он растерял, но ни ума, ни живости
характера не утратил, они только приугасли немного), сдружился с офицерами местного
гарнизона, начал водить знакомство с заезжими купцами. Им льстило свойское обращение
ссыльного фаворита, а он сколько мог старался создать иллюзию прежней блестящей, разгульной
жизни. Иван Долгорукий был из тех, кто сокрушаться долго не может. Это, впрочем, свойство
всякой молодости, и слава богу. Вечно ощущать себя виноватым перед женой – зачем-де жизнь
ей поломал? – он тоже не мог. Наталья и не попрекала, у нее и в мыслях этого не было, зато он
сам старался бесчисленные упреки себе залить вином.
В числе новых приятелей князя Ивана оказался некий подьячий Тишин. Освоившись с тем, что с
ним на дружеской ноге бывший государев фаворит, Тишин захотел поближе познакомиться и с
бывшей государевой невестой… А между тем Екатерина полюбила поручика Дмитрия Овцына.
Дмитрий Леонтьевич находился здесь отнюдь не в ссылке и не на караульной службе состоял – он
входил в состав экспедиций, организованных Академией наук для описи северного берега России
и для отыскания прохода по морю из Оби в Енисей, в 1737 году он достиг устья Енисея и поднялся
до Туруханска. Дела занесли его в Березов, тут он встретил Екатерину и влюбился в нее. Если бы
дали им волю, они бы немедленно поженились, но пока встречались тайно и жили во грехе. И вот
к ней пристал Тишин, на которого Екатерине и смотреть-то было тошно. Она дала наглому
подьячему пощечину и пожаловалась брату и возлюбленному. Дмитрий жестоко избил Тишина.
До утра тот лежал в своей избе, зализывая раны, а пуще – измышляя планы мести, а поутру
настрочил донос сибирскому губернатору. Ну что ж, подьячий – чернильная душа, знает, что
чернила иной раз до крови доводят…
Нажаловался мстительный Тишин не на то, что был бит любовником Екатерины Долгорукой, а на
то, что означенный любовник состоит в стачке с братом Екатерины, бывшим государевым
фаворитом Иваном Алексеевым, и оба они злословят на государыню, замышляют измену и
умишки простого народа дерзают засорять богопротивными речами.
Словом, наплел семь верст до небес, где правду написал (князь Иван и впрямь был на язык
невоздержан), где наврал… Донос получился внушительный и впечатление там, куда прислан был,
произвел какое нужно.
Вскоре в Березов явился командующий сибирского гарнизона Ушаков с секретным предписанием
– проверить донос Тишина. Он появился тихой сапой и завел дружбу с Долгоруким самым верным
и самым скорым способом – начал его подпаивать. Князь Иван всегда был невоздержан во
хмелю, а потому Ушаков много чего от него услышал. Не поскупился Иван Алексеевич и на
«добрые слова» по поводу императрицы Анны Иоанновны… Одновременно Ушаков
присматривался к тому, как содержатся ссыльные, с кем дружбу водят. А подьячий Тишин был при
сем первым доводчиком до него всяческих порочащих сведений.
Ушаков тихо приехал, тихо уехал. Но спустя месяц явился снова – и тут уж грянул гром с ясного
неба!
Ивана Алексеевича сначала посадили на хлеб и воду в темную яму в остроге. Еду ему спускали
вниз на веревке, а Наталья, которая в то время вновь была беременна, слезно вымаливала у
солдат разрешения передать лишний кусочек да позволить ей повидать мужа.
Тем временем оба брата князя Ивана, Александр и Николай, да воевода Боровской, да пристав
Петров, да Дмитрий Овцын, да еще несколько десятков березовских обывателей, с которыми
князь Иван Долгорукий хоть одно слово молвил, были арестованы и увезены в Тобольск.
Следствие проводилось с пристрастием. Девятнадцать человек признали виновными в разных
послаблениях Долгоруким и прикосновенными к «вредительным и злым словам княжны
Долгорукой», то есть Екатерины, которая, конечно, тоже не скупилась на комплименты для Анны
Иоанновны.
Петров был обезглавлен, Боровской и Овцын разжалованы в солдаты. (Забежим немного вперед
и скажем: Дмитрий Леонтьевич Овцын попал матросом во флот и позднее принимал участие в
экспедициях командора Витуса Беринга. Во время плаваний у северных берегов Сибири он
произвел подробную опись Обской губы от Обдорска вдоль восточного берега, всей Тазовской
губы и Енисейского залива от мыса Овцына до мыса Зверева и дослужился он до звания капитана
2-го ранга.) Братья князя Ивана были биты кнутами и разосланы в дальние монастыри. Та же
участь постигла и сестер, в том числе княжну Екатерину – ее отправили в Томский монастырь в
самое строгое заточение: с нею никому из послушниц даже слова молвить не велено было под
страхом смерти!
После четырех месяцев «звериного сидения» в яме князя Ивана тайно увезли из Березова.
Прибежала утром Наталья проведать мужа – а его и нет, и никто не знает, куда подевался.
Отчаяние ее было так велико, что даже новый комендант испугался: пожалуй, он не устоит и
пустит в душу свою милосердие к ней. И, чтобы избежать искушения, посадил княгиню, только что
разрешившуюся от бремени, в ту самую яму, где недавно сидел ее муж.
А ведь Березов – край вечной мерзлоты…
Поскольку всех Долгоруких из острога свезли, сын Натальи, Миша, оставался брошенным без
призора. Если бы не местные солдатки, умереть бы ему с голоду. Да и княгине Наталье с
новорожденным тогда не выжить. Ему это сидение в яме и впрямь будет стоит жизни: второй сын
Натальи, Дмитрий, начнет страдать нервным расстройством, а спустя несколько лет умрет
преждевременно. Ну а она сама почти ослепла от слез в своем узилище, едва не лишилась ума…
Наконец комендант испугался, как бы не померла узница. Ведь тогда он пострадает не за
недостаток усердия, а за его переизбыток! И он выпустил княгиню Наталью.
Несчастная женщина вернулась в разоренный дом – и приготовилась доживать здесь свой
печальный век.
Смерти она уже не боялась. Хотела только знать, где ее любимый муж и сердечный друг, ее
сострадалец и товарищ (иначе она его и не называла, как если бы князь Иван терпел ссылку ради
нее, а не наоборот!), любовью к которому она жила все эти годы, ни единого разу не пожалев о
том, что всю жизнь принесла в жертву этой любви.
А в самом деле, где же был он в ту пору, ее сострадалец?
Князя Ивана привезли в Шлиссельбург и поместили в крепость. Недруги Долгоруких, которые
никак не могли угомониться (что и говорить, фамилия сия немало в свое время постаралась,
злобствуя и возбуждая против себя людей, а месть – это ведь то блюдо, насытиться которым,
говорят, невозможно!), готовили новый процесс против них. Так всегда в России: изобличить
очередного врага – лучшее средство возвыситься в глазах государевых. Однако поносные словеса,
о коих удалось разведать мастеру следственных дел Ушакову, оказались сущей ерундой по
сравнению с теми наветами, которые сам на себя возвел несчастный Иван Долгорукий, не
выдержавший пыток.
Князь бредил наяву и однажды рассказал (хотя его и не спрашивали, ведь об этой тайне никто не
знал) историю подложного завещания императора Петра II. Вот радость-то была для
долгоруковских неприятелей! Вот это и в самом деле государственное преступление, которое
позволит под корень вывести всех Долгоруких!
Началось новое разбирательство, к которому были привлечены не только березовские ссыльные,
но и дядья князя Ивана: Василий Лукич, Иван и Сергей Григорьевичи. Причем Сергей Григорьевич
был уже помилован императрицей по протекции тестя своего, петровского сподвижника,
знаменитого Шафирова, и даже назначен послом в Лондон, однако выехать туда не успел, был
остановлен – и разделил участь соучастников по делу о подложном завещании.
8 ноября 1739 года Долгорукие были преданы мучительной казни четвертованием на
Скудельничем поле близ Новгорода.
В последние минуты жизни князь Иван держался на редкость мужественно.
Вот то, о чем не знала Наталья. Но, видимо, сердце подсказало ей, что милого друга на свете уж
нет. В конце 1739 года она подала «доношение» на высочайшее имя с просьбой: если муж ее жив,
пусть ей позволят разделить его судьбу, если нет, то умоляет она постричь ее в монахини.
Ответ пришел на диво быстро – всего через полгода. Тут-то и узнала Наталья о печальной участи
любимого мужа. А заодно – о том, что она и дети ее полностью помилованы и им дозволено
вернуться в Россию, жить у старшего брата Петра Борисовича.
Пути в те времена были так долги, что Наталья прибыла в Москву лишь 17 октября 1740 года –
отчего-то судьба так распорядилась, что это оказался именно день смерти ее гонительницы Анны
Иоанновны.
Жизни под присмотром братьев у Натальи не получилось: там шли споры о громадном наследстве
графа Шереметева, из которого несчастной сестре уделили только одну деревеньку. Однако
немедленно постричься в монастырь она тоже не смогла, хотя и собиралась, – нужно было
позаботиться о воспитании сыновей.
Разумеется, в общество Наталья уже не вернулась и лишь со стороны наблюдала за теми
переменами, которые происходили в России. После краткого междуцарствия Анны Леопольдовны
на престол взошла Елизавета Петровна, помиловавшая всех Долгоруких (хотя они в свое время и
ей немало попортили кровушку и однако даже княжна Екатерина была возвращена в Москву и
выдана замуж за Якова Брюса), но наказавшая всех клевретов прежнего царствования.
Пострадали и Бирон (хотя ему за всегдашнюю тайную к царевне Елизавете любовь досталось еще
не слишком-то тяжело, а дочери его потом воспитывались при дворе), и Остерман, и вицеканцлер Головкин, и Лопухины. А Волынский, за сына которого так старательно пытались когда-то
выдать Наталью Борисовну, сложил голову на плахе еще при Анне Иоанновне. Многие из прежних
врагов, впрочем, и сами умерли, да от их участи Наталье было ни жарко, ни холодно. Месть ее
никогда не грела, не радовала, так же, как не обрадовали ее собственные, вдруг с неба
свалившиеся успехи среди мужчин. Загадочная и прекрасная (она все еще была очень красива,
несмотря на перенесенные тяготы) вдова, живущая хоть и в миру, но сущей монахиней,
затворившаяся в своем селе Волынском под Москвой, часто бывавшая по приглашению
императрицы и в Покровском, привлекала их. Великий князь и будущий наследник российского
престола Петр Федорович был влюблен в нее, даром что прекрасная княгиня была на
четырнадцать лет старше… Но ни на чьи чувства Наталья более не ответила, никакого
предложения о браке не приняла. Ее поддерживал, ей помогал младший, любимый брат Сергей
Петрович Шереметев. Все, что ее в жизни заботило, была лишь участь сына Михаила (Дмитрий
рос болезненным и слабым, видно было, что он не жилец на белом свете). Михаил выучился,
повзрослел, затем Наталья приискала ему жену – княжну Голицыну. Та, впрочем, вскоре умерла, и
тогда Наталья женила Михаила на баронессе Анне Николаевне Строгановой.
Теперь она могла почувствовать себя вполне свободной от мира и в 1758 году уехала вместе с
младшим сыном в Киев, где постриглась во Фроловском женском монастыре с именем Нектария.
Из тиши своей монастырской кельи она приветствовала воцарившуюся на роскошном троне
Екатерину II и получила от нее благосклонный ответ: «О сыновьях ваших будьте уверены, что по
справедливости милостию и покровительством моим оставлены не будут. Впрочем, поручаю себя
молитвам вашим и пребуду вами всегда благосклонна…»
От покинутого мира оставалось у Натальи одно дело, за которое она взялась бы еще в Березове,
когда бы способствовали тому условия. Ей давно хотелось написать историю своей великой
любви, рассказать людям о том, сколько жертв любовь от человека требует и каким счастьем
награждает.
Счастьем и горем…
Просил написать о ее жизни и сын Михаил. Тогда, в 1767 году, Наталья взялась за свои
«Своеручные записки». И выпустила на свет божий те тайные признания, которые многие годы
бережно лелеяла в душе своей:
«И я была человек, все дни живота своего проводила в бедах и всё опробовала: гонения,
странствия, нищету, разлучение с милым, всё, кто что может вздумать… Во всех злополучиях я
была мужу своему товарищ; и теперь скажу самую правду, что, будучи во всех бедах, никогда не
раскаивалась, для чего я за него пошла. Бог тому свидетель: всё, любя мужа, сносила; сколько
можно мне было, еще и его подкрепляла… Он всего свету дороже был. Вот любовь до чего
довела! Всё оставила: и честь, и богатство, и сродников, и стражду с ним, и скитаюсь. Этому
причина – вся непорочная любовь, которой я не постыжусь ни перед Богом, ни перед целым
светом, потому что он один в сердце моем был. Мне казалось, что он для меня родился и я для
него и нам друг без друга жить нельзя. И по сей час в одном рассуждении и не тужу, что мой век
пропал, но благодарю Бога моего, что он дал мне знать такого человека, который того стоил, чтоб
мне за любовь мою жизнию своею заплатить…»
***
Каждый любящий убежден: так, как он, никто не любил и любить не может, таких признаний
никогда еще не исторгало ничье сердце!
Это правда: никто так не любил и любить не сможет, как любила Наталья Долгорукая, и ничье
сердце никогда не исторгало таких признаний.
Бёлль Генрих - Я не могу ее забыть
(~11 мин., соврем. проза
Он не погиб. Война закончилась, раны зажили, а он всё ещё живёт мечтой найти ту девушку,
что встретил там...)
Я не могу ее забыть; всякий раз, стоит мне хоть на мгновение вынырнуть из водоворота
повседневной жизни, которая своим постоянным давлением почти всегда удерживает меня в
пучине человеческой реальности, не давая всплыть на поверхность, стоит мне хоть на секунду
замедлить эту никогда не прекращающуюся, выматывающую, по-настоящему жестокую гонку,
которую они называют жизнью, и остановиться где-нибудь, где до меня не донесутся их дурацкие
крики, как я сразу вижу ее лицо, так близко, так ясно... она все так же упоительно красива, как и
много лет назад, когда я увидел ее в белом халате без воротника, оставлявшем открытой ее
нежную шею.
Тогда-то я и погиб для них. Капитан сказал, что мы должны немедленно идти в контратаку, и
лейтенант повел нас в эту контратаку. А там и атаковать-то было некого. Мы вслепую бежали
вверх по лесистому склону холма, был весенний вечер, и на предполагаемом поле боя царила
тишина. Мы долго стояли на холме, озираясь по сторонам, и ничего не видели. Потом ринулись
вниз, в долину, потом опять полезли вверх по склону другого холма, и опять ждали. Противника
нигде не было видно. То тут, то там по краю лесочка попадались брошенные окопы,
недостроенные укрепления наших, заваленные кинутым второпях, бессмысленным хламом
войны. Но все еще было тихо, зловещее молчание под высоким сводом весеннего неба,
медленно заволакивавшегося темнеющей пеленою сумерек, угнетало нас. Было так тихо, что
голос лейтенанта заставил нас вздрогнуть:
— Вперед! — приказал он.
Но только мы собрались двинуться, как небо вдруг с грохотом обрушилось на нас и земля
разверзлась.
Все наши попадали наземь или быстро спрыгнули в брошенные окопы; я успел заметить, как у
фельдфебеля изо рта выпала трубка, а потом мне показалось, что мне отстрелили ноги...
Пять человек бросились бежать, едва утих первый шквал. Только лейтенант и с ним еще двое
задержались, они подхватили меня на носилки и помчались вниз по склону, а наверху, там, где
мы только что лежали, бушевал новый шквал.
Лишь много позже, когда они опустили меня в лесу на землю, я почувствовал боль. Лейтенант,
отерев пот со лба, окинул меня долгим взглядом, но я сразу понял, что он не смотрит туда, где
должны быть мои ноги.
— Не бойся! — сказал он, — мы отнесем тебя куда надо!
Лейтенант сунул мне в рот зажженную сигарету, а еще я запомнил: хотя боль и нарастала, я всетаки сознавал, что жизнь прекрасна. Я лежал на лесной дороге, у подножия холма, рядом с
дорогой протекал ручеек, наверху, среди верхушек высоких елей виднелась лишь узкая полоска
неба, теперь серебристого, почти белого. Стояла несказанно живительная тишина, только птицы
пели. Я выпускал сигаретный дым длинными голубыми нитями, считал, что жизнь была
прекрасна, и плакал...
— Успокойся, — сказал лейтенант.
Они опять понесли меня. Но путь был долог, почти два километра до того места, куда отступил
капитан, а я был тяжелый. По-моему, все раненые очень тяжелые. Лейтенант шел впереди
носилок, а те двое — сзади. Так мы, наконец, выбрались из лесу, шли полями и лугами, потом
опять лесом, им приходилось часто опускать носилки наземь, утирать пот, а вечер все
приближался. Когда мы дошли до деревни, все еще было тихо. Они отнесли меня в дом, где
теперь находился капитан. Слева и справа по стенам громоздились одна на другой школьные
парты, а учительская кафедра была завалена ручными гранатами. Когда меня внесли, там как раз
распределяли ручные гранаты. Капитан кричал в телефон, угрожая кому-то расстрелом. Потом
выругался и бросил трубку. Меня положили за кафедрой, где лежали еще раненые. Один, с
простреленной рукой, сидел на корточках, вид у него был весьма довольный.
Лейтенант доложил капитану, как проходила наша контратака, капитан заорал, что расстреляет
лейтенанта, а лейтенант сказал:
— Так точно!
Капитан еще пуще разорался, а лейтенант опять повторил:
— Так точно!
И капитан перестал кричать.
В цветочные горшки воткнули большие факелы и зажгли их. Уже стемнело, а электричества,
похоже, тут не было. Когда гранаты были розданы, класс опустел. Остались только два
фельдфебеля, писарь и капитан с лейтенантом. Капитан сказал лейтенанту:
— Прикажите выставить посты, надо попытаться хоть немного поспать. С утра опять начнется...
— Отступление? — тихо спросил лейтенант.
— Вон! — закричал капитан, и лейтенант ушел.
Когда он ушел, я впервые взглянул на свои ноги и увидел, что они залиты кровью, я их совсем не
чувствовал, чувствовал только боль там, где были ноги. Мне стало холодно. Рядом со мной лежал
человек, раненный в живот, он был совсем тихий и бледный, почти не шевелился, только изредка
осторожно проводил рукой по одеялу, накинутому на живот. На нас никто не обращал внимания.
Наверно, среди тех пятерых, что сразу дали деру, был и санитар. Внезапно и я ощутил боль в
животе, она быстро поползла вверх и расплавленным свинцом прихлынула к сердцу, кажется, я
закричал и потерял сознание...
Очнувшись, я сначала услышал музыку. Я лежал на боку и смотрел в лицо соседа, раненного в
живот. Он был мертв. Одеяло стало черным от пропитавшей его крови. А я слушал музыку, —
должно быть, где-то включили радио. Звучало что-то очень современное, наверное, иностранное,
а потом эту музыку словно бы стерли мокрой тряпкой и раздался марш, потом классическая
музыка. Вдруг чей-то голос надо мной произнес:
— Моцарт.
Я поднял глаза и увидел ее лицо, и тут же понял, что это не может быть Моцарт, и сказал,
обращаясь к этому лицу:
— Нет, это не Моцарт.
Она склонилась надо мной и я увидел, что она врач или, может, студентка-медичка, она
выглядела такой юной... но в руке у нее был стетоскоп. Теперь я видел лишь корону ее пышных
мягких каштановых волос, ведь она склонилась над моими ногами и задрала одеяло так, чтобы я
ничего не мог видеть. Потом подняла голову, посмотрела на меня и сказала:
— И все-таки это Моцарт.
Она закатала мне рукав, а я тихонько возразил:
— Нет, это не может быть Моцарт.
А музыка все играла, теперь я уж точно знал, что никакой это не Моцарт. Иногда музыка звучала
совсем по-моцартовски, но были там некоторые пассажи, у Моцарта невозможные.
Рука у меня была совсем белая. Девушка мягкими пальцами нащупала пульс, и вдруг я ощутил
укол — она что-то впрыскивала мне в руку.
Ее лицо было теперь совсем близко, и я шепнул:
— Поцелуй меня.
Она залилась краской, выдернула иглу, и в этот миг голос по радио произнес: «Мы передавали
музыку Диттерсдорфа[1]». Она улыбнулась, и я улыбнулся, теперь я видел ее всю, по-настоящему,
поскольку единственный еще горящий факел стоял на кафедре, за ее спиной.
— Скорее, — сказал я уже громче, — поцелуй меня.
Она опять покраснела и стала еще красивее. Свет факела озарял потолок и отбрасывал на стены
беспокойно кружащие красные блики. Она быстро оглянулась, наклонилась и поцеловала меня,
за этот миг я успел разглядеть ее смеженные веки и ощутить нежность ее губ, а факел окружал ее
тревожным светом... И вот опять капитан рычал что-то в телефон и уже другая музыка доносилась
из репродуктора. Потом кто-то вскрикнул, меня вдруг подхватили и вынесли в ночь, положили в
холодный кузов и я лишь успел заметить, что она стоит и смотрит мне вслед в свете факела, среди
нагромождения школьных парт, они были как смехотворные руины гибнущего мира.
Наверное, все они вновь вернулись к своим исконным профессиям. Капитан теперь
преподаватель гимнастики. Лейтенанта нет в живых, а о других мне ничего не известно, да и зналто я их всего несколько часов. Разумеется, школьные парты стоят теперь на своих местах,
электричество опять горит, а факелы зажигают лишь по каким-нибудь особенно романтическим
поводам, и капитан теперь вместо: «Я вас расстреляю!» кричит что-нибудь безобидное,
например: «Вы дурак!» или «Эй ты, трус» — если кто-то не справляется с «мельницей». Ноги мои
зажили, я опять хорошо хожу, и на всяких комиссиях мне сказали, что я могу работать, но у меня
есть другое, куда более важное занятие: я ищу ее. Я не могу ее забыть. Люди говорят, что я
помешанный, потому что я не желаю крутить «мельницу» или браво и верноподданно
маршировать в команде гимнастов, рьяно и нетерпеливо ожидая похвалы.
К счастью, они обязаны платить мне пенсию, и я могу позволить себе ждать и искать, ибо знаю,
что найду ее...
Примечания
Диттерсдорф Карл Диттерс фон (1739—1799) — австрийский композитор и скрипач, автор
оркестровой и камерной музыки, а также комических опер («Доктор и аптекарь» и др.).
Биой Касарес Адольфо - Встреча
(20 мин., фантаст. рассказ.
Говорят, время лечит всё, но иногда оно не только лечит, но и всё улаживает, устраняя
недопонимание.)
Словно собираясь куда-то, Альмейда надел синий костюм. Стоя перед зеркалом, завязал
безупречным узлом галстук, который надевал только по торжественным случаям, и скрепил его
зажимом в форме подковы. Резная деревянная рама придавала овалу зеркала таинственную и
печальную глубину. «Таким вот и останусь, — подумал он, — на фотографии где-нибудь в спальне
Кармен, на столике между ее портретом в манильской шали и фотографией ее племянника,
голенького малыша на подушке».
Он услышал за спиной шорох и, обернувшись, увидел, как кто-то просовывает под дверь письмо.
«А любопытства я, оказывается, еще не потерял», — с иронией подумал он, вскрывая конверт. Это
был счет от портного. «Ну, уж это не повод для того, чтобы отложить самоубийство!»
И, как бы желая в последний раз проверить себя, подумал, глядя на свое отражение в зеркале:
осталось ли для него в жизни что-нибудь привлекательное? Из того, что сразу пришло на ум, он
выбрал только запах поджаренного хлеба и танго «Дождливой ночью». Обязательно надо было
вспомнить что-то третье — он был суеверен. Напряг память и начал перебирать все, что
приходило на ум, сначала без системы, потом в определенном порядке: люди («Лучше обойти
стороной»), его давнишние привычки («Кто не осточертеет себе со всеми этими маниями?»), театр
на Авенида де Майо; бильярд в центре, холостяцкие вечеринки, затягивавшиеся далеко за
полночь, с сальными разговорчиками и анекдотами, обычно в каком-нибудь из ресторанов
галереи Дель Онсе; летние сиесты в лесу близ Ла Платы; книги, в свое время доставлявшие ему
столько удовольствия, вроде фантастики — рассказов о машине времени, в которой человек
переносится в будущее, а оно оказывается весьма безрадостным. Где же он видел эти книги?
Вероятно, в доме у Кармен или у одного из ее маленьких племянников, которым она сразу
отдавала их, словно книги эти жгли ей руки.
Вдруг он вспомнил о грузовике, очертаниями напоминавшем белого медведя. Это было давно,
еще в детстве. Грузовик принадлежал торговцам пушниной, и Альмейда, когда впервые увидел
его, онемел. «Ну, вот и третий!» — обрадовался он, но сразу подумал: «Что из этого?»
Попрежнему не отрывая глаз от зеркала, протянул руку, чтобы взять со стола револьвер, через
мгновение бросил взгляд на стол и заметил там газету. Или, лучше сказать, заметил в ней
объявление в черной рамке (как прежде печатали в провинциальных газетах объявления о
смерти):
«Вы считаете, что жизнь загнала вас в тупик, что все против вас и у вас нет выхода, кроме
самоубийства? Если вам нечего терять, приходите к нам». «Будто обо мне, — подумал он, — как
раз мой случай».
Блажен тот, кто может свалить свою вину на ближнего; увы, у него такой возможности нет. Почему
он не поговорил с Кармен, не внес во все ясность, как ему советовал этот левша Хоакин из
«Тридцати трех»? Внести ясность! Несбыточная мечта! Кармен говорила: «Можешь во всем на
меня положиться». Прекрасная, с нежными, тонкими чертами, всегда победоносно улыбающаяся
Кармен, крошечная, но сложенная так пропорционально, что никому никогда не пришло бы в
голову назвать ее карлицей, всегда, какую бы дверь он ни открыл, неизменно появлялась из-за
нее и преграждала ему путь, легкая, как взмах веера, грациозная, как куколка… Альмейда
решительно протянул руку за револьвером — ив этот миг здание содрогнулось от грохота. Он
вспомнил: сегодня отдают последние почести скончавшемуся генералу. Пушечный залп словно
предостерегал его от опрометчивых поступков, и он отложил револьвер, чтобы еще раз
перечитать объявление. Он пробежал его глазами, ни на что особенно не рассчитывая, но когда
дошел до номера телефона и до призыва:
«Звоните нам безотлагательно!», сказал себе: «А может, и в самом деле попробовать?» И просто
из любопытствапосмотреть, не предложит ли ему жизнь в эти роковые для него минуты что-то
необычное, — позвонил. Ему сразу ответили.
— Хотите договориться о встрече? — спросил усталый, спокойный мужской голос. — На этой
неделе я занят… разве только вы придете прямо сейчас.
— Сейчас?.. Я могу, — заикаясь, проговорил он.
— Записывайте.
— Минутку.
— Авенида де Майо… — начал диктовать голос. Альмейда записал номер дома, этаж.
— Готово.
— Если не хотите ждать, не задерживайтесь, пожалуйста.
Он взял часы, монеты, лежавшие в пепельнице, кольцо для ключей, подаренные ему Кармен, и,
наводя порядок на письменном столе, увидел свою чековую книжку. «Возьму и ее, — решил он.
— Умирать, так хоть заплатив долг портному». Мастерская как раз была ему по пути.
Внизу его остановил почтительно-важный портье.
— Сеньорита Кармен оставила для вас конверт, — сказал он Альмейде. — Сейчас я вам его дам.
— Дадите потом, когда я вернусь.
Не успел портье рта раскрыть, как Альмейда уже шагал по улице. Когда он вошел в мастерскую,
портной спросил его:
— Показать вам красивый материал?
— Спасибо, мне ничего нового не нужно, — ответил он. — Я пришел только заплатить. Вас это
удивляет?
— Нет, сеньор, меня уже ничем не удивишь.
Выйдя на улицу, он увидел свободное такси, взял его и подумал: «Пока мне везет».
Заговорил с водителем об объявлениях, которые печатают в газетах.
— Как, по-вашему, стоит их читать? — спросил Альмейда.
— Моя жена всегда их читает, и вы бы только посмотрели, как ловко она приспосабливает их к
делу. Стоит мне пожаловаться, что в доме полно барахла, так она мигом затыкает мне рот фразой
из объявлений: «Чтобы иметь, надо беречь», или чем-нибудь в этом роде. А потом напоминает,
что благодаря объявлению купила мне электростатический пояс, который я ношу и по сей день…
Таксист был так увлечен своим монологом, что, выехав на Авенида де Майо, при виде потока
автомобилей на улице был немало удивлен. Катастрофы он избежал каким-то чудом, а его собрат,
уступая ему дорогу, врезался в автобус. Эпизод завершился скрежетом металла и звоном
разбиваемого стекла.
Когда Альмейда вылез из машины, он почувствовал, что еле держится на ногах. Сперва салют в
честь умершего военного, теперь дорожное происшествие — нет, это уж слишком! После такой
встряски у него просто не осталось сил сегодня вечером нажать на спусковой крючок револьвера…
Но, с другой стороны, если он доживет до вечера, ему придется снова встретиться с Кармен.
В двенадцать ноль-ноль он уже разыскивал на Авенида де Майо дом, номер которого записал по
телефону. Оказалось, что это совсем рядом с театром. «Как в насмешку, — подумал он, — все те
же давно знакомые места. Надо вернуться домой». Нет, уж раз пришел, лучше узнать, что ему
предложат.
Альмейда поднялся на пятый этаж и на медной дощечке, в которой ему почудилось что-то
траурное, прочитал: «Доктор Эдмундо Скотто». Он вошел, и девушка в белом халате провела его в
приемную или кабинет, где стен не было видно за книжными полками. За письменным столом, на
котором рядом с огромными кипами бумаг виднелась чашка кофе с молоком, сидел старичок в
пыльнике. Жуя, он сказал;
— Жду вас. Я доктор Скотто.
Прежде всего бросалось в глаза, что он совсем крохотный («Прямо как Кармен», — подумал
Альмейда), но кроме того, он был очень худой и с нездоровым цветом лица.
— Я прочитал ваше объявление, и…
— Простите, что не угощаю вас, — перебил его доктор Скотто. — За кофе надо посылать в
молочную на углу, но пройдет бог знает сколько времени, прежде чем его принесут.
На стене над головой врача висела темная картина, где был изображен не то Харон с пассажиром
в лодке, не то гондольер, перевозящий больного или мертвеца по каналу в Венеции.
— Я пришел по объявлению, — сказал Альмейда.
— Вы извините меня, если я буду есть? — спросил доктор, отрезая себе кусок хлеба и обмакивая
его в кофе. — Говорите, пожалуйста. Расскажите, что с вами.
— Это еще зачем? — огрызнулся Альмейда с необъяснимым раздражением, подогреваемым,
быть может, тщедушностью доктора. — Вы даете, скажем прямо, до странности загадочное
объявление, я (правда, не питая никаких иллюзий) прихожу к вам в приемную, и теперь вы мне
говорите, что я еще должен вам давать объяснения!
Доктор Скотто сначала вытер платком мокрые от кофе усы, потом вытер лоб, вздохнул, раскрыл
было рот, чтобы заговорить, но, увидев на подносе печенье в форме полумесяца, обмакнул его в
кофе и стал есть. Наконец он заговорил:
— Я врач, а вы — мой больной.
— Я не болен.
— Врач, прежде чем назначить лечение, выслушивает больного.
— В своем объявлении вы сами ясно описали мое состояние. Что еще вы надеетесь от меня
услышать?
Неожиданно встревожившись, врач спросил:
— Надеюсь, не денежные затруднения?
— Нет, другое. Женщина.
— Женщина? — Доктор Скотто моментально оживился. — Женщина, которая вас не любит?
— Женщина, которая меня любит.
— Тогда позвольте мне рекомендовать вам психоаналитика, — он стал писать на бланке рецепта
имя и адрес, — чтобы вы не упустили единственной возможности быть счастливым, которая есть у
нас в этом мире: возможности создать и упрочить семью.
— Я вас правильно понял? — медленно вставая, спросил Альмейда.
— Ну, не надо так, — и доктор, как-то съежившись, посмотрел на него. — Настолько… серьезно?
— Описать невозможно. Если я сейчас жив, так только потому, что прочитал в газете ваше
объявление.
— У вас нет возможности укрыться на месяц у кого-нибудь из друзей? Время все улаживает.
— У меня есть друг, который без конца повторяет именно эту фразу, но ни вы, ни он не знаете
Кармен.
— Кого? — спросил доктор, приставив ладонь к уху.
— Неважно, доктор. Если вам нечего мне предложить, я вернусь домой.
— «Время все улаживает» — неопровержимая истина, которая лежит в основе моей системы.
Ближе к делу, мой дорогой сеньор: я вас усыпляю и замораживаю. Лет через пятьдесят или сто вы
просыпаетесь — положение изменилось, горизонт чист. Подчеркиваю, правда, что в этом случае
вы навсегда теряете свою пару. Ну-ну, не морщитесь, я ведь ничего вам не навязываю. Более того:
чтобы доказать свое желание с вами сотрудничать, хочу упомянуть об одном из преимуществ
моего метода замораживания во сне, которое вы, с вашим живым и пытливым умом, наверняка
оцените. Я имею в виду возможность путешествовать во времени, узнать будущее.
— Это меня устраивает. Согласен проснуться через сто лет, если вы меня вот сейчас же,
безотлагательно заморозите.
— Не торопитесь, сначала мы должны тщательно вас обследовать. Могу порекомендовать
солидную лабораторию, где вам сделают все необходимые анализы и рентгеноснимки. Я должен
убедиться, что вы здоровы.
Ассистент доктора провел его в небольшой кабинет и начал прослушивать. Альмейда старался
сохранять спокойствие. «Если я не буду держать себя в руках, — подумал он, — они найдут у меня
бог знает какие болезни». Чтобы успокоиться, он начал думать о зеленых лугах и деревьях — это
ему всегда помогало.
Измеряя кровяное давление, ассистент доктора спросил:
— Какая у вас профессия?
— Преподаю в университете историю, — ответил Альмейда. — Древнюю, новую и новейшую.
— И теперь сможете добавить к этому будущую, — сказал ассистент. — Ведь, насколько я
понимаю, вы собираетесь одним махом перескочить сразу в следующее столетие.
— Не ради того, чтобы увидеть будущее, а чтобы бежать от настоящего.
Его провели в другую комнату и уложили на стол. Доктор Скотто, ассистент и три медсестры стали
вокруг. Перед тем как уснуть, он взглянул на календарь, висевший на стене слева, и подумал, что
13 сентября 1989 года пустился в самую странную авантюру в своей жизни.
Ему снилось, что он скользит вниз по заснеженному склону, а потом идет по узкой тропинке ко
входу в какую-то пещеру; оттуда, из темноты, до него донесся смех.
— Я не сплю, — сказал он, словно оправдываясь, — и я не знаю ничего ни про какую лесную
красавицу.
Около него стояли двое мужчин и девушка. Он сразу задал себе вопрос: говорили они о лесной
красавице или же это ему приснилось?
— В ногах покалывает? — заговорил один из мужчин.
— А в пальцах рук? — обратился к нему — другой.
— Дать вам одеяло? — спросила девушка.
Они склонились над ним. Попытавшись подняться, он увидел на стене за их головами календарь
— и в безутешном отчаянии упал на подушку.
— Спокойно, спокойно, — проворковала девушка.
— Слабость? — спросил один из мужчин.
— Тошнота? Головокружение? — спросил другой.
Отвечать он не стал. Или просто подвергли испытанию его решимость, или, еще хуже,
эксперимент провалился: на календаре по-прежнему стояло 13 сентября.
— Мне нужно поговорить с доктором Скотто, — сказал он, не скрывая подавленности.
— Это я, — сказал один из незнакомцев.
— Нет, вы не доктор Скотто, — запротестовал Альмейда.
Вдруг он засомневался: с какой стороны, слева или справа от него, висел календарь, когда он
засыпал? Сейчас календарь висел слева.
— Я хочу встать, — сказал он.
Альмейда поднялся на ноги и, отстранив незнакомца, сделал несколько неуверенных шагов по
направлению к стене. И там, на календаре, прочитал дату: 13 сентября 2089 года. В это
невозможно было поверить, но он действительно проспал сто лет!
Альмейда попросил зеркало и увидел, что его лицо бледнее обычного и борода немного отросла,
но вообще он такой же, какой всегда. Однако он еще не был уверен до конца, что над ним не
подшутили.
— А сейчас мы что-то выпьем, — сказала девушка, подавая ему чашку молока.
— Залпом, — сказал один из мужчин.
То, что он принял за молоко, оказалось чем-то совсем другим, по вкусу напоминающим нефть.
— Ну вот, первую чашку выпили, — сказал другой.
— Прежде чем приняться за вторую, вам лучше немного отдохнуть в комнате рядом, — сказала
девушка.
— А потом мы побеседуем, — сказал один из мужчин.
— Надо вас подготовить, — сказал другой.
— Предупредить вас, — вставила девушка, — о том, что вам предстоит увидеть на улице.
— Вы еще к этому не готовы. Сначала вам лучше немного подкрепить свои силы, — сказал один из
мужчин.
— А пока пройдите в соседнюю комнату, — сказал другой.
Девушка открыла дверь, но тут же повернулась к ним:
— Комната занята.
— Я знаю, — отозвался один из мужчин. — Они современники. Пусть поговорят, вреда не будет.
— Идите, — сказал Альмейде другой.
Он шагнул и остановился в дверях. Наверно, он еще спит. А если не спит, то как могло случиться,
что посреди комнаты стоит и лучезарно улыбается ему…
После долгой паузы Альмейда проговорил, заикаясь:
— Н-не ожидал…
— Зачем ты скрываешь от меня свою любовь? — спросила Кармен, как всегда непринужденная и
уверенная в себе. — Я написала это ужасное письмо, поддавшись настроению, в дурную минуту…
Не знаю, как это описать тебе. У меня было чувство, что я задыхаюсь, что я больше не выдержу.
Подумала даже о самоубийстве (какой ужас!) и тут увидела объявление доктора Скотто, пошла к
нему и уговорила меня усыпить, и тогда оставила тебе это жуткое письмо, и ты прочитал его — и
не рассердился, простил меня, захотел заснуть одновременно со мной, подумай только, мы спали
вместе, любовь моя, и теперь ты убедился сам, как права я была, когда говорила: «Ты можешь во
всем на меня положиться!».
Перевод с испанского Р. Рыбкина
Блох Роберт - Богатое воображение
(~21 мин., соврем проза, триллер
"Муж обнаруживает, что жена изменяет ему с Джорджем — «работником на все руки».
Однажды он приглашает Джорджа заделать дыру в стене подвала, утверждая, что ему уже
надоели крысы... Есть ли что-то за стеной, или все дело в богатом воображении героя?")
Перевод с английского: Сергей Мануков
Возможно, я и обладаю некоторыми недостатками, но недостаток воображения к их числу не
относится. Взять, к примеру, дело Джорджа Паркера. Сегодня наступила кульминация, и я без
ложной скромности хочу признаться, что справился с ним безупречно. Джордж явился, как всегда,
сразу после ланча, когда я замешивал цемент в подвале. Он прошел на кухню и тяжело спустился
по лестнице. Джордж всегда шел по жизни тихо и незаметно, как бульдозер. И так же, как
бульдозер, верил в свои силы и надеялся смять все, что встретится на пути.
— Вы один? — удивился Джордж. — А где миссис Логан?
— Поехала в Дальтон закрывать счет в банке.
— Жалко! — разочарованно произнес он. — Я надеялся попрощаться.
Когда мы приехали в июне, я думал, что нам повезло с Джорджем, мастером на все руки. Дом
нуждался в ремонте. Лужайка с садом также требовали ухода. У меня же были свободными
только выходные.
Все лето Джордж трудился не покладая рук. Заново все покрасил, починил причал, укрепил
деревья в саду подпорками. Соседи привыкли, что Паркер приезжает три-четыре раза в неделю. Я
тоже привык к его частым визитам. Но через два месяца я прозрел. Джордж и Луиза проводили
дни вдвоем в нашем загородном доме. А может, и ночи?
Поначалу я сомневался. Чтобы представить, что какая-нибудь женщина может полюбить такую
обезьяну, требовалось не просто богатое, а богатейшее воображение.
Но приглядевшись повнимательнее, я стал замечать, как Луиза смотрит на Джорджа, как он
пожирает ее глазами и с какой издевкой они оба смотрят на меня, когда думают, что я не
обращаю на них внимания. Шло время, и я все больше убеждался, что Луиза изменяет мне с
Паркером. Увольнять его в середине лета, когда работы непочатый край, бессмысленно. К тому
же я еще не был готов к решительному разговору с Луизой.
Сказать жене, что мне все известно, тоже не выход. Она бы только разрыдалась и поклялась в
верности.
Итак, я решил продать дом. К концу августа я получил три предложения и выбрал самое
выгодное.
Конечно, Луиза очень расстроилась. Еще бы, ведь она успела полюбить коттедж, обжилась в нем и
уже мечтала, как приедет отдыхать сюда следующим летом.
Я объяснил жене, что продажа загородного дома — выгодная сделка. А чтобы она не
расстраивалась, приглядел для нее домик. Правда, он стоит немного в стороне…
— В стороне? — Луиза посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. — Ты хочешь сказать,
что он находится не здесь? Далеко отсюда?
— Довольно далеко, — неопределенно улыбнулся я.
— Но мне бы… Я бы хотела остаться здесь, поближе к реке.
— Подожди, ты ведь еще даже его не видела, — рассудительно заметил я.
Я оформил все бумаги, и Луиза начала собирать вещи. Сборы были короткими, потому что вместе
с домом я продал и мебель.
Теперь мне осталось ждать и наблюдать. Конечно, Луиза и Джордж не догадывалась, что я
наблюдаю за ними. И вот наступила развязка. Завтра мы возвращаемся в город. А сейчас, после
ланча, я замешиваю цемент в подвале и разговариваю с Джорджем Паркером.
— Вы работаете как настоящий строитель, — похвалил он. — Вот уж не думал, что вы умеете
обращаться с цементом.
— Я умею делать все, что захочу, — улыбнулся я в ответ.
— Это та самая дыра, которую я должен заделать? — он показал на отверстие в стене размером
два на три фута. — Хотите избавиться от мышей?
— И крыс, — многозначительно добавил я.
— Откуда здесь крысы? По-моему, здесь нет крыс.
— Ошибаешься, Джордж, — я пристально посмотрел на него. — Крысы есть везде. Они бегают по
подвалу, когда их никто не видит… Если не обращать на них внимания, они могут выжить вас из
дома. О, крысы — очень хитрые твари и действуют незаметно. Но человек с головой на плечах
знает, где их искать и как с ними бороться. Мне бы не хотелось оставлять после себя крыс,
Джордж.
Луиза, наверное, не знает, что они водятся в доме. Пожалуй, следовало ее предупредить. Ничего.
Заделаем дыру и делу конец… Кстати, Джордж, я привез из города новый цемент. Не знаю,
работал ли ты с ним раньше. Быстротвердеющий, схватывается за час.
— А инструкция есть?
— Инструкция не нужна. Он ничем не отличается от обычного цемента, — я протянул ему
мастерок и доски. — Начинай, а я пока займусь тиром.
Паркер начал заделывать дыру, а я отправился к дальней стене снимать мишени и смазывать
пистолеты и револьверы. Взял большой кольт и посмотрел на широкую спину Джорджа, который
быстро орудовал мастерком. Он уже заделал отверстие и сейчас затирал поверхность.
Я зарядил револьвер, взвел курок и опять посмотрел на Паркера. Стоит нажать на курок, и этого
дурака не станет. Но мне было нужно его жалкое воображение.
— Вижу, ты уже заканчиваешь! — похвалил я, подходя к нему.
— Отличный цемент, — Паркер вытер пот со лба. — Почти затвердел. Осталось немного затереть.
— Не спеши. Сдается мне, что ты бы не отказался от бутылочки пивка.
Я достал бутылку пива. Джордж благодарно кивнул и начал шумно пить. Мигом осушив бутылку,
удивленно взглянул на меня.
— А вы не пьете?
— У меня правило — ни капли спиртного, когда вожусь с оружием, — я кивнул на ящики, стоящие
на столе.
— Давно хотел вас спросить, мистер Логан… Какой интерес такому человеку, как вы, собирать
огнестрельное оружие? Я ни разу не видел, чтобы вы из них стреляли.
— Я собираю их не для того, чтобы стрелять, Джордж, — объяснил я, протягивая вторую бутылку.
— Взять, к примеру, этот кольт. Когда я смотрю на него, то мысленно вижу кровавые истории:
сцены насилия, возвышенные трагедии и низкие мелодрамы.
— А… — лицо Джорджа просветлело. — Они пришпоривают вашу фантазию, да?
— Точно, пришпоривают, — я достал третью бутылку. — Пей, Джордж, не стесняйся. Все равно
нужно опустошить холодильник. Ты же знаешь, мы уезжаем завтра. Так что есть повод выпить.
Джордж Паркер погрустнел. Я видел, что холодное, как лед, пиво начинает действовать. Он еще
не закончил третью бутылку, а я уже открыл четвертую. Паркер быстро прикончил и ее.
Я подошел к тому месту, где еще недавно находилась дыра, и потер левой рукой быстро
твердеющую поверхность.
— Ну и цемент! — восхищенно произнес я. — Стена уже твердая и сухая.
Джордж поставил пустую бутылку и потянулся за полной. Дождавшись, когда он отопьет больше
половины, я нагнулся и приложил ухо к стене.
— Не знаешь, что там такое? — удивился я.
— Я ничего не слышу, — пожал плечами Паркер.
— Наверное, мыши, — рассмеялся я.
— Или крысы, о которых вы говорили.
— Нет, по-моему, это мышь. Слишком уж пронзительный писк… Неужели не слышишь?
— Не слышу, — Джордж подошел ко мне и тоже нагнулся. Когда его рука задела кольт, я слегка
отодвинулся. — Мертвая тишина.
— Ничего страшного, — улыбнулся я. — Она же не пропускает воздух. Значит, если там кто-то есть,
то воздуха хватит лишь на несколько минут… Наверное, ты просто не улавливаешь высокие звуки,
Джордж. Я слышал этот писк все время, пока ты работал.
— Чего вы так беспокоитесь из-за каких-то мышей? — удивился Паркер. — Им конец. Цемент
схватился будь здоров!
— Превосходная работа, — согласился я. — Кстати, раз это твоя последняя работа, пришло время
расплатиться. Но сначала выпей еще бутылочку.
— Ну, я не знаю, мистер Логан… — Джордж нерешительно посмотрел на часы. — Пожалуй, мне
пора. У меня в Дальтоне еще дела.
Наверняка хочет найти Луизу. Надеется, что им хватит времени еще раз попрощаться, как вчера
ночью перед моим приездом.
— Ладно, последняя, — кивнул я, протягивая бутылку. — Я тоже выпью. Давай выпьем за свободу!
Сделав глоток, Джордж нахмурился.
— За какую свободу?
— Не вижу смысла и дальше скрывать. К тому же ты стал почти членом нашей семьи. Миссис
Логан, — туманно объяснил я. — Луиза… Мы расстаемся, Джордж.
— Рас?..
— Да, Джордж, расстаемся, — я повернулся к стене. — Неужели, правда, ничего не слышишь?
— Нет… О каком расставании вы говорите? Вы что, поссорились?
— Да нет, все произошло внезапно. Совершенно неожиданно, по крайней мере, для нее.
— Так значит, она не в Дальтоне?
— Нет, не в Дальтоне.
— Вы хотите сказать, что она уже уехала? — допытывался Джордж.
— Можно сказать и так.
— Послушайте, Логан, на что вы намекаете?
— Джордж, ты уверен, что ничего не слышишь? — я пристально уставился на стену.
— Да что вы ко мне пристали с этой стеной? — рассердился Джордж.
— А по-моему, она прощается с тобой.
Только тут до красавчика Паркера дошло, о чем я говорю.
— Господи, не может быть! — от ужаса у него отвисла челюсть. — Ты шутишь!
Я молча улыбнулся. Глаза Паркера округлились. Он обхватил горлышко бутылки, но я показал ему
револьвер.
— Оставь бутылку в покое, Джордж. Она тебе не поможет. Неужели ты думаешь, что я побоюсь
пристрелить крысу?
Паркер поставил бутылку и медленно двинулся на меня.
— Логан, ты не мог этого сделать! Кто угодно, только не ты…
Когда я навел на него кольт, он замер.
— Верно, — кивнул я, — не мог. Вы с Луизой были уверены, что я ничего не вижу. Но тут вы дали
маху, Джордж… Интересно, она меня слышит? — я громко крикнул: — Ты меня слышишь, Луиза?
— Ты лжешь! — прохрипел Паркер. — Ты не убил ее!
— Верно. Когда мы кончили выяснять отношения, она была цела и невредима. Я просто связал ее,
засунул в рот кляп, затолкал в дыру и стал ждать тебя. — Его лицо стало белее стены. — Неплохая
получилась шутка, ты не находишь? Ты заделывал отверстие, а я знал, что ты замуровываешь мою
жену. Она лежала в темноте и пыталась кричать, пока ты замуровывал ее в могилу. — Он
напрягся, готовясь к прыжку. — Один шаг — и ты покойник.
Паркер подошел к стене и начал изо всех сил колотить в нее.
— Бесполезно, — остановил я его. — Очень твердый цемент. Твоя последняя работа оказалась
самой лучшей. К тому же, она уже задохнулась.
Джордж повернулся ко мне и, протягивая окровавленные кулаки, завопил:
— Псих! Неудивительно, что она так боялась и ненавидела тебя. Ни один нормальный человек не
додумался бы до такого!
— Додумался, — улыбнулся я. — Если бы ты читал книги, то знал бы об Эдгаре Аллане По.
«Черный кот», «Бочонок амонтильядо». Конечно, у тебя нет времени на чтение. В этом вы с
Луизой очень похожи. Ты презирал таких, как я. Мы только и делаем, что сидим, уткнув носы в
книги, а вы, деловые люди, живете полнокровной жизнью.
— Ты… Тебя арестуют!
— С чего ты взял? — усмехнулся я.
— Я все расскажу шерифу.
— Да? Ты мой сообщник, Джордж. Не забывай, что это ты замуровал Луизу в стену. Если ты
пойдешь к шерифу, я расскажу, что пообещал тебе половину ее страховки. А она большая, мой
милый. Я расскажу, как ты замуровывал живую Луизу в стену, а она извивалась и пыталась
кричать. Убил ее ты, Джордж, а не я!
Если бы не кольт, Паркер бы наверняка бросился на меня.
— Напрасно Луиза не послушала тебя вчера вечером, Джордж. Ведь ты предлагал ей уехать до
моего приезда. Ты хотел, чтобы она все бросила и бежала с тобой. Только Луиза оказалась
чересчур практичной. Ей, видите ли, захотелось сначала взять из банка деньги.
— Ты подслушал нас, Логан?
— Конечно. Я оставил машину на дороге и спрятался под окном. Потом вернулся и подъехал к
дому. Я не дал вам времени разработать план бегства.
В груди Джорджа Паркера что-то захрипело и забулькало, и он бросился к лестнице. Я не стал его
останавливать. Он с грохотом взбежал по лестнице. Его шаги прогремели на кухне, хлопнула
входная дверь.
В подвале наступила тишина. Я разрядил кольт, протер дуло и рукоятку и спрятал его в ящик.
Пустые бутылки поставил в угол. Сначала я допил пиво Джорджа, затем — свое. Поднявшись
наверх, принялся ждать.
Когда хлопнула входная дверь, уже начало смеркаться.
— Здравствуй, Луиза, — улыбнулся я. — Все сделала?
— Да, дорогой, — хмуро ответила она.
— Что-то случилось?
— Ничего, — пожала она плечами. — На обратном пути меня остановил полицейский.
— Превысила скорость?
— Конечно, нет. Он попросил водительское удостоверение, потом заставил меня выйти из
машины и подойти к мотоциклу. Мне пришлось сказать несколько слов в микрофон.
— Зачем?
— Не знаю. Он попросил меня представиться шерифу. Сказал, что не хотел меня беспокоить, но я
избавила его от необходимости ехать к нам. Когда я поинтересовалась, в чем дело, он пожал
плечами и ответил, что вышло маленькое недоразумение, но сейчас все выяснилось. Ты чтонибудь понимаешь, дорогой?
— Может, и понимаю, — таинственно улыбнулся я. — Лучше обсудим это в другой раз. Не хочу,
чтобы ты расстраивалась по пустякам в наш последний вечер в этом доме.
— Дорогой, расскажи.
— Помнишь, Джордж Паркер должен был сегодня заделать дыру в подвале?
— Помню, — кивнула Луиза.
— Он так и не приехал, — наконец сказал я. Луиза облегченно вздохнула. — Поэтому пришлось
заделать дыру самому.
— Бедняжка, ты, наверное, сильно устал?
— Около четырех позвонил шериф Тейлор и поинтересовался, где ты, — продолжил я рассказ
после продолжительной паузы. — Конечно, я сказал про город. Поэтому, наверное, патрульный и
остановил тебя.
— Но зачем?
— Судя по всему, у нашего друга Джорджа поехала крыша.
— У Джорджа?..
— Что произошло?
— Насколько я понял, дружище Джордж ворвался в кабинет шерифа и рассказал такую
невероятную историю, что они сначала подумали, будто он пьян. Потом заметили, что на нем
лица нет. Со слов Тейлора я понял, что Джордж обвинил меня в убийстве жены и в том, что якобы
я замуровал твой труп в стену подвала.
— Ты шутишь?
— То же самое сначала сказал и шериф. Затем понял, что бедняга явно не в себе и вот-вот полезет
на стенку. Естественно, Тейлор позвонил мне. Я сказал, что ты в городе… Хорошо, что они нашли
тебя. Не хотелось перед самым отъездом попасть в неприятную историю.
Лицо жены оставалось в тени. Когда я подошел к ней, она попыталась отвернуться, но я
успокаивающе похлопал ее по плечу.
— Ну-ну… — прошептал я. — Извини, я не хотел тебя расстраивать. Не беспокойся, все уже
закончилось.
— Но Джордж!.. — воскликнула Луиза хрипловатым голосом, но тут же взяла себя в руки. — Как
он?
— На грани помешательства, если верить шерифу, — печально вздохнул я. — Доктор Сильверс
говорит, что если в ближайшие несколько часов не наступит улучшения, он окончательно сойдет с
ума. А жалко. Я от кого-то слышал, что он собирался уехать в Монтану и работать там
рейнджером.
— Но почему Джордж подумал, что ты собираешься убить меня?
— Не имею ни малейшего представления… Завтра мы возвращаемся в город. А о Джордже не
беспокойся, за ним присмотрят. Ты больше никогда не увидишь его и быстро его забудешь.
— Д-да.
— Нам будет очень весело, — шепотом пообещал я Луизе. — Я все продумал…
Я действительно все продумал. Сейчас, когда я пишу эти строки, Луиза крепко спит… Я дал ей
снотворное… И проснется не раньше, чем через полчаса.
Нужно, чтобы она проснулась, когда я начну обнимать ее и рассказывать, что произошло на самом
деле. Моя жена должна знать, какой я умный и сильный, намного умнее и сильнее Джорджа.
Это мой ум разработал такой безупречный план. Ей придется согласиться, что я лучше. Ну и чего
бы я достиг, если бы обвинил ее при Джордже? Ровным счетом ничего. Так же глупо и рискованно
было бы убивать Паркера. Теперь же о нем можно навсегда забыть. Он никогда не выйдет из
психиатрической лечебницы и будет до самой смерти страдать, считая себя виновным в смерти
Луизы. Конечно, все уверены, что она жива и что в стене никого нет. Ведь Тейлор лично
разговаривал с ней. А я рассказал ему, что завтра мы возвращаемся в город.
Ты уже дочитала до этого места, Луиза? Теперь ты понимаешь, в чем состоит мой план?
Понимаешь, что я сейчас сделаю? Правильно, Луиза. Я свяжу тебя, засуну в рот кляп и отнесу в
подвал. Потом сломаю стенку и затолкаю тебя в дыру. Ты, конечно, будешь молить о пощаде,
пока я буду замуровывать тебя. И твое тело сгниет, как твоя гнилая душа.
Когда ты дочитаешь до этого места, я буду стоять у тебя за спиной. Ты не сможешь ни крикнуть, ни
шевельнуться. Бесполезно говорить мне, что меня поймают. Ты же сама знаешь, что это не так.
У меня железное алиби. Завтра утром я уеду в город, а ты навсегда останешься здесь.
Комар носу не подточит, потому что все спланировано, Луиза. Потому что я лучше твоего
примитивного животного Джорджа… А знаешь, в чем разница между человеком и животным? Все
очень просто — у человека есть воображение, а у животного его нет.
Браун Фредерик - Волшебная веревочка
(~ 4 мин., юморист. мини рассказ,
"Факир с помощью дудочки может управлять змеей, и даже оживить веревку. Но не всякому,
кто захочет подудеть в неё, доступно сотворить чудо.")
Мистер и миссис Джордж Дарнелл — если уж быть точным, то ее звали Эльзи, ну да какое это
имеет значение? — совершали месячный вояж по всяким землям, отмечая свой медовый месяц.
Говоря точнее, второй медовый месяц, по случаю двадцатой годовщины их свадьбы. Тогда — в
первый раз — Эльзи было около двадцати, а Джорджу примерно тридцать лет. И вы, несомненно,
уже легко можете подсчитать на вашей логарифмической линейке то, что я вам сейчас
ненавязчиво подсказываю, а именно: теперь — во второй раз — Эльзи было под сорок, а
Джорджу — под пятьдесят.
И в свои «сороковые штормовые» (это определение равным образом подходит как к мужчинам,
так и к женщинам) она за уже истекшие три недели их второго медового месяца была ужасно
расстроена тем, что с ней случилось; а чтобы уж поставить все точки над «i» — тем, что с ней как
раз ничего и не произошло. А уж если вы требуете «правды, и только правды», то не было вообще
ничего, ни-че-го-шень-ки.
А потом на их пути возникла Калькутта.
Приехали они в город в начале послеобеденного времени. Чуть-чуть придя в себя в отеле после
дороги, они решили немного пройтись по городу и осмотреть максимум достопримечательностей
за отведенные на этот город сутки пребывания.
Вот так они оказались та базаре.
И увидели факира-индуса с его знаменитым номером с веревкой. Не тот крайне зрелищный и
сложный вариант, когда еще и мальчишка карабкается по ней… ну, вы обо всем этом знаете не
хуже меня.
Нет, им продемонстрировали упрощенную модель того же трюка. Факир сидит перед огрызком
веревки, свернутым в спираль, и играет на своей дудочке о шести дырках какой-то простейший,
назойливо повторяющийся мотивчик. И по мере его игры веревка поднимается вертикально
вверх.
Это зрелище вдруг заронило в головку Эльзи блестящую идею, которой она, однако,
поостереглась поделиться с Джорджем. Они спокойно вернулись в отель, отужинали, и она
дождалась, пока он, как всегда ровно в девять, отойдет ко сну.
И только тогда она вышла из номера, а затем и из отеля. Сумела разыскать таксиста с
переводчиком и вместе с ними вернулась на базар к факиру, по-прежнему демонстрировавшему
свое искусство.
С помощью переводчика ей удалось приобрести дудочку, а также постигнуть секрет, как
воспроизводить на ней заунывную и без конца повторявшуюся мелодию, от которой веревка
взмывала вверх.
Возвратившись в гостиницу, Эльзи быстро прошла в спальную, комнату. Джордж, как обычно, спад
сном праведника.
Пристроившись близ кровати, Эльзи принялась наигрывать на дудочке незатейливую
музыкальную тему.
Как только мотивчик подходил к концу, она снова и снова повторяла его.
И по мере того как она это делала, простыня над ее посапывавшим мужем вздымалась все выше и
выше.
Когда, высота, на ее взгляд, оказалась вполне достаточной, Эльзи, положив дудочку, с радостным
возгласом отбросила простыню.
Ввысь, безукоризненно твердо и прямо, устремился пояс от пижамы Джорджа.
Брэдбери Рэй - Всякое бывает
(~23 мин., соврем. проза, не фантастика
В гринтаунскую школу приехала новая учительница, Энн Тейлер, 24 лет. Боб Сполдинг влюбился
в нее и набрался духу объясниться в любви....)
Весной тысяча девятьсот тридцать четвертого в Центральную школу пришла учительствовать мисс
Энн Тейлор. Было ей тогда двадцать четыре года, а Бобу Маркхэму — четырнадцать. Все умы
занимала Энн Тейлор. Для этой учительницы дети несли в школу то цветы, то фрукты и без
напоминания сворачивали после уроков зеленовато-розовые карты мира. Если она проходила по
улицам, то, казалось, как раз в ту пору, когда дубы и вязы отбрасывали кружевную тень, отчего на
лице у нее играли солнечные зайчики, а она шла не останавливаясь, и при встрече с нею каждый
загадывал что-то свое. Была она как нежный персик среди зимних снегов, как глоток холодного
молока к завтраку в душное летнее утро. Выпадали, случалось, редкостные дни, когда мир
обретал равновесие, подобно кленовому листу, которому не дают упасть благодатные ветра:
такие деньки точь-в-точь были похожи на Энн Тейлор, и в календаре их следовало бы назвать ее
именем.
Что же до Боба Маркхэма, октябрьскими вечерами этот паренек слонялся в одиночку по
городским улицам, а за ним гнался ворох листьев — ни дать ни взять мышиные полчища в Духов
день. Весной движения его замедлялись, и весь он становился похож на белую молодь форели,
что водится в терпких водах речки Фокс-Хилл; за лето белизна сменялась коричневым отблеском
спелых каштанов. Частенько он, валяясь на траве, взахлеб читал книжки, даже не замечая
муравьев, ползавших по страницам, а то еще играл сам с собой в шахматы на крыльце
бабушкиного дома. Приятелей у него не было.
Когда мисс Тейлор пришла вести свой первый урок, Боб учился в девятом классе; никто из
учеников не шелохнулся, пока она выводила на доске свое имя аккуратным, округлым почерком.
— Меня зовут Энн Тейлор, — негромко сказала она, — я ваша новая учительница.
Казалось, в классную комнату вдруг хлынул свет, словно чья-то рука сдвинула кровлю. Боб
Маркхэм держал наготове пульку из жеваной бумаги. Через полчаса он незаметно уронил пульку
на пол.
После уроков он принес в класс ведро воды, взял тряпку и стал протирать доски.
— Что происходит? — Обернувшись, она посмотрела в его сторону из-за учительского стола, за
которым проверяла диктанты.
— Доски грязноваты, — сказал Боб.
— Да, верно. Ты сам решил этим заняться?
— Наверное, полагается разрешения спрашивать, — смущенно выдавил он.
— А мы сделаем вид, будто ты так и поступил, — улыбнулась она в ответ, и от этой улыбки он
мигом справился с работой: белые тряпки и губки так и летали у него в руках, и если бы кто
заглянул с улицы в открытое окно, то подумал бы, что в классе кружатся хлопья снега. — Дай-ка
вспомню, — сказала мисс Тейлор. — Ты ведь Боб Маркхэм, правильно?
— Да, мэм.
— Ну, спасибо тебе, Боб.
— А давайте я каждый день буду доски мыть? — предложил он.
— Тебе не кажется, что все должны дежурить по очереди?
— Да мне не трудно, — сказал он. — После уроков.
— Можно попробовать, а там видно будет, — решила она.
Он медлил.
— Теперь беги домой, — велела она, помолчав.
— До свидания. — Нога за ногу, он поплелся к выходу.
На следующее утро он уже маячил у пансиона, где поселилась мисс Тейлор, в то самое время,
когда она выходила из дверей.
— А вот и я, — сказал он.
— Честно говоря, — ответила она, — меня это не удивляет.
Они отправились в школу вместе.
— Давайте я ваши книжки понесу, — предложил он.
— О, спасибо тебе, Боб.
— Не за что, — откликнулся он, принимая у нее книги.
Вот уже несколько минут они шли бок о бок, но он не проронил ни слова. При взгляде на него —
искоса и немного сверху — она заметила, что он не только не смущен, но сияет от счастья, и
решила дать ему возможность заговорить первым, однако это ни к чему не привело. На подходе к
школе он вернул ей книги.
— Наверно, дальше надо поодиночке, — сказал он. — Ребята не так поймут.
— Да я и сама не вполне понимаю, Боб.
— Ну как, у нас дружба, — со значением произнес он.
— Боб… — начала она.
— Да, мэм?
— Ладно, неважно. — И она зашагала вперед.
— Я со звонком приду, — сказал Боб.
Конечно же, он пришел со звонком и каждый день на протяжении двух недель оставался после
уроков: не говоря ни слова, тщательно мыл доски, полоскал тряпки и снимал со стены карты, а она
тем временем проверяла тетради. До четырех часов между ними висела тишина: в этой тишине
солнце клонилось к закату, по-кошачьи сновали тряпки, шуршали тетрадные страницы,
поскрипывало перо, а в высокое оконное стекло с натужным жужжанием билась сердитая муха.
Иногда молчание затягивалось часов до пяти, покуда мисс Тейлор не замечала, что Боб Маркхэм
устроился за последней партой и не сводит с нее глаз.
— Ну, пора домой, — по обыкновению говорила мисс Тейлор, поднимаясь со стула.
— Да, мэм.
И он бросался доставать из шкафа ее пальто и шляпку. Потом брал у нее ключ и сам запирал
дверь, если к тому времени еще не появлялся школьный сторож. А дальше они спускались с
крыльца и пересекали опустевший школьный двор. О чем только не заходил у них разговор.
— Кем ты хочешь стать, когда вырастешь, Боб?
— Писателем, — отвечал он.
— Да, планы у тебя серьезные. Только это тяжелый труд.
— Знаю, но хотя бы попробовать, — сказал он. — Я ведь много читаю.
— Боб, неужели у тебя нет никаких дел после уроков? Я хочу сказать — это непорядок, что из-за
бессменного дежурства ты проводишь столько времени в четырех стенах.
— Мне нравится, — объяснил он. — Я вообще занимаюсь только тем, что мне нравится.
— И все-таки…
— Нет, я уж так решил, — упорствовал Боб.
Немного подумав, он выговорил:
— Мисс Тейлор, можно вас кое о чем попросить?
— Смотря о чем.
— Каждое воскресенье я выхожу на Бьютрик-стрит, иду вдоль ручья и дохожу до озера Мичиган.
Там раки водятся, бабочки летают, птицы поют. Если вы не против, пойдемте вместе, а?
— Спасибо за приглашение, — сказала она.
— Значит, договорились?
— Нет, у меня, к сожалению, дела.
Он уже открыл рот, чтобы спросить, какие у нее дела после уроков, но осекся.
— Я бутерброды с собой беру, — продолжал он. — С ветчиной и соленьями. И апельсиновую
шипучку. Прихожу на озеро часам к двенадцати, ухожу около трех. Здорово было бы вместе
пойти. Вы собираете бабочек? У меня, например, большая коллекция. И для вас наловим.
— Спасибо тебе, Боб, но нет, не получится. Может быть, в другой раз.
Он поднял на нее глаза:
— Напрасно я об этом заговорил, да?
— У тебя есть полное право говорить о чем угодно, — ответила она.
Через несколько дней она нашла у себя потрепанную книгу «Большие надежды» и за
ненадобностью отдала Бобу. В ту ночь он не сомкнул глаз и прочел роман от корки до корки, а
наутро поделился впечатлениями. Теперь он изо дня в день поджидал мисс Тейлор за углом от
пансиона, и она не раз начинала: «Боб…» — намереваясь сказать, чтобы он больше не приходил,
но так и не собралась с духом.
В пятницу утром на учительском столе сидела бабочка. Мисс Тейлор уже собралась махнуть
рукой, чтобы ее согнать, но вовремя заметила, что тонкие крылышки даже не дрогнули; тогда она
сообразила, что пойманную бабочку принесли в класс до звонка. Поверх голов она отыскала
взглядом Боба, но тот уставился в книгу — не читал, а просто опустил глаза.
Именно тогда до нее дошло, что отныне ей будет затруднительно вызывать Боба отвечать
домашнее задание. Карандаш то и дело останавливался на его имени, но в итоге она вызывала
тех учеников, чьи фамилии значились в классном журнале до или после фамилии Маркхэм. Когда
они вместе шли в школу или обратно, она не поднимала глаз. Но после уроков, когда Боб тянулся
вверх, чтобы стереть с доски примеры и задачи, она нередко ловила себя на том, что исподволь
наблюдает за его движениями.
А однажды в воскресенье он стоял посреди речушки в закатанных до колен штанах и вдруг,
подняв голову, заметил, что у самой кромки воды появилась мисс Тейлор.
— А вот и я, — сказала она, смеясь.
— Честно говоря, — отозвался он, — меня это не удивляет.
— Покажи-ка мне раков и бабочек, — попросила она.
Они дошли до озера и сели на песок, обдуваемые теплым ветром. Когда настало время
подкрепиться бутербродами с ветчиной и соленьями, а также апельсиновым ситро, Боб чинно
уселся немного позади.
— Эх, прямо не верится, — вырвалось у него. — Самое счастливое время в моей жизни.
— Кто бы мог подумать, что я отправлюсь на такой пикник, — сказала она.
— Да еще с каким-то сопляком, — добавил он.
— Мне здесь хорошо, — призналась она.
— Приятно слышать.
До вечера они почти не разговаривали.
— Неправильно это, — сказал он позднее. — А почему — не могу понять. Мы же просто гуляем,
ловим этих дурацких бабочек и раков, едим бутерброды. Но мать с отцом точно меня прибьют,
если узнают, да и в школе по башке дадут. А вас, наверное, учителя засмеют, да?
— К сожалению, это так.
— Тогда завязывать надо с этими бабочками.
— Я вообще не понимаю, как здесь оказалась, — пробормотала она.
На этом и закончился тот день.
Вот и все, что вместила в себя история Энн Тейлор и Боба Маркхэма. Две-три бабочки-данаиды,
книга Диккенса, десяток раков, четыре бутерброда и две бутылки апельсинового ситро. В
понедельник Боб долго стоял за углом, но так и не дождался, чтобы мисс Тейлор появилась в
дверях и направилась в школу. Лишь примчавшись к первому звонку, он сообразил, что она
вышла раньше обычного и намного его опередила. После занятий она снова исчезла: на
последнем уроке ее подменяла другая учительница. Пройдясь мимо пансиона, где жила мисс
Тейлор, он так ее и не увидел, а позвонить в дверь не решился.
Во вторник после уроков они снова оказались в безмолвной классной комнате: он размеренно тер
доску губкой, как будто время остановилось и спешить больше некуда, а она проверяла тетради, и
ей тоже казалось, что можно до скончания века сидеть за столом, утопая в непостижимом покое и
счастье, — и тут вдруг пробили часы на здании суда. Часовая башня находилась в квартале от
школы, но от бронзового гула курантов содрогалось все тело, точно старея с каждом ударом. Этот
бой пробирал до костей, напоминая о сокрушительной силе времени; с пятым ударом она
подняла голову и долго смотрела в окно на городские часы. Потом отложила ручку.
— Боб! — окликнула мисс Тейлор. Вздрогнув, он обернулся. За все это время они не
перемолвились ни словом.
— Подойди, пожалуйста, — попросила она. Он медленно положил губку.
— Иду, — ответил он.
— Присядь, Боб.
— Да, мэм.
Несколько мгновений она пристально смотрела на него, и наконец он отвел глаза.
— Ответь мне, Боб, ты понимаешь, о чем я собираюсь поговорить? Догадываешься?
— Да.
— Тогда сам скажи.
— О нас, — произнес он, помолчав.
— Сколько тебе лет, Боб?
— Пятнадцать будет.
— На самом деле тебе четырнадцать.
Он неловко поерзал.
— Да, мэм.
— А знаешь ли ты, сколько мне?
— Да, мэм. Слышал. Двадцать четыре.
— Двадцать четыре.
— Через десять лет мне тоже будет двадцать четыре, — сказал он.
— Но к сожалению, сейчас тебе еще нет двадцати четырех.
— А иногда кажется, что есть.
— Понимаю — иногда ты и ведешь себя как мой ровесник.
— Честно?
— Ну-ка, сиди смирно; это серьезный разговор. Нам необходимо самим разобраться в том, что
происходит, ты согласен?
— Вообще-то да.
— Для начала давай признаем: мы самые лучшие, самые близкие друзья на свете. Давай
признаем: у меня никогда не было такого ученика, как ты, и ни к одному молодому человеку я не
испытывала такой нежности. И позволь, я скажу за тебя: ты считаешь меня лучшей учительницей
из всех, которые у тебя были.
— Если бы только это, — сказал он.
— Возможно, ты чувствуешь нечто большее, но приходится учитывать самые разные
обстоятельства, весь уклад нашей жизни, считаться с горожанами, соседями и, конечно, друг с
другом. Я размышляю об этом уже много дней, Боб. Не думай, что я не способна разобраться в
собственных чувствах. По некоторым причинам наша дружба действительно выглядит очень
странно. Но ведь ты — незаурядный юноша. Себя, как мне кажется, я тоже хорошо знаю и могу
сказать, что не страдаю физическими или умственными расстройствами; я искренне ценю тебя как
личность. Но в нашем мире, Боб, о личности принято говорить только тогда, когда человек достиг
определенного возраста. Не знаю, понятно ли я выражаюсь.
— Чего ж тут непонятного? — проговорил он. — Был бы я на десять лет старше и на пятнадцать
дюймов выше — и разговор был бы другой. Глупо судить о человеке по его росту.
— Согласна, это кажется глупостью, — продолжила она, — ведь ты ощущаешь себя взрослым,
знаешь, что не делал ничего плохого, и стыдиться тебе нечего. Тебе нечего стыдиться, Боб, так и
знай. Ты держался честно и достойно; надеюсь, и я вела себя так же.
— Это уж точно, — подтвердил он.
— Возможно, придет время, когда люди научатся распознавать зрелость характера и будут
говорить: вот это настоящий мужчина, хотя ему всего четырнадцать лет. По воле случая и судьбы
он стал зрелым человеком, который трезво оценивает себя, знает, что такое ответственность и
чувство долга. Но пока это время не пришло, мерилом будут служить возраст и рост.
— Несправедливо, — сказал он.
— Допустим, и мне это не по душе, но ты же не хочешь, чтобы тебе в конце концов стало еще
тяжелее? Ты же не хочешь, чтобы мы оба были несчастны? А ведь именно это нас и ждет. Мы
ничего не можем изменить, у нас нет выбора; даже этот разговор о нас самих — и тот звучит
нелепо.
— Да, мэм.
— Но по крайней мере, мы выяснили все, что касается нас двоих, мы знаем, что не сделали ничего
дурного, что совесть у нас чиста и в наших отношениях нет ничего постыдного. Однако мы оба
понимаем и то, что продолжение невозможно, так ведь?
— Может, и так, только я ничего не могу с собой поделать.— Нужно решить, как нам быть дальше.
Сейчас об этом знаем только ты и я. Не исключено, что вскоре это будет знать каждый встречный
и поперечный. Я могла бы сменить работу…
— Нет, даже не думайте!
— Или устроить так, чтобы тебя перевели в другую школу.
— Можете не трудиться, — бросил он.
— Почему же?
— Наша семья переезжает. В Мэдисон. Через неделю меня уже здесь не будет.
— Это ведь никак не связано с темой нашего разговора?
— Нет-нет, что вы. Отцу предложили хорошее место, вот и все. В пятидесяти милях отсюда. Мы
ведь сможем видеться, когда я буду приезжать в город?
— Ты думаешь, это разумно?
— Наверное, нет.
Какое-то время они сидели молча.
— Почему же так вышло? — беспомощно спросил он.
— Не знаю, — ответила она. — Никто не знает. Тысячу лет люди не могут найти ответа на этот
вопрос и, как мне кажется, никогда не найдут. Нас либо тянет друг к другу, либо нет, и случается,
между двумя людьми возникает чувство, которое приходится скрывать. Я не могу объяснить, что
меня подтолкнуло, а ты — тем более.
— Пойду я домой, — проговорил он.
— Ты на меня не сердишься?
— Господи, конечно нет. Как я могу на вас сердиться?
— И еще одно. Я хочу, чтобы ты помнил: в жизни нам за все воздается. Так было во все времена,
иначе род человеческий не смог бы выжить. Сейчас тебе тяжело, так же как и мне. Но потом
произойдет событие, которое залечит все раны. Ты мне веришь?
— И рад бы поверить…
— Это чистая правда.
— Вот если бы… — начал он.
— О чем ты?
— Если бы только вы могли меня подождать, — выпалил он.
— Подождать десять лет?
— Мне тогда исполнится двадцать четыре.
— А мне — тридцать четыре, и возможно, я стану совсем другим человеком. Нет, думаю, это
невозможно.
— Разве вам бы этого не хотелось? — воскликнул он.
— Да, — ответила она тихо. — Это нелепость и бессмыслица, но мне бы этого очень хотелось.
Долгое время он сидел молча.
— Я вас никогда не забуду, — сказал он.
— Спасибо тебе за эти слова, но так не бывает — жизнь устроена иначе. Ты забудешь.
— Нет, не забуду. Я что-нибудь придумаю, но никогда вас не забуду, — повторил он.
Она встала и пошла вытирать доску.
— Я помогу, — вызвался он.
— Нет-нет, — поспешно возразила она. — Иди домой, а дежурить больше не оставайся. Я поручу
это Хелен Стивенс.
Боб вышел из класса. Оглянувшись с порога, он в последний раз увидел Энн Тейлор: она стояла у
доски и медленными, плавными движениями — вверх-вниз, вверх-вниз — стирала меловые
разводы.
Через неделю он уехал из города на долгих шестнадцать лет. Живя всего в пятидесяти милях,
вернулся он уже тридцатилетним, женатым человеком: как-то по весне, проездом в Чикаго, они с
женой сделали остановку в городке Грин-Блафф.
Боб надумал пройтись в одиночку и в конце концов решился навести справки о мисс Энн Тейлор.
Сначала никто ее даже не вспомнил, а потом кого-то из горожан осенило:
— Ах да, была такая учительница, само очарование. Умерла вскоре после твоего отъезда.
— Замуж-то она вышла?
— Да нет, как-то не сложилось.
Во второй половине дня, побродив по кладбищу, он отыскал могильный камень с высеченной
надписью: «Энн Тейлор, 1910–1936». Двадцать шесть лет, подумал он. А ведь я теперь на четыре
года старше вас, мисс Тейлор.
Ближе к вечеру горожане увидели, что встречать Боба Маркхэма вышла его жена, и все головы
поворачивались ей вслед, потому что на лице у нее играли солнечные зайчики. Была она как
нежный персик среди зимних снегов, как глоток холодного молока к завтраку в душное летнее
утро. А день выдался такой, когда мир обрел равновесие, подобно кленовому листу, которому не
дают упасть благодатные ветра: один из тех редкостных дней, которые, по общему мнению,
следовало бы назвать в честь жены Боба Маркхэма.
Брэдбери Рэй - Кошкина пижама
(~14 мин., соврем. проза, не фантастика
Оба были одинаково одиноки, оба любили кошек и не могли ни оставить находку на дороге, ни
решить, кому она будет принадлежать...)
Не каждую ночь, когда едешь вдоль Миллпасс по Девятому шоссе в Калифорнии, ожидаешь
заметить посреди дороги кота.
Коли на то пошло, не каждый вечер такой кот вообще выходит на пустынное шоссе, тем более
если этот кот, по всей вероятности, брошенный котенок.
Тем не менее это маленькое существо сидело на дороге, деловито умываясь, в тот момент, когда
случилось два события.
Машина, на большой скорости ехавшая на восток, внезапно затормозила и остановилась.
Одновременно у кабриолета, мчавшегося с еще большей скоростью на запад, чуть не лопнули
шины, когда он затормозил и встал как вкопанный.
Дверцы обеих машин одновременно шумно распахнулись.
Котенок сидел, не обращая никакого внимания на то, что с одной стороны застучали высокие
каблучки, а с другой — грубые ботинки для гольфа.
Чуть не столкнувшись над умывающимся котенком, одновременно наклонились и протянули к
нему руки красивый молодой человек и более чем привлекательная молодая женщина.
Обе руки одновременно прикоснулись к котенку.
Это был теплый, круглый, черный как ночь усатый комочек, из которого смотрели два огромных
желтых глаза и высовывался розовый язычок.
Котенок изобразил на мордочке запоздалое удивление, когда оба путешественника с изумлением
посмотрели на то место на теле котенка, которого коснулись их руки.
— О, как вы смеете! — вскричала молодая женщина.
— Смею что? — вскричал молодой мужчина.
— Отпустите моего котенка!
— С каких это пор он ваш?
— Я первая к нему подошла.
— Мы подошли одновременно, ничья.
— А вот и нет.
— А вот и да.
Он потянул котенка за заднюю часть, она за переднюю, и вдруг котенок мяукнул.
Оба выпустили его из рук.
В тот же миг они снова схватили прелестное существо, на сей раз женщина взялась за заднюю
часть, а молодой человек за переднюю.
Довольно долго они мерили друг друга взглядом, пытаясь решить, что сказать.
— Я люблю кошек, — наконец заявила она, не выдержав его упорного взгляда.
— Я тоже! — вскричал он.
— Не кричите.
— Никто же не слышит.
Они поглядели в одну сторону дороги, потом в другую. Ни одной машины.
Женщина с удивлением перевела взгляд на котенка, как будто ища в нем какого-то откровения.
— Мой кот умер.
— Мой тоже, — парировал он.
Это несколько ослабило их хватку на теле котенка.
— Когда? — спросила она.
— В понедельник, — ответил он.
— Мой — в прошлую среду, — сказала она.
Они поменяли положение рук на спине крохотного комочка и уже скорее не держали его, а лишь
касались.
Повисла неловкая пауза.
— Что поделаешь, — наконец произнес он.
— Да, что поделаешь, — сказала она.
— Простите, — неловко извинился он.
— И вы тоже, — сказала она.
— Так что будем делать? Не можем же мы вечно здесь торчать.
— Похоже, — заметила она, — он обоим нам нужен.
Непонятно к чему, он вдруг сказал:
— Я как-то написал статью для журнала «Кэт Фэнси».
Она посмотрела на него более пристально.
— А я вела кошачье шоу в Кеноше, — сообщила она.
Они снова застыли в мучительном молчании.
Мимо с ревом пронесся автомобиль. Оба отскочили, а когда машина проехала, увидели, что попрежнему держат в руках прекрасное существо, которое они уберегли от опасности.
Молодой человек посмотрел вдаль на дорогу.
— Там есть закусочная, я вижу огни. Может, выпьем по чашке кофе и обсудим наше будущее?
— Для меня нет будущего без моего котенка, — сказала она.
— Для меня тоже. Давайте. Поезжайте за мной.
Он взял котенка у нее из рук.
Она закричала и потянулась за ним.
— Все в порядке, — сказал он. — Поезжайте за мной.
Она вернулась, села в свою машину и поехала по дороге вслед за ним.
Они зашли в пустой кафетерий, сели в кабинку и посадили котенка между собой на стол.
Официантка бросила на них и котенка беглый взгляд, куда-то отошла, а затем вернулась, с полным
блюдцем сливок и, широко улыбаясь, поставила на стол. Они сразу поняли, что имеют дело еще с
одной любительницей кошек.
Котенок принялся лакать сливки, а тем временем официантка принесла кофе.
— Ну вот, — произнес молодой человек. — Как думаете, это надолго? Разговор на всю ночь?
Официантка все еще стояла рядом с ними.
— Боюсь, мы скоро закрываемся, — сказала она.
Неожиданно молодой человек предложил:
— Взгляните на нас.
Официантка посмотрела.
— Если бы вы хотели отдать этого котенка одному из нас, — продолжал он, — кому бы вы отдали?
Официантка испытующе оглядела молодых людей и сказала:
— Слава Господу, я не царь Соломон.
Она выписала счет и положила на стол.
— Знаете, есть еще люди, которые читают Библию.
— Здесь есть другое место, куда мы могли бы пойти поговорить? — спросил молодой человек.
Официантка кивнула в сторону окна.
— Дальше по дороге есть гостиница. Можно с животными.
При этих словах молодые люди так и подпрыгнули на месте.
Через десять минут они входили в гостиницу.
Оглядевшись, они увидели, что в баре уже темно.
— Глупо, — сказала она, — что я согласилась прийти сюда ради того, чтобы доказать право на
моего же котенка.
— Он еще не твой, — заметил он.
— Но скоро будет, — ответила она и бросила взгляд в сторону конторки портье.
— Не волнуйся, — он показал ей котенка. — Этот котенок будет тебя защищать. Он будет
находиться между мной и тобой.
Он отнес котенка к гостиничной конторке, человек за стойкой бросил на них один-единственный
взгляд, выложил на журнал постояльцев ключ и протянул авторучку.
Через пять минут они уже наблюдали, как котенок весело носится по ванной в их номере.
— Ты когда-нибудь в лифте, вместо того чтобы говорите о погоде, пробовала рассказать о своем
любимом коте? — задумчиво спросил он. — К верхнему этажу попутчики галдят, как безумные.
В этот момент котенок прибежал обратно в комнату.
Он вскочил на кровати и устроился в самой середке подушки. Увидев это, молодой человек
заметил:
— Именно это я и хотел предложить. Если во время разговора нам понадобится отдохнуть, пусть
котенок лежит посередине, а мы будем лежать в одежде по обе стороны от него и обсуждать
наши проблемы. К кому первому котенок придвинется, выбрав тем самым своего хозяина, тот его
и получит. Договорились?
— Ты заготовил какой-то трюк? — спросила она.
— Нет, — ответил он. — К кому котенок пойдет, тот и станет хозяином.
Котенок на подушке почти уснул.
Молодой человек придумывал, что бы еще сказать, потому что огромная кровать так и стояла
незанятая, если не считать задремавшего на ней зверька. Внезапно его осенило, и он задал
вопрос молодой женщине по ту сторону кровати:
— Как тебя зовут?
— Что?
— Ну, если мы собираемся до утра спорить о моем котенке…
— До утра — чушь! До полуночи, может быть. Ты имел в виду, о моем котенке. Кэтрин.
— Что-что?
— Глупо, но меня зовут Кэтрин.
— Уменьшительное можешь не говорить, — чуть не смеясь, сказал он.
— Не стану. А тебя?
— Ты не поверишь. Том. — Он встряхнул головой.
— Я знала дюжину котов с таким именем.
— Я на этом не зарабатываю.
Он попробовал кровать, словно это была горячая ванна, выжидая.
— Можешь стоять, если хочешь, а я, пожалуй…
Он улегся на кровать.
Котенок по-прежнему дремал.
Прикрыв глаза, молодой человек продолжал:
— Ну?
Она сперва села, а затем прилегла на самый краешек, рискуя свалиться.
— Так-то лучше. Ну, на чем мы остановились?
— Мы спорили, кто из нас заслуживает увезти домой Электру.
— Ты уже дала котенку имя?
— Имя неопределенное, основанное на личных качествах, а не на принадлежности к полу.
— Так ты даже не посмотрела?
— И не стану. Электра. Продолжай.
— Что я могу сказать, в свою пользу? Ну что ж…
Его глаза из-под прикрытых век внимательно осматривали комнату.
С минуту он задумчиво глядел в потолок, а затем сказал:
— Знаешь, с котами все так странно получается. Когда я был маленьким, бабушка с дедушкой
велели мне и моим братьям утопить приплод котят. Мы все пошли, и братья сделали это, а я не
выдержал и убежал.
Воцарилось долгое молчание.
Она посмотрела на потолок и сказала:
— Ну слава богу.
Снова повисла пауза, потом он сказал:
— А несколько лет назад произошло нечто еще более примечательное и не такое печальное. В
Санта-Монике я зашел в зоомагазин к поисках котенка. Там было, наверное, штук двадцать или
тридцать котят всех мастей. У меня глаза разбежались, а продавщица указала на одного из них и
сказала: «А вот этому действительно нужна помощь».
Я посмотрел на кота: он выглядел так, будто его постирали в стиральной машине и отжали в
центрифуге. Я спросил: «Что с ним случилось?» А она сказала: «Этот котенок принадлежал
человеку, который его бил, поэтому он всех боится».
Я заглянул котенку в глаза и сказал: «Его-то я и возьму».
Я поднял кота — он страшно испугался — и отнес его к себе домой. Дома выпустил, и он сразу
бросился вниз по лестнице, спрятался в подвал и ни за что не хотел выходить.
Больше месяца я носил в подвал еду и молоко, пока наконец постепенно не выманил его оттуда.
После этого мы стали друзья не разлей вода.
Совсем разные истории, правда?
— Да уж, — сказала она.
В комнате уже было совсем темно и очень тихо. Маленький котенок лежал между ними на
подушке, и оба приподнялись, чтобы взглянуть, как он там.
Он спал глубоким сном.
Они лежали, глядя в потолок.
— Мне надо рассказать тебе кое-что, — помолчав, сказала она, — о чем я все не решалась сказать,
потому что это звучит как особое обстоятельство в мою пользу.
— Особое обстоятельство? — переспросил он.
— Так вот, — продолжала она, — сейчас у меня дома лежит вещь, которую я скроила и сшила
специально для моего котеночка, который умер неделю назад.
— И что это за вещь? — поинтересовался он.
— Это… — сказала она, — пижама для кошки.
— О боже! — воскликнул он. — Ты победила. Этот зверек твой.
— Нет, что ты! — закричала она. — Это нечестно.
— Человек, который сшил пижаму для кота, достоин победы в этом состязании, — заявил он. —
Этот человек — ты.
— Я не могу так поступить, — возразила она.
— Я настаиваю, — ответил он.
Долгое время они лежали молча. Наконец она произнесла:
— Знаешь, а ты не такой плохой.
— Не такой плохой, как что?
— Как я подумала про тебя вначале.
— Что такое я слышу? — спросил он.
— Наверное, я плачу, — ответила она.
— Давай-ка поспим немного, — предложил он наконец.
Луна осветила потолок.
Взошло солнце.
Он лежал на своей стороне кровати и улыбался.
Она лежала на своей стороне кровати и улыбалась.
Маленький котенок лежал на подушке между ними.
Наконец, глядя на залитое солнцем окно, она спросила:
— За ночь котенок придвинулся к тебе или ко мне, он указал, кому хочет принадлежать?
— Нет, — ответил с улыбкой Том. — Котенок не придвинулся. А ты — да!
Буйда Юрий - Бешеная собака любви
(~7 мин., соврем. рус. проза
история промчавшейся по жизни девушки Аси)
Было еще темно, когда она встала, на цыпочках прокралась в ванную, плеснула в лицо холодной
воды, посмотрела в зеркало и не узнала себя. Она уже чувствовала, она уже понимала, что сейчас
произойдет, и ей было немножко не по себе. Что-то внутри, да, это что-то внутри, в глубине, что-то
уже начиналось, и пренебречь этим ей было не под силу. “Тебе сорок два года, — прошептала
она. — Ася, ты дура”. Улыбнулась, откинула волосы со лба, глубоко вздохнула, пытаясь унять
дрожь, но не получилось. Дрожали руки, дрожали ноги, дрожало что-то внутри, что-то темное,
что-то бешеное, что-то неудержимое, что-то желанное, страшное и веселое. Скинула халат, с
силой провела ладонями по животу. Идеальное тело и бесцветное лицо. “Ты женщина не для глаз
— для губ”, — говорил ее первый муж. Они развелись из-за мотоцикла. На шестнадцатилетие отец
подарил Асе мотоцикл, она села в седло, включила двигатель, рокот его отдался бешеной дрожью
во всем теле, выкрутила ручку газа, рванула, помчалась, закричала, глаза ее вспыхнули,
полыхнуло, слилась с железным зверем, исчезла, перестала быть, стала всем. Первый муж был
танцором в Большом, они прожили вместе два с половиной года, но однажды, после очередной
размолвки, Ася вскочила на мотоцикл и умчалась куда глаза глядят. Второй муж был самым
молодым генералом таможенной службы. Огромная квартира на Смоленке, загородный дом на
берегу озера, весна в Ницце, цветы, полотенце для рук, полотенце для ног, скука. Она стала
изменять ему через три месяца после свадьбы. Выбирала в баре красивого парня и посылала ему
визитку мужа со своим телефоном на обратной стороне. Один, другой, третий, четвертый...
“Остановись, Ася, ты мчишься мимо жизни, ты не человек, а буйная субстанция, хаос, стань кемнибудь, самый страшный лабиринт — даже не круг, а бесконечная прямая, дурная бесконечность,
— говорил ей третий муж, медиамагнат и доктор философии. — Слышишь? Аська, собака
бешеная! — Срывал с нее платье. — Аська, любимая моя собака бешеная! Бешеная собака
любви!..” Не сводя с него взгляда, она с улыбкой поднимала божественную свою ножку и
начинала смеяться мелким грудным смехом, сводившим мужа с ума. Они расстались через
четыре года, от него Ася родила Лизу. Четвертый муж, пятый... Когда познакомилась с будущим
шестым, возник вдруг первый, бывший, они встречались, пока она не вышла замуж, через месяц
стала встречаться с третьим мужем, бывшим, и одновременно вспыхнул ее турецкий роман. Она
работала в турагентстве, французский язык свободный плюс сносный — испанский, на ходу
выучила немецкий и английский, ей это легко давалось, поехала оценивать новый турецкий отель,
закрутила роман с хозяином, чуть не осталась там, но вернулась, села на мотоцикл, глаза
вспыхнули, помчалась, помчалась, закричала, сливаясь с железным зверем, распадаясь,
превращаясь в ничто — ни облика, ни имени, колесо вильнуло, удар — ничего не могла потом
вспомнить. “Тебе тридцать семь, Ася, — со слезами в голосе говорила мать. — Ну почему? Почему
ты не можешь успокоиться? Почему? У тебя есть все: любовь, деньги, друзья, дочь... Остановись,
хватит!..” Месяца три она училась ходить. По ночам торчала на сайтах знакомств, попадались
интерсные экземпляры: красавец из Мюнхена, обаятельный парень из Памплоны... Вступила в
переписку с Жаном-Батистом, который жил в деревушке под Греноблем. Сорок лет, никогда не
был женат, водитель автобуса, похож на меланхоличного вампира. Через полгода встретились,
спустя два дня поженились, она родила мальчика — Кристиана, французская родня — каждый
второй житель деревни — была в восторге от Аси, которая по субботам угощала всех настоящим
русским борщом, нянчилась с ребенком, по воскресеньям гуляла под руку с мужем, часто
выбирались в горы, потом стали путешествовать: Гренобль, Лион, Авиньон, Ним, Арль... На
четвертом году жизни в деревне, под Рождество, она подошла в мастерской к младшему брату
Жана-Батиста, дизайнеру, положила левую руку ему на плечо, улыбнулась чарующей своей
улыбкой и взяла за яйца. Парень бежал, спрятался на чердаке — она не стала его преследовать.
Через полгода Жан-Батист подарил ей мотоцикл. Ася обошла машину, провела ладонью по
бензобаку и усмехнулась. Что ж, значит, так тому и быть, значит, началось, и это не остановить.
Она смотрела в зеркало, дрожала и улыбалась. Встряхнулась. Натянула кожаные джинсы и тонкий
хлопчатобумажный свитер. Сунула в карман деньги, спустилась во двор, села на мотоцикл,
включила двигатель, его рокот отдался дрожью во всем ее теле, глаза вспыхнули, выехала со
двора, выкрутила ручку газа и помчалась, помчалась куда глаза глядят. На следующий день на
заправке близ Тарба она подошла к двадцатипятилетнему рослому красавцу, который жевал
бутерброд, прислонившись к стене кафешки, положила левую руку ему на плечо и сказала с
улыбкой: “Трахни меня, pimpollo”. Хуан оказался баском, бандитом и террористом. Он не
подчинялся приказам ЭТА, был сам по себе, грабил, взрывал и убивал. Четыре месяца они
грабили, взрывали и убивали, а потом испанские и французские полицейские и жандармы
блокировали банду Хуана в заброшенном горном шале. Ася отстреливалась до последнего, а
когда патроны закончились, вскочила на мотоцикл, глаза вспыхнули яростью, закричала бешено,
рванула вперед, выкрутив до отказа ручку газа, и рухнула с откоса — пуля снайпера вошла между
глаз, вторая пробила ее сердце, третья прошла мимо, и только воздух еще долго дрожал дрожал...
Бунин Иван - Грамматика любви
(~22 мин, класс. рус. проза
История любви помещика и горничной, взгляд со стороны)
Некто Ивлев ехал однажды в начале июня в дальний край своего уезда.
Тарантас с кривым пыльным верхом дал ему шурин, в имении которого он проводил лето. Тройку
лошадей, мелких, но справных, с густыми сбитыми гривами, нанял он на деревне, у богатого
мужика. Правил ими сын этого мужика, малый лет восемнадцати, тупой, хозяйственный: Он все о
чем-то недовольно думал, был как будто чем-то обижен, не понимал шуток. И, убедившись, что с
ним не разговоришься, Ивлев отдался той спокойной и бесцельной наблюдательности, которая
так идет к ладу копыт и громыханию бубенчиков.
Ехать сначала было приятно: теплый, тусклый день, хорошо накатанная дорога, в полях множество
цветов и жаворонков; с хлебов, с невысоких сизых ржей, простиравшихся насколько глаз хватит,
дул сладкий ветерок, нес по их косякам цветочную пыль, местами дымил ею, и вдали от нее было
даже туманно. Малый, в новом картузе и неуклюжем люстриновом пиджаке, сидел прямо; то, что
лошади были всецело вверены ему и что он был наряжен, делало его особенно серьезным. А
лошади кашляли и не спеша бежали, валек левой пристяжки порою скреб по колесу, порою
натягивался, и все время мелькала под ним белой сталью стертая подкова.
- К графу будем заезжать? - спросил малый, не оборачиваясь, когда впереди показалась деревня,
замыкавшая горизонт своими лозинами и садом.
- А зачем? - сказал Ивлев.
Малый помолчал и, сбив кнутом прилипшего к лошади крупного овода, сумрачно ответил:
- Да чай пить...
- Не чай у тебя в голове, - сказал Ивлев. - Все лошадей жалеешь.
- Лошадь езды не боится, она корму боится, - ответил малый наставительно.
Ивлев поглядел кругом: погода поскучнела, со всех сторон натянуло линючих туч и уже
накрапывало - эти скромные деньки всегда оканчиваются окладными дождями... Старик,
пахавший возле деревни, сказал, что дома одна молодая графиня, но все-таки заехали. Малый
натянул на плечи армяк и, довольный тем, что лошади отдыхают, спокойно мок под дождем на
козлах тарантаса, остановившегося среди грязного двора, возле каменного корыта, вросшего в
землю, истыканную копытами скота. Он оглядывал свои сапоги, поправлял кнутовищем шлею на
кореннике; а Ивлев сидел в темнеющей от дождя гостиной, болтал с графиней и ждал чая; уже
пахло горящей лучиной, густо плыл мимо открытых окон зеленый дым самовара, который босая
девка набивала на крыльце пуками ярко пылающих кумачным огнем щепок, обливая их
керосином. Графиня была в широком розовом капоре, с открытой напудренной грудью; она
курила, глубоко затягиваясь, часто поправляла волосы, до плечей обнажая свои тугие и круглые
руки; затягиваясь и смеясь, она все сводила разговор на любовь и между прочим рассказывала
про своего близкого соседа, помещика Хвощинского, который, как знал Ивлев еще с детства, всю
жизнь был помешан на любви к своей горничной Лушке, умершей в ранней молодости. «Ах, эта
легендарная Лушка! - заметил Ивлев шутливо, слегка сконфузясь своего признания. - Оттого, что
этот чудак обоготворил ее, всю жизнь посвятил сумасшедшим мечтам о ней, я в молодости был
почти влюблен в нее, воображал, думая о ней, бог знает что, хотя она, говорят, совсем нехороша
была собой». «Да? - сказала графиня, не слушая. - Он умер нынешней зимой. И Писарев,
единственный, кого он иногда допускал к себе по старой дружбе, утверждает, что во всем
остальном он нисколько не был помешан, и я вполне верю этому - просто он был не теперешним
чета...» Наконец босая девка с необыкновенной осторожностью подала на старом серебряном
подносе стакан крепкого сивого чая из прудовки и корзиночку с печеньем, засиженным мухами.
Когда поехали дальше, дождь разошелся уже по-настоящему. Пришлось поднять верх, закрыться
каляным, ссохшимся фартуком, сидеть согнувшись. Громыхали глухарями лошади, по их темным и
блестящим ляжкам бежали струйки, под колесами шуршали травы какого-то рубежа среди
хлебов, где малый поехал в надежде сократить путь, под верхом собирался теплый ржаной дух,
мешавшийся с запахом старого тарантаса... «Так вот оно что, Хвощинский умер, - думал Ивлев. Надо непременно заехать, хоть взглянуть но это опустевшее святилище таинственной Лушки... Но
что ни человек был этот Хвощинский? Сумасшедший или просто какая-то ошеломленная, вся на
одном сосредоточенная душа?» По pассказам стариков- помещиков, сверстников Хвощинского,
он когда-то слыл в уезде за редкого умницу. И вдруг свалилась на него эта любовь, эта Лушка,
потом неожиданная смерть ее, - и все пошло прахом: он затворился в доме, в той комнате, где
жила и умерла Лушка, и больше двадцати лег просидел на ее кровати - не только никуда не
выезжал, а даже у себя в усадьбе не показывался никому, насквозь просидел матрац на Лушкиной
кровати и Лушкиному влиянию приписывал буквально все, что совершалось в мире: гроза заходит
- это Лушка насылает грому, объявлена война - значит, так Лушка решила, неурожай случился - не
угодили мужики Лушке...
- Ты на Хвощинское, что ли, едешь? - крикнул Ивлев, высовываясь под дождь.
- На Хвощинское, - невнятно отозвался сквозь шум дождя малый, с обвисшего картуза которого
текла вода. - На Писарев верх...
Такого пути Ивлев не знал. Места становились все беднее и глуше. Кончился рубеж, лошади
пошли шагом и спустили покосившийся тарантас размытой колдобиной под горку; в какие-то еще
не кошенные луга, зеленые скаты которых грустно выделялись на низких тучах. Потом дорога, то
пропадая, то возобновляясь, стала переходить с одного бока на другой по днищам оврагов, по
буеракам в ольховых кустах и верболозах... Была чья-то маленькая пасека, несколько колодок,
стоявших на скате в высокой траве, краснеющей земляникой... Объехали какую-то старую
плотину, потонувшую в крапиве, и давно высохший пруд - глубокую яругу, заросшую бурьяном
выше человеческого роста... Пара черных куличков с плачем метнулась из них в дождливое небо...
А на плотине, среди крапивы, мелкими бледно-розовыми цветочками цвел большой старый куст,
то милое деревце, которое зовут «божьим деревом», - и вдруг Ивлев вспомнил места, вспомнил,
что не раз ездил тут в молодости верхом...
- Говорят, она тут утопилась-то, - неожиданно сказал малый.
- Ты про любовницу Хвощинского, что ли? - спросил Ивлев. - Это неправда, она и не думала
топиться.
- Нет, утопилась, - сказал малый. - Ну, только думается, он скорей всего от бедности от своей
сошел с ума, а не от ней...
И, помолчав, грубо прибавил:
- А нам опять надо заезжать... в это, в Хвощино-то... Ишь как лошади-то уморились!
- Сделай милость, - сказал Ивлев.
На бугре, куда вела оловянная от дождевой воды дорога, на месте сведенного леса, среди
мокрой, гниющей щепы и листвы, среди пней и молодой осиновой поросли, горько и свежо
пахнущей, одиноко стояла изба. Ни души не было кругом, - только овсянки, сидя под дождем на
высоких цветах, звенели на весь редкий лес, поднимавшийся за избою, но, когда тройка, шлепая
по грязи, поравнялась с ее порогом, откуда-то вырвалась целая орава громадных собак, черных,
шоколадных, дымчатых, и с яростным лаем накипела вокруг лошадей, взвиваясь к самым их
мордам, на лету перевертываясь и прядая даже под верх тарантаса. В то же время и столь же
неожиданно небо над тарантасом раскололось от оглушительного удара грома, малый с
остервенением кинулся драть собак кнутом, и лошади вскачь понесли среди замелькавших перед
глазами осиновых стволов...
За лесом уже видно было Хвощинское. Собаки отстали и сразу смолкли, деловито побежали
назад, лес расступился, и впереди опять открылись поля. Вечерело, и тучи не то расходились, не
то заходили теперь с трех сторон: слева - почти черная, с голубыми просветами, справа – седая,
грохочущая непрерывным громом, а с запада, из-за хвощинской усадьбы, из-за косогоров над
речной долиной, - мутно-синяя, в пыльных полосах дождя, сквозь которые розовели горы дальних
облаков. Но над тарантасом дождь редел, и, приподнявшись, Ивлев, весь закиданный грязью, с
удовольствием завалил назад отяжелевший верх и свободно вздохнул пахучей сыростью поля.
Он глядел на приближающуюся усадьбу, видел наконец то, о чем слышал так много, но попрежнему казалось, что жила и умерла Лушка не двадцать лет тому назад, а чуть ли не во времена
незапамятные. По долине терялся в куге след мелкой речки, над ней летала белая рыбалка.
Дальше, на полугоре, лежали ряды сена, потемневшие от дождя; среди них, далеко друг от друга,
раскидывались старые серебристые тополи. Дом, довольно большой, когда-то беленый, с
блестящей мокрой крышей, стоял на совершенно голом месте. Не было кругом ни сада, ни
построек, только два кирпичных столба на месте ворот да лопухи по канавам. Когда лошади вброд
перешли речку и поднялись на гору, какая-то женщина в летнем мужском пальто, с обвисшими
карманами, гнала по лопухам индюшек. Фасад дома был необыкновенно скучен: окон в нем было
мало, и все они были невелеки, сидели в толстых стенах. Зато огромны были мрачные крыльца. С
одного из них удивленно глядел на подъезжающих молодой человек в серой гимназической
блузе, подпоясанной широким ремнем, черный, с красивыми глазами и очень миловидный, хотя
лицо его было бледно и от веснушек пестро, как птичье яйцо.
Нужно было чем-нибудь объяснить свой заезд. Поднявшись на крыльцо и назвав себя, Ивлев
сказал, что хочет посмотреть и, может быть, купить библиотеку, которая, как говорила графиня,
осталась от покойного, и молодой человек, густо покраснев, тотчас повел его в дом. «Так вот это и
есть сын знаменитой Лушки!» - подумал Ивлев, окидывая глазами все, что было на пути, и часто
оглядываясь и говоря что попало, лишь бы лишний раз взглянуть на хозяина, который казался
слишком моложав для своих лет. Тот отвечал поспешно, но односложно, путался, видимо, и от
застенчивости, и от жадности; что он страшно обрадовался возможности продать книги и
вообразил, что сбудет их недешево, сказалось в первых же его словах, в той неловкой
торопливости, с которой он заявил, что таких книг, как у него, ни за какие деньги нельзя достать.
Через полутемные сени, где была настлана красная от сырости солома, он ввел Ивлева в большую
переднюю.
- Тут вот и жил ваш батюшка? - спросил Ивлев, входя и снимая шляпу.
- Да, да, тут, - поспешил ответить молодой человек. - То есть, конечно, не тут... они ведь больше
всего в спальне сидели... но, конечно, и тут бывали...
- Да, я знаю, он ведь был болен, - сказал Ивлев.
Молодой человек вспыхнул.
- То есть чем болен? - сказал он, и в голосе его послышались более мужественные ноты. - Это все
сплетни, они умственно нисколько не были больны... Они только все читали и никуда не
выходили, вот и все... Да нет, вы, пожалуйста, не снимайте картуз, тут холодно, мы ведь не живем
в этой половине...
Правда, в доме было гораздо холоднее, чем на воздухе. В неприветливой передней, оклеенной
газетами, на подоконнике печального от туч окна стояла лубяная перепелиная клетка. По полу сам
собою прыгал серый мешочек. Наклонившись, молодой человек поймал его и положил на лавку,
и Ивлев понял, что в мешочке сидит перепел; затем вошли в зал. Эта комната, окнами на запад и
север, занимала чуть ли не половину всего дома. В одно окно, на золоте расчищающейся за
тучами зари, видна была столетняя, вся черная плакучая береза. Передний угол весь был занят
божницей без стекол, уставленной и увешанной образами; среди них выделялся и величиной и
древностью образ в серебряной ризе, и на нем, желтея воском, как мертвым телом, лежали
венчальные свечи в бледно- зеленых бантах.
- Простите, пожалуйста, - начал было Ивлев, превозмогая стыд, - разве ваш батюшка…
- Нет, это так, - пробормотал молодой человек, мгновенно поняв его. - Они уже после ее смерти
купили эти свечи... и даже обручальное кольцо всегда носили...
Мебель в зале была топорная. Зато в простенках стояли прекрасные горки, полные чайной
посудой и узкими, высокими бокалами в золотых ободках. А пол весь был устлан сухими пчелами,
которые щелкали под ногами. Пчелами была усыпана и гостиная, совершенно пустая. Пройдя ее и
еще какую-то сумрачную комнату с лежанкой, молодой человек остановился возле низенькой
двери и вынул из кармана брюк большой ключ. С трудом повернув его в ржавой замочной
скважине, он распахнул дверь, что-то пробормотал, - и Ивлев увидел каморку в два окна; у одной
стены ее стояла железная голая койка, у другой - два книжных шкапчика из карельской березы.
- Это и есть библиотека? - спросил Ивлев, подходя к одному из них.
И молодой человек, поспешив ответить утвердительно, помог ему растворить шкапчик и жадно
стал следить за его руками.
Престранные книги составляли эту библиотеку! Раскрывал Ивлев толстые переплеты, отворачивал
шершавую серую страницу и читал: «Заклятое урочище»... «Утренняя звезда и ночные демоны»...
«Размышления о таинствах мироздания»... «Чудесное путешествие в волшебный край»...
«Новейший сонник»... А руки все-таки слегка дрожали. Так вот чем питалась та одинокая душа, что
навсегда затворилась от мира и этой каморке и еще так недавно ушла из нее... Но, может быть,
она, эта душа, и впрямь не совсем была безумна? «Есть бытие, - вспомнил Ивлев стихи
Баратынского, - есть бытие, но именем каким его назвать? Ни сон оно, ни бденье, - меж них оно, и
в человеке им с безумием граничит разуменье...» Расчистило на западе, золото глядело оттуда изза красивых лиловатых облаков и странно озаряло этот бедный приют любви, любви непонятной,
в какое-то экстатическое житие превратившей целую человеческую жизнь, которой, может,
надлежало быть самой обыденной жизнью, не случись какой-то загадочной в своем обаянии
Лушки...
Взяв из-под койки скамеечку, Ивлев сел перед шкапом и вынул папиросы, незаметно оглядывая и
запоминая комнату.
- Вы курите? - спросил он молодого человека, стоявшего над ним.
Тот опять покраснел.
- Курю, - пробормотал он и попытался улыбнуться. - То есть не то что курю, скорее балуюсь... А,
впрочем, позвольте, очень благодарен вам...
И, неловко взяв папиросу, закурил дрожащими руками, отошел к подоконнику и сел на него,
загораживая желтый свет зари.
- А это что, - спросил Ивлев, наклоняясь к средней полке, на которой лежала только одна очень
маленькая книжечка, похожая на молитвенник, и стояла шкатулка, углы которой были обделаны в
серебро, потемневшее от времени.
- Это так… В этой шкатулке ожерелье покойной матушки, - запнувшись, но стараясь говорить
небрежно, ответил молодой человек.
- Можно взглянуть?
- Пожалуйста... хотя оно ведь очень простое... вам не может быть интересно...
И, открыв шкатулку, Ивлев увидел заношенный шнурок, снизку дешевеньких голубых шариков,
похожих на каменные. И такое волнение овладело им при взгляде на эти шарики, некогда
лежавшие на шее той, которой суждено было быть столь любимой и чей смутный образ уже не
мог не быть прекрасным, что зарябило в глазах от сердцебиения. Насмотревшись, Ивлев
осторожно поставил шкатулку на место; потом взялся за книжечку. Это была крохотная, прелестно
изданная почти сто лет тому назад «Грамматика любви, или Искусство любить и быть взаимно
любимым».
- Эту книжечку я, к сожалению, не могу продать, - с трудом проговорил молодой человек. - Она
очень дорогая... они даже под подушку ее себе клали...
- Но, может быть, вы позволите хоть посмотреть ее? - сказал Ивлев.
- Пожалуйста, - прошептал молодой человек.
И, превозмогая неловкость, смутно томясь его пристальным взглядом, Ивлев стал медленно
перелистывать «Грамматику любви». Она вся делилась на маленькие главы: «О красоте, о сердце,
об уме, о знаках любовных, о нападении и защищении, о размолвке и примирении, о любви
платонической»... Каждая глава состояла из коротеньких, изящных, порою очень тонких
сентенций, и некоторые из них были деликатно отмечены пером, красными чернилами. «Любовь
не есть простая эпизода в нашей жизни, - читал Ивлев. - Разум наш противоречит сердцу и не
убеждает оного. - Женщины никогда не были так сильны, как когда они вооружаются слабостью. Женщину мы обожаем за то, что она владычествует над нашей мечтой идеальной. – Тщеславие
выбирает, истинная любовь не выбирает. - Женщина прекрасная должна занимать вторую
ступень; первая принадлежит женщине милой. Сия-то делается владычицей нашего сердца:
прежде нежели мы отдадим о ней отчет сами себе, сердце наше делается невольником любви
навеки...» Затем шло «изъяснение языка цветов», и опять кое-что было отмечено: «Дикий мак печаль. Вересклед - твоя прелесть запечатлена в моем сердце, Могильница - сладостные
воспоминания. Печальный гераний - меланхолия. Полынь - вечная горесть»... А на чистой
страничке в самом конце было мелко, бисерно написано теми же красными чернилами
четверостишие. Молодой человек вытянул шею, заглядывая в «Грамматику любви», и сказал с
деланой усмешкой:
- Это они сами сочинили...
Через полчаса Ивлев с облегчением простился с ним. Из всех книг он за дорогую цену купил
только эту книжечку. Мутно-золотая заря блекла в облаках за полями, отсвечивала в лужах, мокро
и зелено было в полях. Малый не спешил, но Ивлев не понукал его. Малый рассказывал, что та
женщина, которая давеча гнала по лопухам индюшек, - жена дьякона, что молодой Хвощинский
живет с нею. Ивлев не слушал. Он все думал о Лушке, о ее ожерелье, которое оставило в нем
чувство сложное, похожее на то, какое испытал он когда-то в одном итальянском городке при
взгляде на реликвии одной святой. «Вошла она навсегда в мою жизнь!» - подумал он. И, вынув из
кармана «Грамматику любви», медленно перечитал при свете зари стихи, написанные на ее
последней странице.
Тебе сердца любивших скажут:
«В преданьях сладостных живи!»
И внукам, правнукам покажут
Сию Грамматику Любви.
Москва. Февраль. 1915
Бунин Иван - Ида
(~22 мин., класс. рус. проза
Любви не утаишь. Однако нет правил без исключений.)
Однажды на Святках завтракали мы вчетвером, - три старых приятеля и некто Георгий Иванович, в Большом Московском.
По случаю праздника в Большом Московском было пусто и прохладно. Мы прошли старый зал,
бледно освещенный серым морозным днем, и приостановились в дверях нового, выбирая, где
поуютней сесть, оглядывая столы, только что покрытые белоснежными тугими скатертями.
Сияющий чистотой и любезностью распорядитель сделал скромный и изысканный жест в дальний
угол, к круглому столу перед полукруглым диваном. Пошли туда.
- Господа, - сказал композитор, заходя на диван и валясь на него своим коренастым туловищем, господа, я нынче почему-то угощаю и хочу пировать на славу. - Раскиньте же нам, услужающий,
самобранную скатерть как можно щедрее, - сказал он, обращая к половому свое широкое
мужицкое лицо с узкими глазками. - Вы мои королевские замашки знаете.
- Как не знать, пора наизусть выучить, - сдержанно улыбаясь и ставя перед ним пепельницу,
ответил старый умный половой с чистой серебряной бородкой. - Будьте покойны, Павел
Николаевич, постараемся...
И через минуту появились перед нами рюмки и фужеры, бутылки с разноцветными водками,
розовая семга, смугло-телесный балык, блюдо с раскрытыми на ледяных осколках раковинами,
оранжевый квадрат честера, черная блестящая глыба паюсной икры, белый и потный от холода
ушат с шампанским... Начали с перцовки. Композитор любил наливать сам. И он налил три рюмки,
потом шутливо замедлился:
- Святейший Георгий Иванович, и вам позволите?
Георгий Иванович, имевший единственное и престранное занятие, - быть другом известных
писателей, художников, артистов, - человек весьма тихий и неизменно прекрасно настроенный,
нежно покраснел, - он всегда краснел перед тем, как сказать что-нибудь, - и ответил с некоторой
бесшабашностью и развязностью:
- Даже и очень, грешнейший Павел Николаевич!
И композитор налил и ему, легонько стукнул рюмкой о наши рюмки, махнул водку в рот со
словами: «Дай боже!» - и, дуя себе в усы, принялся за закуски. Принялись и мы, и занимались
этим делом довольно долго. Потом заказали уху и закурили. В старой зале нежно и грустно
запела, укоризненно зарычала машина. И композитор, откинувшись к спинке дивана, затягиваясь
папиросой и, по своему обыкновению, набирая в свою высоко поднятую грудь воздуху, сказал:
- Дорогие друзья, мне, невзирая на радость утробы моей, нынче грустно. А грустно мне потому,
что вспомнилась мне нынче, как только я проснулся, одна небольшая история, случившаяся с
одним моим приятелем, форменным, как оказалось впоследствии, ослом, ровно три года тому
назад, на второй день Рождества...
- История небольшая, но, вне всякого сомнения, амурная, - сказал Георгий Иванович со своей
девичьей улыбкой.
Композитор покосился на него.
- Амурная? - сказал он холодно и насмешливо. - Ах, Георгий Иванович, Георгий Иванович, как вы
будете за всю вашу порочность и беспощадный ум на Страшном суде отвечать? Ну, да бог с вами.
«Je veux un tresor qui les contient tous, je veux la jeunesse!»[1] - поднимая брови, запел он под
машину, игравшую Фауста, и продолжал, обращаясь к нам:
- Друзья мои, вот эта история. В некоторое время, в некотором царстве, ходила в дом некоего
господина некоторая девица, подруга его жены по курсам, настолько незатейливая, милая, что
господин звал ее просто Идой, то есть только по имени. Ида да Ида, он даже отчества ее не знал
хорошенько. Знал только, что она из порядочной, но малосостоятельной семьи, дочь музыканта,
бывшего когда-то известным дирижером, живет при родителях, ждет, как полагается, жениха - и
больше ничего...
Как вам описать эту Иду? Расположение господин чувствовал к ней большое, но внимания,
повторяю обращал на нее, собственно говоря, ноль. Придет она - он к ней - «А-а, Ида, дорогая!
Здравствуйте, здравствуйте, душевно рад вас видеть!» А она в ответ только улыбается, прячет
носовой платочек в муфту, глядит ясно, по-девичьи (и немножко бессмысленно): «Маша дома?» «Дома, дома, милости просим...» - «Можно к ней?» - И спокойно идет через столовую к дверям
Маши: «Маша, к тебе можно?» Голос грудной, до самых жабр волнующий, а к этому голосу
прибавьте все прочее: свежесть молодости, здоровья, благоухание девушки, только что
вошедшей в комнату с мороза... затем довольно высокий рост, стройность, редкую гармоничность
и естественность движений... Было и лицо у нее редкое, - на первый взгляд как будто совсем
обыкновенное, а приглядись - залюбуешься: тон кожи ровный, теплый, - тон какого-нибудь самого
первого сорта яблока, - цвет фиалковых глаз живой, полный...
Да, приглядись - залюбуешься. А этот болван, то есть герой нашего рассказа, поглядит, придет в
телячий восторг, скажет: «Ах, Ида, Ида, цены вы себе не знаете!» - увидит ее ответную, милую, но
как будто не совсем внимательную улыбку - и уйдет к себе, в свой кабинет, и опять займется
какой- нибудь чепухой, называемой творчеством, черт бы его побрал совсем. И так вот и шло
время, и так наш господин даже никогда и не задумался об этой самой Иде мало-мальски
серьезно - и совершенно, можете себе представить, не заметил, как она, в одно прекрасное
время, исчезла куда-то. Нет и нет Иды, а он даже не догадывается у жены спросить: а куда же,
мол, наша Ида девалась? Вспомнит иной раз, почувствует, что ему чего-то недостает, вообразит
сладкую муку, с которой он мог бы обнять ее стан, мысленно увидит ее беличью муфточку, цвет ее
лица и фиалковых глаз, ее прелестную руку, ее английскую юбку, затоскует на минуту - и опять
забудет. И прошел таким образом год, прошел другой... Как вдруг понадобилось однажды ему
ехать в западный край...
Дело было на самое Рождество. Но, невзирая на то, ехать было необходимо. И вот, простясь с
рабами и домочадцами, сел наш господин на борзого коня и поехал. Едет день, едет ночь и
доезжает, наконец, до большой узловой станции, где нужно пересаживаться. Но доезжает, надо
заметить, со значительным опозданием и посему, как только стал поезд замедлять возле
платформы ход, выскакивает из вагона, хватает за шиворот первого попавшегося носильщика и
кричит: «Не ушел еще курьерский туда-то?» А носильщик вежливо усмехается и молвит: «Только
что ушел-с. Ведь вы на целых полтора часа изволили опоздать», - «Как, негодяй? Ты шутишь? Что
ж я теперь делать буду? В Сибирь тебя, на каторгу, на плаху!» - «Мой грех; мой грех, - отвечает
носильщик, - да повинную голову и меч не сечет, ваше сиятельство. Извольте подождать
пассажирского...» И поник головой и покорно побрел наш знатный путешественник на станцию...
На станции же оказалось весьма людно и приятно, уютно, тепло. Уже с неделю несло вьюгой, и на
железных дорогах все спуталось, все расписания пошли к черту, на узловых станциях было
полным-полно. То же самое было, конечно, и здесь. Везде народ и вещи, и весь день открыты
буфеты, весь день пахнет кушаньями, самоварами, что, как известно, очень неплохо в мороз и
вьюгу. А кроме того, был этот вокзал богатый, просторный, так что мгновенно почувствовал
путешественник, что не было бы большой беды просидеть в нем даже сутки. «Приведу себя в
порядок, потом изрядно закушу и выпью», - с удовольствием подумал он, входя в пассажирскую
залу, и тотчас же приступил к выполнению своего намерения. Он побрился, умылся, надел чистую
рубаху и, выйдя через четверть часа из уборной помолодевшим на двадцать лет, направился к
буфету. Там он выпил одну, затем другую, закусил сперва пирожком, потом жидовской щукой и
уже хотел было еще выпить, как вдруг услыхал за спиной своей какой-то страшно знакомый,
чудеснейший в мире женский голос. Тут он, конечно, «порывисто» обернулся - и, можете себе
представить, кого увидел перед собой? Иду!
От радости и удивления, первую секунду он даже слова не мог произнести и только, как баран на
новые ворота, смотрел на нее. А она - что значит, друзья мои, женщина! - даже бровью не
моргнула. Разумеется, и она не могла не удивиться и даже изобразила на лице некоторую
радость, но спокойствие, говорю, сохранила отменное. «Дорогой мой, - говорит, - какими
судьбами? Вот приятная встреча!» И по глазам видно, что говорит правду, но говорит уж как-то
чересчур просто и совсем, совсем не с той манерой, как говорила когда-то, главное же... чуть-чуть
насмешливо, что ли. А господин наш вполне опешил еще и оттого, что и во всем прочем
совершенно неузнаваема стала Ида: как-то удивительно расцвела вся, как расцветает какойнибудь великолепнейший цветок в чистейшей воде, в каком-нибудь этаком хрустальном бокале, а
соответственно с этим и одета: большой скромности большого кокетства и дьявольских денег
зимняя шляпка, на плечах тысячная соболья накидка... Когда господин неловко и смиренно
поцеловал ее руку в ослепительных перстнях, она слегка кивнула шляпкой назад, через плечо
небрежно сказала: «Познакомьтесь кстати с моим мужем», - и тотчас же быстро выступил из-за
нее и скромно, но молодцом, по-военному, представился студент.
- Ах, наглец! - воскликнул Георгий Иванович. - Обыкновенный студент?
- Да в том-то и дело, дорогой Георгий Иванович, что необыкновенный, - сказал композитор с
невеселой усмешкой. - Кажется, за всю жизнь не видал наш господин такого, что называется,
благородного, такого чудесного, мраморного юношеского лица. Одет щеголем: тужурка из того
самого тонкого светло-серого сукна, что носят только самые большие франты, плотно облегающая
ладный торс, панталоны со штрипками, темно-зеленая фуражка прусского образца и роскошная
николаевская шинель с бобром. А при всем том симпатичен и скромен тоже на редкость. Ида
пробормотала одну из самых знаменитых русских фамилий, а он быстро снял фуражку рукой в
белой замшевой перчатке, - в фуражке, конечно, мелькнуло красное муаровое дно, - быстро
обнажил другую руку, тонкую, бледно- лазурную и от перчатки немножко как бы в муке, щелкнул
каблуками и почтительно уронил на грудь небольшую и тщательно причесанную голову. «Вот так
штука!» - еще изумленнее подумал наш герой, еще раз тупо взглянул на Иду - и мгновенно понял
по взгляду, которым она скользнула по студенту, что, конечно, она царица, а он раб, но раб,
однако, не простой, а несущий свое рабство с величайшим удовольствием и даже гордостью.
«Очень, очень рад познакомиться! - от всей души сказал этот раб и с бодрой и приятной улыбкой
выпрямился. - И давний поклонник ваш, и много слышал о вас от Иды», - сказал он, дружелюбно
глядя, и уже хотел было пуститься в дальнейшую, приличествующую случаю беседу, как
неожиданно был перебит: «Помолчи, Петрик, не конфузь меня, - сказала Ида поспешно и
обратилась к господину: Дорогой мой, но я вас тысячу лет не видала! Хочется без конца говорить с
вами, но совсем нет охоты говорить при нем. Ему неинтересны наши воспоминания, будет только
скучно и от скуки неловко, поэтому пойдем, походим по платформе...» И, сказав так, взяла она
нашего путника под руку и повела на платформу, а по платформе ушла с ним чуть не за версту, где
снег был чуть не по колено, и - неожиданно изъяснилась там в любви к нему...
- То есть как в любви? - в один голос спросили мы.
Композитор вместо ответа опять набрал воздуху в грудь, надуваясь и поднимая плечи. Он опустил
глаза и, мешковато приподнявшись, потащил из серебряного ушата, из шуршащего льда, бутылку,
налил себе самый большой фужер. Скулы его зарделись, короткая шея покраснела. Сгорбившись,
стараясь скрыть смущение, он выпил вино до дна, затянул было под машину: «Laisse-moi, laissemoi conlempler ton visage!»[2] - но тотчас же оборвал и, решительно подняв на нас еще более
сузившиеся глаза, сказал:
- Да, то есть так в любви... И объяснение это было, к несчастью, самое настоящее, совершенно
серьезное. Глупо, дико, неожиданно, неправдоподобно? Да, разумеется, но - факт. Было именно
так, как я вам докладываю. Пошли они по платформе, и тотчас начала она быстро и с притворным
оживлением расспрашивать его о Маше, о том, как, мол, она поживает и как поживают их общие
московские знакомые, что вообще новенького в Москве и так далее, затем сообщила, что
замужем она уже второй год, что жили они с мужем это время частью в Петербурге, частью за
границей, а частью в их именье под Витебском... Господин же только поспешно шел за ней и уже
чувствовал, что дело что-то неладно, что сейчас будет что-то дурацкое, неправдоподобное, и во
все глаза смотрел на белизну снежных сугробов, в невероятном количестве заваливших все и вся
вокруг, - все эти платформы, пути, крыши построек и красных и зеленых вагонов, сбившихся на
всех путях... смотрел и с страшным замиранием сердца понимал только одно: то, что,
оказывается, он уже много лет зверски любит эту самую Иду. И вот, можете себе представить, что
произошло дальше: дальше произошло то, что на какой-то самой дальней, боковой платформе
Ида подошла к каким-то ящикам, смахнула с одного из них снег муфтой, села и, подняв на
господина свое слегка побледневшее лицо, свои фиалковые глаза, до умопомрачения
неожиданно, без передышки сказала ему: «А теперь, дорогой, ответьте мне еще на один вопрос:
знали ли вы и знаете ли вы теперь, что я любила вас целых пять лет и люблю до сих пор?»
Машина, до этой минуты рычавшая вдали неопределенно и глухо, вдруг загрохотала героически,
торжественно и грозно. Композитор смолк и поднял на нас как бы испуганные и удивленные
глаза. Потом негромко произнес:
- Да, вот что сказала она ему... А теперь позвольте спросить: как изобразить всю эту сцену
дурацкими человеческими словами? Что я могу сказать вам, кроме пошлостей, про это поднятое
лицо, освещенное бледностью того особого снега, что бывает после метелей, и про нежнейший,
неизъяснимый тон этого лица, тоже подобный этому снегу, вообще про лицо молодой,
прелестной женщины, на ходу надышавшейся снежным воздухом и вдруг признавшейся вам в
любви и ждущей от вас ответа на это признание? Что я сказал про ее глаза? Фиалковые? Не то, не
то, конечно! А полураскрытые губы? А выражение, выражение всего этого в общем, вместе, то
есть лица, глаз и губ? А длинная соболья муфта, в которую были спрятаны ее руки, а колени,
которые обрисовывались под какой-то клетчатой сине- зеленой шотландской материей? Боже
мой, да разве можно даже касаться словами всего этого! А главное, главное: что же можно было
ответить на это сногсшибательное по неожиданности, ужасу и счастью признание, на
выжидающее выражение этого доверчиво поднятого, побледневшего и исказившегося (от
смущения, от какого-то подобия улыбки) лица?
Мы молчали, тоже не зная, что сказать, что ответить на все эти вопросы, с удивлением глядя на
сверкающие глазки и красное лицо нашего приятеля. И он сам ответил себе:
- Ничего, ничего, ровно ничего! Есть мгновения, когда ни единого звука нельзя вымолвить. И, к
счастью, к великой чести нашего путешественника, он ничего и не вымолвил. И она поняла его
окаменение, она видела его лицо. Подождав некоторое время, побыв неподвижно среди того
нелепого и жуткого молчания, которое последовало после ее страшного вопроса, она поднялась
и, вынув теплую руку из теплой, душистой муфты, обняла его за шею и нежно и крепко
поцеловала одним из тех поцелуев, что помнятся потом не только до гробовой доски, но и в
могиле. Да-с, только и всего: поцеловала - и ушла. И тем вся эта история и кончилась... И вообще
довольно об этом, - вдруг резко меняя тон, сказал композитор и громко, с напускной веселостью
прибавил: - И давайте по сему случаю пить на сломную голову! Пить за всех любивших нас, за
всех, кого мы, идиоты, не оценили, с кем мы были счастливы, блаженны, а потом разошлись,
растерялись в жизни навсегда и навеки и все же навеки связаны самой страшной в мире связью! И
давайте условимся так: тому, кто в добавление ко всему вышеизложенному прибавит еще хоть
единое слово, я пущу в череп вот этой самой шампанской бутылкой. - Услужающий! - закричал он
на всю залу. - Несите уху! И хересу, хересу, бочку хересу, чтобы я мог окунуть в него морду прямо с
рогами!
Завтракали мы в этот день до одиннадцати часов вечера. А после поехали к Яру, а от Яра - в
Стрельну, где перед рассветом ели блины, потребовали водки самой простой, с красной головкой,
и вели себя в общем возмутительно: пели, орали и даже плясали казачка. Композитор плясал
молча, свирепо и восторженно, с легкостью необыкновенной для его фигуры. А неслись мы на
тройке домой уже совсем утром, страшно морозным и розовым. И когда неслись мимо Страстного
монастыря, показалось из-за крыш ледяное красное солнце и с колокольни сорвался первый,
самый как будто тяжкий и великолепный удар, потрясший всю морозную Москву, и композитор
вдруг сорвал с себя шапку и что есть силы, со слезами закричал на всю площадь:
- Солнце мое! Возлюбленная моя! Ура-а!
Приморские Альпы. 1925
-----------Примечание:
[1] «Я хочу обладать сокровищем, которое вмещает в себе все, я хочу молодости!» (франц.)
[2] «Дай мне, дай мне наглядеться на твое лицо!» (франц.)
Буццати Дино - Одинокий зов
(~9 мин., соврем. проза
Она очень далеко от него, она исчезла из его мира. Но он не перестаёт думать, мечтать,
звать и разговаривать с ней…)
Перевод. М. Аннинская, 2010
Я бы хотел, чтобы ты пришла ко мне зимним вечером и, тесно прижавшись друг к другу, мы бы
смотрели сквозь морозное стекло на безлюдные, темные улицы. Мы вспоминали бы старые
зимние сказки, где были вдвоем, сами того не ведая: робко ступали по глухим, заколдованным
тропинкам, пробирались сквозь дремучий лес, содрогаясь от волчьего воя, и с замшелых башен
старого замка, над которым кружит воронье, на нас недобро взирали страшные духи. Мы слепо
смотрели из этих сказок в будущее, ожидая чего-то загадочного и волшебного. И тогда в нас
просыпались томительные, безумные желания… «Ты помнишь?» — спросим мы, крепче
прижавшись друг к другу. В комнате будет тепло и уютно, ты будешь доверчиво улыбаться, а в
ночи будет завывать ветер и гулко хлопать железо на крышах…
Но потом я вспоминаю, что ты не знаешь старинных сказок про безымянного короля, про
людоеда, про заколдованный сад. Ты никогда не бродила, зачарованная, под волшебными
деревьями, и они не говорили с тобой человеческими голосами. Темной ночью ты никогда не
спешила на мерцающий вдалеке огонек и ни разу не постучалась в ворота заброшенного замка.
Не засыпала ты под яркими звездами восточного неба, и не баюкала тебя, покачиваясь,
священная пирога… Укрывшись от зимнего вечера за толстыми оконными стеклами, мы наверняка
будем молчать. Я буду плутать один по забытым сказкам, а ты — думать о чем-то своем. Я спрошу
тебя: «А помнишь?..» Но окажется, что ты ничего не помнишь.
Я хотел бы гулять с тобой весенним днем где-нибудь на окраине города, чтобы небо было серым
и ветер гонял по мостовой прошлогодние скрюченные листья. И чтобы было воскресенье. Во
время таких прогулок в голову приходят мудрые и печальные мысли, и поэзия бродит где-то
рядом, соединяя любящие сердца. От распахнувшегося за домами горизонта, от убегающих вдаль
поездов и плывущих с севера туч в душе рождается смутная надежда, которую и словами-то не
выразить. Мы будем держаться за руки, легко шагать рядом и говорить друг другу милый вздор. А
потом зажгутся фонари, и мрачные дома-муравейники поведают нам свои зловещие истории,
лихие приключения и душераздирающие драмы. Тогда мы, по-прежнему держась за руки, будем
молчать, и, чтобы понять друг друга, нам не нужны будут слова…
Но от тебя, помнится, я никогда не слышал милого вздора, и ты, конечно же, не любишь такие
воскресенья, и не сумеет твоя душа без слов говорить с моею. Не властна над тобой сказка
вечернего города, и не трогает тебя смутная надежда, которую приносит северный ветер. Ты
любишь огни, толпу, глазеющих на тебя мужчин, ты любишь быть там, где караулит тебя успех. Ты
совсем на меня не похожа, и если бы пошла со мной на прогулку, то все время бы жаловалась на
усталость. А больше ничего бы и не было.
Еще летним днем я хотел бы оказаться с тобой в тихой долине. Хохоча по любому поводу, мы бы
обследовали рощи, ослепительно белые дорожки, тихие одинокие домики. Стоя на деревянном
мосту, мы смотрели бы на бурлящую под нами речку и, прижавшись ухом к телеграфному столбу,
слушали историю без начала и конца, что прилетела с другого края земли и улетит бог весть куда.
А потом бы нарвали полевых цветов и упали в траву, и в пронизанной солнцем тишине смотрели
бы в бездонное небо с проплывающими по нему белыми барашками. И на горные вершины. Ты
бы сказала: «Какая красота!» — и больше ничего, потому что мы были бы счастливы. Наши тела
сбросили бы тяжесть прожитых лет, а души бы наполнились такой свежестью, будто только что
родились.
Впрочем, я понимаю, что на самом деле все будет совсем иначе — ты в недоумении будешь
оглядываться по сторонам, а если и остановишься, то для того, чтобы поправить чулок или
попросить у меня очередную сигарету; и с нетерпением будешь ждать возвращения. Ты не
воскликнешь: «Какая красота!» — а скажешь что-нибудь скучное и совсем для меня не важное.
Что поделаешь, просто ты так устроена. И мы ни на секунду не почувствуем себя счастливыми.
И все же — позволь мне сказать — я хотел бы пройти с тобой под руку по улицам шумного города,
где-нибудь в ноябре, на закате, когда небо такое ясное и прозрачное. В этот час над куполами
проносятся видения, задевая крыльями черных людишек, что суетятся в провалах сумеречных
улиц. Воспоминания о счастливых временах и неясные предчувствия проплывают над городом,
оставляя позади себя звенящее эхо. С детски наивной гордостью мы будем смотреть в лицо
прохожим, пробиваясь сквозь людской поток, стремящийся нам навстречу. Мы будем светиться
радостью, но не узнаем об этом, а люди на улицах будут глядеть на нас не злобно и не завистливо,
а с доброй улыбкой, потому что этот вечер особенный, он излечивает все слабости человеческие.
Но ты — я ведь прекрасно это понимаю, — ты не станешь смотреть в ясное небо и не увидишь
призрачную колоннаду, выросшую на краешке заходящего солнца. Ты остановишься поглазеть на
витрины, на тряпки и украшения, в общем, на всякую чепуху. Ты так и не узнаешь о том, что над
нами пролетели видения, промчались над головой предчувствия, и, как я, не догадаешься о своем
высоком предназначении. Ты не услышишь звенящего эха и не поймешь, почему люди смотрят на
нас добрыми глазами. Ты будешь думать о мелочах завтрашнего дня и не заметишь золотые
статуи на шпилях, что возденут свои шпаги к небу, приветствуя последние лучи заходящего
солнца. Я буду одинок.
Все бессмысленно. Возможно, это глупости и ты мудрее меня, раз не требуешь многого от жизни.
Может быть, ты права и не стоит зря травить душу. Но только я все равно хочу тебя видеть.
Оставайся такой, какая ты есть, мы найдем способ быть вместе, и счастье все же улыбнется нам.
Не важно, будет ли это день или ночь, лето или осень, пусть даже чужая страна, жалкая лачуга или
заплеванная гостиница, — главное, чтобы ты была рядом. Я обещаю, что не стану прислушиваться
к скрипу крыши, ни разу не взгляну, как плывут облака, и постараюсь не слышать музыку звуков и
ветра. Я забуду об этих глупостях, которые так люблю. Я буду терпелив, когда мои слова
покажутся тебе непонятными, и когда ты захочешь рассказать о том, что мне чуждо, и даже когда
будешь ворчать, что у нас мало денег и наряды твои вышли из моды. Нас не коснется так
называемая поэзия, в нас не зародятся одни и те же мечты, и грусть, подруга любви, не посетит
нас. Но ты будешь со мной. И поверь, мы сумеем быть вполне счастливыми без всяких затей, как
счастливы вместе просто мужчина и просто женщина. И как это обычно бывает на свете.
Но я тут же вспоминаю, что ты от меня далеко, за сотни километров — даже трудно себе
представить, как это много. Я не знаю, как ты живешь и что за мужчины тебя окружают; ты,
наверное, улыбаешься им, как когда-то улыбалась мне. Прошло немного времени, и ты меня
забыла. Даже имени, пожалуй, не вспомнишь. Я исчез из твоего мира, смешался с тысячью
безликих теней. И все же я ни о ком, кроме тебя, не могу думать и утешаю себя тем, что
разговариваю с тобой.
Буццати Дино - Против любви
(~5 мин., соврем. проза
Какие ни продумывай меры предосторожности, что не предпринимай, против любви всё
бессильно. Она напомнит о себе)
(из рассказа "Тщетные меры предосторожности")
Теперь, когда он уехал и больше уже не вернется, когда он исчез, вычеркнут из жизни и словно бы
умер, ей, Ирэне, остается призвать на помощь все мужество, какое только можно просить у Бога, и
вырвать эту несчастную любовь из своего сердца с корнем. Ирэна всегда была сильной девушкой,
сильной будет она и теперь.
Ну вот и все. Это было не так страшно, как казалось, и длилось не так уж долго. Не прошло и
четырех месяцев, а она уже совершенно свободна. Чуть похудела, чуть побледнела, кожа ее стала
как будто прозрачнее, зато ей стало легче, и во взгляде у нее появилась этакая томность – как у
человека, перенесшего тяжелую болезнь; томность, за которой уже угадываются новые, смутные
надежды. О, она держалась молодцом, просто героически, она сумела взять себя в руки, яростно
отринув всякие иллюзии, всякие милые сердцу воспоминания, хотя, несмотря ни на что, им так
отрадно предаваться. Уничтожить все, что у нее осталось в память о нем, пусть это всего лишь
какая-то булавка; сжечь его письма и фотографии, выбросить платья, которые она надевала при
нем, на которых, возможно, оставили свой невидимый след его взгляды; избавиться от книг,
прочитанных им, – ведь одно то, что они оба их читали, было похоже на некое тайное
сообщничество; продать собаку, которая уже привыкла к нему и бежала встречать его к калитке
сада; порвать с общими друзьями; даже в доме все изменить, потому что на этот вот выступ
камина он оперся однажды локтем, потому что вот эта дверь как-то утром открылась и за ней был
он; потому что звонок у двери продолжал звенеть так же, как звенел, когда приходил он; и в
каждой комнате ей мерещился какой-нибудь таинственный след, отпечаток, оставленный им. И
еще: надо приучить себя думать о чем-то другом, окунуться с головой в изнурительную работу,
чтобы по вечерам, когда воспоминания особенно мучительны, на нее камнем наваливался
беспробудный сон; познакомиться с новыми людьми, бывать в новых местах, изменить даже цвет
волос.
И всего этого она добилась – ценой отчаянных усилий, не оставив ни лазейки, ни щелки, через
которые к ней могли бы пробиться воспоминания. Она сделала все. И исцелилась. Сейчас утро, и
Ирэна в красивом, только что взятом от портнихи голубом платье выходит из дому. На улице
светит солнце, она чувствует себя здоровой, молодой, духовно чистой и свежей, как в
шестнадцать лет. Может, даже счастливой? Почти.
Но вот из какого-то соседнего дома до нее долетает коротенькая музыкальная фраза. Кто-то
включил приемник или поставил пластинку и отворил окно. Отворил и тут же захлопнул.
Этого было достаточно. Шесть-семь нот, не больше, – мотив одной старой песни. Его песни. Ну же,
отважная Ирэна, не отчаивайся из-за такой мелочи, беги скорей на работу, не останавливайся,
смейся! Но страшная пустота уже образовалась у нее в груди, боль вырыла там глубокую яму.
Долгие месяцы любовь, эта непонятная мука, к которой она приговорена, притворялась спящей,
пыталась ее обмануть. И вот такого пустяка достаточно, чтобы она проснулась, сорвалась с цепи.
За стенами дома проносятся машины, люди живут своей жизнью, и никто не знает о женщине,
которая, опустившись на пол у самой двери и смяв свое новое платье, плачет навзрыд, словно
маленькая девочка. Он далеко и никогда больше не вернется. Все было напрасно.
Василькова Ирина - Бедная Лиза
(~13 мин., соврем. женская проза
Учительская пара. Она - старой закалки, Он помоложе, из первых её учеников. А также
сексуально подкованные ученицы с откровенно-раскованными манерами и одеждами,
создающие напряжённость в семейных отношениях)
Денис Иванович надломленным шагом входит в учительскую и падает в кресло, томно прикрыв
глаза рукой. Потом встает и, заливая кипятком пакетик с чаем, восклицает:
- Я мужчина, или кто? Да я же урок не могу вести! У них не только спины голые, но и то, что
пониже спины!
Ха, будто впервые… Коллеги толерантно молчат. Копят ресурс для следующего захода в клетку,
дрессировщики. Денис разочарован – рассчитывал на бурную дискуссию с пессимистическим
исходом… Рыжеватые волосы, собранные в хвост, подрагивают, жидкая бородка обиженно
топорщится. Он прихлебывает безвкусный “Липтон” и шарит по столу в поисках завалявшихся
сушек. Найдя сушку, с пафосом продолжает :
- А парни, дуболомы эти? Одиннадцатый класс синус от косинуса не отличит!
Да где им отличать – только на голые задницы и косятся!
- Вы слишком кровожадны… - кокетливая историчка Люсенька льет на него примирительный елей,
одергивая короткий топ, - что делать, если мода такая….
- Драть! по заднице! – чеканит Денис и плотоядно хрустит сушкой.
Завуч Елизавета Львовна сохраняет невозмутимый вид. Ей трудно сдержаться и не выпустить пар съехидничать, как неэстетичны дебелые школьницы с нависаюшими над спущенными ремнями
“жопьми ушками”. Но хочешь вписаться в современный контекст – вырабатывай толерантность,
она и помалкивает.
Звонок прерывает мизансцену, коллеги выдвигаются на боевые позиции с классными кондуитами
под мышкой.
“Гринев и Швабрин” - выводит Елизавета Львовна на доске тему урока.
Как же она ненавидит ощущение мела, въевшегося в пальцы!
Ей кажется, только одно ее и держит – долг сеять разумное, доброе, вечное. У каждого человека
есть иллюзорная опора – чем эта хуже других?
Балбесы раскрывают учебники, шелест страниц сливается с писком смс-ок. “Мобильники на стол!”
- сердится она, три штуки ложатся с нею рядом, остальные ныряют в карманы.
Алена Папсуева, отроковица с крашенным в зелень ежиком, вдумчиво изучает глянцевый журнал.
Лиза видела – такие бесплатно совали детям в руки у выхода из метро. Конфискованный
журнальчик кладет на стол, диктуя классу вопросы.
Недоросли тоскуют над ответами, обреченно грызя ручки и подглядывая к соседям. Лиза
пробегает глянец по диагонали – “Можно ли заниматься сексом, прыгая с парашютом”, “Петтинг
для восьмиклассников”, “Как правильно обмануть родителей”, напряженно морщит лоб и
разглядывает собственные манжеты. Подруга недавно тоже сдала педагогические позиции и ушла
в бесстыжий журнальчик – у нее своя иллюзорная опора, там платят прилично.
Мобильник у Папсуевой в кармане начинает орать все громче и громче, не поддаваясь
отключению.
- Чо ты с ним сделал, придурок? – визжит она на толстого белобрысого Ваню в бандане с
черепами, накидывая на его шею конец длиннющего шарфа и пытаясь придушить. Тот хрюкает от
смеха, вовлекая в веселье и остальных.
Наконец листочки сданы.
- Елизавета Львовна? – иезуитски спрашивает Вадик. – А зачем Гринев поперся в эту самую
Белгородскую крепость Машу выручать? Ну, переспала бы со Швабриным, тоже мне проблема…
- Белогорскую, - автоматически поправляетЛиза .
У него в ухе три шипа и еще неприятная дыра под названием “туннель”
Зеленоволосая Алена, прямо улетая от его остроумия, хлопает в ладоши. Стул трясется под
половозрелой барышней, вибрация передается по половице, и Лизе кажется, что ее стул качается
тоже.
Звонок избавляет от необходимости отвечать, да ответа никто и не ждет – все вскакивают и рвутся
на перемену. В дверях живая шевелящаяся пробка мальчишек. Папсуева разгоняется, как слон, и
выталкивает пробку в коридор.
- Ну, вы, уроды! – кричит она. – Дорогу мне, дорогу!
Лиза ждет сзади, стараясь не признаться себе, как раздражают ее зеленые леггинсы на уже
вполне взрослых ляжках и кожаная мини-юбка с блестками на попе. Алена кажется ей большой
рыхлой лягушкой.
“Господи, - думает она со стыдом, - нельзя же так не любить детей!”
Иногда ей нравится, что у нее нет своих.
Никуда не надо торопиться. В учительской мирно урчит пустой холодильник. Коллеги ушли, за
окнами темнеет. А Люсечка забыла пудру, бедная. Конфискованный у пятачков водяной пистолет
скучает на столе Дениса. Лиза отодвигает проверенную стопку тетрадей, запивая педагогические
огорчения холодным чаем. Извлекая из ящика последнюю припрятанную сигарету, она
раздумывает, чем бы еще себя порадовать.
- Здрассте! – просовывается в дверь голова мальчика Федора. – Я тут мимо пробегал, увидел, что
свет, ну и зашел… Мне, Лизавета Львовна, такая классная мысль пришла, когда я Достоевского
читал! “Бога нет – значит, все позволено” - это все равно как в “От двух до пяти” - “Бабушка, ты
умрешь, а я буду твою швейную машинку вертеть”. Правда, конгруэнтно?
- Вполне… - соглашается она без энтузиазма.
Румяный Федор, разглядывая ее во все семь диоптрий, с надеждой замечает:
- Вы бы в моем ЖЖ посмотрели, там вокруг этого целая дискуссия!
Вот те раз! Лиза, к своему стыду, первый раз слышит про ЖЖ. Нет, она не то, чтобы отсталая – но в
Интернете читает только сайт “В помощь учителю литературы”. Ну, разве еще “Школьный
психолог”.
Федор полон педагогического энтузиазма – включает компьютер:
- Один вводный урок – и вы догоните. Щаз научу! Развлекуха – не пожалеете.
За полчаса рысканья по блогам она узнает, что в головах у подростков клубится информационное
поле, абсолютно не схожее с ее представлениями о нежном возрасте. Федор церемонно
раскланивается и удаляется, ощутив сладость перемены ролей. Пора собираться домой. Лиза
вздыхает и натягивает сапоги. Интересно, где Денис?
Падает медленный снег. Дышится легко и вкусно. Лиза делает крюк, чтобы пересечь сквер и
порадоваться почти японским сугробам на дорожках и кустах. Ох, как некстати! Одну из скамеек
облепила стайка барышень. На спинке скамейки, возвышаясь как гуру, сидит Денис. С хвоста снята
резинка, волосы рассыпались по плечам. Барышни пьют пиво, Денис ест мороженое, молочная
капля висит на бороде. Румяная девичья щека прижимается к его коленке. Лиза замечает, что
Папсуева на лицо вполне хорошенькая, с косметикой только перебор.
Она хочет отступить незаметно, но Денис уже засек ее и раздраженно фыркает:
- Скоро освобожусь, у нас тут важный воспитательный момент.
Барышни сдавленно хихикают.
Папсуева театральным шепотом бросает ей в спину:
- Фак!
Загребая сапогами снежный пух, Лиза медленно перемещается в сумеречном пространстве и
думает о психологической негибкости. Понятно, что времена изменились, но ей почему-то
некомфортно идти в ногу со временем. В шестом классе сегодня играли в рифмы, она попросила
кудрявую Юлю найти рифму к слову “нет”.
- Минет! –пискнула Юля мгновенно.
Класс грохнул.
Рифму к “да” зардевшаяся Лиза и спрашивать не стала. Понятно, сама на конфуз нарвалась, но как
догадаешься, что у них сейчас на уме.
Снег сырой, сапоги промокли. Лиза стаскивает их и, не найдя своих тапочек, влезает в Денисовы.
Греет ужин, но дело ограничивается очередным чаем. Готовиться к завтрашнему уроку почему-то
не хочется. Утюг, что ли, включить – целая гора Денисовых футболок.
Потом вспоминает про новую игрушку и садится к компьютеру. Через френдов Федора выходит на
знакомых учителей и старшеклассников. Господи, какая здесь бурная жизнь! Биомасса!
Некоторые предъявляют настоящие фотографии, кто-то прячется за прикольными псевдонимами.
И Денис тут же, здесь он называется Демон, а картинка у него – из какого-то средневекового
бестиария, что-то с перепончатыми крыльями. Его френдлента похожа на ярмарку невест –
“kotenochek”, “mur-mur”, “pink rabbit”, “malen’kaya feya”, “irishka”, “pusi-musi”, “chokoladka”.
Сладкий девичий мир. Денис здесь свой в доску. Кстати, вот и Папсуева - “extrim_amore”, с
юзерпика подмигивает инфернальная брюнетка в черной коже. Ага, они с Денисом вчера в
комментах обсуждали, где сексуальней татуировка – на лодыжке или пониже талии. Лягушка
зеленая! Лизе почему-то больше всего обидно, что Папсуева с ним на “ты”.
Звонок в дверь отрывает ее от вынужденного мазохизма. Денис отряхивает бородку от снега и
смотрит с неодобрением.
- Что, опять выслеживала? Какая же ты занудная! – шипит он, уминая третью котлету, и уходит
отдыхать на диван. В его руке верещит мобильник, Лизе даже кажется, что она слышит голос
половозрелой Папсуевой, но ей становится стыдно за дурацкие подозрения. Муж долго воркует в
трубку нежным голосом и вскоре засыпает.
Когда-то она была молоденькой классручкой долговязого одиннадцатиклассника, они однажды
даже упоенно целовались в кустах в походе. Лет двадцать ухнуло в никуда, но вдруг бывший
ученик неожиданно нарисовался перед ней все в той же учительской. Она сидела напротив него и
слушала повесть о неудавшейся жизни. Нет, теперь он должен, просто обязан все начать сначала!
Ей показалось, что именно она, сильная, вдохнет в него разумное, доброе, вечное.
Бедный!
Бедная!
Елизавета Львовна перебирает в памяти подходящие цитаты из учебника психологии, нежно
смотрит на спящего Дениса Ивановича, целует в почти еще незаметную лысину и утешает себя:
- Ничего, обычный кризис среднего возраста. И вообще – понимание и милосердие – женские
качества. Я женщина или кто?
На кухне темно, снова перегорела лампочка, только забытый утюг таращится красным глазом.
- Я женщина, или кто? – повторяет она и, вздыхая, лезет на табуретку, чтобы заменить лампочку.
Вересаев Викентий - Голубая комната
(~9 мин., рус. класс. проза)
Родители его были очень богаты, отец -- банкир. Звали его Мстислав. Студент. Красавец с
задумчивыми глазами, поэтическая натура, знал наизусть Тютчева и Блока. Экстатически упивался
природой. Был способен часами слушать, как журчит в лесу ручеек, и ловить в этом журчании
чудеснейшую музыку; или глядя на облака, наблюдать в них прихотливую игру изумительно
оригинальных лиц, фигур и пейзажей; физического труда не любил, но на даче охотно пилил со
сторожем дрова для кухни: пила, вгрызаясь в дерево, выговаривала самые неожиданные и
странные слова. В комнате его стоял рояль, и Мстислав целыми вечерами импровизировал на
нем.
Нужно было ему позвонить по телефону товарищу. (У него в комнате был собственный телефон.)
Отозвалась телефонистка, назвала свой номер: сорок два. Мстислав замер с трубкою перед ухом.
Голос был совершенно небывалой красоты.
-- Сорок два! -- нетерпеливо повторил голос. Мстислав назвал нужный телефон.
-- Готово! -- ответил голос и исчез. Мстислав положил трубку обратно и, стиснув голову,
облокотился о стол.
-- Дурак!
Несколько дней он почти не выходил из комнаты и звонил в телефон. Но отзывались все другие
номера. Особенно надоедливо -- одиннадцатый и тридцать третий. Но вот наконец Мстислав
услышал желанный голос:
-- Сорок два!
Он прерывающимся голосом заговорил:
-- Пожалуйста, подождите!.. Я знаю, у вас строго, разговаривать с абонентами не разрешается...
Но у вас голос такой изумительной красоты... Умоляю вас, позвоните мне после работы по номеру
пять, пятнадцать, двенадцать. Меня зовут Мстислав... Страшно нужно!..
Голос бесстрастно ответил:
-- Хорошо. И исчез.
Весь вечер Мстислав просидел у себя в комнате, даже чай и ужин велел подать себе туда.
Телефон молчал.
Только на следующий вечер раздался телефонный звонок, и желанный голос холодно произнес:
-- Можно позвать к телефону Мстислава?
-- Это я... Это я... Послушайте, что я вам скажу... Ваш голос потряс меня своею красотою. Никогда
ничего подобного я не слыхал. В первый раз я услышал вас четыре дня назад и потом все время
ловил ваш номер, чтоб с вами поговорить.
Раздался легкий смех, и голос медленно сказал:
-- Ваш голос мне тоже нравится.
-- Да?! Что вы говорите?.. Тогда -- будем знакомы! Я себе не представляю, как вдруг будет, если я
не буду иметь возможности слышать вас.
Завязалось знакомство. В ее свободные от службы часы они разговаривали, забывая все на свете.
Звали ее Зоя. Прелестный ее голос журчал, как лесной ручеек; как неожиданным всплеском,
журчание прерывалось мелодическим смехом. Он ее так и называл "Ручеек".
Зародилась любовь. Прошло три месяца. Со страхом и смущением они сказали друг другу:
-- Давайте встретимся!
И оба испугались: вдруг -- разочарование!
Встретились в Петровском парке. И -- ни один не разочаровался. Она была красавица -- светлая
блондинка с ярко-синими глазами и темными бровями. Сразу заговорили друг с другом легко и
просто.
Стали встречаться.
Любовь крепла. Он говорил ей о красоте мира и об еще большей красоте того, символом чего
служат явления этого мира. Она журчащим, как ручеек, голосом рассказывала о своих нехитрых
радостях и горестях. Он умиленно слушал и любовался ее красотою гетевской Гретхен.
Весною Мстислав сдавал выпускные экзамены. Однажды, в том же Петровском парке, когда на
зеленоватом западе блестел золотой серп месяца и пахло кругом сиренью, он вдруг предложил
ей быть его женою.
Она растерялась и молчала. Потом сказала:
-- А как же ваши родители?
-- Я вас познакомлю. Они меня любят без ума и ни в чем перечить не будут.
Мстислав сообщил родителям. Зоя пришла. Она понравилась своею воспитанностью и хорошими
манерами. Умерший отец ее был разорившийся помещик, гвардейский полковник в отставке.
Мать Мстислава пригласила Зою провести лето у них на даче и на прощание горячо расцеловала.
Когда Зоя ушла, отец поморщился и сказал жене:
-- С его состоянием он мог бы рассчитывать на невесту побогаче.
Мать махнула рукою.
-- А, господи! Мало ему будет нашего состояния! Сердце материнское говорит мне, что эта
девушка будет ему подходящею женою. Пора ему жениться. А то я, право, боюсь, что стихи начнет
писать.
Отец вздохнул.
-- Наверное, давно уже пишет!
У них была богатая собственная дача верстах в сорока от Москвы, к Звенигороду. Мстислав сдал
экзамены. Уехали на дачу. Приехала Зоя. Мстислав и она были неразлучны, вместе ходили гулять,
вместе наслаждались природой. Он читал ей много стихов, говорил о символизме, о Метерлинке
и Оскаре Уайльде. Она молчала и очень внимательно слушала.
У матери с Зоей возникла большая дружба. Она была очень довольна будущею женою
Мстислава. Иногда обе они таинственно уезжали в Москву даже дня на два, на три, возвращались
оживленные и довольные.
Свадьба была назначена в конце августа.
В начале августа мать повезла Мстислава в Москву. У них был в Леонтьевском переулке
собственный особняк. Повела его через гостиную к комнате Мстислава и внезапно распахнула
дверь.
Большая комната была отделана совершенно заново. Получилось очаровательное, уютное
гнездышко для будущей молодой парочки. Зоя была блондинка, поэтому вся комната была
голубая. Дорогие голубые обои, голубой фонарь под потолком, голубая обивка мебели, голубой
ковер на всю комнату. Огромная двуспальная кровать была покрыта атласным одеялом цвета
августовского неба. Письменный стол Мстислава пришлось задвинуть в угол. Мать, довольная
зрелищем, говорила:
-- А рояль, голубчик, я велела выкатить в гостиную. Ведь она почти всегда у нас пустая, ты
можешь играть и там.
Мстислав широко открытыми глазами оглядывал комнату. И опять и опять останавливался
взглядом на пышной двуспальной кровати, возвышавшейся, как торжественный жертвенник.
Он спросил:
-- Зоя это видела?
-- Ну конечно. Мы вместе с нею все это и устраивали.
Мстислав потемнел.
-- Я никогда не буду жить в этой комнате.
Повернулся и ушел.
После возвращения на дачу он странно изменил свое поведение. Зоя часто ловила на себе его
пристальный, испытующий взгляд, чего раньше никогда не бывало. Вставал он теперь с зарей,
уходил с ружьем, будто на охоту, и возвращался вечером... Зоя все дни была одна и плакала.
Через две недели она, по настоянию матери Мстислава, объяснилась с ним. Мстислав с
страдающим лицом, глядя в сторону, сказал, что он ее не любит.
И они расстались.
Вересаев Викентий - Ошибка
(~8 мин., рус. класс. проза
Она совершила ошибку, но повлияет ли это на отношения с любимым?)
Мы с ним уж два года были до этого знакомы, и все ничего.
А этот вечер вдруг стал совсем необычным. Случилось это в августе, были яблоки, были ночи с
туманами. Он смотрел мне в глаза, и я вдруг почувствовала, что он восхищается мною, и я не
могла не быть от этого доброй и прекрасной. Восхищение действует на меня, как масло на
скрипучую дверь. Мы говорили глазами и улыбками так хорошо, как люди не говорят словами.
Ночь была совсем особенная. Месяц, блестящие от росы крыши и заборы, тяжелые черные тени
на дорожках. Я чувствовала, как у меня блестят глаза.
Мы бродили под яблонями, довольно близко друг от друга. Иногда на землю тяжело шлепалось
яблоко. У меня ноги были совсем мокрые от росы, я видела, что он тоже промок, но что это
ничего, потому что ему хорошо со мною. Он гладил мои руки. Это было так просто и понятно в ту
ночь!.. Казалось, в ней все друг друга любят, и ничего не было удивительного или нехорошего в
его ласке. И не удивительно было, когда он поцеловал меня нежно, нежно... И я отвечала ему, и
это было так и нужно тогда, чтобы после нам не было жалко и стыдно. Да, и стыдно! Потому что
стыдно должно было бы быть обоим, если бы мы эту ночь проморгали.
А потом мы продолжали встречаться. И месяц такой же был, и росы, и яблоки падали. А уж этого
не повторилось. Почему? Я не понимала. Плакала по ночам. И мне ясно стало, что чувство,
которое меня к нему влечет,- не любовь. Я боялась обмануться и обмануть его. Старалась
заминать возникавшие между нами разговоры на эту тему.
Мы расстались. Он уехал на службу в Донецкий край. Он - горный инженер, только что кончил
курс. И как только он уехал, я поняла, что люблю его. Хотя нет, вовсе не так. Не сразу было. Я
тосковала, но говорила себе, что это пустяки, пройдет. Мы переписывались года два. И вот тогда я
поняла окончательно, что люблю его. А он вдруг прекратил переписку. Стороной я узнала, что он
женился. Подействовала разлука, отвык от меня и женился. И осталась я одна на свете. Овладела
черная меланхолия, мне казалось, что я никому не нужна. Потом выправилась, опять появилась
жажда жить.
Осенью девятьсот пятого года я познакомилась с одним человеком. Он был старше меня на
одиннадцать лет. Сначала я чувствовала себя с ним очень хорошо и легко. К тому же он был
окружен ореолом героя,- только что вышел из тюрьмы, где просидел два года. Но очень скоро я
стала замечать, что он относится ко мне исключительно как к женщине. Это меня обижало,
сердило, я решила объясниться с ним. Но он так повернул дело, что я невольно стала думать:
отчего меня так волнует его отношение? Да, меня тянуло к нему. Он меня уверял, что мы любим
друг друга, что, хотя я отрицаю, я люблю его. Я думала, что у нас установится прочная
привязанность и мы станем друг для друга мужем и женой. Но он совсем не желал этого. Он
говорил:
-- Я хочу, чтоб наша встреча пронеслась сверкающим метеором по серенькому небу
обывательщины.
Я не любила его, но не могла уйти. Так ему и говорила, что не люблю, хотя и тянет к нему. А он
становился настойчив до дерзости. Скажи мне в это время тот, первый, хоть слово, напиши самое
обыкновенное письмо (он был очень чистый и серьезный человек),-- ничего бы не было... И я
отдалась нелюбимому,-- отчасти по разбуженному им чувственному влечению, отчасти из
желания все это узнать, но главное: я решила, что не умею любить и никогда никого не полюблю
по-настоящему. А тогда не все ли равно? Притом он обещал, что последствий не будет. И, правда,
не было.
Радости во всем этом было очень мало. Тяжело было и как-то гадостно. Утром я давала себе
слово разорвать с ним, но наступал вечер, приходил он, ласковый и веселый, и с первым
поцелуем я теряла силу. Наконец разлад во мне стал сильнее чувственного влечения, и мы
расстались.
То, первое, чувство заглохло пока, но я чувствовала: все хорошее, цельное, чистое, что есть во
мне, связано с тем, первым. Не смейтесь, если кто случайно прочтет эти строки; я действительно
не считала, что я нравственно стала хуже, чем была прежде. Я никого не обманула. Этот, второй,
знал, что я его не люблю.
Через год осенью я получила письмо от первого, любимого, на адрес Женского медицинского
института (я тогда кончала в нем курс). У меня потемнело в глазах, когда я узнала его руку. Письмо
было отчаянное. Жизнь исковеркана. Он спрашивал, хочу ли я выслушать исповедь своего
бывшего друга. Что я пережила после этого письма! До других мне было все равно, но его суд (о
той истории) мог бы меня окончательно срезать. А скрывать я ничего не хотела. Я ответила на
письмо, не говоря пока ничего. Ответа не было. Прошел еще год. Однажды в театре мне так
вспомнилось старое, так всколыхнулось, что отогнать я уж не могла. Я написала ему простое,
дружеское письмо. Он моментально ответил и на Рождество приехал повидаться. Оказалось,
тогда с него взяла слово жена не отвечать мне, так как мое письмо попало ей в руки. Теперь он
мой. Жена, еще до моего последнего письма, ушла от него... с гусарским офицером! Как в
пошлейших романах сотню лет назад: "На тебя, подбоченясь красиво, загляделся проезжий
корнет"...
Мне хочется все это рассказать самой себе вот почему. Я отдалась другому без любви, это была,
конечно, ошибка, и была грязь. И вот, несмотря на это, я сохранила в глубине души всю чистоту и
поэзию чувства. Да, именно поэзию, так как после той современной истории, "санинской", я
особенно сильно почувствовала поэзию и силу настоящей любви. Конечно, я рассказала ему про
ту историю. Он все понял. Я теперь могу любить только его. И то, что я отдалась без любви,
сделало меня только чище и целомудреннее, и никогда ничего такого не сможет повториться со
мною.
Вересаев Викентий - Писатель
(~5 мин., рус. класс. проза
На что не пойдешь, чтобы стать настоящим писателем...)
Вся редакция журнала любовно носилась с ним. Он напечатал уже три рассказа в журнале, и
один был лучше другого. Даже у секретарши Анны Михайловны, суровой женщины, недавно
воротившейся из ссылки, глаза становились теплее и мягче, когда она разговаривала с ним.
А сам он все не верил своему счастью и жадно ловил всякий одобрительный отзыв. Особенно он
дорожил почему-то мнением Анны Михайловны и все спрашивал ее:
-- Ну как вы думаете, выйдет из меня настоящий писатель?
Был он красивый парень, с мужественным голосом, а в глазах и в интонациях то и дело
прорывалось что-то совсем детское и ужасно милое.
Однажды, когда Анна Михайловна была одна, он, краснея и смущаясь, обратился к ней с очень
странной просьбой: дать ему на одни сутки полный комплект женской одежды до самых
интимных ее частей.
-- Надевать никто не будет, даю честное слово. Это нужно только для бутафории.
-- Что вы собираетесь делать?
Он лукаво поглядел и ответил:
-- Секрет. Только очень нужно. Для рассказа.
Анна Михайловна рассмеялась и обещала. На следующий день принесла чемоданчик с
просимыми вещами. Он ушел очень довольный и обещал завтра же возвратить.
Пришел он не завтра, а послезавтра. Лицо смотрело неподвижно, и в глазах было
недоумевающе-смущенное выражение ребенка, которого высекли,-- он не знает за что, но, повидимому, за дело.
-- Вот чемоданчик, возвращаю. Спасибо.
Сел. Дрожащими руками закурил папиросу.
-- Я к вам, Анна Михайловна, с просьбой. Такая штука получилась,-- без вашей помощи не
расхлебаю.
-- Что случилось?
-- Видите ли... Я уж вам все откровенно... Для нового моего рассказа нужна мне сцена ревности
женщины. А я никогда в натуре не видал, как в таких случаях проявляется женщина. Вот я и
надумал... Любит меня одна девушка. Ну и я, конечно, ее люблю. Обычно приходит она ко мне по
утрам, два раза в неделю. Я и решил понаблюдать, как она ревнует. Третьего дня вечером
соответственно убрал свою комнату: на столе как будто остатки ужина -- тарелки с закуской,
бутылки, стаканчики наполовину с вином. По креслам раскидал то, что вы мне дали, на самых
видных местах -- рубашку, чулки и тому подобное. А утром, к ее приходу, сделал на кровати из
своей шубы как будто человеческую фигуру, закутал в одеяло,-- очень хорошо вышло, лежит как
живая. Собрался сам одеваться, вдруг -- стук в дверь, и она вошла. Минут на десять почему-то
раньше, чем обычно. В удивлении остановилась на пороге. Я, чтоб не расхохотаться, подошел к
окну и смотрю наружу, кусаю губы. Сзади молчание, я оглянулся. Она вдруг охнула, пошатнулась и
выбежала вон. А я в одном нижнем белье!.. Оделся, побежал следом... Нет ее. К ней,-- нет дома.
Вечером только застал. Рассказал все, как было. Она слушает и молчит. Он почесал за ухом.
-- Хоть бы ругала, хоть бы плакала! Сидит и молчит, и глаза сухие, только очень большие. Видно,
не верит... Я вот вас и хочу просить, Анна Михайловна. Пойдемте к ней вместе, расскажите, что это
вы мне дали одежду.
Анна Михайловна брезгливо ответила:
-- Нет уж, избавьте, пожалуйста! Очень жалею, что вы не сочли нужным предупредить, на что вам
это было нужно. Бедная девочка,-- с кем связалась!.. А вас могу поздравить: рано это немножко,
но стали вы -- самым, самым "настоящим" писателем!
Войнович - Чонкин 3. Премещенное лицо (отрывок)
(~13 мин., соврем. проза, сатира
Немного об очень непростой любви…)
Но каково же было мое удивление… Между прочим, очень не люблю, может быть, даже
ненавижу этот заезженный-перезаезженный оборот «каково же было мое удивление», но мое
удивление было действительно таково, что показалось мне безразмерным. Оно постигло меня в
архиве Гуверовского института, где, напоминаю, я набрел на пачку писем неизвестно кого
неизвестно кому. Это были растрепанные и желтые листки с поврежденными краями,
соединенные ржавой канцелярской скрепкой, с каким-то странным текстом, написанным дурным
почерком и химическим карандашом, то есть пишущим инструментом, о существовании которого
теперь помнят только такие старые люди, как я. Буквы, изначально фиолетовые, за время
существования рукописи сильно выгорели и выцвели. Кому адресовались эти письма, я так и не
выяснил, и относительно автора уверенности нет. Могу предполагать, что это был как раз великий
наш ученый Гром-Гримэйло. Но не удивлюсь, если серьезные ученые, употребив новейшие
способы исследования, графологию, спектральный анализ и прочие приемчики, доступные
современной науке, выяснят, что эта рукопись всего-навсего умелая подделка.
У нас, слава богу, такими подделками никого не удивишь. Вспомним «Слово о полку Игореве»,
«Моление Даниила Заточника», «Сказание о граде Китеже». Если уж эти вещи, как утверждают
некоторые ученые, кто-то подделал, то почему бы не подделать записки Грома-Гримэйло? Тем
более что повод для подделки у того, кто мог этим заняться, был, предположительно, более
серьезным, чем у поддельщиков древних рукописей. Ненависть к тирану могла толкнуть
неизвестного сочинителя на несусветные выдумки.
Но если это так, то надо признать, что сочинитель обладал очень незаурядной фантазией и
талантом. Рассказ его насыщен такими подробностями, какие, мне кажется, просто выдумать
невозможно. Если все-таки поверить автору и предположить, что это был именно Гром-Гримэйло,
то следует вспомнить, что он был младшим современником, последователем и биографом
Николая Михайловича Пржевальского. Он бывал в тех же местах, где Пржевальский, что и
описано в упомянутых письмах. Письма содержали (что говорит в пользу их подлинности) много
личных научных наблюдений автора, которые я просто опущу, а передам только то, что меня
удивило.
Описывая путешествие Пржевальского по Монголии и Северо-Западному Китаю, автор делает
несколько метких замечаний касательно личности знаменитого путешественника. Пржевальский,
пишет он, несмотря на свое дворянское происхождение и соответствующее воспитание, был
человеком прямолинейным, иногда даже грубым и деспотичным. В человеческом обществе
чувствовал себя неуютно. Людей своего круга не любил, потому что они все, как он утверждал,
погрязли в разврате. Крестьян, в отличие от большинства своих современников, начитавшихся
стихов Николая Некрасова, тоже не жаловал, считая, что все они пьяницы и лентяи. Образован он
был односторонне. Увлекался естественными науками и историей. К музыке, живописи и театру
был равнодушен, рассказов, повестей и романов, а тем более стихов, не читал, женщин
решительно ненавидел. Животных любил, но только диких. Домашних, услужающих человеку,
питающихся из его рук и покорно подставляющих шею под нож, презирал. Диких же зверей
уважал за их вольный и независимый нрав, за то, что сами себе добывают пищу и не меняют свою
свободу на объедки с человеческого стола. При этом смолоду отличался склонностью к
романтическому восприятию действительности. В детстве зачитывался древнегреческими
мифами.
Особенно его поразил миф о существовании полулюдей-полулошадей, то есть кентавров. Его
детские рисунки посвящены именно этим порождениям фантазии древних греков. Будучи уже
знаменитым путешественником, географом, зоологом, энтомологом и черт знает кем еще, он
неизменно интересовался проблемами гибридизации живых организмов, прежде всего,
созданием гибрида человека и кого-нибудь из высших млекопитающих, чему он и посвятил
многие опыты.
У нас в свое время много и с перебором твердили о приоритете отечественной науки, о том, что
русские изобрели все раньше других. Эти утверждения были так навязчивы, что породили много
насмешек и поговорку: «Россия – родина слонов». Доходило до смешного: якобы рентген изобрел
русский мужик, который в четырнадцатом веке сказал своей жене: «Я тебя, суку, насквозь вижу!»
Но в том, что в деле гибридизации именно Николай Пржевальский далеко обошел своих
западных современников, у меня, пишет автор, нет ни малейшего сомнения.
В то время австрийский монах Мендель еще только проводил первые робкие опыты по
скрещиванию двух видов гороха, но не пошел дальше скрещивания чечевицы с фасолью. Слов
«генетика» или «хромосома» не было еще в научном обиходе, а наш великий ученый взялся
проводить эксперименты по созданию гибрида человека с высшими млекопитающими. Наука
пребывала в неразвитом состоянии, и даже искусственное осеменение казалось делом будущего.
Эксперименты приходилось производить самым натуральным образом, который читатель может
сам себе представить. Сначала генерал хотел приспособить к этому делу своего денщика
Ферапонта, но тот оказался слишком верующим, нервным и консервативным. Когда услышал
предложение, устроил истерику, замахал руками:
– Свят! Свят! Свят! Нет, ваше превосходительство, что хотите делайте, хоть секите, хоть
расстреляйте, а на такой грех я не пойду.
Пришлось генералу самому взяться за дело. Причем в глубокой тайне, потому что боялся огласки.
(Заметим в скобках, что в тогдашнем обществе еще господствовали отсталые взгляды на половой
вопрос и несовершенное уголовное законодательство. Это сейчас люди нашего времени широко
смотрят на вещи. В наиболее передовых странах уже разрешены однополые браки, а в скором
времени, я уверен, будут узаконены и уравнены в правах смешанные семьи человека с
животными. Для начала с самыми высшими, а потом и с остальными, включая рыб, рептилий и
насекомых. Но тогда, когда жил Пржевальский, так называемое скотоложство всем казалось
ужасным грехом, преступлением и строго наказывалось. Так что, проводя свои эксперименты,
Николай Михайлович рисковал не только личной репутацией в обществе, но и свободой.) Однако
для него наука была превыше всего, и он, имея в виду исключительно научные цели, шел на риск
и самоотверженно совокуплялся со всеми открытыми им видами диких животных. С самкой
медведя-пищухоеда, с дикой ослицей, дикой верблюдицей, но, помня о кентаврах, больше всего
внимания уделил открытой им дикой лошади, которой не зря дал свое имя.
Лошадь Пржевальского генерал обнаружил в степи, в районе китайско-монгольской границы. Это
был небольшой табун диких и агрессивных, не подпускавших к себе никого животных. Одну
кобылицу, особо понравившуюся Николаю Михайловичу, с трудом удалось отбить от табуна и
отловить. Пржевальский назвал ее, глазастую и стремительную, летящую по степи, словно на
крыльях, Орлицей. Это было очень красивое, свободолюбивое, дикое и норовистое существо.
Генерал поначалу ей, видимо, не приглянулся. Загнанная в специальный станок, она вырывалась,
брыкалась, кусалась, рвала постромки. Николай Михайлович самок человеческого рода (хоть и
пользовался у них большим успехом) не уважал. Но очень галантно ухаживал за Орлицей, кормил
ее отборным овсом, угощал швейцарским шоколадом, купал, расчесывал гриву и украшал ее
полевыми цветами. Он говорил ей ласковые слова, показывая тем самым, что вовсе не считает ее
существом ниже себя, и в конце концов растопил сердце гордого животного. И сам вполне
растопился.
В своем интимном дневнике он признавался, что его научные эксперименты доставляют ему все
больше и больше удовольствия. И Орлица привязалась к генералу. Встречая его, она радостно
ржала, очевидно, предвкушая скорое удовольствие, и уже не рвалась из загона, где ее держали,
чтобы ею случайно не овладел какой-нибудь жеребец и не нарушил чистоту эксперимента. В
записях есть указание на то, что табунный жеребец Маврикий ревновал Орлицу, все время
крутился вокруг загона и однажды на рассвете даже сбил жерди забора, но вовремя был отогнан
конюхом Миронычем. Впрочем, до поры было неизвестно, вовремя или не вовремя. Может быть,
пока конюх спал (в чем он потом не признавался), Маврикий успел нарушить эксперимент.
Жеребец, впрочем, вскоре погиб. Безумствуя от ревности, он напал однажды на Пржевальского и
в порядке самообороны (а может быть, тоже из ревности) был генералом пристрелен.
Прошло какое-то время, и Орлица забеременела. Это сильно взволновало экспериментатора.
Неужели случилось то, о чем он так страстно мечтал, и она действительно понесла от него? Но
было еще подозрение, что от Маврикия, во время своего одноразового бегства. Надо помнить,
что беременность или жеребость кобыл продолжается обычно около года. Тогда еще ни о каком
ультразвуке люди не имели понятия, проверить, что там зреет в кобыльей утробе, заранее было
нельзя. Можно только представить себе, в каких волнениях провел этот год генерал. И наконец…
это случилось ночью. Генерала разбудил Ферапонт криком:
– Ваше превосходительство, оне рожают!
– Кто они? – спросил генерал спросонья.
– Оне, ваша кобылья жёнка, ваше превосходительство.
Генерал кинулся на конюшню, даже забыв нацепить шпагу. Прибежал как раз вовремя и успел
принять роды. Новорожденный упал ему прямо в руки. Генерал стал торопливо и пытливо его
разглядывать. Нет, это был точно не жеребенок. И даже не кентавр. Это было обыкновенное
человеческое дитя мужского пола, но необычайно густо заросшее шерстью… Еще одна
особенность отличала ребенка: пальцы ног у него были сросшимися между собой, а пятки ног –
твердыми, ороговевшими.
Громыко Ольга - Любовный треугольник
(~6 мин., юморист. рассказ
Провокационный, но вполне невинный рассказ о любовном треугольнике)
каждый человек воспринимает окружающий мир
в меру своей испорченности…
Я вернулась с работы раньше обычного, что для замужней женщины вообще-то нетипично и даже
неприлично. И, естественно, еще из прихожей услышала печально знакомую возню. Бросив сумку,
я коршуном метнулась в комнату – и застала полуголого мужа, предающегося любимому занятию
на краешке кровати. Его партнершей на сей раз оказалась длинноволосая блондинка, худощавая и
большегрудая, с томными глазами ночной птицы и хриплым голосом привокзальной потаскушки.
Мой приход остался практически незамеченным.
-Муж! – Грозно вопросила я. – Как это понимать?! Шесть часов, а ты уже дома, причем посуда не
помыта, пол не подметен, а эта стерва издает такие жуткие звуки, что они слышны со второго
этажа! Смотри, как бы соседи не вызвали милицию!
Муж промычал что-то нечленораздельное, воспринимая меня как некий побочный эффект
выпитого пива. На полу стояли две бутылки из-под «Балтики-9». Пришлось что есть силы пихнуть
супруга в спину.
-Как тебе не стыдно! Жена вернулась с работы, усталая, с тяжелыми сумками… в конце концов,
мне тоже хочется позабавиться… а ну марш с дивана!
-Ты вчера весь вечер одна дома сидела, - отмахнулся муж, - только не ври, что перед
телевизором!
-Вот еще, что я – полная идиотка, в ящик с картинками пялиться?
-Ну так иди лесом, супружница, дай мужу расслабиться!
-Тут не расслабляться надо, - ядовито заметила я и понесла сумку на кухню. Увы, мыть посуду под
вопли и стоны, доносившиеся из соседней комнаты, было весьма затруднительно. После третьей
чашки и четвертой вилки желание взбурлило во мне Ниагарским водопадом. Я выключила воду и
вернулась в комнату. Жалкое зрелище, надо признать.
-Вставай! Вставай немедленно! - Шипел муж, лихорадочно двигая правой рукой. Увы, мой муж
отнюдь не являлся профессионалом в сей пикантной области, у меня и то лучше получалось.
-Н-да? – Скептически отзывалась партнерша, полностью разделяя мое мнение.
-Муж! Твое время истекло! – Провозгласила я, нарушая взаимное сосредоточение, - Немедленно
пусти жену побаловаться!
Командный тон не произвел на мужа никакого впечатления. Его согнутая спина ритмично
двигалась взад-вперед, из груди вырывалось звериное рычание вперемешку со всхлипами и
душераздирающими стонами:
-Давай, давай! Ну что же ты? Устала? Никаких передышек, на это у нас нет времени!
-Это ты устал! – Я звучно шлепнула мужа пониже спины. – Пошел вон с кровати!
-Изыди! – Взвыл тот, потерпев очередную неудачу, - я тебе пятнадцать тысяч заплатил, и это все,
на что ты способна, глупая девка?!
Тихий женский стон отозвался во мне сладким свербежом ниже пояса.
-Муж, ты снова оплошал – ну так пусти жену и посмотри, как это делает опытная женщина!
-Нет, я еще раз попробую… - Пыхтел муж, интенсивно перебирая пальцами. - Иди лучше поесть
приготовь. Я скоро очень голодный буду.
-А пока будешь кушать, меня пустишь?
Муж нетерпеливо отмахнулся. Я перебежала на левую сторону, где занятая рука не грозила мне
затрещиной.
-Муж, неужели ты меня совсем не любишь?
-Люблю, - возразил муж, честно пытаясь разделить внимание между мной и ней.
-Докажи!
Муж попытался меня поцеловать, но я требовала иных доказательств. На мое счастье, ему снова
не повезло, он вздохнул и позорно капитулировал, оставив мне нагретую постель и мертвую девку
в луже крови.
-Пошла вон! – Велела я девке и та, обиженно моргнув, исчезла. Томительная пауза, и ее место
занял OH – мужчина лет сорока, худощавый, подтянутый, прямо-таки излучающий спокойную
уверенность в своих силах.
-Ложись! – Сладострастно велела я. – И вперед!!!
-Ого, время прогуляться по долине смерти! – Жизнерадостно заметил мой избранник.
-Да!!! – Хищно отозвалась я, нажимая Page Down. Наемник оперативно присел, лег и, энергично
извиваясь, пополз между деревьями к ничего не подозревающему противнику, замеченному в
прибор ночного видения.
-Ты хоть на стул пересядь, я кровать уберу, - уныло вздохнул муж, снимая наконец рабочие брюки
и переодеваясь в домашний спортивный пиджак. – У тебя же зрение плохое, с кровати в очках
играть приходится, а компьютер и сам по себе глаза садит!
Я только отмахнулась левой рукой, не выпуская из правой потную мышку.
Нескончаемые бои в Арулько вот-вот должны были увенчаться победой. Мужу до оной оставалось
не меньше двадцати игровых квадратов…
Данилов Сергей - Валериановый человечек
(~45 мин.
Не раз уже герою оставалось всего полшага до простого человеческого счастья... если бы не кошки.)
Немигающие, огромные, жёлто-зелёные глаза прямо перед лицом, от них некуда деться.
Такой сон в детстве снился не раз и не два.
Родители легко объяснили причину: оказалось, когда был Тёма ещё совсем маленьким,
повадилась кошка Мурка в детской кроватке отдыхать, на груди спящего младенца: её уберут, она
обратно запрыгнет — натурально с ума свихнулась. Устроится на спящем, лапки под себя
подожмёт, и сидит, в лицо смотрит, не шелохнётся.
— Это она за дыханием следила, принимая нос за мышиные норки, мышку караулила, —
высказывала предположение мама, желающая всё всегда объяснить до конца.
— Не знаю, что думала своей кошачьей головой, а делать ей в детской кроватке нечего, —
довольно хмуро комментировал отец.
Мать рассказала и про то, как однажды в раннее воскресное утро отец взял да отвёз не
поддававшуюся никаким увещеваниям Мурку на трамвае до конечной остановки, выпустил гулять
в пригородной лесопарковой зоне, а сам вернулся обратно на том же трамвае.
Мурки не было два дня, на третий объявилась — нашла кошачьим чутьём дорогу и прямым ходом
— в артёмкину кроватку.
Тут за дело пришлось взяться ей самой. Усадила любимицу в корзину и отвезла на автобусе в
деревню, где отдала кому-то делом заниматься — мышей ловить. Из деревни Мурка не
вернулась: слишком далеко, а скорее всего, понравилось ей жить на новом месте.
Кошку Мурку Артём со временем забыл совершенно, только близкие жёлто-зелёные глаза,
выпуклые, словно бы стеклянные в своей глубокой прозрачности, врезались в память отдельно,
сами по себе, знаком непонятной угрозы.
Висели, к примеру, в доме над столом часы-ходики с небольшим маятником, гирьками,
нарисованной на циферблате кошачьей мордочкой, вполне симпатичной, и вырезанными на
месте глаз отверстиями. Когда маятник качался туда-сюда, с такой же скоростью глаза мелькали в
этих отверстиях туда-сюда, туда-сюда.
Загляделся на часы четырёхлетний Артём, долго — долго смотрел да вдруг как заревёт! Пришлось
родителям убрать и ходики с мордочкой. Данный факт собственной биографии зафиксирован уже
без подсказок старших, вызывая лёгкое подобие стыда: как-никак мужчина, реветь которому в
любом возрасте не полагается.
Других проблем до школы не возникало. Просто не держали дома ни кошек, ни собак.
Позднее, когда появились школьные друзья, выяснился неожиданный феномен: стоило ему
прийти в гости к однокласснику, в квартире которого имелась кошка, та немедленно, прямо с
порога начинала ластиться к Артёму, тереться спиной, впрыгивать на колени, в глаза заглядывать,
мурлыкая и, сколько ни отпинывай исподтишка, ни отталкивай, ни давай щелчков по носу, ничего
не помогает: лезет и лезет, будто валерьянки обнюхалась, или от него запах валериановый чует и
потому явно не в своей тарелке.
Если к знакомым или родне на праздник всем семейством идут, та же история: мигом дуреет кот и
давай о его праздничные брюки со стрелками бока чесать, шерсть линючую обтирать. Хоть не
ходи в кошачьи дома, весь с головы до пят будешь в шерсти да волосах.
Люди, чьи домашние питомцы выказывали Артёму искреннее расположение, видя такое дело, с
радостной улыбкой торопились сообщить, что их кошка всегда узнаёт хорошего человека, к
плохому ни за что не идёт, мол, кошка такая у них мудрая.
Встречались иногда на жизненном пути Артёма Евгеньевича граждане, к которым тоже коты лезли
напролом, как к нему, но те — ничего, даже откровенно радовались этому обстоятельству, играли
с ними, оказывали встречную любовь, ничуть не тяготясь привязанностью постороннего
домашнего животного. А у Евгеньевича с детства в мозговых извилинах застряли неподвижные
глаза Мурки, потом вовсе аллергия разыгралась. Задыхается от одного запаха. Нет, не любит
Артём в кошачьем обществе находиться. Дурно ему: в носу чешется, горло першит, будто красного
перца подсыпали, глаза слезятся, чихать начинает. Никакие лекарства не помогают.
Жениться со своей кошачьей аллергией Артём Евгеньевич долго не мог.
Впрочем, начало было, как всегда, чудесным. Встречались они с Любашей почти ежедневно
недель семь, не меньше. Очень девушка Артёму нравилась. Каждый вечер то в кино идут, то в
театр, а потом её домой провожает пешком, разговаривая обо всём на свете, и таким сладким
был поцелуй при расставании, что голова кружилась оставшуюся часть ночи, медленно и плавно.
Очень-очень приятно. Утром встанет, а пол, ровно палуба в кругосветке, так и плывёт под ногами
от непрекращающегося радостного кружения.
И вот пригласила Любаша молодого человека к себе домой, как полагается, с родителями
знакомиться. А он про себя решил сразу прийти с цветами, дорогими подарками для всех членов
семейства — просить руки и сердца. Пора жениться, чувствует, что пора. «Сделаю предложение»,
— решил серьёзно.
Донельзя счастливый, наглаженный, надушенный, с новым платочком в кармане нового костюма,
направился в гости к любимой девушке, как самый настоящий жених. Нравится ему Любаша
настолько сильно, что невозможным казалось более выдержать отдельное существование,
смерти подобно самой страшной любое промедление в этом вопросе, словно сжигание на
медленном огне заживо.
Летит в гости Артём, себя не помня от радости, от восхищения, от предчувствия невиданного в
мире счастья быть вместе всегда.
А там ждут его давно, двери раньше звонка распахнулись, вот и маменька будущая приглашает
заходить, чувствовать себя, как дома, потому что «у нас все свои сегодня» (имеется в виду, что и
он тоже свой, самый свой среди своих). Папенька в необъятных брюках на широких подтяжках,
праздничной белой рубахе расплылся в улыбке, того и гляди нижняя половина головы отвалится,
младший братец, конечно, выдал:
«Тили-тили-тесто, жених и невеста!», — явно в кармане кнопки прячет, двоечник, на стул жениху
подкладывать собрался, да это всё ерунда, сами с усами, знаем ваши фокусы. Хлоп его по
карману, ась? Колюче, брат? Ничего, до свадьбы заживёт!
Началась самая настоящая общесемейная радость: от одного только вида дорогого гостя у
присутствующих на лицах проступило горячее воодушевление, наперебой торопятся выказать ему
расположение. Даже уколотый собственными кнопками братец Любаши, и тот тащит альбом
показывать, какой замечательный фрегат он нарисовал:
«Хотите, подарю?». Дедушка рассказывает смешную историю про чай во фронтовом блиндаже из
трофейного самовара с немецким эрзац-мёдом вприкуску, из-за которого здорово угорели:
комбат скончался на месте, их откачали. «Эй, раз праздник сегодня у нас большой, тащите
трофейный самовар на стол, я его мигом раскочегарю, мёд подавайте тоже! Не бойся, молодой
человек, а Артём. не бойся, Артёмка, мёд свой, натуральный, развёл пасеку на пять ульев. Свой
медок, немного, а есть, главное — настоящий. Настоящего много не бывает, это у них много
эрзацев всяких навыдумывали, а у нас своё — натуральное».
Папахен свойски хлопнул по плечу: «Люблю интеллигентных людей, какой вуз окончили?»
А меж ног честной компании волчком крутится кот белой масти, шустро обо всех трётся, аж искры
летят, электризует, стало быть, семейство дополнительной энергией, заражает флюидами
кошачьими, отчего семейство прямо кругами вокруг Евгеньевича ходит, то направо, то налево,
хором что-то рассказывают, гладят, обнимают, берегут.
Понял Артём: кот их завёл на радость особенную, он организатор и вдохновитель честной
компании, вроде и повадки у членов благородного семейства сделались кошачьими, взгляды
вмиг пожелтели, зрачки поперёк, у мальчика с альбомом и кнопками особенно. У дедушки, у
мамы-папы и даже Любаши — одна история.
Тошно сделалось Артёму, оборвалось внутри счастье, рухнуло в тартарары: сухо запершило горло,
в носу зачесалось, засвербило, чихнул раз — другой, ну, всё, сейчас расчихается, потом глотка
распухнет, как бывало не раз и не два, тело обездвижится, и сможет он только лежать тихо-тихо, а
больше ничего. Лежать, не шевелясь, пластом, глядеть в потолок, а воздух через малюсенькую
дырочку в распухшем горле будет поступать слабой струйкой, еле-еле поддерживая жизнь.
Чёртовы кошары! Бежать надо. Драпать, пока не поздно!
— Посмотрите, как Василий гостю-то рад, — воскликнула мамахен, — он только к хорошим людям
так ластится, ой, смотрите, даже на руки просится. Вы не стесняйтесь, берите, мы ему в ванной
лапки с мылом моем после каждой прогулки.
С каменным выражением Артём взял кота на руки, погладил, кот захрипел от счастья. Будущая
родня хором завопила, полезла гладить розовый живот руководителя торжества, раскинувшегося
на руках Артёма.
— Фон-барон пятнадцатый! — воскликнул папахен, — посмотрите, какая роскошная шуба, мы его
на выставку носили, честное слово!
Меж тем всё окружающее, включая Любашу, сделалось Артёму не в радость, будто не свадьбу он
затевает, а скандальный развод через суд с делёжкой пяти стульев, шифоньера, дивана и двоих
разнополых детей. Улыбка приобрела характер явной фальшивки, с такими улыбочками
провинциалы столичных невест на абордаж берут, разительно изменился молодой человек —
родители даже переглянулись между собой, подумали: что-то здесь не чисто.
Прошёл в комнату, куда приглашали наперебой, только зачем? Ни к чему уже всё, ни к чему.
Встал, будто кол проглотил, и морщится-то, и принюхивается, и мнётся, кота-старейшину
погладить по-настоящему, с любовью да воодушевлением не подумал даже, с рук опустил, точно
сбросил, по брюкам колотит изо всех сил, совершенно невпопад на расспросы отвечает, так что
Любаше даже неловко сделалось перед родителями. В конце концов, уселся-таки на кнопку
младшего братца-двоечника, после чего уже определённо три литра кислоты на физиономию
вылилось.
И всё брючки свои отряхивает от воображаемых шерстинок. Ну, фрукт попался! Где Любаша
откопала такую картофелину?
— Да вы не беспокойтесь, — хмыкнула мамахен, — у нас блох нет.
— М-да? — сквозь зубы процедил женишок, окончательно отворотив физиономию от невесты и
благожелательно настроенного кота (последнего из семьи, несмотря ни на что хранящего к нему
самое любовное расположение).
Запрыгнул Василий на колени, хвост задрал прямо в нос Артёма Евгеньевича да принялся от
наслаждения лапками перебирать, коготки выпуская, громко-громко мурлыкать.
Гость мигом скинул его небрежно тыльной стороной ладони, будто не заметив, после чего
вспомнил, что ему надо срочно куда-то спешить по делам, встал и отправился в прихожую, не
отведав чудесного обеда, над которым Любаша с маменькой трудились со вчерашнего вечера,
чего только не испекли, не потушили и не нажарили! Впрочем, никто странного ухажёра
удерживать даже не думал. Как говорится: была бы честь предложена. Не состоявшаяся невеста
проводить не удосужилась: что-то сильно не в порядке оказалось с приглянувшимся, было,
человеком. Ну его, пусть бежит, куда хочет по своим срочным делам. Обойдёмся.
«Больше сюда ни ногой!» — думал Артём, закрыв дверь, отрезая от себя крепко настоянный
кошачий запах, спасаясь от близкого приступа. И точно, ни ногой. Так вот отношения с Любашей и
окончились ничем к всеобщему разочарованию: даже на улице перестали встречаться и
совместные походы во все места культурного досуга сами собой прекратились.
И надо сказать, в последующем не раз и не два подобная закавыка случалась, разумеется, с
небольшими вариациями, он даже призадумываться начал: что за напасть?
Действительно, годы-то идут. Ну ладно, кошки к нему с детства льнут, это можно, наверное, даже
с научной точки зрения как-нибудь объяснить, пахнет, к примеру, от него чем-то сродни
валерьянке. Человеку не слышно, а чуткие кошки реагируют и сходят с ума от любви. Бог с ними.
Понятно так же почему ему кошки неприятны — напугала в раннем детстве Мурка, чуть не
приспала, зараза, младенца.
Но почему, скажите на милость, при всём при том, ему всякий раз нравятся девушки —
любительницы кошек? Совершенно поразительный феномен. Хоть бы раз на собачницу запал!
Или просто без животных чтобы девушка жила дома — вот бы здорово! Не случилось таковых в
истории его жизни. Не попадались. Не влюблялся. Себя ведь тоже не заставишь. Втюрится в
очередную кошатницу, потом начинаются разборки, а за любимую кошку девушка кавалеру глаза
в два счёта выцарапает.
Неужели кошары ухитряются настраивать своих домашних девушек влюбить в себя валерианового
человечка, привести, заполучить для кошачьего счастья? Неужели кошки правят их человеческой
жизнью? Нет, лучше холостым остаться, нежели угодить в кошачью семейку.
С подобными размышлениями и аллергией, действительно, приходилось жить ему безотрадно
холостякуя, хотя по природе был Артём человеком общительным и даже влюбчивым, то есть к
девушкам весьма предрасположен, чего никоим образом от них не скрывал.
И вот лет этак в тридцать с гаком влюбился настолько умопомрачительно, что презрел наличие у
дамы сердца кошки (куда без них, сволочей?) да не одной, а сразу двух сиамских котов, по всем
нынешним канонам моды кастрированных во младенчестве.
Представляете силу зрелого чувства? Любимой женщине, ради которой Евгеньевич смог
пересилить болезнь и отринуть глупые подозрения о всемирном кошачьем заговоре, было тоже
слегка за тридцать, замуж сходила и ребёнок есть, потому, как ни уговаривал к нему переехать, ни
в какую не согласилась, дескать, с ребёнком неудобно приличной женщине к мужчине жить идти,
что люди скажут? Пусть лучше мужчина к ним в семью вольётся, ему терять всё равно уже нечего.
Пришлось Артёму Евгеньевичу пойти к сиамским котам примаком. Охота пуще неволи.
Возлюбленная уговорила на сей шаг: «Сиамцы — они же короткошёрстные, практически не
линяют», — и так загипнотизировала красотой, что точно, находясь у неё в гостях ни разу не
испытал приступа, да и коты к нему особенно не лезли, дама их выдрессировала на манер
собачек знать своё место.
В один прекрасный день, то была пятница, он запомнил навсегда, после трудового дня
перебрался Артём Евгеньевич с вещичками на новое место жительства. Впереди маяком светили
два счастливейших в жизни дня. Регистрироваться пока не стали. Рассудили по-взрослому:
попробуем жить вместе — получится, тогда видно будет. Даже знакомым ничего не сказали,
никакого свадебного мероприятия не организовали, то есть действовали очень осторожно и он, и
она: как бы не сглазить.
Близости меж ними до той поры не было. И вот настала первая совместная ночь.
Надо сказать, в знакомстве они состояли достаточно продолжительное время, месяца четыре:
танцевали в ресторане несколько раз и просто обнимались во время прогулок страстно, то есть
давно и сильно желали один другого. Неприлично? Свела, свела с ума женщина холостого
мужчину, какие могут быть приличия? Не до приличий, собственно, одни неприличия в голове и
остались, а больше ничего — шаром покати.
Потому оставшись вечером наедине в комнате, когда ребёнок в другой абсолютно точно уснул,
набросились друг на друга со вполне зрелым и выстраданным желанием.
Благо все условия для пиршества плоти были приготовлены заботливой женской рукой: кровать
двуспальная огромная застелена чистейшим красивым бельём, распахнута и приглашала: сомни
меня! К удовольствиям так же призывала интимная полутьма с ночником, на столике пара
бокалов с вином, в которых таились огоньки — отсветы того же ночника. Не притронувшись к
вину, молча, но чуть не вопя от восхищения, Артём разоблачил подругу, отнёс в постель, как
пушинку, не чувствуя веса, и настала-таки пора бурной страсти, не сдерживаемая более никакими
внешними препонами да условностями.
Которая, однако, продолжалась весьма недолго. Случилось тут нечто, от чего Артём Евгеньевич
сбежал от подзаконной невесты, френд-вумен, по-нашему, не дотянув до рассвета. Практически в
начале ночи. Как ни упрашивала любимая женщина подождать хоть чуть-чуть, побыть с ней, ну,
полежать просто так, обнявшись, или пойти на кухню, посидеть, попить вина, да хоть кофе с
тортом. Нет, драпанул, согласно печальному правилу своему, и отсюда: не до жиру, быть бы живу.
Произошло неописуемое никакими школьными учебниками зоологии событие, потому оказались
они к нему не готовыми. Во время человеческого любовного экстаза пришли сиамские котыкастраты в жуткое волнение, забыли курс хозяйской дрессировки, ворвались откуда-то в спальню
да принялись носиться друг за другом по всевозможным траекториям, включая потолочные,
прыгать на кровать к молодожёнам, осатанело разрывая когтями чистейшее, приятно пахнущее
бельё, кидаться на стены, полосуя обои на ленты, биться о мебель ракетами, опрокидывать
цветочные горшки, словно мстя за отнятую у них навсегда возможность любить и быть
любимыми, что возложена на кошачью братию природой даже в большей степени, чем на
человеческую.
Сделалась комната ареной сражения одичавших, буйно-помешанных животных.
Женщина не обращала внимания на их происки, ей было не до того.
Новоявленный полумуж-полулюбовник ощутил вперёд злую тоску — предвестницу приступа,
задышал тяжело, хрипло, с посвистом, чувствуя как сужается глотка, быстренько собрался и утёк к
себе домой по добру по здорову, как ни взывала к нему, вытирая слёзы, несчастная женщина
остаться, не уходить, не оставлять её одну в трагический момент.
Драпанул самым подлым образом. Невозможно стать брачным человеком при подобном
жизненном раскладе, не-воз-мож-но.
Подруга звонила и приходила к нему ещё пару раз, уговаривала вернуться, предлагала запирать
котов на ночь на кухне (а чай где пить?) тогда в ванной, но и ванная местами нужна бывает по
ночам, ладно-ладно, тогда вызовет мастера и тот поставит в дверь спальни замок.
Артём Евгеньевич прекрасно понимал, что из этого ровным счётом ничего не выйдет, обязательно
кошачья война ночная случится снова: ворвутся сиамцы, устроят погром, где им
заблагорассудится, и обязательно погибнут в огне этой войны и ванная, и кухня, и комната
ребёнка, как погибла прошлый раз спальня. Перейти жить к нему без котов она не могла — это
ясно было по лицу, в связи с чем не стал даже предлагать нарушить жизненную аксиому. В свою
очередь бессмысленно рассказывать свою историю, объяснять, что не случайно коты взбесились
при его появлении на её ложе, в виду полной бесперспективности дальнейшей совместной жизни.
Если разбирать семейную ситуацию по аналогии с шахматной, то согласно силе фигур, женщине
её кошка дороже половинки мужчины, а две кошки значат более, чем муж. Отсюда следует:
просить выкинуть котов бесполезно. Ради ребёнка ещё может пойти на преступление, для мужа
— нет. Но и муж ради жены, сколько бы пустоты у него в голове ни было, не будет терпеть
неистовых ночных кошачьих плясок, коли наградил бог слабым здоровьем. Значит, разошлись
пути-дороги, остался Евгеньевич старым холостяком, как говорится, при собственных интересах:
своей нелюбви к кошкам за их шерсть, и их любви к нему, неизвестно за что.
Жил себе — поживал в двухкомнатной квартире, добра наживал и попросился к нему однажды на
время сослуживец и хороший приятель Вадим Степанович, перебиться месячишко-другой,
переждать семейный разлад, так сказать, конфликтную ситуацию избыть в нейтральных условиях.
Артём ситуацию понял, даже не спросил, в чём сыр-бор: живи, раз надо.
Однажды приходит домой и чего-то сразу на пороге повёл носом, про себя думая, что ровно
Кощей Бессмертный принюхивается: чей это дух такой противный завёлся в жилище? А оно вот,
прямо у порога ползает, возле тарелки с молоком лужу сделало.
— Да ты с ума сошёл, не иначе! — вскричал Артём на приятеля, который с половой тряпкой уже
вокруг лужи трётся.
— Или не знаешь, что я их брата на дух не выношу, или не рассказывал тебе сто раз про жизнь
свою несчастную?
— Ты, главное, не расстраивайся, — отвечает приятель, — специально его принёс вылечить тебя
гомеопатическим методом. Смотри, какой он ещё маленький, ну какой от него запах? Никакого
запаха пока нет, ты к нему привыкнешь, потом он будет расти помаленьку, доза увеличиваться,
привыкание тоже. Так излечишься от аллергии, клин клином вышибают — старое проверенное
средство.
Однако Евгеньевич, не веря в гомеопатию, срочно зажал нос, пока не началось. Загнусил:
— Уноси своё лекарство, откуда принёс, чтобы духу его здесь не было. Квартиру мне провоняешь,
где я жить стану?
— Да куда понесу, на ночь глядя?
— Где взял, туда и верни.
Приятель вздохнул, тряпку в ведре прополоскал сокрушённо.
— Честно говоря, на улице подобрал. Иду — пищит, жалко стало, я же не изверг, не могу оставить
беспомощное существо валяться в грязи, человек всё-таки, не скотина бессовестная, как
некоторые, не будем пальцами указывать. Неужели обратно отнести прикажешь и в грязь
положить?
— Да хоть домой к себе отнеси.
— У нас собака живёт, и жена злая.
— Тогда уноси куда хочешь.
Унёс приятель котёнка в свою комнату вместе с молоком. Дверь закрыл, чтобы никого не
раздражать. Играя с ним на диване, где котёнок сделал лужу.
Пока на работе были, котёнок тихонько пачкал плинтуса, стараясь делать это в укромных уголках,
за мебелью, где никто не увидит и не накажет, в результате запах установился в приятельской
комнате известного рода, который тот, почему-то никак унюхать не мог и прекрасно прожил с
котёнком ровно месяц, ни сам с Артёмом не разговаривал, ни хозяин с ним.
Ушёл знакомый-квартирант тихо, деньги зачем-то оставил за проживание, хотя никакого
разговора о деньгах не было и котёнка забрал, но Артём его здорово материл, когда в поисках
причины своего удушья отодвинул мебель и начал отмывать со стиральным порошком
многочисленные засохшие разводья на плинтусах за диваном и стенкой. Диван с паласом
выкинул.
Самое плохое — отношение в коллективе сильно изменилось в худшую сторону. Смотреть
сослуживцы стали искоса, как на изверга и ненавистника братьев наших меньших, а также
женщин и детей, потому не женится — живёт бобылём и анахоретом, никого к себе близко не
подпускает, только за месячную плату. Действительно, что за человек, если несчастного
бесприютного котёнка, на ночь глядя, требует немедленно из дома вон выкинуть? Бессовестная
личность, одним словом, дрянь совершеннейшая Артём Евгеньевич оказался, а не коллега.
С Вадимом они ещё в бытность его квартирантом перестали за руку здороваться, а тут и прочая
часть мужского коллектива при встречах начала ладони в карманах прятать.
Всем известна прописная истина: сегодня он котёнка вышвырнул, завтра собаку утопит, а
послезавтра бабушку за двадцать копеек топором зарубит, история классическая, многократно
описанная русскими и иностранными гениями.
Женщины, впрочем, по своей природной мягкости целую неделю пытались исправить его,
проводя назидательные беседы, что приличные люди, достойные звания сотрудника их
замечательного коллектива, никогда братьев наших меньших не бьют по голове. И напрасно
Артём пытался уверять, что по голове он никого бить не собирается, напротив, целый месяц
терпел беспредел, потом отмывал квартиру, чуть при этом не сдох — бесполезно.
Сытый голодного не разумеет. Со временем и женщины оставили попытки направить природного
изверга на путь истинный, как водится, обратились за помощью к начальству.
Понёс однажды Евгеньевич бумаги на подпись к директрисе, отстоял, как полагается, очередь на
приём, вошёл, кипу вручил, ждёт. Даже садиться на стульчик не стал, с ноги на ногу переминается:
очень срочные бумаги, в том числе на матпомощь отпускникам, которым лететь отдыхать надо, а
касса вот-вот закроется.
— Вы присаживайтесь, присаживайтесь, — говорит директриса, не спеша подписывать и глядя на
него задумчиво. — У вас, я слышала, кошки дома нет. А у меня как раз родилось семь штук
крестников, пятерых разобрали, парочка осталась. Не возьмёте одного?
Взяла ручку и не подписывает, ждёт ответа.
— У меня аллергия на кошек, — как бы извиняясь, признался в грехе Артём, — про то все знают,
хоть у кого спросите.
— Ни за что не поверю, — произнесла начальница твёрдо, — вы только посмотрите на них,
аллергию как рукой снимет. Какие милые, да же? Возьмите вот эту кошечку, возьмите, не бойтесь,
такая, знаете, хорошенькая, такая забавная, ну, просто прелесть. Аллергию свою лечить надо в
больнице.
— Я лечил. неоднократно даже. Не помогает.
— Плохо лечили. Врача смените.
— У разных врачей перебывал, чего только со мной не делали, и уколы, и таблетки — ничего не
помогает.
— Если настоящего специалиста найдёте — обязательно поможет. Берёте крестников?
Котята сидели в старой дамской шляпке бордового цвета. Теперь она его два часа будет
мурыжить-прессовать, отпускники пролетят с деньгами, разозлятся на него, коллектив вообще
перестанет разговаривать. Конфликт перейдёт в неуправляемую фазу, придётся увольняться, всё к
тому движется.
— Хорошо, беру, — Евгеньевич отворотил нос в сторону, дабы не чувствовать животного запаха.
— Если обоих возьмёте, прямо со шляпкой отдам.
— Спасибо, возьму обоих, у меня знакомые недавно спрашивали.
— Ну и отлично, я знала, что вы, Артём Евгеньевич, прекрасный человек и хороший товарищ,
напрасно про вас гнусные слухи распускают. Любите животных, молодец.
Немедленно расписалась в бумагах, торжественно вручила фетровую линялую шляпку и вон
выпроводила с иронической улыбкой.
Коллеги мигом сбежались в их рабочую комнату, принялись заглядывать в шляпку, живо
интересоваться: зачем он с аллергией такой страшной набрал себе столько котят? Зато отпускники
получили в кассе деньги и улетели отдыхать довольные.
«Я их знакомым подарю, — отвечал Артём несколько затравленно, — у меня знакомые в деревне
живут, им кошки нужны. Крысы измучили». И все видели — врёт, нет у него никаких таких добрых
знакомых в деревне.
После работы принялся ходить по домам, предлагать всем подряд распрекрасных котят
совершенно бесплатно. Никто не брал, даже смотреть не желали. Артёму очень не хотелось нести
шляпку домой, где прошлый запашок не выветрился до конца, а куда деваться? Никто не берёт.
Ходил до позднего-позднего вечера, стыдно сказать, предлагал забрать даже с его приплатой.
Коммерция не удалась.
Затемно, еле живым добрёл к своему подъезду, сел на лавочке. Подниматься к себе не хотелось.
Пойти забросить куда-нибудь в овраг, что ли? Уже темно, ни черта не видно. Или предварительно
утопить в ведре, чтобы не мучились? Или увезти в лесополосу и оставить там, как отец Мурку, этито не прибегут обратно. Да, вот именно, не прибегут. Зато директриса начнёт каждый день
интересоваться, как поживают крестники. Ещё вздумает поехать проведать, с неё станется,
бензин-то казённый.
Рядом на лавочку опустилась женщина.
Отвергнув идеи про овраг, ведро и даже лесополосу, не глядя в её сторону, Артём автоматически
поинтересовался: «Гражданка, вам котёночка не нужно? Может, парочку возьмёте?»
Та даже не сочла нужным ответить.
«Ну и чёрт с тобой, бессердечная ты баба».
Или всё-таки съездить в деревню, всучить кому за деньги, договориться, чтобы не девали никуда,
по крайней мере, первое время, а то и в деревню директриса может катануть запросто? Нет,
никуда не поеду, устал, сил нет жить, того и гляди приступ сейчас начнётся. Залезу лучше на
крышу дома и швырну их оттуда. А следом сам прыгну, предварительно натянув шляпку
директрисы по самые уши, чтобы не свалилась при падении, пусть потом с милицией
разбираются, объяснительные в прокуратуру пишут, собаки такие.
Да-да! Пусть объяснит директорша, откуда её женская шляпка взялась на голове погибшего
подчинённого. Вызовут в милицию, как Евгеньевича прошлый раз в ОБЭП, допросят серьёзно, с
пристрастием! Он ни в чём виноват не был, а и то испугался, когда совсем ещё молодой
следователь начал допрашивать, почему некто Фонярский прописан в его квартире? Никакого
Фонярского Артём Евгеньевич сроду не знал и не видел никогда… Так откуда, всё-таки?
Спрашивает зло, не мигая, как в гестапо, аж кровь в жилах стынет. Вы спросите паспортистку
нашей жилконторы, она пропиской ведает, а он в квартире один-одинёшенек… Значит, говорите,
не знаете? Ох, страшно валериановому человечку в кабинете, будто с жизнью досрочно
прощается.
И не зря, надо сказать, переживал, в том самом ОБЭПе вон как золотопромышленника
допрашивали, что умер прямо на стуле от множественных переломов, после чего сбросили
хитрые милиционеры предпринимателя со второго этажа, дабы камера на выходе не
зафиксировала вынос тела, отвезли, в лесу прикопали. А тоже ни в чём виноват не был. Пусть и
директрису там допросят, откуда на голове погибшего, дескать, взялась ваша бордовая шляпка? А
Степаныча пусть прокурор города в оборот возьмёт, как он целый месяц над ним издевался со
своим котёнком, рискуя его, Евгеньевича, жизнью ежесекундно. Прокурор вон самого мэра
города арестовал за взятку, не побоялся, храбрый человек, честный, принципиальный. Взяли мэра
за белы руки, а у того в кармане триста тысяч. Откуда у вас триста тысяч в кармане? Мэр страшно
удивился:
«Я же мэр — вскричал, — у меня зарплата в месяц восемьдесят тысяч, как мне в кармане трёхсот
тысяч не иметь?». И точно, кинулись смотреть — восемьдесят тысяч зарплата, но с карточки за
пять лет ту зарплату ни разу не снимал! Шестьдесят объектов недвижимости в городе мэр имеет,
целые собственные рынки и супермаркеты, а прокурор не побоялся… сначала. Потом срочно в
другой город его перевели, за себя не боится, но за семью переживает, так прямо в телевизор и
сказал. А мэр за четыре миллиона через Европейский суд освободился, ибо камера на двоих с
телевизором всё же не соответствует высочайшим евростандартам, ходит нынче по городу: руки
— в брюки, как ни в чём не бывало. Нет, лучше пусть Степаныча тоже ОБЭП допросит слегка, не до
смерти, но чтобы понял хорошенько, как больно жить простому валериановому человечку на
белом свете.
Дурно ему, очень дурно. Сбежать куда-нибудь от всего, найти другое место бытия, где нет ни
сослуживцев — защитников животных, ни хитрой директрисы, ни Мурки с глазами, ни прочих
Васек, ни дамской фетровой шляпки рядышком на скамейке, ни запаха в собственной квартире,
до сих пор никаким стиральным порошком не выводящимся.
Кивнул Евгеньевич головой раз, кивнул другой и. заснул прямо на лавочке, забыв о мучительной
действительности, перейдя в другую реальность, пусть и мнимую, но в данный момент
спасительную, где ничего вышеперечисленного нет в помине, и можно, наконец, вдохнуть полной
грудью свежий чистый воздух.
Оказалась кругом не тьма, но светлый день, встал Артём с лавочки, поднялся к себе в квартиру,
там тоже светло, чисто и даже как-то празднично в том смысле, что на работу не надо идти, вроде
бы выходной сегодня, и ни забот никаких нет, ни тревог. Пребывая в радостном, приподнятом
настроении, взял с полки любимую книгу, сел в кресло, начал читать, быстро погружаясь в ещё
более интересную радостную жизнь, которая захватила его в ласковые объятия и унесла прочь от
дурного очень далеко. Не столько читает, сколько в памяти сами собой вспыхивают дорогие
сердцу картины, разворачивается действие, скользнул от страницы взгляд в сторону, улыбнулся
Артём Евгеньевич под стул, неведомо кому.
Стойте, стойте, что значит «улыбнулся под стул», а тем более, «неведомо кому»? Глупо улыбаться
под стул, разве будет нормальный ответственный человек улыбаться под стул, даже пребывая во
сне? И кому можно улыбаться под стул? И зачем?
Задав себе все эти вопросы, Евгеньевич уже внимательно глянул под стул, с изумлением замечая,
что оттуда кошачьи глаза на него уставились.
Кошка чужая в квартире среди бела дня объявилась, что за чудеса в решете?
Отложил книгу, встал, подошёл — сидит, не убегает, взял осторожненько за шиворот, приподнял,
решил на площадку из квартиры вынести. Ничего, спокойно висит котёночком, которого мамаша
тащит, не царапается. Только смотрит Артём, бог ты мой, в другом-то углу целых две кошки
наблюдают за процедурой эвакуации. Сделалось не по себе, как бы в предчувствии беды, коей
пока нет, но шестое чувство шепчет, что катастрофы никак не избежать.
Волосы на затылке встали, а по всему, вмиг замёрзшему телу, мурашки завихрились.
Откуда? Дверь заперта, сам закрывал, окна тоже. Застыл на месте с кошкой в руке, обернуться
страшно, что на диване делается? Наверняка странные, невесть откуда взявшиеся кошки
прохлаждаются, глядя на него муркиными выпученными глазами.
Оборачиваться не стал, удержался, неторопливым шагом дошёл до двери, с насильственной
прохладцей рассуждая: «Сейчас эту выкину на площадку, за теми вернусь».
Открыл дверь, а там, представьте себе, — целая кошачья толпа его дожидается на площадке,
морды, морды — десятки, а может и сотни пар глаз уставились, будто ждали мгновения, когда
дверь раскроется. Не успел ничего сообразить, влился кошачий поток в квартиру весенней
игривой рекой, в половодье прорвавшей плотину, затопив комнаты. На столы вскочили, на стулья,
со шкафов глазастые, усатые головёнки торчат, мяукают противными голосами, диван сплошь
шерстью разномастной шевелится, иные так громко вопят, будто март наступил.
Выгонять бесполезно, самому бы куда скорее убежать — опять горло перехватило, дыхнуть
нечем.
Кинулся вниз по лестнице, запруженной потоком идущих наверх кошек. Плотно движутся, черти:
спина к спине, нога к ноге. Глядят горящими глазами на распахнутую дверь квартиры, словно в
землю обетованную прут, за спасением души.
Но ведь не привечал он их, не подкармливал, как пожилые одинокие пенсионерки, которым не за
кем ухаживать. Не выносил блюдечек с молоком вниз в подъезд, на что другие жильцы только
ругаются и блюдечки на улицу вышвыривают — «там кормите своих кошар, весь подъезд
провонял кошачьим дерьмом». Представить страшно, как на него теперь соседи рассердятся, что
он столько кошек в квартире завёл: сотни, сотни, пройти негде, да что пройти, ногу поставить
некуда, так и норовят, о колено потеревшись, на плечо прыгнуть. Вот, пожалуйста, запрыгнули.
Перехватило горло, качнулся Евгеньевич, теряя силы, захрипел, понимая, что не выбраться на этот
раз из кошачьего плена, сейчас рухнет на ступени, и придёт ему скорый конец прямо на лестнице.
Очнулся от дурного сна, когда сидевшая рядом и прежде не пожелавшая ответить на просьбу
взять котят женщина, вдруг тронула его руку. Выскочил, вынырнул из потопа, не задохнулся, слава
те господи!
Соседка продолжала сильно сжимать локоть.
— Артём, идём домой. Я сиамцев своих… сегодня… усыпила в ветлечебнице.
Порылась в сумочке, будто собираясь предъявить справку, что сиамские коты действительно
уничтожены, и, стало быть, путь к семейному счастью свободен, но достала лишь скомканный
платочек, тотчас горько в него всхлипнула, как дочь на похоронах матери от неожиданного
воспоминания нанесённой родительнице обиды, за которую не попросила вовремя прощения, а
нынче сделалось навсегда и непоправимо поздно.
Узнав любимую, Артём Евгеньевич замялся, не находя слов утешения в горе, причиной которому
был он сам. Посидел-посидел, достал фетровую дамскую шляпку, осторожно возложил ей на
колени драгоценным подарочным набором:
— Не плачь, ради бога, возьми вот кошечек… тоже, знаешь, очень-очень симпатичные.
Деминг Ричард - Парк детских увеселений
(~ 16 мин.
Эта "маленькая тщедушная девочка" изобрела для себя своеобразный способ развлечения. Ну
что же, возможно, взрослые сами в этом виноваты )
Маленькая тщедушная девочка выглядела лет на двенадцать, хотя ей вот-вот должно было
сравняться пятнадцать. Но спутник ее тянул на все сорок пять, и в облике его было нечто
вороватое, отталкивающее, хотя наружность он имел вполне приличную. Его тонкая бледная рука
по-хозяйски сжимала запястье девочки, лицо выражало странное нетерпение, но это нимало не
пугало девочку — она вяло плелась за мужчиной и с отсутствующим видом мусолила шоколадку.
По лесопарку Сент-Луиса тут и там разбросаны ларьки с прохладительными напитками, но
девочка шествовала мимо них совершенно безучастно. Теперь же, когда они уже почти миновали
последний киоск и направились к аллее для верховой езды, она вдруг уперлась, причем вовсе не
потому, что не хотела идти дальше. По-видимому, ее просто привлекла россыпь всевозможных
лакомств в витрине ларька. Мужчина же норовил утащить юную спутницу прочь, но в конце
концов остановился и с трудом выдавил полуулыбку, когда девочка вдруг сказала на диво зычным
голосом, который наверняка услышали все покупатели:
— Мистер, я пить хочу. Можно мне глоточек содовой?
У ларька собралось человек двадцать, если не больше: супружеские пары всех возрастов, стайка
хихикающих девушек, молодые люди, оценивающе посматривавшие на хохотушек. Некоторые из
этой толпы обернулись на голос девочки и принялись разглядывать ее и ее странного спутника.
Крепко сбитый солдат-десантник лет девятнадцати, чистенький и опрятный, в лихо заломленном
на стриженый затылок берете, перевел взгляд с девочки на мужчину. Тот с застывшей улыбкой
повернулся к спутнице и сказал так тихо, что его услышала только она:
— Потерпи немножко, и я куплю тебе сколько угодно этой содовой, а сейчас идем.
— Но я пить хочу, мистер, — прогудела девочка.
У киоска воцарилась мертвая тишина, на лице десантника появилось смешанное выражение
злобы и нерешительности.
— Жди здесь, — раздраженно бросил мужчина, выпустил руку девочки, подошел к ларьку,
положил на прилавок десятицентовик и попросил бутылку содовой.
— Какой? — нетерпеливым тоном спросил затурканный продавец, не обращавший внимания ни
на девочку, ни на мужчину, ни на внезапное безмолвие очереди.
— Любой, — ответил мужчина.
Передернув плечами, продавец откупорил бутылку апельсиновой шипучки, поставил ее на
прилавок и взял монету. Мужчина поспешно схватил бутылку и отнес девочке.
— Ну, теперь пошли, — сказал он и шагнул к аллее.
— Соломинку забыли! — громко возвестило дитя.
Мужчина обернулся к девочке с таким видом, словно с удовольствием оттаскал бы ее за уши, но
лишь вымученно улыбнулся и, избегая растерянно-враждебных взглядов, вернулся к прилавку,
вытащил из стеклянного стакана соломинку и вручил ее девочке.
— Спасибо, мистер, — громко сказала та, сунула соломинку в бутылку и снова доверчиво подала
мужчине руку.
Он судорожно схватил ее и так торопливо зашагал к аллее, что девочке пришлось едва ли не
бежать за ним на своих тоненьких ножках. Покупатели все как один смотрели вслед странной
парочке. Угрюмо-растерянная мина на лице десантника вдруг сменилась выражением
решимости. Он отошел от прилавка и проговорил, ни к кому не обращаясь:
— Девчонка видит этого парня впервые в жизни. Если хотите, можете стоять тут и шевелить
мозгами хоть целый день, а я разберусь, в чем дело.
С этими словами он направился в сторону аллеи. За ним последовали еще трое парней, потом —
одинокий мужчина, а вскоре и остальные покупатели потянулись вслед за десантником.
***
Мужчина бросил встревоженный взгляд через плечо, увидел, что их нагоняют два десятка
человек, и резко остановился. Охваченный ужасом, он попытался высвободить пальцы из ладони
девочки, но та еще крепче ухватилась за руку спутника, и теперь ему пришлось бы тащить ее за
собой, вздумай он спасаться бегством. Мужчина в страхе ударил девочку по запястью и, наконец,
освободился, но десантник уже настиг их.
Мужчина попятился, прижался спиной к дереву и, подняв руки, попытался изобразить нечто
вроде примирительной улыбки, но вместо нее получилась испуганная гримаса.
Десантник молча стоял перед оробевшим мужчиной, сжав кулаки, не зная, как поступить.
Подоспевшие покупатели окружили их.
Пожилая женщина с золотыми коронками, сопровождаемая кротким с виду мужчиной в летах,
решила отобрать инициативу у десантника и резко спросила девочку:
— Та знаешь этого человека, милая?
Девочка с любопытством осматривала собравшуюся толпу; казалось, происходящее нимало не
тревожит ее. Услышав вопрос, она взглянула на даму и вежливо ответила:
— Нет, мадам, но это добрый дядя, он купил мне шоколадку.
Женщина взглянула на «доброго дядю», и ноздри ее раздулись. Потом она опять посмотрела на
девочку и изобразила на лице улыбку, призванную завоевать доверие ребенка.
— Значит, ты только сегодня познакомилась с ним, дорогая?
— Да, мадам, в павильоне возле туалета.
Женщина повернулась к спутнику девочки, на лице ее появилось выражение едва ли не
первобытной ярости.
— Стало быть, вы отирались возле женского туалета?! Поджидали невинное дитя, которое еще не
знает, что нельзя вступать в беседу с незнакомцами, так? Куда вы хотели ее отвести? В кусты?!
— Послушайте, — проблеял мужчина, — я ничего не сделал. Почему вы на меня взъелись?
— Куда вы ее ведете? — тоном, не сулящим ничего хорошего, повторила женщина. — В той аллее
ничего нет, одни укромные уголки.
— Мы просто прогуливаемся, — с подвыванием ответил мужчина. — Закон не запрещает угощать
детей шоколадом, а я люблю детей.
— Охотно верю, — фыркнула золотозубая дама.
Мужчина дважды сглотнул слюну, прежде чем сумел выговорить, едва не сорвавшись на
истерический визг:
— Вы не вправе допрашивать меня. Я ничего плохого не сделал.
Но голос, лицо и повадка выдавали его с головой. Толпа рассвирепела. Десантник, не
разжимавший кулаки, наконец дал волю своему гневу.
— Ты, поганый растлитель! — взревел он и с размаху ударил мужчину по лицу. Тот врезался
спиной в дерево, предпринял было робкую попытку защититься, но у него не было ни единого
шанса. Крепкий молодчик размеренно, расчетливо и почти бесстрастно принялся избивать его.
Мужчина попытался опуститься на землю и прикрыть голову руками, чтобы прекратить неравный
бой, но десантник рывком поднял его на ноги, опять прижал к дереву и принялся осыпать новыми
ударами.
Безмолвная толпа взирала с мрачным одобрением. Судя по лицам, никто не испытывал ничего
похожего на ужас. Девочка тоже наблюдала. После первого удара безучастная мина на ее лице
сменилась выражением нездорового любопытства, а по мере того как десантник входил во вкус,
девчонка возбуждалась все сильнее и сильнее, пока, наконец, в ее глазах не появился
лихорадочный блеск. Но вот десантник начал уставать, и возбуждение юной зрительницы пошло
на убыль. Она тихонько попятилась назад и смешалась с толпой, слишком поглощенной
созерцанием побоища, чтобы заметить ее уход, а потом неспешно двинулась к ларьку и скрылась
за ним. Когда бесчувственная жертва медленно опустилась наземь, девочка была уже далеко.
Теперь она шла быстрым шагом, почти бежала.
***
Час спустя девочка вернулась домой. Отец храпел на диване в гостиной, мать изучала колонку
светских новостей. Когда дочь вошла, мать рассеянно подняла глаза:
— Ты уже вернулась из парка, Донна? Хорошо повеселилась?
— Да, мадам, — вежливо ответила Донна.
— И что ты только находишь в этом парке? Я-то думала, тамошних увеселений хватит на два-три
воскресенья от силы, а ты туда все лето бегаешь, если не ошибаюсь?
И прежде чем девочка успела открыть рот, чтобы ответить, мать снова уткнулась в газету.
***
В следующее воскресенье Донна по обыкновению пришла к павильону ровно в два пополудни,
уселась на скамейку напротив мужского туалета и стала ждать.
Донна была смышленой и не по годам начитанной девочкой, но выбор места определялся скорее
собственным житейским опытом, нежели почерпнутой из книжек премудростью. В любом
учебнике психиатрии можно прочитать, что уличные туалеты — излюбленные охотничьи угодья
всякого рода половых извращенцев. Но Донна просто знала: если посидеть на этой скамье
подольше, рано или поздно дичь для ее воскресных игрищ непременно появится. Со временем у
девочки развилось чутье на таких типов, поэтому большинство входивших в туалет мужчин она
удостаивала лишь беглого взгляда. Однажды Донна для пробы улыбнулась какому-то нервному
человеку лет шестидесяти, но тот только радушно улыбнулся в ответ и бросил на ходу:
— Приветствую вас, юная леди.
Около половины четвертого девочка наконец нашла того, кто был ей нужен, — небрежно одетого
краснолицего человечка лет пятидесяти пяти, с бегающими глазками, опоясанными багровыми
ободками. Он посмотрел на Донну и пошел было дальше, в туалет, но резко остановился, когда
она одарила его лучезарной улыбкой. Мужчина тускло улыбнулся в ответ, но не так, как взрослые
обычно улыбаются детям, а совсем по-другому — оценивающе. Его глаза медленно оглядели
худенькую девочку с ног до головы.
— Папу ждешь, малышка? — с надеждой спросил он.
— Нет, отдыхаю просто. Я одна пришла.
Красноглазый заметно обрадовался и воровато заозирался по сторонам.
— Не хочешь сходить в зоопарк, посмотреть на медведей?
— Эка невидаль, — ответила девочка. — Мне бы лучше шоколадку.
Мужчина снова опасливо огляделся, убедился, что никто не обращает на них ни малейшего
внимания, и спросил:
— А с какой стати я должен покупать маленьким девочкам шоколадки? Что мне за это будет?
— Что хотите, — невозмутимо ответила Донна, посмотрев ему в глаза.
Человечек явно удивился. Он еще раз пытливо оглядел девочку, и зрачки его подернулись тонкой
поволокой.
— Как это «что хотите»?
— Сами знаете. Купите мне шоколадку, а потом мы поиграем в любую игру по вашему желанию. Я
пойду с вами смотреть на медведей или просто погулять. Что вам будет угодно.
— Погулять? А где?
— Где вам нравится. Я знаю одну дорожку для всадников, туда редко кто заглядывает.
На лице мужчины появилось смешанное выражение надежды и изумления.
— А ты, видать, опытна не по годам. Сколько тебе лет?
— Двенадцать, — соврала Донна.
Он снова окинул взглядом ее худенькое тело.
— Ты уже ходила в эту аллею с мужчинами?
— Конечно. Если они покупали мне шоколадку. Они вот там продаются, — сообщила Донна,
указывая на ларек. — Я люблю с орехами.
— Ладно, — сказал мужчина, — подожди здесь.
Он быстро сбегал к ларьку и принес девочке шоколадку.
— Спасибо, — вежливо проговорила Донна и, поднявшись со скамьи, привычным движением
вложила руку в ладонь мужчины. — До этой аллеи путь неблизкий, — предупредила она. — Надо
идти почти через весь парк. Я покажу дорогу.
Аллей для верховой езды в парке было предостаточно, и девочка повела своего спутника в
сторону, противоположную той, в которую шла в прошлое воскресенье. Они преодолели почти
полмили и миновали по пути два ларька, пока, наконец, добрались до цели своего похода. Здесь
тоже стоял ларек, прямо на перекрестке аллеи и дороги. Его окружала обычная разношерстная
толпа — мужчины и женщины всех возрастов, несколько ребятишек. Приблизившись, Донна
оглядела лица покупателей и обратила внимание на молоденького матроса в темно-синей форме,
почти трещавшей по швам на широких плечах.
Проходя мимо матроса, девочка вдруг уперлась и громко произнесла:
— Мистер, я пить хочу. Можно мне глоточек содовой?
Человечек остановился, его красное лицо сделалось и вовсе пунцовым, глаза тревожно забегали.
Матрос медленно обернулся и хмуро взглянул на девочку и мужчину. Остальные тоже смотрели
на них во все глаза.
Выпустив руку Донны, краснолицый принялся неловко рыться по карманам в поисках монетки.
Девочка невозмутимо смотрела на него, но спокойствие ее черт лишь скрывало растущее
волнение от предвкушения того, что вот-вот должно было произойти. Волнение, замешанное на
ненависти ко всем мужчинам, которые покупали шоколадки маленьким девочкам. Но ни единой
нотки этого чувства не прозвучало в голосе девочки, когда она снова открыла рот и зычно
протрубила:
— Пожалуйста, мистер, купите мне содовой.
Демют Мишель - Чудо летней ночи
(~5 мин., фантаст. рассказ
"Это существо море выбросило на берег темной ночью и оно было почти человеком, почти
женщиной..." © god54)
Он не помнил в своей жизни другой такой ночи. Луна, казалось, взошла раньше времени, и теперь
раздувшийся золотой шар висел над самым горизонтом, освещая скалы и поблескивая в лужах,
оставшихся после отлива.
Он ждал очень давно, а сегодня, сам не зная почему, был уверен, что это наконец произойдет.
Волны словно застыли. И с тихим шелестом накатились на узенькую полоску песка, похожего на
снежную пыль.
Она была там — тень в ночи, окутанная кружевами голубоватого света. Почти человек,
обнаженная женщина, чудо летней ночи. Но то, что плескалось возле самого берега, не было
человеком. При каждом ее движении вспыхивали чешуйки на теле — она, похоже, была
удивлена, что оказалась здесь.
Он впервые увидел перед собой это фантастическое существо. Хотя, если быть точным,
предыдущие три раза он просто опаздывал: ее уносили волны. Он знал, что сегодня должен
торопиться, очень торопиться.
Прыжок. Холодное прикосновение мокрого песка. Еще более холодное прикосновение
испуганного тела. Бег под луной вверх по обрыву.
Позади него на берег с яростным ревом обрушился пенный вал. В спину ударили соленые брызги.
Сегодня ему повезло. Он уложил ее на мягкие травы меж двух колючих кустов.
— На этот раз, — сказала она ему, — я твоя, по-настоящему твоя!
Он улыбнулся в ответ. Сердце его отчаянно забилось. Но это могло быть и от бега, от бегства… Ему
не хотелось говорить. Потом он снова улыбнулся и, протянув руку, коснулся ее круглого полного
плеча.
— Ты права, — прошептал он. — По-настоящему моя. Как долго я ждал этого мгновения…
Она залилась серебристым смехом, который шел, казалось, из немыслимых зеленых глубин.
Потом тряхнула головой, и ее волосы рассыпались по плечам сверкающими прядями. Их настиг
лунный блик и сказочно изменил все вокруг.
— Пошли, — сказал он, — нам еще добираться до места.
Он протянул руку и сообразил, что она не могла последовать за ним.
Боже, подумал он, не могу же я принимать за настоящую женщину…
Он поднял ее на руки, и она прошептала ему на ухо:
— Почему ты меня желаешь? Какое удовольствие могу я тебе доставить?
Он ощущал ее грудь, настоящую женскую грудь, и холодную, тяжелую и мясистую нижнюю часть
тела.
Он еще крепче обнял ее.
— Скажи, — повторила она, — какое удовольствие могу я тебе доставить?
Она засмеялась, и смех ее был зовущим и легкомысленным.
— Ну конечно… Ты столько ждал меня. И, конечно, ради кое-чего…
Он спросил себя, а не примется ли она расписывать свои любовные таланты. У нее явно
разыгралось воображение.
Но это не важно, подумал он. Нет, важно вот что…
И он представил, что ждет их в хижине.
Они спрятались от лунного мерцания под сенью пробковых дубов. Вокруг свиристели насекомые.
Когда они оказались возле хижины, он снова уложил ее на траву.
— Подожди минутку, — нежно прошептал он.
— Конечно… Иди и приготовь все к моему появлению…
Он кивнул и, толкнув дверь, быстро захлопнул ее за собой.
Он отсутствовал долго, но когда появился, на его губах плавала довольная улыбка. Внутри горели
факелы, теплые отсветы ласкали стены.
Он поднял прекрасную сирену, и она засмеялась.
Ногой он распахнул дверь. Она разом перестала смеяться.
В глубине комнаты стояла печь, где потрескивали смолистые поленья. А на печи чернел огромный
котел, в котором шкворчало масло.
Дженифер Лоуренс - Самый старый мотив на земле
(~17 мин., соврем. проза
Этот небольшой рассказ вполне может пригодиться тому, кто, как и ГГ рискнёт избавиться
от старой надоевшей жены )
Перевод с английского: Сергей Мануков
Филипп Девиз никогда в жизни не испытывал большего счастья, чем сейчас, находясь в тихой
маленькой спальне уютной квартиры Флоры в Ист-Сайде. Странно, подумал он, сорокатрехлетний
мужчина просто не имеет права быть таким счастливым. Это удел молодых. Он понимал это, но
ничего не мог с собой поделать. Девиз был счастлив и было бы глупо скрывать это.
Конечно, к его счастью приложила свою руку и Флора, чудесная Флора, молодая, энергичная и
прекрасная девушка. Кто бы мог подумать, что она так сильно полюбит мужчину средних лет?
Филипп не был толстым лысым стариком, но иллюзий относительно своей внешности никогда не
испытывал. В сорок три редкий мужчина может считаться красавцем. И тем не менее Флора в нем
что-то разглядела. Что-то в нем ей понравилось…
Но сегодняшнее счастье — это не только и не столько Флора. Он уже не первый раз приходит
вечером к Флоре, но никогда раньше не испытывал такой свободы и полного счастья.
Филипп улыбнулся про себя. Он знал, почему счастлив в этот вечер. Все дело в… убийстве!
Флора прижалась к нему и тревожно поинтересовалась:
— Что-то случилось? О чем ты думаешь?
— Ни о чем, — вернулся Филипп Девиз на грешную землю. — Просто лежу и думаю, какой я
счастливый. Как мне повезло, что я встретил тебя, и все такое…
— Я рада, — с легкой хрипотцой произнесла Флора. — Значит, ты чувствуешь себя счастливым
рядом со мной, дорогой?
— Конечно, — кивнул Девиз и обнял ее.
— Больше мне ничего и не нужно, — довольно вздохнула девушка. — Делать тебя счастливым и
больше ничего.
— И больше ничего? — поцеловав ее, игриво уточнил Филипп.
— Да, дорогой, — подтвердила Флора, — я ведь люблю тебя. Чего же мне еще желать в этой
жизни?
Вспомнив о своей жене, Филипп Девиз нахмурился.
— Внимания, — вздохнул он. — Внимания каждую минуту, каждую секунду. Элегантной одежды.
Мехов. Драгоценностей. Флора, неужели ты только хочешь делать меня счастливым и все?
— Да, и все, — стояла на своем девушка. — И все, потому что я тебя люблю.
— И я… и я люблю тебя, — поторопился заверить ее Филипп. Потом крепко обнял молодое
стройное тело и удовлетворенно вздохнул. Он обнимал девушку, но где-то на самом краешке
сознания оставалась мысль об убийстве…
Филипп с детства был страстным поклонником детективов. Он перечитал их великое множество и
знал, что убийство жены ему никогда не сойдет с рук. Девиз прекрасно понимал, что в подобных
делах первый, а зачастую и единственный подозреваемый — муж. Современная полиция
оснащена такими приборами, что сыщикам не составит труда найти улики, которые изобличат его
в совершенном преступлении, как бы осторожно он себя ни вел.
Филипп Девиз очень хотел избавиться от супруги, как от старой, давно ставшей тесной и
неприятной кожи, но вовсе не хотел отправляться из-за нее в тюрьму или на электрический стул.
И тут… А ведь если задуматься, все получилось совершенно случайно, он встретил Флору и
Шустака. Причем встретил практически в одно и то же время.
Сначала он встретился с Флорой. Они познакомились в баре, расположенном недалеко от его
квартиры. Она вошла, увидела его и подошла к стойке. Он сам не заметил, как они разговорились.
Все это было очень естественно. За знакомством в баре последовали свидания. Через неделюдругую Филипп начал ездить к ней домой.
Интересно, подумал он, как бы далеко он зашел в отношениях с Флорой, если бы не встретил
Шустака. Наверное, все было бы как есть. Ведь к моменту встречи с Шустаком Флора уже знала о
нем все, начиная с его детства и кончая браком, для разрушения которого он был готов пойти на
все.
Естественно, сначала Флора попросила его развестись, но о разводе не могло быть и речи. Филипп
ей так сразу и сказал. Жена никогда не согласится дать ему развод. Она была не так воспитана. К
тому же она не захочет терять его деньги, с кривой улыбкой объяснил он Флоре.
Да, деньги у него были. В его семье давно стали водиться деньги, а отец Филиппа довел их до
такой суммы, что их уже правильнее называть «состоянием». Девиз не сомневался, что жена
никогда его и не любила, а замуж вышла из-за денег. Какая бы причина ни была главной, дела это
не меняет. Развод невозможен.
Конечно, он ни разу не заговаривал с Флорой об убийстве. Только рассказывал прочитанные
детективы и обсуждал их. Понятия «Флора» и «убийство» были несовместимы. И дело было не в
ее невинности. Нет, Филипп просто не хотел говорить ни о чем неприятном, когда находился
рядом с ней. Ему хотелось, чтобы в их отношениях все было идеально.
И вот сейчас все было идеально. По крайней мере, Флора так говорила. Она жила в собственной
квартире, отказывалась принимать от него подарки, то есть жила собственной жизнью.
«Но это не моя, а твоя жизнь, мой дорогой, — как-то сказала ему Флора. — Она твоя, потому что я
принадлежу тебе».
На следующее утро у него в конторе появился Шустак.
— Он просил передать, что хочет поговорить о мисс Флоре Арнольд, — сообщила секретарша.
Филипп побледнел, но сумел сохранить самообладание.
— Пусть зайдет.
В кабинет уверенной походкой вошел худощавый с иголочки одетый мужчина.
— Закройте дверь, — попросил Филипп Девиз.
— Да-да, конечно. — Шустак закрыл дверь и сел на стул у стола.
— В разговоре с моей секретаршей вы упомянули имя Флоры Арнольдс, — хмуро сказал Филипп.
— Я воспользовался ее именем только для того, чтобы прорваться к вам. Я ее знать не знаю.
Никогда с ней не встречался и не хочу встречаться. То, с чем я к вам пришел, к ней не имеет
никакого отношения. Я пришел оказать вам услугу.
— Вы не встречались с ней, — растерянно повторил Филипп. — Тогда откуда вам известно ее имя?
— Оттуда, — тщательно выговаривая слова, объяснил Шустак, — что я знаю вас. — Он закурил,
стряхнул пепел и добавил: — С вами я, естественно, тоже не знаком лично, но мне известно о том,
что у вас проблемы с вашей… супругой. И я знаю, что вы хотите решить эту проблему.
— Моя супруга вас не касается, — сухо проговорил Девиз. — Так же, как и Фл… мисс Арнольд. Я
вообще не понимаю, какое вы имеете право врываться ко мне в кабинет и…
— Право? — перебил Шустак. — Но вы же сами буквально пригласили меня. — Он поднял руку,
призывая собеседника хотя бы минуту помолчать. — Наверное, мне как-то нужно доказать вам,
мистер Девиз, что я пришел только для того, чтобы вам помочь. Я знаю, как решить ваши…
проблемы.
Филипп нахмурился. Шустак говорил так убедительно, что он, сам того не желая, поверил ему.
— У моих проблем нет решения, — покачал он головой.
— А я уверен, что есть, — возразил Шустак. — Как минимум, одно.
После этих слов в кабинете воцарилось молчание. Филипп заморгал. Ему показалось, что
молчание длится целую вечность.
— Мистер Девиз, — наконец нарушил его Шустак, — вы любите читать детективы.
— Откуда вы это знаете? — удивился Филипп.
— Я также знаю о мисс Арнольд, — многозначительно пожал плечами Шустак, — и о вашей жене.
В нашей организации отличный отдел по сбору информации.
— В вашей организации? — ничего не понимая, повторил Филипп Девиз.
Шустак кивнул и аккуратно погасил сигарету.
— Позвольте мне продолжить. Вы читаете детективы. Наверняка вам часто попадались скупые
намеки на крупную организацию, которая за определенную плату… убирает ненужных людей.
— Синдикат? — уточнил Девиз.
— Нет, не синдикат, — слегка нахмурился Шустак. — Мы не имеем никакого отношения к мафии.
У нас свой метод, и, позвольте вам заметить, абсолютно незаметный. Мы предлагаем наши
услуги… за определенный гонорар.
— Но это же смешно… — пробормотал Филипп.
— Смешно? — переспросил Шустак. — Почему смешно? Вы десятки раз читали о нашем методе в
книгах. Он очень стар. Неужели вас удивляет, что он перекочевал из книг в жизнь?
— Но…
— Понимаю, — кивнул Шустак. — Вам трудно решиться. Я оставлю вам свою визитную карточку.
Звоните в любое время, кроме выходных. Мы работаем с половины десятого до пяти, — он достал
из кармана бумажник, вытащил из него маленькую белую карточку и положил на стол. Потом
встал и направился к двери.
— Подождите, — неожиданно остановил его Филипп.
— Да? — Шустак неторопливо повернулся.
— Вы хотите сказать… — быстро заморгал Девиз. — Вы хотите сказать, что за деньги согласитесь…
убить мою жену?
— Я? — удивленно приподнял брови Шустак. — Нет, мистер Девиз. Конечно, я не буду никого
убивать. Я только продавец. В наш век узкой специализации, мистер Девиз, мы для устранения
нанимаем… профессионалов.
— Но меня заподозрит полиция. Они узнают, что я нанял вас, и тогда…
— Ничего они не узнают, — прервал его Шустак. — Полиция никогда не догадается, что вашу
жену… убили. Наш метод действует безотказно.
— Но…
— Пожалуйста, позвоните мне, — улыбнулся Шустак, — когда будете готовы серьезно обсудить
дело.
С этими словами он вышел и закрыл за собой дверь. А Филипп Девиз медленно обвел взглядом
пустую комнату…
«Все это глупая шутка», — мысленно сказал себе Девиз после того, как ушел странный посетитель,
но в душе затаился червячок сомнения. И с каждым часом он рос и рос.
В конце концов Филипп осторожно рассказал все Флоре, преподнеся всю историю от лица
вымышленного друга. Флора даже не догадалась, что речь шла о нем самом.
— Этот твой друг ничего не потеряет, если позвонит и задаст несколько вопросов, правда? Ну сам
посуди, какой будет от этого вред? Никакого. Он в любую минуту сможет все остановить.
Именно этот совет и надеялся получить Филипп. На следующее утро он позвонил по номеру,
указанному в визитке Шустака, и договорился о встрече.
Контора мистера Шустака располагалась на десятом этаже старого здания. На стеклянной двери
висела только табличка с номером 1012. В комнате стоял один-единственный стол, за которым и
сидел Шустак.
— Сами понимаете, мы стараемся не привлекать к себе внимания, — с улыбкой объяснил он. —
Здесь у нас спартанская обстановка, основная же база располагается за городом. Присаживайтесь.
— Конечно, — рассеянно кивнул Девиз. Он прочитал достаточно детективов, чтобы понимать
такие прописные истины. — Я хотел поговорить о вашем… методе.
— А… — с понимающим видом кивнул Шустак и закрыл глаза. — Боюсь, я могу рассказать вам о
нем очень мало. Сами понимаете, профессиональные секреты.
— Но…
— Безопасность мы гарантируем, — заверил его Шустак. — Ваша безопасность — это и наша
безопасность. Мы прекрасно понимаем, что ниточка от вас может привести к нам.
— Конечно, — согласился Филипп. — Извините. Но мне все равно кажется, что…
— Что вы должны хоть что-то знать, — закончил за него Шустак. — Я с вами совершенно согласен.
И он назвал одну фамилию.
— Вы хотите сказать, что вы…
Шустак с улыбкой кивнул.
— Но он же умер естественной смертью, — совсем растерялся Девиз. — От сердечного приступа.
— Все верно. Коронер вынес решение: смерть от сердечного приступа, — вновь кивнул Шустак,
даже не стараясь скрыть свое удовлетворение. — Наш метод абсолютно надежен.
Филипп вздохнул. После долгого молчания сказал:
— В прошлый раз вы сказали о гонораре…
— Ну, скажем, десять тысяч долларов?.. — после небольшой паузы сказал Шустак.
— Я не заплачу десять тысяч авансом… — покачал головой Филипп.
— А вас никто и не просит платить всю сумму сразу, — прервал его Шустак. — Пять тысяч сейчас,
вторую половину — после успешного окончания дела.
В комнате воцарилось напряженное молчание.
— Чек вас устроит? — поинтересовался наконец Филипп.
— Нет, только наличные, — слегка улыбнулся Шустак. — Принесите их сюда сегодня после обеда.
Он опять разговаривал дружеским тоном…
Домой Филипп Девиз ехал, почти не обращая внимания на дорогу. Он погрузился в приятные
мысли о будущем. Свобода… Полная, абсолютная свобода. Никаких приставаний, никаких ссор.
Никаких «почему ты не обращаешь на меня внимания?» Миссис Девиз просто исчезнет!
Уже подъезжая к дому, Филипп дал зарок больше никогда не жениться. Весело насвистывая, он
открыл входную дверь. Интересно, где она лежит? В гостиной, на кухне или в спальне? Он закрыл
дверь и потянулся к выключателю…
— Филипп?
Это был ее голос. Значит, она жива.
Через несколько минут Филипп выяснил, что никто и не покушался на ее жизнь. Супруга была
цела и невредима и полна решимости и дальше отравлять ему существование…
— Сейчас, — вздохнул Шустак, — он уже добрался домой и, конечно, все знает. Ну вот и конец…
— А если он пойдет в полицию? — спросила сидящая рядом девушка.
— И что он им скажет? — покачал головой Шустак. — Что нанял людей убить свою жену и они ее
не убили? Не бойся, нам ничто не угрожает. Конечно, если бы она неожиданно поскользнулась в
ванной и проломила себе голову, мы могли бы записать ее смерть на свой счет и получить вторые
пять тысяч, но чрезмерная жадность чревата большими неприятностями. С конторой тоже все
гладко. Я ее уже закрыл. Жалко только, что пришлось заплатить за месяц вперед. Он никогда нас
не найдет.
— Ты гений, — похвалила девушка.
— Гений? Это ерунда. Собрать информацию, заморочить голову, получить деньги и вовремя
унести ноги — очень просто. И идея стара, как мир.
— А я все равно уверена, что ты гений, — прижимаясь, повторила она.
— Да будет тебе, Флора, — довольно хмыкнул Шустак и обнял ее.
Диксон Гордон - Люби меня, люби
(~26 мин., фантаст. рассказ
Трудно не ответить взаимностью на такое искреннее признание в любви, даже если речь идёт
об антиподе.
На пути к полковнику Тед Холман попросил капрала военной полиции показать ему лабораторию,
чтобы взглянуть на Поджи.
– Вы что думаете – я спятил? – удивился капрал. – Не имею права. В любом случае, у нас нет
времени. И уж внутрь-то вас совершенно точно не пустят. Самое большее, вы глянете на него из-за
двери.
– Ладно, пусть из-за двери, – согласился Тед.
Полицейский колебался. Худощавый и смуглый, несмотря на свою молодость, он казался старше
Теда – светловолосого, с открытым лицом воина из тех, в ком до конца жизни сохраняется
мальчишество… Однако Тед уже успел побывать на Арктуре IV и возвратиться обратно, капрал же
никогда не бывал дальше Вашингтона.
Поэтому капрал отвел его в лабораторию и отошел в сторону, когда Тед заглянул в
экспериментальную секцию сквозь вырезанное высоко в двери окошечко с металлической сеткой.
Внутри комнаты стояли клетки с белыми крысами, кроликами, макака-ми-резус и белой
собачонкой, напоминающей терьера. Сквозь решетку переговорного устройства доносились
сопение и возня животных.
– Не вижу, – нахмурился Тед.
– В углу, – подсказал полицейский.
Тед плотнее прижался к двери и впился глазами в клетку, в которой, свернувшись калачиком,
лежало нечто, напоминающее горжетку из черно-бурой лисы, с черными блестящими бусинками
глаз и носом-пуговкой.
– Поджи! – позвал Тед. – Поджи!
– Он не слышит, – объяснил полицейский. – Односторонняя связь для удобства ночной охраны.
Из дальней двери в комнату вошел одетый в белое человек с эмалированным подносом, на
котором лежали три шприца и горка пушистой ваты. Маленькая собачонка и Поджи
насторожились, выставили носы сквозь прутья решетки. Собачонка завиляла обрубком хвоста и
заскулила.
– Любишь меня? – спросил Поджи. – Любишь меня?
Человек в белом поставил поднос и вышел, не взглянув на животных в клетках. Собачонка
заскулила ему вслед. Поджи понурился; Тед сжал кулаки.
– Мог бы сказать им хоть слово! Почему он не ответил?!
– Занят работой, – занервничал полицейский. – Нам пора. Идемте.
Они двинулись дальше. У дверей офиса полковника капрал остановился, поправил кобуру,
передвинув ее вместе с поясом так, чтобы она не бросалась в глаза. Затем они вошли. На жесткой
скамье за деревянными перилами сидела хрупкая девушка в легком платье с потрясающе
красивыми зелеными глазами. Тед прошел мимо нее, и она проводила его внимательным
взглядом.
– Он ждет вас, заходите, – пригласил дежурный. Они вошли. В кабинете стоял изящный стол
темного дерева, возле него на ковре стояли два кожаных кресла для посетителей.
– Подождите за дверью, капрал, – распорядился полковник.
Полицейский вышел, а Тед остался стоять навытяжку посреди кабинета.
– Ты дубина, Тед, – сказал полковник.
– Он мой, – ответил Тед спокойно.
– Выбрось его из головы. Сейчас же. Немедленно! – Полковник был небольшого роста,
смуглолицый, и когда он говорил, у него шевелились и топорщились усы.
– Я хочу его забрать.
– Ничего ты не получишь! Положение и без того скверное. Да, мы вместе побывали на Арктуре,
мы впервые совершили подобное путешествие, и не допустим, чтобы одного из наших парней
наказали согласно Уставу, мы можем уладить все между собой. Но тебе придется усвоить, что
антипода тебе не видать.
Тед промолчал.
– А теперь слушай меня внимательно, – полковник сощурил глаза. – Знаешь, какой срок тебе
грозит за удар офицера? Пятнадцать лет каторги плюс то, что тебе полагается за тайный провоз
антипода на Землю.
Тед продолжал молчать.
– Ты просто счастливчик, – продолжал полковник, – самый настоящий счастливчик. Все парни
встали на твою защиту. А мы, руководители, состряпали все необходимые бумаги, чтобы
представить антипода властям не как контрабанду, а как подопытное животное, которое мы
привезли на Землю. Понял? Мы – а не ты! И Карри – лейтенант Карвен, как ты, вероятно, помнишь
– готов сделать вид, что ничего не произошло, что ты не пытался избить его до полусмерти, когда
он пришел забрать антипода. Я хотел, чтобы ты извинился, но он сказал не надо, мол чего уж там.
Тебе просто везет.
Он остановился и взглянул на Теда.
– Ну?
– Вы не понимаете, – сказал Тед. – Они умирают, если рядом нет кого-нибудь, кто их любит. Я
провел на этой метеостанции шесть месяцев. И я знаю: Поджи умрет.
– Послушай… катись отсюда и пойди напейся! – взорвался полковник. – Говорю тебе, мы сделали
все, что могли. Все в лепешку расшибались, и твое счастье, что уходишь отсюда с чистым
послужным списком. – Он схватил со стола телефон и принялся яростно тыкать кнопки. –
Убирайся.
Тед вышел. Никто его не остановил. Он вернулся в казарму, отведенную для экспедиционной
группы, переоделся в штатское и покинул базу. Он был в четвертом или пятом по счету баре, когда
к стойке рядом с ним подсела женщина.
– Привет, Тед, – сказала она.
Он повернулся. Ее глаза были зелены, как трава на лужайке под лучами закатного солнца, волосы
не то чтобы темные, но и не светлые; голубой костюм отлично сидел на ней. Тед вспомнил, что
видел ее в приемной полковника. Но сейчас, оказавшись совсем рядом, она выглядела старше;
перехватив его взгляд, девушка немного отодвинулась.
– Я Джун Малино, из «Рекордер». Журналистка.
Тед обдумал ее слова.
– Хотите выпить? – предложил он.
– С удовольствием. Один «Том Коллинз», пожалуйста.
Он заказал ей бокал «Том Коллинз»; они сидели в полутемном баре, глядели друг на друга, пили
и беседовали.
– Чего тебе больше всего не хватает там, на краю света? – спросила она.
– Травы, – ответил Тед. – То есть, сначала. Потом-то я привык к песку и змеям. И уже не так по ней
скучал.
– А по возможности напиться?
– Нет.
– Тогда зачем пьешь?
Он опустил бокал и взглянул не нее.
– Хочется, вот и все.
Она накрыла ладонью его руку.
– Не сходи с ума. Я знаю, в чем дело, от газетчиков ничего не утаишь. Что ты собираешься делать?
Он высвободил руку и еще раз глотнул из бокала.
– Не знаю. Не знаю я, что делать.
– Как тебе удалось поймать этого… как его…
– Антипода. Когда они выгибают спину при ходьбе, кажется, что передние лапы бегут навстречу
задним.
– Антипода. Во-первых, как ты его приручил?
– Я долго жил один на метеостанции. – Тед вращал бокал, глядя, как крутился золотой ободок,
словно колечко света. – Через некоторое время Поджи привязался ко мне.
– А другие их приручали?
– Не слышал. Они подходят к людям, но очень осторожны. Их можно легко напугать, и тогда они
уже ни за что не подойдут.
– Ты отпугивал кого-нибудь из них?
– Наверное, – он пожал плечами, – поначалу. Я долгое время не обращал внимания. Потом стал
замечать, что они сидят и смотрят на меня, на мою лачугу, на оборудование. В конце концов,
Поджи со мной познакомился.
– Как у тебя это получилось?
– Я был терпелив, вот и все.
Бар наполнился людьми. В соседнем зале заиграл орхестр, становилось шумно.
– Пойдем, – сказала Джун. – Я знаю место потише, там можно поговорить.
Она встала; он тоже встал и пошел к выходу следом за ней.
Они взяли такси и поехали на взморье. Место называлось «Трактир рудокопа»; пристроенная
позади здания веранда выходила на море, и в пятнадцати футах под ней волны лизали песок. На
крыше веранды были расставлены круглые столики с зажженными свечами, на волнах играли
блики лунного света.
Теперь они пили ром, и Тед порядком захмелел. Это его раздражало: он пытался рассказать Джун,
как все было, а язык повиновался с трудом.
– Чем дальше ты… становишься, – говорил он, – то есть чем дальше… забираешься, тем меньше
становишься. Понимаешь?
Она не понимала.
– Я хочу сказать… Предположим, человек живет в своем квартале и никогда из него не уходит. Он
очень большой. Улавливаешь? Поставь его и этот квартал рядом, вот как на столе, и будет видно. –
Для наглядности Тед пальцем нарисовал на влажной поверхности стола круг и точку. – Но
предположим, он разъезжает по всему городу, и тогда он вот какой в сравнении с ним. Или с
земным шаром, с солнечной системой…
– Да, – сказала она.
– Но если он отправляется куда-нибудь к черту на рога, вроде Альфы Центавра, и – он сложил
вместе кончики большого и указательного пальцев, – месяцами сидит там один-одинешенек, что
от него остается? – Он сунул сжатые пальцы ей в лицо. – Он вот такой крошечный. Он ничто.
Локоть Теда стоял на столе; большой и указательный пальцы у самого лица Джун. Она мягко
накрыла их ладонью.
– Нет, ты послушай… – он стряхнул ее руку. – Что остается, когда ты такой маленький? Что
остается?
– Ты, – сказала она.
Он затряс головой.
– Нет! Меня нет. А что делать? Но что я могу, когда я такой большой? – Он стиснул ей руку. – Я
маленький и способен только на малое. Все, что я делаю, слишком мало…
– Пожалуйста, – свободной рукой она тихонько пыталась разжать его пальцы: – Мне больно…
– Я могу любить, – сказал он. – Я могу дарить любовь.
Она замерла. Подняла глаза и встретила его пьяный взгляд.
– Сколько тебе лет? – прошептала Джун, вглядываясь ему в лицо чуть ли не с отчаянием.
– Двадцать пять.
– Столько тебе не дашь. На вид ты… моложе, чем я.
– Какая разница, сколько мне лет! Важно, что я могу сделать.
– Пожалуйста, – попросила она. – Моя рука… Ты слишком сильно жмешь.
Тед отпустил ее.
– Извини. – Он вернулся к своему бокалу.
– Нет, расскажи дальше, – она растирала занемевшую руку. – Как ты его вывез?
– Поджи? Мы тренировались. Я обертывал его вокруг талии, под рубашкой и курткой.
– И не было видно? Таким способом ты пронес его на корабль.
– Нас взвешивали, – продолжал Тед хмуро. – Но я загодя позаботился. Сбросил двенадцать
фунтов; делал гимнастику, чтобы не выглядеть исхудалым. Поджи весит как раз около
одиннадцати.
– И никто об этом не знал до самого возвращения на Землю?
– Трусливая проверка, чтобы опередить власти и не дать таможенникам обнаружить, если что-то
не так. Распорядился полковник, а выполнял Карри – лейтенант Карвен – и нашел его, и… – Тед
замолчал, глядя на свой бокал.
– Что бы ты с ним делал? С… Поджи?
Он с удивлением посмотрел на нее.
– Он бы жил у меня. Я бы о нем заботился. Как ты не понимаешь? Я ему нужен.
– Я понимаю, – сказала она. – Честное слово понимаю. – Она чуть придвинулась к Теду,
коснувшись его плечом. – Я помогу его вызволить.
– Ты?
– Да! Да, я могу помочь! – торопливо проговорила она.
– Как? – спросил он. И затем: – Почему? Мы тут весь вечер болтали, и вдруг ты ни с того ни с сего
хочешь нам помочь. Зачем? Не для своей ли газеты?
– Нет, нет! Сначала мне было все равно. То есть, конечно, неплохой материал, только и всего. Да.
А потом, ты как-то так о нем говорил… Не знаю. Но теперь я на вашей стороне, Тед, ты мне
веришь, да?
– Не знаю, – хрипло ответил он.
– Тед, – позвала она. – Тед.
Она придвинулась, подняв к нему лицо и полузакрыв глаза. Секунду он тупо на нее смотрел;
затем неловко обнял, наклонился и поцеловал. По телу Джун пробежала дрожь.
Спустя какое-то время Тед выпустил ее из объятий. Отстранившись и немного успокоившись, Джун
отерла слезинки в уголках глаз.
– Теперь, – голос ее задрожал, – веришь?
– Да, – ответил он. Джун вынула из сумочки носовой платок, пудреницу и губную помаду. – Но как
мы это сделаем? Ведь он под замком.
– Есть способы, – сказала она, аккуратно подкрасив сперва верхнюю, затем нижнюю губу и чуть
прищурилась, изучая результат в зеркальце. – Знаешь, я очень толковая, – обратилась она к
пудренице. – Справлюсь с любой проблемой. А сейчас… намерена справиться и с твоей.
– Каким образом? – спросил он.
– Я тебе расскажу, как обстоят дела, – Джун защелкнула и убрала пудреницу. – Ваша экспедиция к
Альфа Центавра обошлась в сорок миллиардов долларов.
– Знаю, – сказал Тед. – Но каким боком это касается…
– Военные носятся с идеей продолжать исследование и освоение космоса. Им нужна программа
трех последующих экспедиций, все более масштабных, программа, которая потребует ста
пятидесяти миллиардов в течение двадцати лет. – Она посмотрела на него, точно школьная
учительница. – Это огромные деньги; однако сейчас самое подходящее время их просить. Только
что вернулась ваша группа, интерес общественности очень велик… ну и так далее.
– Разумеется. Но какое отношение все это имеет к Поджи?
– Им не нужен шум. Никаких скандалов. Ничего, что может вызвать споры на данном этапе. А
теперь скажи, – она посмотрела ему в глаза, – тебя уволили, не так ли?
– Да, – Тед кивнул, нахмурясь, – как раз сегодня, перед тем, как идти к полковнику. Я штатский
человек.
– Хорошо. Чудесно, – сказала она. – И ты знаешь, где Поджи. Ты можешь его забрать и вынести с
базы.
– Да, я об этом думал. Но как о последнем средстве – если не изобрету что-нибудь похитрее,
чтобы они за нами не погнались.
– Не погонятся – уж я об этом позабочусь. Поджи – твой любимец, ручной и совершенно
безобидный, что установлено вашей же экспедицией. Достаточно, чтобы сделать превосходный,
душещипательный материал. Я побеседую немножко с твоим полковником и кое с кем еще.
– Но что даст, если они в любом случае попросту заберут его обратно?
– Да не заберут. По закону у тебя нет на Поджи никакого права. Но они скорее все тебе простят,
чем пойдут на скандал. Подожди – и сам увидишь.
– Ты думаешь? – его лицо загорелось. – Ты действительно думаешь, что они согласятся?
– Я обещаю.
Он вскочил, да так резко, что едва не опрокинул столик.
– Еду за ним сейчас же.
– Сначала выпей кофе.
– Нет. Никакого кофе, я абсолютно трезв. – Он глубоко вздохнул и выпрямился; хмель улетучился
прямо на глазах.
– Нужно будет куда-то его привезти, – начала Джун. – У меня есть квартира…
Тед покачал головой.
– Я позвоню. Наверное, мы будем просто ездить туда-сюда. Завтра позвоню. Когда ты встретишься
с полковником? – спросил он уже на ходу.
– Утром, первым долгом, – она вскочила и поспешила за ним. – Но обожди, я с тобой.
– Нет… нет! Я не хочу тебя впутывать. Я позвоню. По какому номеру?
– Паркетон 5-45-8321 – издательство, – крикнула она ему вслед.
И он умчался. Через дверь, ведущую во внутренний бар, Джун успела увидеть его белокурую
голову и широкие плечи, когда он пробирался меж посетителей к выходу.
Выйдя из «Трактира», Холман подозвал такси.
– Космическая база Ричардсон, – сказал он шоферу.
Его постоянный пропуск был действителен до конца недели, поэтому они благополучно миновали
ворота базы, и часовой лишь кивнул, откровенно зевая.
Тед остановил такси у лабораторных корпусов и шагнул в темноту. Держась подальше от
прожекторов, он добрался до нужной секции, и едва не столкнулся с охранником. Тот вышел из
двери, поигрывая автоматическим пистолетом, – новобранец, которому ночью охота спать, а не
вышагивать по коридорам лабораторий. Замерев в тени, Тед дождался пока охранник зайдет в
соседнюю секцию, затем проскользнул внутрь.
Он отыскал дверь, к которой приходил днем. В помещении горел яркий свет, и большинство
животных спали, свернувшись клубком и спрятав голову. Дверь была заперта, но ниже под
стеклом находилась рукоятка аварийного открывания. Тед разбил стекло, повернул рукоятку и
вошел; животные проснулись от шума и озадаченно смотрели на него.
Он открыл дверцу клетки.
– Поджи… Поджи…
Антипод вскочил, забрался Теду на руки и прижался к нему, словно маленький ребенок. Так они
вышли в ночную тьму. Садясь в такси, Тед выглядел слегка округлившимся в талии, но и только.
Небо на востоке начало светлеть, когда они возвратились в город. Тед расплатился с шофером и
пересел в метро. Забившись в угол, он дремал на мягких подушках, чувствуя, как под рубашкой,
временами шевелится теплый Поджи, пока, внезапно проснувшись, не взглянул на часы; уже
минуло одиннадцать. Он разъезжал под землей целых семь часов.
Выйдя из метро, Тед набрал номер, который дала Джун. Ее нет, ответили на другом конце
провода, но она должна скоро вернуться. Тогда он зашел в ресторан и позавтракал. Позвонив
второй раз, Тед сразу же услышал ее голос.
– Все хорошо, – сказала она. – Но тебе лучше временно исчезнуть. Где мы можем встретиться?
Он подумал.
– Я хочу снять номер в гостинице. Под именем… допустим, Вильяма Райта. Посоветуйте мне чтонибудь приличное, чтобы номера были с отдельным входом.
– «Бингтон», – сказала она. – Шир Стрит, сто восемьдесят семь – четвертый класс. Я подъеду туда
через полчаса.
– Ладно, – согласился он и повесил трубку.
Тед доехал до «Бингтона» и заказал номер. Он едва успел подняться к себе, достать из-под
рубашки Поджи и ссадить его на постель, как из переговорного устройства над дверью донесся
голос Джун.
Джун ожидала в залитом солнцем вестибюле; она бросилась к Теду со всех ног, едва он появился,
и оказалась в его объятиях.
– Мы победили! Победили!
Неуклюже, но достаточно мягко, он разомкнул ее руки и отстранился, чтобы видеть лицо.
– Расскажи, как было дело?
– Я позвонила им в девять утра и сказала, что приду, – она смеялась, глядя на Теда сияющими
глазами. – И когда пришла, там был твой полковник, и генерал Дейтон, и еще какой-то генерал из
Объединенной службы. Я сказала им, что ты увез Поджи, но они уже знали. И еще я сказала, что
ты оставишь его у себя. И затем показала свою статью, – Джун ликовала. – Ну и разозлились же
они! Я бы сто лет не попадалась им на глаза, Тед. Но ты можешь его оставить. Можешь оставить
Поджи!
Она снова к нему прильнула, и опять он отвел ее руки.
– Неужели все так просто? Ты уверена?
– Его должно быть не видно и не слышно, и если ты не станешь им докучать, вас не тронут. Вот что
значит власть прессы; к тому же, большое дело, если ты входишь в правление союза.
– Союза?
– Союза журналистов, – пояснила Джун. – Разве я не говорила милый? Ну конечно, нет. Я
представляю в союзе северо-западный сектор уже четырнадцать… – она вдруг запнулась,
удерживая готовое сорваться слово, и ее радостное оживление угасло, – лет, – закончила Джун
чуть слышно, побледневшая, с тревогой в глазах.
Но он лишь нетерпеливо сдвинул брови.
– Значит, это решено. Я хочу сказать – отныне нас оставят в покое?
– Ну да! Да! Вы с Поджи в безопасности.
Тед вздохнул с громадным облегчением.
– Итак, Поджи в безопасности, – проговорил он тихо. Затем снова взглянул на Джун. Взял ее за
руку.
– Я… не знаю, как тебя благодарить.
Пораженная, она смотрела на него во все глаза.
– Благодарить меня?!
– Ты столько сделала, – продолжал он. – Если бы не ты… Впрочем, нам только и оставалось, что
надеяться на чью-нибудь помощь. – Он пожал ее безжизненную руку. – Мне не хватает слов,
чтобы выразить благодарность… Если бы я хоть что-то мог для тебя сделать! – Тед выпустил ее
руку и отступил. – Я напишу тебе. Расскажу, как идут дела. – Он сделал еще шаг назад и
повернулся к двери. – Ну, до свидания… и спасибо.
– Тед! – ее голос кинжалом вонзился ему в спину. – Ты не собираешься, – губы Джун едва
шевелились, – пригласить меня в номер?
Он неловко потер затылок.
– Понимаешь… Я всю ночь не спал; и столько выпил… и Поджи боится чужих… Я хочу сказать, ты
ему обязательно понравишься, но как-нибудь в другой раз, ладно? – Он улыбнулся ей; лицо Джун
было как неживое. – Может, позвонишь завтра? Ей-богу, сейчас я с ног валюсь. Еще раз спасибо.
Он вошел в комнату и закрыл дверь, а Джун осталась в вестибюле. Тед запер дверь изнутри и
нажал кнопку «Не беспокоить». Затем повернулся к постели. Поджи все так же лежал,
свернувшись, и при виде его у Теда потеплел взгляд. Он опустился на коленки и приблизил лицо к
мордочке Поджи. Антипод выгнул спину, как кошка, и тоже потянулся к нему своим носомпуговкой.
– Любишь меня? – спросил Поджи.
– Люблю, – шепнул Тед. – Теперь все устроилось, Поджи, мы же знали, что все устроится, верно? –
Он положил голову на покрывало, которым была застелена кровать, и закрыл глаза. – Люблю
Поджи, – прошептал он. – Люблю.
Тонким розовым язычком Поджи лизнул его в лоб.
– Ну, что теперь? – сонно пробормотал Тед.
Глазки Поджи зловеще сверкнули.
– Теперь, – сказал он, – мы едем в Вашингтон – искать таких же, как ты.
Дубровин Максим - Пятьдесят на пятьдесят
(~24 мин., фантаст. рассказ
Строго научное испытание на способность любить. Но счастья героям это не принесёт)
Что обиднее всего — так это случайность произошедшего, полная его нелепость и
недетерминированность…
Л. Сарториус
Сначала у Лешки отрубили свет. Он звонил, ругался — без толку, авария на подстанции, до утра не
дадут, плевали они на день рождения. Кое-как допраздновали при свечах и без музыки, а в десять
часов, скрывая зевоту и виновато похлопывая расстроенного Леху по плечам, стали расходиться.
Ушли и мы с Маринкой. Потом были сорок минут на остановке, и мы замерзли до такой степени,
что не могли даже говорить, и потому втиснулись в первый попавшийся автобус, остатками
цепенеющего сознания рассудив, что все они идут в центр, а там уж как-нибудь доберемся. Так
мы очутились на малознакомой автостанции, не зная дороги домой и смутно представляя себе
лишь направление.
— Надо было с Кораблевыми ехать, — проворчала Маринка, прикрываясь ладонью от колючего
февральского снега.
— Кораблевы совсем рано ушли, не мог же я Лешку бросить вот так… — я развел руками,
показывая, как я не мог бросить Лешку. Почему-то стало стыдно за жену, не могущую или не
желающую понимать, что такое остаться одному в темной квартире в свой тридцатый день
рождения. Стыдно не перед кем-то, а просто так.
Маринка не ответила. Мы шли незнакомым двором мимо подъездов-близнецов, согласно хрустя
снегом и с каждым шагом теряя поднакопленное в автобусе тепло. Чтобы развеселить жену, я
унылым голосом затянул песню про замерзавшего в степи ямщика. Марина фыркнула, но
интонацию я не различил, слишком вьюжисто и темно было вокруг. На всякий случай замолчал.
Черт, так действительно околеть можно, холод забрался наконец под куртку и надежно устроился
под лопатками и на груди. Да, не по сезону одежка…
«Зима, а я опять не по погоде одет…», — тихо пропел я, подпрыгивая на ходу. Маринка
покосилась в мою сторону, но опять промолчала. Я покосился в ответ. Все-таки красивая она у
меня, а когда злится — особенно. И какой я молодец, что купил ей дубленку. В позапрошлом… в
позапрошлом?., да, в позапрошлом году взял вечерников в первом семестре, откладывал деньги
в толстенный справочник «Небензойные ароматические соединения» и на восьмое марта купил.
Правда, не обошлось без скандала — какой женщине приятно весной дубленку получить? Вот
платье или, скажем, туфли — другое дело, но ничего, вторую зиму носит — и нравится, вижу же,
что нравится! И не мерзнет почти, а нахохлилась от обиды, что по моей милости вынуждена
тащиться пешком стылыми проулками вместо уютной поездки в кораблевских «Жигулях». Ничего,
дома должно было остаться с полбутылочки «Арарата», а в холодильнике завалялся кусочек
лимона… Отогреется — подобреет…
Обо что споткнулся — не знаю до сих пор, секунду назад мечтал о коньяке и теплой постели — а
уже падаю, вытянув руки и открыв зачем-то рот…
Снег был везде: на крышах домов и козырьках балконов, на скворечниках и голубятнях, на ветвях
и даже стволах деревьев, на приподъездных лавочках, в мусорных контейнерах, во рту, за
очками… Но больше всего снега набилось, конечно, за воротник. Остатки тепла мигом выдуло изпод свитера, вниз к пояснице скользнули несколько ледяных комочков.
— Беляев, ворон считаешь? — равнодушно спросила Маринка. — Поднимайся, не рассиживайся,
поздно уже, я замерзла.
Вставать не хотелось, каждое движение отзывалось холодом. Я выплюнул ледяной комок
(«никогда не ешьте желтый снег» — вспомнилась бородатая шутка) и, сняв очки, тупо уставился
перед собой.
Череда случайностей с полной нелепицей в финале. В очках, да с такой близорукостью, мне
никогда бы не увидеть эту надпись. Сидя на снегу и бездумно отряхивая колени, я разглядывал
табличку, прибитую к стене похожего на общежитие здания. «СПОСОБНЫ ЛИ ВЫ ЛЮБИТЬ?» —
вопрошала табличка крупными буквами. Ниже, мелким шрифтом — приписка. Поднявшись, я
подошел ближе и прочел послание полностью.
СПОСОБНЫ ЛИ ВЫ ЛЮБИТЬ?
Строго научный метод определения способности к любви.
НИИ Проблем Мозга.
И уже под табличкой, прямо по стене дома голубой краской: «Вход со двора».
Любопытная Марина, видя мою заинтересованность, тоже приблизилась к объявлению и с минуту
внимательно изучала его.
— Бред какой-то, — зло констатировала она, прочтя трижды. — Совсем мракобесы распоясались!
Раньше были экстрасенсы, биоэнергетики, колдуны разноцветные… «лицензия номер такой-то», а
теперь глянь-ка — целый НИИ. Куда мир катится?! Скоро назад, на деревья влезем… Глупость,
варварство и невежество…
Я покивал. В подобный бред не поверил бы и в юности, а уж в тридцать… Но куда-то исчез холод,
стало жарко и до колик страшно — вдруг вправду могут вот так, запросто обнаружить,
диагностировать и разложить по полочкам самое волшебное и сокровенное из всех чувств?
— Пойдем домой, холодно, — сказал я, обнимая одной рукой жену, а другой вытирая со лба пот.
— Не волнуйтесь, Андрей Кузьмич, никакого жульничества, все совершенно научно. Посмотрите,
разве я похож на проходимца?
Высокий вежливый доктор в белоснежном халате колдовал над маленьким нестрашным
приборчиком. Он деловито щелкал тумблерками и подкручивал верньерчики, периодически
делая пометки в рабочем журнале. Был доктор деловит, сосредоточен и совсем не походил на
проходимца.
— Не похожи, — честно ответил я. — Сам не знаю, кого я тут ожидал увидеть, бабку какую-нибудь
замшелую или астролога бородатого.
— Прошли времена бабок, дорогой Андрей Кузьмич, — доктор настроил аппаратуру и теперь,
повернувшись, прилаживал к моей голове датчики, — современная наука берется за решение
самых философских и даже, я бы сказал, сакральных задач.
— И что, вот так просто?.. — неуверенно начал я.
— Почему просто? — обиделся доктор. — Мы с профессором восемь лет над этой проблемой
работали. А если бы вы знали, как трудно было выбить у института эту базу, да и то… — Он обвел
рукой жалкий кабинетик, расположенный в полуподвале общежития.
— Я не в том смысле, — смешался я, — просто, любовь, и вдруг — приборы.
— А что «любовь»? — Доктор явно оседлал любимого конька. — Любовь, любезный мой — такой
же талант, как и все остальные: может быть, а может и не быть. Как музыкальный слух или
способности к языкам. У вас с языками как?
— Не очень, — неохотно признался я, — как-то больше к точным наукам.
— Ну вот, — обрадовался доктор, будто моя неспособность к языкам была действительно
радостной новостью, — и с любовью точно так же.
— Как «так же»?
— Если нет любви, то есть что-нибудь другое, дружба, например.
— А вы и…
— Нет, мы только любовь определяем. Это я так, для примера сказал, природа, она ведь,
батенька, не терпит суеты.
— Пустоты, — автоматически поправил я.
— Простите?..
— Природа не терпит пустоты. А суеты не терпит служенье муз.
— Да, конечно. — Доктор совершенно не смутился, его уверенность была непробиваема.
Последний датчик, тем временем, пристроился у меня за правым ухом. — Закройте глаза и
расслабьтесь, думайте о чем-нибудь приятном. Больно не будет.
Приборчик едва слышно гудел, самописец с тихим шорохом, сантиметр за сантиметром, выпускал
из себя ленту. Больно не было, было страшно.
Я из страха сюда и пришел, точнее, чтобы избавиться от страха. Три дня бродил по квартире из
угла в угол, снедаемый вечной интеллигентской рефлексией: «Что, если?»— и наконец решился.
Улучив момент, когда жена наносила внеочередной визит к теще, я сорвался сюда. Почему-то
вопрос, способен я любить или нет, стал для меня самым важным за последние дни. Раньше —
любил, и все, но теперь этого было мало, требовалось научное подтверждение права на любовь.
О чем бы приятном подумать… О Маринке. Вернусь домой и небрежно так скажу: «Проходил
сегодня мимо той смешной конторки «Проверьтесь на любовь» и заглянул посмотреть. Не
поверишь — все по-настоящему: аппаратура, врачи. И знаешь, какой у меня результат?
Положительный на сто процентов!» Тьфу, пошлость какая. Тем более — еще не факт, вдруг все как
раз наоборот выйдет!.. Чепуха, я же знаю, что люблю свою жену… Зря пришел, дома надо было
сидеть… О приятном… Познакомились мы забавно, ничего сверхоригинального, но есть, что
вспомнить. В ночном клубе здоровенный долбак, в дым проигравшийся в казино и оттого пьяный
и злой, прицепился к хорошенькой девушке за соседним столиком. Девушка знакомиться
отказалась наотрез, и он распустил руки. Когда я попытался тактично вклиниться между ними,
амбал начал меня бить. Говорят, со стороны это выглядело, как драка: ничего подобного —
избиение. Каким образом у него оказался разбит нос, я не знаю, скорее всего, громила сам
неосторожно расквасил сопатку при очередном замахе, но когда нас растащила охрана, лицо его
было все в крови. Я случайно оказался героем, и, как победителю, девушка Марина досталась
мне… Быстрей бы уже кончилось… Кресло неудобное, нога чешется… Что у меня еще приятного в
жизни было?.. В Симеиз в первый раз поехали вдвоем, с палаткой, и ливень ночью жуткий, и все
уже промокло, а сверху капает еще; Маринка разозлилась страшно на меня, на мою затею
дурацкую, а мне хорошо, радостно до безумия, что вот он — я, вот — она, и мы вместе… и я
прижал ее к себе и целовал, целовал, и потом мы любили друг друга, и было тепло… и дождь
прошел…
— Просыпайтесь друг мой, все закончилось, — аккуратные пальцы осторожно снимали датчики с
головы, — можно открыть глаза.
— Ну, что?! — теперь я мог представить, что ощущает пациент после опасной и тяжелой операции.
— Какой результат?
— Посидите на кушеточке пять минут, я сейчас расшифрую вашу энцефалограммку.
Я примостился на углу кушетки, все больше ощущая себя пациентом, ожидающим окончательного
приговора врача. Доктор сидел за столом, перебирая в руках длинную бумажную ленту, в
несколько рядов испещренную неведомыми каракулями. Время от времени он делал на ленте
пометки красным карандашом или обводил кружком какие-то участки.
— Итак, дружочек, вот наш результатик. — Доктор повернулся ко мне. — Сигма-ритм, к
сожалению, отсутствует, что в сочетании с высокой степенью регулярности колебаний
биопотенциалов… да что я, вам ведь нужен просто ответ. Словом — нет. Увы, любить вы не
способны. Совершенно. Разумеется, это касается только любви к женщине. Родину или детей,
скажем, — любите сколько угодно. У вас дети есть?
Я наконец смог проглотить рвущуюся наружу рвоту и потряс головой. Наверное нужно было что-то
сказать, поблагодарить за помощь любезного доктора, пожать может быть руку на прощание, но я
сидел в странном оцепенении и не мог произнести ни слова. Доктор видимо понял мои чувства,
подошел вплотную и положил руку на плечо.
— Успокойтесь, Андрей Кузьмич, не нужно делать из этого трагедию. Миллионы людей живут и
знать не знают ни о какой любви. В вашем быту ровным счетом ничего не изменится. Вам сколько
лет, тридцать? Прожили ведь без всякой любви, и еще столько же проживете. Было бы здоровье,
— он подмигнул.
— Почему?.. — наконец выдавил я.
Доктор вздохнул и опять взял в руки сложенный гармошкой листок.
— Вот здесь, — он показал пальцем в обведенный карандашом участок, — совершенно сглажены
межзональные различия…
Он еще что-то говорил, но я не слышал. Комната растворялась: теряли очертания предметы,
задрожал, расплываясь, энцефалограф с семизначным инвентарным номером на боку,
заколыхался и сам доктор… Я плакал.
— …доминирует зонально-дифференцированный альфа-ритм с затылочно-лобным градиентом
параметров и средней амплитудой… Андрей Кузьмич, да вы что?! — доктор прервал пояснения.
— Прекратите! Как институтка, в самом деле. Говорю же вам, ничего страшного не произошло,
половина человечества, подобно вам, не способна любить!
— Половина? — я решил, что ослышался.
— Именно, — подтвердил доктор, — ровно половина. Пятьдесят на пятьдесят по статистике.
Он провел меня к выходу, но у двери замешкался с замком.
— А жена?
— А что жена? — невинно спросил доктор.
— Как вы думаете, ей говорить или не надо?
— Полностью на ваше усмотрение. Но лучше не надо. Она ведь вас любит?
— Конечно любит! — с жаром заверил я.
— Тогда ей незачем знать правду. Всего доброго. Я вышел в коридор и остолбенел…
Полчаса назад, когда я боязливо мялся перед дверью, сомневаясь, идти или нет, здесь никого не
было. Теперь же на стульях, рядком поставленных вдоль стены, сидели трое. Парочка молодых
людей — юноша и девушка, явно пришедшие вместе, о чем-то тихо шептались, бросая время от
времени опасливые взгляды на дверь. Пришли провериться «на любовь», да не решаются. Чуть в
стороне, особняком, глядя прямо перед собой, сидела Маринка. Вот и съездила к маме.
Сзади скрипнуло, и вышедший следом за мной доктор громким веселым голосом сказал:
— Следующий!
Ощущение «больничности» всего происходящего скачком усилилось. Ребята испуганно замолчали
и посмотрели на Марину. Она повернулась на голос и начала вставать, но тут увидела меня. Глаза
расширились, в них мелькнул неподдельный ужас человека, уличенного в измене. Впрочем, я
тоже чувствовал себя предателем… Улизнул тайком, не сказав ни слова… Стыдно…
Марина пришла в себя первая. Не тратя времени на пустые выяснения обстоятельств, она
спросила:
— Ну, как?
Я промолчал, и моя умная жена поняла все без слов.
— Жди меня, — велела она и скрылась в кабинете. Ребята переглянулись и снова зашептались.
Два шока подряд — это слишком. Я с трудом нашел выход на улицу и стоял среди зимы в
расстегнутой куртке и с непокрытой головой, не чувствуя холода. Как же так? Жил человек, верил
в любовь, думал, что сам любит, и вдруг — шарах! — все перечеркнуто. Почему именно у меня,
почему именно любовь? Почему не музыкальный слух или способности к языкам?.. впрочем,
языки ведь тоже… Да что я с языками этими… Как же теперь с Маринкой, как я в глаза ей смотреть
буду? Она ведь меня… Стоп! А вдруг и она… и у нее… Пятьдесят на пятьдесят… Бедная, она ведь не
переживет!.. То есть, переживет конечно, но какой это будет удар… Чепуха, о чем я? Она ведь
любит меня, уж это-то ясно без всякой науки. Сейчас все подтвердится, и мы пойдем домой, а уж
там… Что там?..
Пошел снег. Постепенно возвращалось чувство реальности, подцепив по дороге глухую тоску.
Почему я не лишен способности испытывать страдания? Почему у меня нет таланта быть веселым
и жизнерадостным при любых обстоятельствах? Почему я — инвалид, навсегда лишенный
способности любить?!
Лавина дурацких вопросов, грозившая сдернуть меня в пропасть истерики, была остановлена
появлением Марины. По ее лицу ничего невозможно было прочесть. Не говоря ни слова, она
подошла ко мне, и взяв под руку, двинулась прочь. Я так же молча шел рядом, пытаясь заглянуть в
глаза жене и разглядеть там ответ на мучивший меня вопрос. Сейчас я волновался наверное
сильнее, чем даже тогда, в кабинете, ожидая своего приговора.
Мы отошли уже метров на сто, когда я, собравшись с духом, спросил:
— Прошла? — и затаил дыхание.
Марина приподняла бровь — это всегда получалось у нее очень эффектно, — и, коротко взглянув
на меня, ответила вопросом:
— А ты сомневался?
— Слава богу! Я так рад! — с души с громким грохотом свалился здоровенный камень. Я в самом
деле был почти счастлив.
— Чему?
— Что?
— Чему ты, собственно, радуешься? — Марина остановилась и прямо посмотрела на меня.
— Рад, что у тебя… что ты… — я мямлил, не зная, что сказать, — что ты меня любишь.
— А ты?! — закричала в ответ жена. Из глаз потекли слезы.
— И я тебя лю… — я в ужасе запнулся, представив, что она сейчас обо мне думает. Все слова,
признания, клятвы, все что было в последние пять лет, кажется ей сейчас ложью.
— Как ты мог… как я могла?.. — прошептала она, рыдая. — Я тебе верила, любила… Я любила
тебя, ты слышишь?!! — сорвалась в крик.
Я молчал, проклиная себя за бездействие. Ее сейчас нужно обнять, прижать покрепче, приласкать,
успокоить, а не стоять столбом, боясь притронуться. Но я не мог, я чувствовал, что потерял на это
право.
— В общем, я решила, — сказала Марина неправдоподобно ровным голосом, — сегодня я ночую
у мамы, а завтра подаю на развод.
— Развод? — переспросил я, не веря ушам.
— А чего ты ожидал? После того, что выяснилось, я не вижу другого выхода. Эта твоя ложь… так
гадко.
Мир перевернулся. Я чувствовал себя оболганным; откуда ни возьмись, нахлынула злость.
— Бред! — закричал я, — ты же сама говорила, что бред! Ты же не поверила сразу! Там же…
колдуны, лицензии, невежество… Дуриловка все это.
Я выдохся.
— Если бы «дуриловка» была — деньги брали бы, а так — бесплатно. — Жена смотрела на меня
спокойно и немного укоризненно, как на ребенка, оспаривающего очевидное. — Ты же сам
знаешь, что не прав. Давай-ка разойдемся без скандалов, и так тошно.
Она развернулось и пошла: простоволосая, в рыжей дубленке до колен, стройная, красивая.
Способная любить.
— Я люблю тебя! — в отчаянии закричал я. Она не обернулась.
Снег был везде: и на невидимых снизу крышах, и на скользкой земле, и на узеньких голых
подоконниках, в обманчиво-широких птичьих кормушках, на зазабореной детской площадке, на
ресницах, в душе… Я стоял посреди зарождающейся пурги, беспомощно глядя в спину уходящей
жене, и замерзал. От полного, безысходного отчаяния удержала почти случайная мысль. Не помня
себя, я бросился назад.
Поздно. Когда я подбежал к общежитию, они уже выходили. Мальчик был сдержан и суров, так по
мнению юношей должны наверное выглядеть смертельно обиженные, оскорбленные, но
сильные духом люди. На спутницу он не смотрел. Девушка негромко всхлипывала, держась за
рукав кавалера, и искательно заглядывала ему в глаза. Слез она не стыдилась.
Пятьдесят на пятьдесят.
Ребята прошли мимо, не заметив меня. Через несколько шагов юноша вырвал руку из ладошек
девочки и, не оглядываясь, двинулся прочь, стараясь каждым шагом попадать в мои следы.
Высокий, широкоплечий, в черной кожаной куртке, он совершенно не был похож на Марину, но
мизансцена повторялась с такой точностью, что на секунду я увидел в нем — ее.
— Я люблю тебя! — крикнула девочка.
Мальчик не обернулся.
И пока мы смотрели ему вслед, я мог читать ее мысли. Это было нетрудно, мы думали об одном.
Почему вы так бессердечны, люди, умеющие любить?
Дяченко Марина и Сергей – Вирлена
(~37 мин., фэнтези
Трижды и очень по-разному рассказанная история о девушке, попытавшейся спасти свою любовь
с помощью колдуна. А как было на самом деле известно только авторам.)
…И вот костер понемногу пригас, а вместе с ним затихла обычная охотничья похвальба. Все трое
сидели теперь молча и смотрели в умирающее пламя, а над ними разлеглась ночь, и ночь была на
много верст вокруг, теплая, бархатная, пронизанная вздохами и шорохами, исколотая иголками
звезд.
– Пора и на покой, – сказал наконец первый, седоусый, но сильный и кряжистый, всеми
уважаемый охотник.
Второй, совсем еще юноша, обиженно сдвинул брови:
– Разве ты ничего не расскажешь? Разве сегодня не будет Истории?
Третий, в чьих зубах дымила массивная трубка, почему-то загадочно улыбнулся.
Седоусый хмыкнул – конечно же, его История ждала своего часа, но, признанный рассказчик, он
ждал просьб и увещеваний.
– Расскажи! – юноша ерзал от нетерпения, взглядом умоляя о под– держке обладателя трубки –
но тот молчал, по-прежнему улыбаясь.
– Поздно, – произнес седоусый неуверенно, и юноша готов был обидеться, когда молчавший
дотоле охотник вытащил изо рта мундштук и, дохнув дымом, попросил тоже:
– Расскажи.
На минуту стало тихо, только покрикивала вдалеке ночная птица.
– Что ж, – промолвил со вздохом седоусый, – что ж… Расскажу.
И все трое завозились, устраиваясь поудобнее. Двое готовились слушать, один – говорить.
И вот, умостившись как следует, седоусый выдержал паузу и начал с подобающей
торжественностью:
– Помните ли вы осину, что росла у южной околицы?
– Трехглавую? – радостно осведомился юноша. – Да ее ведь спилили в прошлом году…
Седоусый покивал:
– Совсем старая была, сухая… Сто лет стояла, пока не засохла. Тень в жару давала, да только никто
в ее тени не прохлаждался – стороной обходили, заклятой звали… Почему?
– Почему? – эхом откликнулся юноша.
Седоусый вздохнул и начал свою Историю.
…Давно это случилось.
Ей было семнадцать лет, и звалась она Вирленой, и ни одна девушка во всей широкой округе не
могла сравниться с нею красотой. Грудь Вирлены вздымалась, как речная волна, косы Вирлены
отливали золотом и покорно падали к самым ее ступням, маленьким и розовым, ничуть не
огрубевшим оттого, что все лето красавица бегала босиком; глаза Вирлены, раскосые, зеленые,
могли свести с ума одним только робким взглядом. Даже дряхлые старики, даже сопливые
мальчишки выворачивали шею, встретив ее на улице, а что уж говорить о юношах и зрелых
мужчинах! И, конечно, порог ее дома постоянно оббивали сваты, засланные достойными и
богатыми семьями – оббивали, да только возвращались ни с чем, потому что Вирлена давно уже
выбрала себе пару.
По соседству жил в большой семье Кирияшик – ясноглазый, улыбчивый, круглолицый друг ее
детства. Он был моложе Вирлены почти на год, но с младенчества росли вместе. Беззаботная
дружба обернулась нежной любовью, и Кирияшик, сам не ведая как, без борьбы получил право
на сокровище, о котором мечтало столько достойных мужчин; родители влюбленных давно уже
сговорились о свадьбе.
И вот, счастливые, оба с трепетом ждали заветного дня – когда случилось несчастье.
Грянул рекрутский набор; как ни вертели, как ни откупались родители Кирияшика – а выпало ему
идти в солдаты на двадцать лет, считай, навеки.
Солнечный румянец сошел с пухлых щек Вирлены, и стали они бледны, как мел. Ранним утром по
главной улице села змеей тянулась колонна новобранцев. Она видела, как мелькала в толпе
голова Кирияшика, детская беззащитная голова с шапкой пшеничных, как и у нее, волос. Она
видела, как растерянные глаза его ищут среди крика и плача невесту – и гаснут, так и не разыскав
ее в толчее.
Колонна потянулась за село – страшные усатые люди в нелепой форме выкрикивали команды, и
Вирлена сжималась от выкриков, как от ударов. Вскоре она потеряла Кирияшика из виду;
вереница рекрутов тянулась все дальше и дальше, и редела толпа провожающих – матерей и
невест. Вот Вирлена осталась одна, она шла и шла за колонной, как привязанная, хоть босые ноги
ее давно сбились в кровь; страшный офицер прикрикнул на нее – и, обомлев от этого крика, она
так и осталась стоять, а колонна, от– даляясь, обернулась пятнышком на длинной-длинной
дороге, и вот там, куда ушел Кирияшик, осталось только облачко пыли…
Только в сумерках Вирлена вернулась в село, и девичья подушка в ту ночь приняла на себя всю ее
горечь и отчаяние.
А утром, еще затемно, когда все спали, Вирлена выскользнула из дому и по чуть приметной
тропинке отправилась к колдуну, что жил за озером.
Она шла, стиснув зубы, безжалостно накрутив на кулак великолепную косу, и страх ее поник перед
силой ее заветного желания.
Колдун был дома; сидя у огня, он набивал чучело летучей мыши. Похоже, он удивился – не так
часто девушки из села наносили ему визиты. В селе боялись этого мрачного, морщинистого, хотя
не старого человека – он, по слухам, мог за одну ночь сжить со свету целую семью, мог наслать
град или засуху, мог устроить так, что вчера еще здоровый и мощный хозяин за несколько дней
превращался в иссохшего, нищего, полубезумного пьяницу… И к этому-то человеку пришла
Вирлена.
– Добро пожаловать! – каркнул колдун и засмеялся. Лучше бы он этого не делал – искаженное
смехом, темное лицо его с крючковатым носом было еще страшнее.
Но Вирлена, одержимая отчаянием, не испугалась.
– Зачем ты пришла ко мне? – отсмеявшись, спросил колдун. – Ты мне не нужна – стало быть, я
тебе нужен?
– Я пришла к вам с просьбой, – сказала Вирлена, справившись с голосом. – Моего жениха,
Кирияша, вчера забрали в войско. Я люблю маму и отца, но Кирияшика я люблю больше. Зачем
подсолнуху гнить без солнца? Зачем мне жить без Кирияшика? Никто не в силах повернуть время
вспять, но я отдам вам все, что имею – деньги, сундук с приданным и гребень с самоцветами,
сделайте так, чтобы он вернулся! Неужели и вы не в силах?!
Колдун снова усмехнулся:
– Ты сказала – я не в силах? Глупая… Я действительно могу сделать это, но зачем мне твой сундук с
приданым? И гребень с самоцветами?
– Я отдам все, что попросите! – воскликнула Вирлена, и зеленые глаза ее вспыхнули, и на щеки
вернулся румянец.
– Это правда? – засмеялся колдун. – Ты действительно так его любишь?
Вирлена закивала, и золотые косы ее упали на высокую грудь.
– Что ж, – сказал тогда колдун, – я согласен… Я сделаю так, что твой жених вернется; ты же
придешь ко мне сегодня на закате и уйдешь на рассвете!
Как воск сделалось лицо Вирлены, и зашаталась она. Колдун тряхнул черными патлами:
– Разве не ты только что клялась, что отдашь все?
– Нет, – сказала Вирлена чуть слышно, – такую цену я не могу заплатить.
– Что ж, – сказал колдун разочарованно, – тогда ты увидишь его через двадцать лет!
И он вернулся к своей работе.
Тихо-тихо, очень осторожно ступая, Вирлена отправилась домой, и всюду, куда ни падал ее
рассеянный взгляд, мерещилось ей веселое лицо Кирияшика. Так добрела она до околицы; там
стояло у дороги странное дерево – осина с тройным стволом, с тремя мощными расходящимися
ветками – люди прозвали ее трехголовой осиной. День был в самом разгаре, и радостно светило
солнце, и пели птицы в ветвистой кроне; здесь, средь бела дня, Вирлена повесилась на
собственных косах.
История закончилась, но трое еще долго сидели в тишине, нарушаемой лишь звуками ночи.
– С тех пор это дерево считают проклятым, – сказал, наконец, седоусый.
– Как жаль, – в глазах юноши отражались пляшущие огоньки костра, – какая грустная История… Но
разрешите рассказать вам другую! Ее много раз повторял мой дед… Пусть вам не кажется, что
наши повести похожи – на самом деле это совсем, совсем другая История.
Обладатель трубки улыбнулся еще загадочнее, чем обычно.
Заручившись молчаливым согласием слушателей, юноша начал рассказывать взволнованным,
прерывающимся голосом.
…Деве было семнадцать лет, и она звалась Вирленой. Никто во всей округе не мог сравниться с
ней красотой, и скромностью, и благонравием; всеобщее внимание никак не испортило ее
характер. Она никогда не высмеивала неудачливых кавалеров, как это свойственно кокеткам; а
все ее кавалеры были неудачниками, потому что любила она одного Кирияшика, соседа, друга
своего детства.
Это была славная пара – любо-дорого было посмотреть, как жених с невестой идут по улице – не
касаясь друг друга, потому что обычай не велит – но будто связанные одной ниточкой; на Вирлене
белая вышитая рубаха, юбка с нарядным передничком и красный шелковый поясок с кисточка–
ми; Кирияшик, любимый мамин сын, небрежно поправляет тонкий шейный платок. Оба румяные
и золотоволосые, оба веселые и совершенно невинные, и о свадьбе давно уже сговорено…
Грянула беда – рекрутский набор, и вот Вирлена одна стоит посреди дороги, и ноги сбиты в кровь,
и только облачко пыли вдалеке осталось от Кирияшика…
Всю ночь она не сомкнула глаз, но не плакала – слезы все вышли. А утром отправилась за озеро,
туда, где на опушке леса в неприветливом домике жил колдун.
Страшный это был человек, и недобрая о нем ходила слава. Злые, бессовестные люди обращались
иногда к нему за помощью – извести кого-нибудь, сжить со света, наслать хворь – это он мог, и
потому матери, отпуская детей за грибами, строго-настрого, под страхом розги, запрещали им
даже близко подходить к жилищу чародея… Говорили про него, что он и исцелить может – да
только боялись его от этого не меньше.
И к этому-то человеку пришла Вирлена.
В доме колдуна пахло травами; сам хозяин сидел у очага, где, несмотря на жаркое лето, вовсю
горел огонь. На коленях у него дремала, свернувшись, толстая змея.
– Нечасто встречаю таких гостей! – сказал колдун с усмешкой. – Ты мне не нужна – стало быть, я
тебе нужен? Говори, зачем пришла!
И, когда девушка рассказала о своем горе, покачал головой:
– Неужели ты так его любишь?
– Ах, – сказала Вирлена, – я готова все, все отдать, чтобы Кирия– шик вернулся домой!
– Все? – и колдун рассмеялся, и стал еще отвратительнее, и мороз пробрал Вирлену до костей.
– Я выполню твою просьбу, – сказал колдун, – но с тебя потребуется плата. Ты придешь ко мне
сегодня на закате, а уйдешь на рассвете!
Земля закачалась у Вирлены под ногами, и черная пелена закрыла от нее мир.
– Нет, – прошептала она, дрожа, – эта плата мне не под силу!
Вновь рассмеялся колдун:
– А коли так – жди своего дружка двадцать лет!
Змея, напуганная его смехом, соскользнула с колен его и, сплетаясь кольцами, скрылась под
лавкой.
И Вирлена, шатаясь, пошла домой.
Но не отошла она и десяти шагов от колдунова порога, как в сплетениях веток, в буйстве трав, в
ряби, набегающей на поверхность озера, привиделся ей Кирияшик – веселый, нежный, добрый
друг ее, оторванный от родного дома, навек лишенный счастья…
Вирлена оглянулась – колдун стоял на пороге, привалившись к косяку – страшный,
отвратительный, со спутанными черными патлами, с огромным крючковатым носом, с горящими,
как уголья, глазами… Он смотрел на нее, и взгляд этот пронизывал Вирлену насквозь.
Тогда она разрыдалась:
– Сжальтесь надо мной! Попросите чего-нибудь другого…
Но ответствовал колдун:
– Ничего другого ты мне дать не можешь. Или плати мою цену – или забудь о дружке!
И сказала Вирлена, вцепившись в золотые косы:
– Будьте прокляты! Я приду.
Весь день она дрожала, как в лихорадке; весь день она мечтала, чтобы мать, догадавшись обо
всем, заперла ее на ночь. Но у матери хватало своих забот и своего горя; вечером, на закате,
Вирлена соврала ей что-то и отправилась в дом за озером.
Ноги ее не желали идти – тряслись и подгибались. Шепча имя Кирияшика, вспоминая его лицо,
она видела перед собой только безобразную ухмылку колдуна; несколько раз она поворачивала
назад – и снова, овладев собой, продолжала свой тягостный, мучительный путь. Роскошные
волосы растрепались и спутались, нежные губы вспухли, терзаемые белыми зубами, и в страхе
дрожала высокая грудь… Но вот и дом ее мучителя, и сам он стоит на крыльце – черный,
морщинистый, с лицом хищной птицы:
– Пришла-таки? Будет тебе Кирияшик…
Ни жива ни мертва, переступила она порог, и дверь сама собой закрылась за ее спиной, и колдун,
усмехаясь, медленно потянул за шелковую кисточку ее красного пояска.
…На рассвете она шла обратно, и не видела, куда идет. Кирияшик, – шептал ей в ухо чей-то
вкрадчивый голос, – Кирияшик… Но больно и мучительно ей было это имя – потому что не знала
она, как сможет смот– реть любимому в глаза.
Вот и околица; вот и трехглавая осина у дороги. Вирлена сама не знала, зачем остановилась;
бездумно глядела она прямо перед собой, и где-то на краю ее сознания колыхались тяжелые
ветки…
Потом она подошла к осине и повесилась на собственных косах.
Юноша замолк, и снова стало тихо. Прерывисто вздохнул седоусый и стал укладываться, и вслед
за ним хотел ложиться юноша – тогда тот, что все время молчал, выпустил наконец изо рта свою
погасшую трубку:
– Скоро рассвет… Но и я не могу не рассказать вам своей Истории.
– Ты – расскажешь? – юноша, кажется, удивился сверх меры. – Я-то думал, что ты рта не
раскроешь лишний раз!
Седоусый тоже не мог скрыть удивления:
– Разве ты умеешь рассказывать Истории?
Обладатель трубки усмехнулся, покусывая мундштук:
– Может быть, вы устали и вам неинтересно слушать?
– Нет, нет! – воскликнул юноша, по-видимому, заинтригованный. – Говори!
– Говори, – со вздохом поддержал его седоусый.
И обладатель трубки неторопливо начал свой рассказ.
В одном селе жила девушка по имени Вирлена, невиданной красы. Был у нее жених,
шестнадцатилетний юноша по имени Кирияш. Нареченные нежно любили друг друга, и не за
горами была их свадьба, но до той поры оба пребывали в почти детской невинности.
Но свадьба сорвалась – объявили рекрутский набор, и Кирияшик, чет– вертый сын в небогатой
семье, никак не мог избежать призыва.
Оба семейства страшно горевали; свет померк для Вирлены, и в самый ясный день она не видела
солнца. Вот новобранцы ушли, ведомые жестокими офицерами с хлыстами у пояса; вот стихли
топот и лошадиное ржание, и пыль осела на дороге, и село вернулось к своим делам – но Вирлена
не могла смириться с потерей.
Ранним утром отправилась она за озеро, где на опушке жил могучий и страшный колдун.
Имени его никто не знал – боялись и поминать, чтоб лиха не накликать. Прислуживали ему
нетопыри да хищные птицы, а еще поговаривали, что в полнолуние он доит молоко из воткнутого
в стену ножа, и этим мо– локом поит огромную, в два человеческих роста гадюку… Он знался с
мертвецами на кладбище, поднимался в небо на одном совином перышке, знал все заговоры и
заклинания, и много, ох как много темных, недобрых дел приписывала ему молва…
И к этому-то человеку и пришла Вирлена.
Дом стоял на отшибе, дороги к нему поросли крапивой; Вирлена изжалила босые ноги,
пробираясь к калитке. Колдун оказался дома – на столе перед ним лежали книга и человеческий
череп.
Мороз продрал по коже девушки, но она не испугалась и твердо ответила на вопрос, зачем
пришла.
– А, – засмеялся колдун, – любовь… Что ж, коли любишь, готова ли заплатить?
– Готова! – воскликнула Вирлена, в душе которой проснулась надежда.
Еще громче засмеялся колдун:
– Хорошо… Получишь своего Кирияшика хоть завтра, только на зака– те придешь ко мне… а
уйдешь на рассвете!
Ужас охватил Вирлену. Хотела она бежать… но не смогла, потому что вспомнился ей Кирияшик.
– Будьте прокляты, – прошептала она сквозь слезы, – приду…
И она пришла.
Путь ее был долог и тягостен; мучимая стыдом и страхом, она совсем уж решила возвращаться
назад – но привиделся ей Кирияшик, умирающий на поле боя, и стиснула она зубы, и снова
продолжала свой путь.
Колдун уже ждал ее:
– Пришла-таки? Ну, будет все по-твоему…
И дверь, тяжелая дверь затворилась за ее спиной – сама, без шороха, без звука. В полутемной
комнате стояли друг против друга двое – заплаканная, дрожащая девушка и отвратительный,
безжалостный колдун.
Вирлена горбилась, обхватив себя, будто пытаясь защититься; огром– ная, горячая рука тяжело
опустилась ей на плечо. По телу девушки пробежала судорога; вторая рука накрыла другое плечо.
Медленным, исполненным власти движением колдун провел ладонями по трепещущим рукавам
вышитой сорочки – и руки девушки безвольно упали вдоль тела.
– Будет тебе Кирияшик, – сказал колдун негромко, и Вирлена зажмурилась, чтоб не видеть в
полутьме над собой страшного лица. Она зажмурилась – и почувствовала вдруг, как от ее
мучителя остро пахнет горькими, терпкими травами.
– Ничего, – сказал колдун странно глубоким, потусторонним голосом, – потерпи… – и жесткие
пальцы его взялись за кисточку шелкового пояска.
Вирлена дрожала все сильнее; плечи ее сотрясались, и зуб на зуб не попадал.
– Я разожгу огонь, – прошептал колдун, и в очаге тут же вспыхнуло пламя, – тебе не будет
холодно… Пойдем…
И он увлек ее за собой в глубину своего жилища, и тонкий красный поясок, соскользнув, так и
остался лежать на пороге.
Вирлене хотелось умереть, ничего не видеть и не слышать; чужая рука коснулась ее горячей шеи,
медленно, будто изучая, провела вниз, по вороту рубашки, задержалась, опустилась ниже,
коснулась груди… Будто множество горячих игл пронизали девушку насквозь – она еле сдержала
крик.
– Ничего, – тихо, мягко прошептал колдун. – Потерпи…
И рука его двинулась ниже, ощупывая талию, оглаживая живот, и девушка замерла в надежде, что
самого страшного и стыдного места рука не достигнет – и в ту же секунду жесткие пальцы нашли
его, нашли сквозь рубаху, юбку и передник…
– Пожалуйста… – простонала Вирлена, – не надо…
– Не бойся, – прошептал колдун отрешенно. – Не бойся…
Две его горячих ладони легли девушке на бедра; провели раз, скользнули ей за спину, погладили
там… И снова и снова потерялись нетороп– ливые, мягкие прикосновения, пока у Вирлены не
зазвенело в ушах, и незнакомое, горячее, почти мучительное чувство не поднялось из самого ее
нутра – и немного ослабило дрожь.
Что-то негромко треснуло – и она сразу почувствовала, как ослаб пояс юбки и завязка передничка.
– Ой… – она схватила ускользающий подол руками – но запястья ее были тут же крепко схвачены:
– Нет.
Юбка и передник соскользнули на пол – Вирлена осталась в вышитой рубахе до щиколоток.
Горячие ладони колдуна снова легли ей на бедра, теперь она чувствовала их так ясно, будто не
тонкой ткани, а собственной ее кожи они касались. Когда-то жесткие пальцы теперь ласкали ее –
ласкали так нежно, так бережно, так ласково, что она согрелась наконец, и, справившись с
дыханием, смогла длинно, прерывисто вздохнуть.
– Хорошо, – шептал колдун в самое ее ухо, и шепот этот тихонько щекотал ее, – хорошо…
Руки его скользнули по рубашке вверх, провели по спине, по тяжелым косам, по плечам, по
голове… Ей уже не были противны эти прикосновения – она дивилась себе, она даже немного
расслабилась, будто не с ней, а с кем-то другим происходило это странное действо; дрогнули
завязки на вороте рубахи – и сам ворот ослаб, и рубаха медленно поползла, не дер– жась на
плечах…
Она вцепилась в ткань мертвой хваткой; запястья ее снова были пленены, и тихий, твердый голос
снова велел:
– Нет.
И столько силы, столько скрытой власти было в этом голосе, что Вирлена не решилась
сопротивляться, хоть как ни мучительно стыдно ей было, когда рубаха упала на пол и она осталась
стоять, совершенно на– гая.
Горячие ладони коснулись обнаженного тела. Вирлена вскрикнула и сжалась, ожидая
неминуемого и ужасного; но ужасного не случилось. Горел огонь в очаге, облизывая ее тело
волнами приятного тепла; сильные и нежные мужские руки успокаивали, осторожно
подбадривали, путешествуя по бедрам, и вдоль спины, и по плечам, и по тонкой шее:
– Ты красавица… Пугливый звереныш с атласной шкуркой. Не бойся меня… Ты видишь, я сам
дрожу перед тобой…
И он тихонько привлек ее к себе, и она почувствовала, как в груди его под черной хламидой
неистово колотится сердце:
– Нет тебе равных… Королева не сравнится с тобой… Не бойся же…
Руки его чуть сильнее сжали ее грудь – и, застонав, Вирлена выгнулась дугой, сотрясаемая новой,
невиданной дрожью – то была дрожь страха и стыда, смешанная с дрожью неизъяснимого,
неясного желания.
Сама не зная как, она очутилась лежащей на теплой, мохнатой звериной шкуре; пальцы колдуна
бегали по ее телу, как пальцы дудошника бегают по дырочкам флейты. Она металась, пытаясь
прикрыться руками, потом почему-то заплакала, потом перестала.
– Хорошо, – колдун отвел ее ладони, защищающие вздрагивающую грудь, – хорошо…
И губы его коснулись сначала белого холма, а потом розовой вершины его; она, сама не зная
зачем, обхватила вдруг его шею – не то оттолкнуть хотела, не то, наоборот, притянуть поближе…
– Хорошо, – шептал он успокаивающе, – вот как хорошо… Разве тебе плохо? Разве тебе страшно?
И рука его оказалась там, где Вирлена боялась ее больше всего.
Где-то горел очаг, и багровые отсветы падали на потолок; и тогда она внезапно, вдруг осознала,
что она сейчас – его, что принадлежит ему без остатка, и ей радостно было бы снять перед ним не
только одежду – саму кожу…
Потом было больно и горячо. Она снова дрожала, и снова всхлипывала; осторожно оглаживая ее
грудь, он успокаивал:
– Все, все… Не бойся. Не надо бояться. Уже все.
Потом она долго лежала в кромешной темноте, обессилевшая, безвольная, разомлевшая… В
дымаре дышал ветер, и тихо поскуливал дом, и снова пахло терпкими, горькими травами – и в их
запахе она ощущала едва уловимый дурманящий аромат, и ласковая рука лежала на ее голове;
потом ее заботливо накрыли шкурой – точно такой же, как та, что была под ней. Она хотела
думать – но мыслей не было, только теплая пустота…
Утром, пошатываясь, она шла домой.
Вставало солнце; подставляя ему лицо, Вирлена поняла вдруг, что сегодня увидит Кирияшика, что
они поженятся, что каждый день их будет праздником, а каждая ночь… И тело ее сладко
застонало, предчувствуя, как же сладко любить – любимого…
…В тот же день в село вернулся – радостный, напуганный, растерянный, но целый и невредимый –
Кирияшик. Какой-то там вышел новый указ, и четвертый сын в семье, да еще неполных
семнадцати лет, никак не подлежал уже набору; родичи счастливчика чуть не рехнулись от
радости, а матери других парней, уведенных вместе с Кирияшем, зачастили на дорогу –
высматривать сыновей. Надежда их скоро сменилась отчаянием – больше никто не вернулся
домой. Никто.
И вот сыграли свадьбу – пышную и веселую, и всем хватило хмельного вина, но молодые были
пьяны и так – от счастья… В какое-то мгновение Вирлена готова была признаться мужу в своем
грехе ради его спасения – но будто что-то удержало ее, и она не призналась.
И пришла первая брачная ночь, и душа Вирлены пела в предвкушении счастья, и даже страх, что
Кирияшик разоблачит ее, не мешал этому сладостному предвкушению; и вот молодые остались
одни.
Тонкими простынями устлана была широкая постель, и ровно горела свеча, но Кирияшик,
смущенный, поспешил задуть ее. В полной темноте Вирлена обвила руками его шею – и
услышала, как неровно, испуганно бьется в груди его сердце.
И она излила на него свою нежность – всю огромную, накопившуюся любовь и нежность, и он,
кажется, даже испугался. Влажные губы его неловко тыкались ей в лицо, ладони взмокли, и
пальцы никак не могли справиться с застежкой собственных штанов:
– Вирлена… – шептал он приглушенно, – я люблю тебя… Я… ты знаешь, я люблю тебя…
Она молча улыбалась в темноте и обнимала его все крепче…
Утром она увидела его лицо – Кирияшик спал на боку, подложив сло– женные ладони под пухлую
со сна, розовую щеку. Долго, очень долго Вирлена боялась по шелохнуться, чтобы не разбудить
его; по всей деревне кричали петухи и хлопали калитки – люди брались за дневную работу. Вир–
лена лежала и думала, что вот она и стала женой любимого, что Кирияшик такой юный, такой
нежный и такой целомудренный, и что, по счастью, он так ничего и не понял; она лежала и
мечтала о детях, о долгой счастливой жизни – и вместе с тем в глубине души у нее зрело чувство
потери.
Но что за тень набежала на это ясное, первое утро? Что потеряла Вирлена, обретя наконец
любимого?
Но Кирияшик вдруг заворочался – и, отогнав беспокойство прочь, она ласково поцеловала его в
розовую щеку…
…И дни пошли за днями, и двое любили друг друга, и работали, не покладая рук, и почти готов
был для них дом, где заведут они свое хозяйство и будут жить долго и счастливо.
Каждую ночь Кирияшик заключал жену в объятья, и восторженные, поспешные ласки его
вызывали в ней материнскую нежность – и только. Каждое утро Вирлена улыбалась мужу – а
чувство потери росло, как яма под лопатой землекопа, и было это чувство холодно, как могильная
земля, и безнадежно, как осенний ливень. А Кирияшик ничего не замечал – слишком наивен,
слишком беззаботен был муж, слишком слепо любил он свою молодую жену…
Свекровь ее сушила травы на зиму; однажды, помогая ей вязать и раз– вешивать по углам
травяные пучки, Вирлена почувствовала вдруг знакомый, терпкий и горький запах.
«Что с тобой?» – спросила свекровь.
Вирлена молчала, прислонившись к стене и белая, как стена – только сейчас поняла она, что за
тоска грызет ее душу.
Долго-долго думала она, и много бессонных ночей провела рядом с посапывающим Кирияшиком;
уж и родичи встревожились – щеки ее ввалились, плечи опустились, вся она исхудала, как щепка –
уж не больна ли?
И, когда упал первый глубокий снег, Вирлена осознала, что в душе ее совсем не осталось радости
– одна огромная потеря, одна тянущая боль и тоска по безвозвратно ушедшему.
И вот мутным, снежным зимним утром Вирлена тихонько встала и отправилась… за озеро, туда,
где на опушке леса жил колдун.
Полгода не виделись они; полгода Вирлена старалась все забыть. Теперь нехоженая тропинка
завалена была сугробами, и Вирлена увязала в них по колено, и ветер хлестал ей в лицо.
Колдун был дома – отворачивал лопатой снег от крыльца.
– Ого, – сказал он, обернувшись, – редкие гости… Но ты мне не нужна – стало быть, я тебе нужен?
Вирлена остановилась перед ним, ни жива ни мертва. Снегом присыпаны были его черные
спутанные волосы, и так же выдавался на лице крючковатый нос, и так же горели угли-глаза.
Вирлене показалось, что в морозном воздухе чуть слышно повеяло травами.
– Я пришла, – сказала Вирлена, – потому что не могу больше жить без вас. Возьмите меня или
убейте.
Печально усмехнулся колдун:
– Но разве ты не получила свое счастье? Разве твой муж, которого я вызволил, не любит тебя
больше жизни? Разве ты сама не готова была умереть, лишь бы вернуть его?
– Да, – сказала Вирлена, – все так. Но горько и тоскливо мне жить на свете, и серо, и пусто, и
больше не будет лета – только зима да осень. Плачу я, думая о бедном Кирияшике – но люблю
его, как мать, а а не как жена. Не быть нам счастливыми; умоляю, возьмите меня к себе.
Снова усмехнулся колдун, и еще печальнее:
– Разве ты не видишь, что я страшен и уродлив, а твой муж – молод и красив?
– Да, – сказала Вирлена, – но он не может быть таким сильным… и таким нежным, таким
ласковым… и таким безжалостным!
Молчал колдун, и глубоко запали его горящие глаза. Снег валил и валил, и все глубже утопала в
нем Вирлена.
– Что ж, – сказал наконец колдун. – Твое прозрение запоздало. Ты ушла от меня на рассвете, а я
ведь не гнал тебя… Я вернул тебе Кирияшика, как ты хотела. Сейчас ты хочешь наоборот; кто
знает, что тебе вздумается завтра? Нет, уходи, ты не нужна мне!
И он вернулся к своей работе.
И Вирлена пошла назад.
Улегся снег, и вышло солнце, и ярким-ярким был новый день. Вот и околица; треглавая осина
стояла голая и чуть поскрипывала на морозе ветвями.
…На своих же косах.
Светало. На месте костра осталась только груда угольев.
– Вот так штука, – пробормотал юноша, – ты будто сам был там и все видел…
Обладатель трубки усмехнулся, по своему обыкновению. Седоусый крякнул, в замешательстве
потирая затекшую спину:
– Да… Вот это да уж…
Стоял тот самый предрассветный час, когда ночь уже сбежала, а утро еще не вступило в свои
права.
– Вот так штука… – снова протянул юноша, – но какая же из этих историй… Я хотел спросить, как
оно было на самом деле?
Емец Дмитрий - Влюбленная мясорубка
(~10 мин., юмор
Короткий юмористический расссказ о робком бухгалтере и страстно влюблённой в него
мясорубке)
Андрей Андреевич Ворсянкин, бухгалтер садового товарищества "Волна", имевший лицо честное,
но опечаленное десятичными дробями, в ровном расположении духа возвращался с
мелкооптового рынка, как вдруг ощутил где-то в области темени зудящее, навязчивое шевеление
мысли. Это новое ощущение так испугало Андрея Андреича, что он едва не уронил сумку с двумя
банками венгерского горошка и маргарином "Пышка".
Вслед за тем та же неведомая сила заставила Ворсянкина подойти к столику и взять в руки
мясорубку. Это была отечественная литая мясорубка с оттиснутым на ножке (рядом с винтом)
клеймом завода "ЗМЗ". Предмет абсолютно заурядный и мало вдохновляющий к приобретению.
Торговка-хохлушка сверкнула улыбчивым серебром и померкла.
"Зачем я ее взял? На что она мне?" - задумался Андрей Андреевич и хотел уже вернуть мясорубку,
когда неожиданно услышал неведомый нежный голос:
- Нет, пожалуйста... Это я тебя позвала !
Ворсянкин пугливо покосился на хохлушку, но та молчала, да и голос исходил как будто не оттуда,
а из глубин души самого Андрей Андреевича. Бухгалтер, с которым раньше не случалось ничего
сверхестественного, кроме того, что ему однажды подсунули три фальшивые сторублевки подряд,
не на шутку встревожился.
"Кто со мной говорит?"
- Это я, мясорубка!
"Мясорубка? Разве мясорубки разговаривают?"
- Обычные нет, но я могу! Сама не знаю как, и откуда, и за что, но у меня мыслящая душа. Я вижу,
слышу, думаю, но при этом не способна даже пошевелиться! - чувствительно всхлипывая, сказала
мясорубка.
"Ну и дела... - прошептал Ворсянкин. - А остальные тебя слышат?"
- Остальные нет, только ты! Единственный...
"А я это... не того?" - испугался бухгалтер.
- О нет, просто ты особенный, необычный! У тебя дар! - заверила его мясорубка. - Ты чудесный,
надежный, верный! Купи меня, пожалуйста, а?
"Зачем ты мне? Есть уже одна", - засомневался Ворсянкин, никогда не слышавший столько
приятных слов за раз.
- А она говорящая? - взревновала мясорубка.
"Чего?"
- Вот видишь! Тогда купи меня! Прошу тебя! Ты даже не представляешь, как мне тоскливо здесь!
Вокруг одни туалетные рулоны, щетки, хозяйственным мылом воняет! - воскликнула мясорубка.
Заметно было, что она натура экзальтированная и отчасти поэтическая.
Бухгалтер снял очки, подышал на них и снова надел.
"Хм... Так вот возьми и купи... А мясо ты хотя бы хорошо перемалываешь? Фарши, котлеты,
селедку?"
- Совсем не умею. При одной мысли, что в меня засовывают сырую говядину, мне делается дурно,
- брезгливо призналась мясорубка.
"А что ты тогда умеешь?" - удивился бухгалтер.
- О! Я умею любить. Дико, неистово, нежно. То холодно и целомудренно, то страстно...
"Э-э... Неуравновешенная она какая-то..." - краснея, промычал нравственный Ворсянкин.
- Разумеется, все это в высшем духовном смысле! Ведь я то, что я есть, а именно мясорубка и
никогда не превращусь в царевну, - уточнила мясорубка. Хочешь? Я буду твоей музой, твоим
добрым ангелом. Я буду диктовать тебе сонеты, нашептывать гениальные романы, залечивать
душевные раны...
"Детективы, что ль, писать? - неодобрительно подумал Андрей Андреич. - А считать ты умеешь?
НДС? Пенсионный фонд? Налоговая?"
"Щелк-щелк", - сказала клавиатура компьютера. "Клац-клац", - сказал калькулятор Casio.
- Я выше этого, выше этой грязи! Я буду тебя любить, верно, преданно! млея от страсти,
забормотала мясорубка. - Буду каждый день ждать, пока ты придешь с работы, а когда тебя нет буду представлять твои руки, твое лицо, твою красную лысину...
"КАК?!" - побурел Андрей Андреич.
- Прости, я только хотела подчеркнуть, что буду любить тебя всякого! Вне зависимости от чего бы
то ни было... Разве это не предел мечтаний? поправилась мясорубка.
"Поосторожнее с определениями!" - смягчился Ворсянкин.
- Ты даже не представляешь, как меня угнетает вечное одиночество, как мне хочется кому-нибудь
принадлежать, кого-нибудь любить... - самозабвенно бормотала мясорубка. - Женщина, подобная
мне, не может, не должна быть одинока... Пожалуйста, купи меня! Милый мой, верный, нежный...
Ведь тебя никто не любит.
"Как это никто? А жена?" - запаниковал Андрей Андреич.
- Не обманывай себя! Разве она та женщина, о которой ты мечтал? Та? Она сухая, рассудочная,
вздорная...
"М-м... а ты, значит, та?"
"О-о! Я та! Но я заточена в этом мерзком нелепом теле, с этой ручкой, с этим винтом..."
"А вот это уже лишнее... Не перегибай... Я тебе это... не голубая луна", засомневался
подозрительный Ворсянкин.
- АНДРЕЙ!!! Не опошляй! Я буду единственным ярким пятном в твоей жизни! Твоей подругой,
любовницей, твоей мечтой! - с болью, с ужасом воскликнула мясорубка.
"Ну ты это, не унижайся... Сколько ты стоишь?" - заколебался Ворсянкин.
- Не знаю, я плохо запоминаю цифры. Все эти единицы, нули... Узнай у торговки!
Андрей Андреич откашлялся и, обращаясь к хохлушке, нерешительно спросил:
- Девушка... Сколько за это... за эту?
- Триста десять. И она без коробки, - предупредила продавщица.
В Ворсянкине взыграла бухгалтерская жилка. "Щелк-щелк", - сказала клавиатура компьютера.
"Клац-клац", - сказал калькулятор Casio.
- Как триста десять? - возмутился он. - За это вот!
- Тю, да не кипятитесь вы, мужчина! Я б вам и даром отдала, да товар не мой! - с мягким
украинским выговором сказала хохлушка.
- Знаю я твое даром...
- Выкупи меня из рабства! Прошу тебя, любимый! Выкупи! Мне мерзко здесь, тошно, я умираю от
омерзения и пустоты! Все видят во мне лишь мясорубку, и лишь ты... ты способен увидеть
другое... - взмолилась мясорубка.
В засушенной цифрами душе Ворсянкина шевельнулись давние, светлые, подплесневевшие от
бездействия чувства, но мысль о трехсот внеплановых рублях заставила их увянуть.
- Не загораживайте витрину! - сказала хохлушка.
- Это грабеж! Если б хоть коробка была, а то без коробки... Почем я знаю, может, она какая-нибудь
заразная... - мучаясь, сказал Андрей Андреич, бросая тоскливый взгляд на автобусную остановку.
- Тю, заразная... - всплеснула руками торговка. - Шо я, заставляю?
- Двести, - сказал Ворсянкин, бросая вызов клавиатуре и калькулятору.
- Триста десять!
- Ну двести пятьдесят... ну триста... Ну почему триста десять? Откуда десять? - воскликнул
бухгалтер.
- Вы глухой? Вам каким языком говорят?
Глупую бабу явно зашкалило. Ворсянкина тоже зашкалило. Дело было не в десяти рублях.
Оскорблен был сам принцип, по которому он жил.
- Что же ты! Действуй! Если не можешь купить, тогда похить! Это будет романтичнее! Схвати меня
и беги! Беги! Тебя не догонят! - с беспокойством и страхом воскликнула мясорубка.
"Вот еще! Чтобы меня из-за тебя в милицию забрали! Ишь ты экстремистка какая... Нет уж, милая,
лежи тут и дальше, пускай тебя кто-нибудь другой купит", - возмутился Ворсянкин.
В запуганном сознании бухгалтера замаячил уголовный кодекс. Подбивая его на похищение,
мясорубка сделала непростительную ошибку.
Андрей Андреич, по-рачьи, словно против воли уносимый волной попятился, а потом повернулся
и, втянув голову в плечи, быстро засеменил к автобусу.
"Черт тебя возьми! Ты не можешь так просто уйти! - испуганно кричала ему вслед мясорубка. Если ты меня не купишь, я умру, погибну! Это был мой единственный шанс заговорить с кем-то! О,
я несчастная, зачем я выбрала тебя? Ведь я могла подарить себя другому, молодому, яркому, а не
тебе старому лысому хрычу! Остановись, ты не можешь меня здесь бросить! Проклятие! Ты
будешь проклят, нелюбим, сух! Я была твоей судьбой!"
Мясорубка молила, стонала, рыдала и угрожала, говоря об одиночестве и о любви, но Андрей
Андреич не слышал ее. Прижимая к груди майонез "Пышка" и венгерский горошек, он спешил
прочь, прочь...
"Щелк-щелк", - сказала клавиатура компьютера. "Клац-клац", - торжествующе сказал калькулятор
Casio. Они победили.
Емец Дмитрий - Невеста графа
(~7 мин., юмор
миниатюрная "пародия на дамский роман"
"Дорогой читатель, если вы бездетный, неженатый граф и если вам зачем-нибудь нужна
гувернантка, стройная, красивая и привлекательная, то..." этот рассказ для Вас )
После того, как мой бедный папочка оставил сей бренный мир, я осталась без средств к
существованию и должна была наняться гувернанткой к племяннице графа П.
Наемная карета довезла меня до роскошного загородного дома, принадлежащего графу. Я
подошла к парадной двери из мореного дуба, на которой был герб графа П. - вставший на дыбы
слон на синем фоне - и постучала. Дверь мне открыл высокий, стройный, элегантный мужчина, на
красивом мускулистом лице которого читалось глубокое, хорошо скрываемое страдание. Я сразу
поняла, что это сам граф П.
Граф скользнул по мне величественным взглядом, и в его прекрасных синих глазах мелькнул
огонек неподдельного интереса.
- С кем имею честь? - спросил он глубоким, хорошо поставленным баритоном.
- Миссис Джен Добкинс, ваша новая гувернатка, - я склонила свой стройный стан в реверансе и
застенчиво одернула бархатную юбку на своих красивых ногах. \К слову сказать, ноги мои так
хороши, что я часами могу любоваться ими в зеркало.\ Одета я была просто и изящно. Моя бедная
мама была француженкой, и от нее мне передалось то неподражаемое обаяние, от которого
любой мужчина теряет голову \если она у него есть\ в две минуты.
Разумеется, граф влюбился в меня с первого взгляда. Он дарил мне все, что попадалось под руку:
цветы, бриллианты, столовое серебро.
Но я была непреклонна, и из всех подарков принимала только бриллианты.
- Я честная девушка! - неизменно отвечала я ему в ответ на все его признания и одергивала юбку
на своих красивых ногах. Лицо графа бледнело от страсти, и он до крови прокусывал себе
нижнюю губу.
Однажды вечером, когда я уже была в постели, и шелковые простыни ласкали мое тело (следует
подробное описание тела на две страницы), в дверь раздался властный стук и не дожидаясь
ответа в комнату ворвался граф. Он был в розовых пижамных штанах, сквозь которые
проглядывала его мускулистая волосатая грудь. Граф был небрит, и его синие глаза покраснели от
слез. Мне даже стало немного жаль его, когда я подумала, что все это произошло от любви ко
мне.
- Я люблю тебя! И ты будешь моей! - взвыл он своим хорошо поставленным голосом.
- Я честная девушка! - гордо сказала я, заворачиваясь в простыню. Но как не поспешила я это
сделать, граф успел-таки увидеть мою прекрастную белую ножку. На лице у графа П. отразились
противоречивые чувства.
- Будь моей! Или я пущу себе пулю в лоб! - взмолился он.
- Ни за что! - отвечала я. Но тут - о небо! - одеяло соскользнуло с моего прекрасного белого плеча.
В тот же миг в глазах у графа П. появилось нечто демоническое. Я вскрикнула, вскочила с постели
и бросилась в коридор. Граф П. бегал за мной из комнаты в комнату и норовил прижать к своей
мускулистой волосатой груди. Наконец он стиснул меня в объятиях так сильно, что во мне что-то
хрустнуло и я упала без чувств.
В себя я пришла оттого, что кто-то бережно водил по моему лбу мокрым полотенцем. Я открыла
глаза и увидела склоненного над собой графа П.
- О, ты жива! Я хотел пустить себе пулю в лоб, но мой пистолет дал осечку. После же выяснилось,
что он вообще был не заряжен, - сказал граф и опять попытался прижать меня к своей груди.
- Ни за что! - прохрипела я, тщетно вырываясь из его страстных объятий, Я честная девушка!
Граф П. демонически расхохотался.
- Не надо было падать в обморок! - произнес он замогильным голосом.
Я вскрикнула и в порыве безотчетной страсти упала ему на грудь...
- Я женюсь на тебе, - пообещал граф, нежно похлопывая меня по спине. - Я обязательно на тебе
женюсь.
Именно в это самое мгновение я поняла, что всегда любила графа П.
Через два дня была наша свадьба. Во время свадебной церемонии мне показалось, что
священник смотрит на нас как-то странно.
- Наверное, тоже в меня влюблен, - подумала я, осознавая неотразимость своих чар.
Наш медовый месяц был как один непрерывный сон. Но потом я стала вдруг замечать в глазах
моего супруга какую-то непонятную грусть, которая с каждым днем все усиливалась.
- Поведай мне все! О, я все пойму! Клянусь, всё! - взмолилась я однажды, вставая перед ним на
колени и заламывая руки.
Мой супруг с тоской повернул ко мне лицо:
- Дорогая, меня тяготит ужасная тайна. Я хотел рассказать тебе обо всем еще до свадьбы, но не
решился, - сказал он. - Дело в том, что я не тот, за кого ты меня принимаешь. Я не граф П., а его
дворецкий. Граф П. с племянницей отдыхает на водах в Ницце, а меня оставил присматривать за
домом.
Небо обрушилось в моих глазах мелкими осколками.
- Как? Ты не граф? - воскликнула я.
Загорелое мускулистое лицо моего супруга покраснело. Он потупился.
- Завтра граф возвращается в свой замок, - произнес он через силу. - Не могла бы ты вернуть
бриллианты, которые я тебе подарил? Я украл их в столе у графа.
- Мерзавец! Так обмануть скромную беззащитную девушку! - закричала я, как только смысл его
слов дошел до меня. - Прощай, несчастный! Я ухожу от тебя! Но не думай, ничтожество, что я
верну тебе бриллианты!
Дорогой читатель, если вы бездетный, неженатый граф и если вам зачем-нибудь нужна
гувернантка, стройная, красивая и привлекательная, то не забудьте обо мне, умоляю вас. Но
помните, черт возьми, что я честная девушка!!!
Искандер Фазиль - Влюбленная парочка (Козы и Шекспир)
(~14 мин., совр. проза
Любовь? Да что вы! Исключительно трезвый расчёт…)
Они сели за столик, за которым до этого сидели Андрей Таркилов и Юра. Оба были
необыкновенно хороши. На вид ей было лет двадцать, а ему тридцать. Он был высок и даже за
столиком горделиво-нежно склонялся над ней. Он был одет в белоснежный костюм, на горле его
трепыхалась бабочка. Такие галстуки-бабочки здесь носят чрезвычайно редко. У него был могучий
лоб и мужественное горбоносое лицо кавказца.
Она была тонкая как тростиночка. Одета она была в желтое платье с короткими рукавами. Сев,
она как бы бессильно сломалась, обратив к нему большеглазый профилек с очаровательным
носиком. Густые каштановые волосы ее доходили до самых глаз, как бы готовые в случае
надобности перерасти в чадру. Налетающий с моря бриз иногда смело лепил ее хрупкую фигуру.
Может, боясь, что ее подхватит ветер, он положил свою крепкую ладонь на ее руку. Мне
показалось, что это молодожены, сбежавшие сюда от гостей.
Молодой человек заказал бутылку шампанского, плитку шоколада и велел принести три бокала.
Из этого следовало, что они кого-то ждут. Я решил, что из всех гостей они выбрали одного, самого
близкого, и шепнули ему, где они собирались тайком посидеть. Я даже решил про себя, что это
тот человек, который когда-то познакомил эту очаровательную пару.
Парень разлил шампанское в два бокала, дождался, когда осела пена, и долил.
— За успех нашего дела, — сказал он и, протянув бокал, чокнулся с девушкой.
Ее тонкая рука с бокалом доверчиво потянулась к его бокалу. Девичий пушок проблеснул на ее
загорелой руке.
Оба они выпили свои бокалы. Он сломал плитку шоколада, выпростал из нее кусок и подал ей.
— Я боюсь, что мне будет противно, — сказала девушка, прожевывая шоколад, — и он заметит
это. Особенно если сауна там, массаж…
— Чепуха, — сказал он, — что ты, маленькая, что ли?! Он довольно красивый мужчина… Ему лет
шестьдесят пять, но выглядит он гораздо лучше.
Он снова налил шампанское в оба бокала.
— Ты сам будешь презирать меня после этого, — сказала она.
— Глупости! — сказал он. — Я буду вечно благодарен тебе за эту услугу. Мы будем жить так, что
нам все будут завидовать. — Он наклонился к ней, и его огромный лоб, казалось, пытался не
столько убедить ее, сколько забодать. Кстати, по моим наблюдениям, огромные лбы
свидетельствуют не столько об умственном содержании головы, сколько об умственных усилиях.
А это далеко не одно и то же.
— Ты будешь всю жизнь упрекать меня этим, — сказала она, — а я только ради тебя согласилась.
Ты уверен, что место, которое он тебе обещает, очень выгодно?
— Конечно, — сказал он, — я лучший специалист по табакам. Я знаю всех директоров табачных
фабрик и всех председателей колхозов. На умелом манипулировании сортами мы будем делать
деньги.
— Ты будешь всю жизнь упрекать меня этим, — повторила она.
— Только подлец может упрекнуть тебя этим, — сказал он.
— Ты и есть подлец, — сказала она и выругалась матом. Трудно было в это поверить, но это было
так.
— Так у нас ничего не выйдет, — сказал он. — Не дай Бог, если шеф услышит от тебя что-нибудь
нецензурное. Старайся быть легкой! Смейся! Тебе так идет смех.
— Мне сейчас не до смеха, — сказала она. — Ты представляешь, если это дойдет до твоего отца?!
— Никогда не дойдет, — строго сказал он, — если ты сама ему об этом не скажешь.
— Как глупо, что твой отец не так богат! А он старше твоего отца?
— Они однолетки. Но мой отец нищий по сравнению с ним. Он самый богатый фирмач в Абхазии.
Если он возьмет меня к себе на работу, мы обеспечены на всю жизнь. Отец уже купил нам
двухкомнатную квартиру. Больше он ничего не может. Пока. Пока жив, я хочу сказать. После его
смерти имущество разделим. Дача достанется мне и моему младшему брату.
— Две семьи на одной даче. Пойдут скандалы.
— Может, откупимся от брата. Вот для этого мне нужна работа в этой фирме.
— Мне все-таки не по себе. Давай выпьем еще по бокалу.
Он снова разлил шампанское, и они выпили. Она достала из сумочки пачку «Мальборо», и они
закурили.
— Что ты так волнуешься? Можно подумать, что ты девушка…
— Девушка досталась тебе, паразит.
— Что-то я этого не заметил.
— Почему же ты раньше никогда об этом не говорил?
— Раньше стеснялся. Да и не в этом дело. Главное, что мы любим друг друга.
— Ты стеснялся?! Не смеши людей! А сейчас отдаешь свою девушку какому-то воротиле.
Застенчивый сутенер! Если он больной, я убью тебя своими руками. Отравлю.
— Это полностью исключено. Он девочек с улицы не берет никогда.
— Ну, хорошо. Как мне с ним себя вести? Изображать страсть? Я не знаю.
— Ни в коем случае. Но и коровой не будь. Настоящее джентльменство женщины в постели
знаешь, в чем заключается?
— Расскажи, сукин сын, расскажи!
— Настоящее джентльменство женщины в постели заключается в том, что ты ему говоришь после
первого или второго пистона: я устала, дорогой, хватит. Стареющие джентльмены это обожают.
— Теперь я понимаю, в чем моя ошибка с тобой. Я тебе этого никогда не говорила.
— Но ведь мы молодые, и мы любим друг друга.
— Еще раз скажешь про любовь, и я не знаю, что сделаю. Прыгну в море.
— Здесь утонуть невозможно. Здесь столько пловцов! Излапают, изнасилуют, но живой вытащат
на палубу.
— Все-таки ты подлец, хотя я тебя люблю. Но представим, что все это случилось, он принял тебя к
себе на работу, мы поженились, и он к нам в гости приходит. Как я должна держаться?
— Это недосягаемая мечта, дорогая. Чтобы он, миллионер, приходил к нам в гости. Это надо
заслужить. А если и придет, веди себя как добрая хозяйка, не забывающая, но и не
напоминающая о сделанном добре. А он умеет себя вести, он с министрами знаком.
— Неужели ты ему сам меня предложил?
— Нет, конечно. Он нас увидел в театре. Позвал через телохранителя и спросил: «Что это за
девушка рядом с тобой сидит?» Я говорю: «Приятельница». — «Так вот, — говорит, — познакомь
меня со своей приятельницей, и просьба твоя на девяносто процентов будет исполнена…»
— На мое согласие всего десять процентов?
— На твое согласие ни одного процента. Он имел в виду волков, которые стремятся на это место.
— Постой, постой! Мы в театре были с Любой. Ты сидел между нами. Может, он ее имел в виду?
— В том-то и дело, что нет. Он сразу выбрал тебя. Я сделал вид, что он выбрал Любу. Он
посмотрел на меня и дал первый урок житейской мудрости. Он сказал: никогда не хитри с
фирмой, куда ты пытаешься поступить. Вот мы и договорились насчет этой встречи.
— Не понимаю ничего, ведь Люба такая красивая девушка. Особенно на расстоянии.
— Он давно не в том возрасте, чтобы любоваться девушкой на расстоянии.
— А представь, я после него пойду в прокуратуру и скажу, что мой жених заставил меня переспать
с этим великим фирмачом. Что тогда?
— Дура! Он их всех кормит. Но если найдется неопытный дурак и вызовет меня, я скажу: эта
девушка — шантажистка. Я ее пригласил в театр, а она, пока я выходил покурить, завела шашни с
миллионером.
— Какой ты все-таки, подлец, а еще бабочку носишь! А что, если я вскружу ему голову и выйду за
него замуж?
— Я сам об этом думал, но мне тебя жалко. Жена у него есть. А если б он на старости лет с ума
сошел и женился бы на тебе, тебя бы пристрелили в первую же неделю, даже если б он держал
тебя в бункере. Ты что, не знаешь, сколько родственников ждет, когда он до смерти дотрахается!
Зверье! Они ни перед чем не остановятся!
— Все-таки странно, что он выбрал меня. Люба ведь такая яркая! Ты ведь сам готов был за ней
приударить. Я видела, как вы танцевали. После этого и постели не надо.
— Готов был, если б не влюбился в тебя. Я же все это делаю ради нашей жизни. Неужели ты не
понимаешь?
— Понимаю, но как-то страшно.
— Так сошлось. Им нужен хороший специалист по табакам. Лучшего, чем я, в Мухусе нет. Но на
это место претендуют люди, у которых бабок больше, чем табака на хорошей плантации. И он за
меня горой, потому что настоящий бизнесмен, ценит хорошего специалиста.
— Постой! Постой! А если все это случится, ты будешь звать его на свадьбу?
— Не позвать на свадьбу шефа — самоубийственная глупость.
— Почему глупость?
— Потому что ты не знаешь, какие подарки здесь дарят богатые люди. Мы можем получить в
подарок трехкомнатную квартиру, конечно, взамен отцовской, двухкомнатной… Впрочем, ничего
заранее нельзя знать. Кстати, прикрой занавеску, он идет.
Ветерок раздул ее платье, и она, сдвинув ноги, пригладила его и скромно придержала руками.
На верхней палубе ресторана «Амра» появился высокий человек в светлом костюме, с довольно
приятными чертами лица, обрамленными благородной сединой.
Он деловито огляделся, иногда кивая знакомым, а потом, заметив нашу парочку, быстро и
уверенно направился к их столику.
Молодой человек вскочил, отодвинул третий стул, чтобы гостю было удобнее присесть, и стал
наливать шампанское в третий бокал. Рука его явно дрожала, и видно было, что он взволнован.
Человек присел за стол, властно оглядел обоих застольцев, и было видно, что девушка ему сейчас
очень нравится. Он явно был доволен собой, что не ошибся в выборе. Она сидела опустив глаза, и
это делало ее еще более привлекательной.
Он поднял бокал.
— Выпьем за нашу встречу, — сказал он и, строго взглянув на молодого мужчину, добавил: —
Пока ничего не получается. Но ты не огорчайся. Один из основателей нашей фирмы зуб имеет
против твоего отца и из-за того выступил против тебя. Все эти кавказские штучки портят бизнес.
При чем тут сын? Но скоро он свою фирму организует и тихо уйдет от нас. Тогда твоя кандидатура
— верняк.
Видимо, больше у него времени не было. Он поставил свой недопитый бокал на стол. И встал во
весь свой внушительный рост. Он властно взял девушку за руку и поставил рядом с собой:
цветущий старик с цветущей внучкой.
— Кстати, нам нужна интеллигентная секретарша, — сказал он, — вскоре мы начнем торговать с
турками. Мы можем ее оформить.
— Я знаю английский язык, — краснея и подняв лицо к шефу, сказала девушка, — я окончила
Московский университет. Я могу поддержать разговор почти на любую тему.
— Очень хорошо, — сказал шеф с придыханием и, крепко прижав к себе девушку, пошел к
выходу.
— Чао! — быстро обернувшись, махнула рукой девушка своему жениху. Тот ничего не ответил. Но
когда они скрылись, он налил полный бокал шампанского и опрокинул его, как водку. Потом он
быстро пошел куда-то звонить, и вскоре к нему явилась другая девушка. Скорее всего, это была
Люба. Они кутили, но я их уже не слушал. Я только вынужден был согласиться, что выбор
дальнозоркого шефа был намного точнее.
Каганов Леонид - Любовь Джонни Кима
(~30 мин., фантаст. Рассказ
Любовь как наказание за преступления.)
— Я расскажу вам историю великой любви! — загремел под сводами голос мистера Броукли. —
Нашим Джонни двигала любовь! Великая любовь к музыке! Вспомним, Джонни родился и вырос в
небогатой семье, но с детства любил клипы! Вы видели его комнату? Она оклеена плакатами
эстрадных звезд! Еще в колледже, как только Джонни удавалось заработать немного денег, он
тратил их на музыкальные карты! Он жил музыкой! Обменивался альбомами с приятелями по
району! Мечтал собрать коллекцию всей музыки Земли! Но откуда простому пареньку взять
столько денег?
Мистер Броукли сделал эффектную паузу, прокашлялся и налил себе воды. Я с надеждой смотрел
на его сутулую фигуру в старомодном пиджаке, на его горло — толстое, старческое, в багровых
складках. Оно пульсировало, как сердце, в такт глоткам.
— Нет! — кашлянул мистер Броукли и поставил стакан. — Не таков наш Джонни! Он не пошел
грабить банк! Он не стал продавать наркоту на улице! Почему? Джонни не преступник! Применив
свой талант электрика, Джонни строит в гараже невиданный, уникальный прибор! Который
позволит ему отныне переписывать для домашнего пользования любые понравившиеся…
— Самодельную копировальную технику и сканер для снятия государственной защиты с карточек
Джонни приобрел у электронщика Скотти Вильсона, также проходящего по делу музыкальных
пиратов, — сообщил обвинитель монотонным голосом.
— Пожалуйста, не перебивайте адвоката. — обиделся мистер Броукли. — Уважаемые судьи! Да,
Джонни не ангел! Да, собирая личную коллекцию, ему пришлось заняться незаконным
копированием. Порой ему приходилось изготовлять карточки и для друзей — обменивать,
дарить… А кто из вас, уважаемые судьи, устоит перед соблазном поделиться своей радостью с
ближним? Разве не сам Господь благословил нас делиться всем, что имеешь? Должны ли мы так
жестоко наказывать Джонни? Мой подзащитный признал вину и раскаялся! Разве он не наказан
уже тем, что у него конфисковали дорогостоящую аппаратуру и всю фонотеку, которая была ему
дороже жизни?! Нет! Мы дадим ему еще один шанс начать честную жизнь! Да хранит Господь
Соединенные Штаты Земли!
Мистер Броукли картинно замер с поднятой рукой. Наступила тишина. По залу кружилась большая
осенняя муха.
— Напоминаю суду, что в гараже обвиняемого найдено более восьмидесяти тысяч незаконно
изготовленных музыкальных карт, — произнес обвинитель бесцветно. — За два года подпольной
деятельности он продал перекупщикам свыше двухсот тысяч музыкальных карт, заработав на
этом более ста тысяч кредитных знаков.
— Ну, не знаю… — обиженно пробурчал мистер Броукли и сел.
И я понял, что мне крышка. Странно, но до этого момента я еще надеялся, что все обойдется.
Дальше я помню смутно, и лишь последняя речь судьи впечаталась в память, словно ее вбили
туда молотком:
— Суд признает Джонни Кима виновным в незаконном изготовлении и распространении
авторской продукции. Суд приговаривает Джонни Кима к семи месяцам лишения внутренней
свободы.
В ту ночь мне снилась статуя Свободы. Она стояла на песчаном берегу, пламя гулко рвалось из
поднятого факела и освещало заревом бегущие морские волны. Она была живая, я видел ее
гладкую розоватую кожу. На ней была обтягивающая майка. Она не смотрела на меня, смотрела
далеко-далеко в море. И танцевала. Даже не танцевала, просто легонько покачивала бедрами,
чуть сгибая то одну, то другую коленку — как уставшая девчонка на танцполе. А над ней кричали
чайки. Кричали так тоскливо и пронзительно, что в конце концов я понял: это телефон. И
проснулся.
Оказалось, даже не телефон — звонили в дверь. Чертыхаясь, я завернулся в одеяло и прошлепал в
прихожую. На пороге стоял Григ с ящиком пива.
— Надеюсь, не разбудил? — спросил он осторожно.
— А как ты думаешь?
— Я ж не знаю, как ты теперь… — Григ запнулся, — думал, тебе все равно не спится… Я
волновался, что ты… Телефон отключен, ну и это… Решил приехать. Тебе же сейчас нельзя
одному?
— Со мной порядок, — сказал я. — Телефоны в суде попросили отрубить, а потом я и забыл. Да
проходи уже, не стой в дверях! Сейчас оденусь.
Пока я одевался и чистил зубы, Григ успел порылся в моем холодильнике и приготовить яичницу.
Есть мне совсем не хотелось. Я отхлебнул пива и теперь задумчиво щекотал яичницу кончиком
вилки.
— Тебя напрягает об этом рассказывать? — спросил Григ.
— Любопытство заело? — усмехнулся я. — Да нет, чего тут напряжного? Что именно тебе
интересно?
— Ну, я сидел в зале, когда эта сука объявила семь месяцев. А потом тебя увели.
— Остальным чего дали, не запомнил?
— Дика отпустили. Он отмазался, типа курьер, и вообще не знал, что в коробках.
— Ну слава богу, еще не хватало загреметь Дику с женой и ребенком…
— Спасибо, что меня не сдал… — потупился Григ.
— А ты по-любому тоже курьер. Так что не скули. Скажи лучше, как дядька Вильсон?
— Два с половиной года…
— Два с половиной?! — изумился я. — Вот звери! Ты ему звонил?
— Да чего ты за Скотти волнуешься? У него уже вторая судимость за подпольную электронику.
Говорят, вторая идет намного легче. Скажи лучше, что с тобой было?
— Тебе интересно? Я тебя разочарую — ничего интересного. Повели меня в подвал, в судебную
лабораторию. Дали подписать какую-то бумагу — я не помню, херня какая-то. Измерили
давление, вкололи под лопатку какую-то гадость. Усадили в кресло, пристегнули, надели на
голову электроды. Лоб с подбородком воткнули в специальную рамку, чтоб не вертел башкой.
Там экран перед креслом, на нем заставка крутится — статуя Свободы, разумеется. А что дальше
было, я не помню — отрубился.
— А потом?
Я неосторожно ткнул вилкой, глаз яичницы лопнул и потек по тарелке веселым желтым ручьем.
— Все. Отстегнули от кресла и отправили домой. Предлагали отвезти на полицейской машине, но
я отказался — на хер надо? Поехал на подземке. Добрался до дому и спать лег.
— Ну, а как… ощущения?
— А то сам не представляешь? Забыл, как в колледже от тебя Кэтти ушла? Как мы вот так же
сидели, и ты мне тут в соплях рассказывал, что жить без нее не сможешь, и больше никто и
никогда…
— Да уж прямо в соплях из-за этой шлюхи! — обиделся Григ. — Да и когда это было?
— Не важно когда, важно как. Вот точно так же, только по максимуму. И к статуе Свободы. И не
пройдет, пока не снимут через семь месяцев. Самому было интересно — как им это удастся? Чтоб
я, да к статуе… Не знаю как, но удалось.
— Наверно, это лучше, чем в тюряге сидеть, как было до реформы правосудия? — кивнул Григ с
набитым ртом.
— Не знаю… — задумался я. — Не знаю, что хуже. Я типа продолжаю жить сам по себе, где хочу и
как хочу… С другой стороны — на хер мне это теперь надо?
— Тяжело?
— Очень тяжело… — вздохнул я.
— Держись, — сказал Григ.
— Держусь.
— Интересно, а если бы ты геем был? А тут статуя Свободы…
— Во, точно. — Я отхлебнул пива. — Вот эту анкету я и подписывал! Если б я девкой был или геем
— меня б в статую Гагарина втюрили.
— А ты не мог их обмануть? Сказать, что гей, и у них бы ничего не сработало?
— А если бы сработало?
Мы помолчали.
— На, съешь еще и мою, все равно мне не хочется. — Я подвинул Григу свою тарелку.
— А можно нескромный вопрос? — сказал Григ. — Ты на нее дрочишь?
— Ты долбанутый? — разозлился я. — Ты понимаешь, что такое любовь? Трахать я могу кого
угодно, вон Эльке сегодня позвоню! Любовь — это когда жить без нее не можешь! Когда
постоянно думаешь о ней! Когда готов все сделать ради нее! Когда хочется каждую минуту быть
рядом! Просто рядом!
— Понял, — сказал Григ. — Сорри. Не голоси.
Мы снова помолчали. Григ доел мою яичницу и открыл вторую бутылку пива.
— Адвокат — урод полный, — сказал он.
— Урод, — кивнул я. — А говорили — лучший. Жалко денег.
— Судьи — подонки, — сказал Григ. — Семь месяцев!
— Подонки, — вяло кивнул я.
— Статуя Свободы, — сказал Григ. — Не могли хотя бы девку симпатичную найти? Почему
выбрали для наказания такую страшную…
Закончить он не успел — мой кулак врезался ему в подбородок. Григ мешком кувыркнулся на пол,
бутылка выпала, стукнулась об стену и разлетелась на сотни зеленых брызг.
— Джонни, ты чего?!
— Пошел вон из моего дома, урод!!! — рявкнул я и почувствовал на глазах слезы ярости. — Если
ты еще раз что-нибудь подобное скажешь про нее…
Я еще раз оглядел собравшихся — они сидели по кругу в мягких креслах. Некоторые из них были
полными отморозками — видно по харям. Но были и приличные люди. Особенно меня позабавил
пожилой толстячок, чем-то похожий на адвоката Броукли, — он суетился, пытаясь сесть поудобнее
и пристроить на коленях старомодный ноутбук. Но правая нога у него не сгибалась, а
прислоненная к креслу тросточка все время падала, и ему приходилось за ней мучительно
нагибаться. Когда в комнату вошла строгая молодая женщина в белом халате, все замерли, а
затем раздалось хором: «Здравствуйте, Марта!»
— Здравствуйте, — сказала Марта и посмотрела на меня. — У нас новенький?
— Джонни Ким, — сказал я. — Распространение авторской продукции. Семь месяцев.
— Тс-с-с!!! — укоризненно зашипела Марта. — Зачем же так? У нас не принято называться по
имени и сообщать статью! Надо было выдумать псевдоним!
— Почему?
— Это свобода тайны личности. Джонни… раз уж вы открылись, мы будем называть вас Джонни?
Вы стали участником группы психологической помощи…
— Я пока только зашел посмотреть, что это такое.
— Как давно вы осуждены?
— Восьмой день.
— Хе! — усмехнулся крупный детина с неприятным взглядом.
— Осуждены впервые? И почему вы до сих пор не ходили на занятия? — удивилась Марта. — Два
раза в неделю это совершенно бесплатно! Если чаще — то на коммерческой основе.
— Что, помогает?
— Внимание! — Марта подняла голову и дважды хлопнула в ладоши. — Помогают ли наши
занятия?
— Да-а-а… До-о-о… До-о-о… — закивали со всех сторон.
— Тогда начнем. Джонни, вы пока можете ничего не говорить, только смотреть. Чувствуйте себя
свободно! Если захотите высказаться — мы поговорим с вами об этом. Итак, Демон?
— Здесь, — сказал громила с неприятным взглядом.
— Вы выполнили домашнее задание группы? Прочитайте.
Демон неожиданно скис и покосился на меня.
— Демон! — хлопнула Марта в ладоши. — Не стесняйтесь новичка! У вас с Джонни одно
прекрасное чувство любви к Свободе! Читайте!
— Личное письмо к Свободе, — забубнил детина, вставая и разворачивая мятый листок. —
Дорогая Свобода. Мне без тебя очень плохо. Я о тебе все время думаю. Ты классная. Ты очень
хорошая. Скучаю, что тебя нет со мной. Мне без тебя плохо. Я тебя люблю. Все.
— Все? — удивилась Марта.
— Все сказал, чего размусоливать? — смущенно пожал плечами детина и неожиданно всхлипнул.
— Это лучше, чем в прошлый раз. Садитесь, Демон. Кто еще написал? — Марта оглядела группу.
— Я! — неловко приподнялся толстячок, тут же сел обратно и торопливо распахнул ноутбук. — Я
написал новую главу романа!
— Начина-а-ается… — вздохнул кто-то.
— Мистер Фольстен, она большая? — спросила Марта. — Может, оставите мне прочесть?
— Ну, она, конечно, большая… — совсем по-детски заныл толстяк, — но я постараюсь зачитать
быстренько…
Марта шагнула к нему и мягко закрыла ноутбук.
— Мистер Фольстен, а вы перескажите нам своими словами?
— Ну… — глаза толстячка забегали, — Я писал о том, какое это счастье — любить. Мне кажется, я
никого в жизни не любил так, как Свободу!
— А жену? — хмыкнул Демон.
— Разве их можно сравнивать? — обиделся толстяк. — Жену я люблю, конечно. И любил всегда. И
в определенном смысле сейчас тоже, конечно, люблю…
— Она тебя не ревнует?
— Демон, вас, кажется, никто не перебивал! — хлопнула в ладоши Марта и снова повернулась к
толстячку. — Итак?
— Ну, в общем, я писал о том, что каждая любовь — это счастье! Даже такая несчастная и
безответная, как у меня! Какое это счастье — засыпать с мыслью о любимой и просыпаться с этой
мыслью! Как это прекрасно — осознавать, что она есть на Земле, что она стоит с факелом! И пусть
я недостоин ее любви, зато я могу ей подарить свою! Я благодарен суду за это счастье, за эту
небывалую, пылкую любовь в мои преклонные годы…
— Прекрасно! — сказала Марта. — Все слышали? Давайте поаплодируем мистеру Фольстену за
эти красивые, мудрые слова! Мистер Фольстен, значит, вы больше не станете прыгать из окна?
— Я… — мистер Фольстен затравленно оглянулся, — я буду стараться…
— Прекрасно! — сказала Марта. — А теперь мы бы хотели услышать Мэджик Ловера!
Все необычайно оживились и посмотрели на нескладного парня с растрепанными волосами и
едва заметным синяком под глазом. Лоснящаяся кожа на его щеках, лбу и подбородке была
бугристой и воспаленной, а само лицо — угрюмым, с безумными глазами.
— А сто услысать? — неожиданно произнес Мэджик Ловер.
Я удивился, но, видно, остальные уже привыкли к его дикции.
— Например, о твоей ревности. Ты продолжаешь ревновать Свободу к остальным членам нашей
группы?
— А сто ее ревновать? Как я ее люблю, так ее никто не любит! — твердо сказал Мэджик Ловер.
— Ты за базаром следи! — рявкнул Демон.
— И пусть меня убьет эта обезьяна, я все равно люблю Свободу больсе! Больсе! Больсе!!!
— На улице обсудим, — сухо бросил Демон. — Сегодня огребешь по полной.
— Прекратите ссориться! — хлопнула в ладоши Марта. — Мэджик Ловер, расскажи нам, как ты
любишь Свободу?
— Сначала ясыком, — сказал Мэджик Ловер. — Потом спереди. Потом в рот. Потом ссади.
Я напрягся, да и остальные тоже замерли.
— Пиндец тебе, — сказал Демон.
— Это мы есе посмотрим, — огрызнулся Мэджик Ловер.
— Спокойно! — сказала Марта и хлопнула в ладоши. — Мэджик Ловер, но ведь мы уже решили,
что пользоваться надувной Свободой из секс-шопа для осужденных — это безнравственно и не
приносит покоя душе?
— Дусе не дусе, а все пользуются, — огрызнулся Мэджик Ловер.
— Не все! — зашумела группа.
— Поднимите руки, кто пользуется надувной Свободой? — хлопнула в ладоши Марта.
Наступила тишина, поднял руку только Мэждик Ловер, хотя многие потупили взгляд.
— Демон, поднимай руку! — сказал Мэджик Ловер. — Обезьяна драчливая!
— Видит бог, я не хотел, — буркнул Демон и пружинисто вскочил с кресла.
— Нет! — крикнула Марта.
Но Демон уже нависал над креслом Мэджик Ловера, отводя для удара костлявую руку. И вдруг
между ними ярко блеснула вспышка, раздался звук хлыста, и в воздухе остро запахло озоном.
Демон как подкошенный рухнул спиной на ковер. По металлической молнии его куртки туда-сюда
гуськом бегали синие искры. Испуганно завизжала Марта.
— Разрядник! У него разрядник! — завопил мистер Фольстен и вскочил, заслоняясь ноутбуком,
как щитом. — За Свободу!
— За Свободу!!! — взревела группа и метнулась к Мэджик Ловеру.
Я подавил в себе желание кинуться следом, а просто улизнул оттуда, потому что сидел ближе всех
к двери. Вспышек за спиной не было — видимо, разрядник отобрали.
— Джонни! — Элька постучала в дверь. — Звонит Григ, сказать ему, что ты в ванной?
— Пошли его на хер! — крикнул я, откладывая бритву и выключая душ. — Чего ему надо?
— У него сегодня день рождения, приглашает нас с тобой на вечеринку.
— Черт, я и забыл! Поздравь его!
— Он уже повесил трубку. А что мы ему подарим?
Мы долго бродили с Элькой по маркету, взявшись за руки, пока не вышли на этаж одежды. Элька
сразу зависла в отделе белья, а я покрутился бесцельно и зашел в отдел шляп. Как обычно, я
думал о Свободе. Мне представлялась ее складная фигурка, устремленная вверх, ее властное
лицо и длинные ноги с круглыми коленками. В голове крутились сценки и диалоги. Вот я прихожу
с ней на день рождения к Григу. Григ открывает дверь — а там я. А рядом — Свобода.
— Познакомься, это Свобода, — говорю будничным тоном.
— Как тебе это удалось?! — изумляется Григ.
— Просто я люблю его! — говорит Свобода и кладет мне руку на плечо.
Нет! Целует меня прямо в губы! Григ каменеет от зависти. Я обнимаю ее за талию, и она, такая вся
запрокинутая, повисает на моей руке…
Я взял с полки черную шляпу с большими полями. Как бы мне хотелось подарить эту шляпу ей!
Она бы ей так шла! Ведь эти колючки ей совсем не к лицу, от того оно и кажется слишком
суровым.
— Привет, зайка! — говорю я, заходя в комнату, где она развалилась на кровати в одном халатике
и читает книгу, покачивая изящной ножкой. — Угадай, какой подарок я тебе принес?
— Вот уж не знаю… — улыбается она своей неповторимой улыбкой. — Может быть, зажигалку?
— Шляпу! Прекрасную черную шляпу! Примерь, я прошу тебя.
Она берет из моих рук шляпу и подходит к зеркалу. Халатик ее полураспахнут. Она надевает
шляпу и кокетливо наклоняет голову. Шляпа полностью скрывает колючки.
— Господи! — шепчет она так, что у меня бегут мурашки по позвоночнику. — Только ты мог
сделать мне такой подарок! Мне так нравится! Скажи, мне идет? Принеси, пожалуйста, из
прихожей мой факел и дощечечку?
— Господи! Зачем Григу эта хасидская шляпа?! — раздался над ухом резкий голос Эльки.
— Элька, до чего ж ты порой мерзкая! — вырвалось у меня.
— Скучаешь, Джонни? — спросила Сюзен, присаживаясь рядом и одергивая мини-юбку.
— Просто думаю о своем, — уклончиво ответил я, вертя бокал.
— А ты не думай. Ты расслабься и веселись! Потанцуем? — Она качнула белыми кудряшками.
— Да что-то настроения нет.
Сюзен повертелась на диване, выставила вперед изящную ногу и внимательно ее оглядела.
— Григ вашу шляпу измазал тортом.
— Угу.
— Элька пошла с Максом за сигаретами. Второй час их нет.
— Угу.
— Ты ее совсем не ревнуешь?
— Чего ее ревновать?
Сюзен вытянула другую ногу.
— Смотри, какой педикюр сделала. Нравится?
— Нравится.
— Специально открытые туфли надела.
— Специально для меня?
— Специально для всех. Дай отпить? — Она нависла надо мной и прижалась губами к бокалу.
— Для всех — это не для меня. Я осужденный.
— Глупый Джонни. Ты меня совсем-совсем не хочешь? — Сюзен положила ладонь мне на грудь и
посмотрела в глаза.
— Хочу. — Я пожал плечами. — Но я люблю Свободу. Я думаю о ней целые дни. Мне тошно. Мне
ничего не хочется. Я не могу работать. Я не могу отдыхать. Я не могу спать и есть. Я похудел на
десять кило. У меня трясутся руки. Я вздрагиваю, когда раздается телефонный звонок, хотя
разумом понимаю, что она не может звонить. Ты не представляешь себе, что это такое. Мне не
хочется жить. Мне без нее очень, очень, очень…
— А Элька?
— Что Элька? Элька — дура…
— Верно, Элька не слишком умна, — сказала Сюзен неожиданно трезвым голосом и вдруг
шепнула: — Поехали ко мне?
— Прямо сегодня? — засомневался я, — Но, Сюзен…
— Я не Сюзен. Называй меня Свободой. Я похожа! — Она подняла руку и вдруг чиркнула
зажигалкой.
— Поехали! — кивнул я.
— Я Свобода! — шепнула Сюзен мне на ухо. — Я хочу тебя! Я люблю тебя, мой единственный!
— Ты прелесть! — прошептал я, чувствуя, как по позвоночнику бегут мурашки. — Спасибо тебе,
Сюзен!
Балка под потолком гаража выглядела надежной, и я примотал к ней провод. Помял его в руках —
шнур казался вполне гибким. На всякий случай смазал его машинным маслом. Масло воняло
неприятно, но, в конце концов, мне не так уж долго его нюхать. А вот сделать хорошую петлю
получилось не сразу — шнур елозил в руках и плохо гнулся. Наконец я сделал петлю, вытер
масляные руки об штаны и залез на табуретку.
— Тю! — раздалось за моей спиной, и я испуганно обернулся, насколько позволяла петля.
Дверь гаража была распахнута, похоже, я не запер ее. Или запер? В дверном проеме на фоне
холодной осенней ночи маячила знакомая фигура — пузатый плащ и беспорядочные патлы вокруг
здоровенной лысой макушки.
— Скотти Вильсон? — не спросил, а скорее кивнул я.
— Привет, малыш Джонни, — сказал Вильсон. — Вот зашел тебя проведать, а дома никого нет.
Прочел твою записку. Какие красивые слова! Жаль, она их никогда не прочтет.
— Вильсон, что тебе надо? — заорал я и почувствовал, что краснею.
— Мне очень и очень скверно, — сказал Вильсон. — Мне нужен человек, который со мной
поговорит. Я знаю поблизости одно уютное местечко.
— Очень скверно? — недоверчиво спросил я, слезая с табуретки.
— Ужасно, — подтвердил Вильсон. — Штаны переодень, все в масле. Кто же вешается в белых
штанах? На них так плохо будет смотреться моча…
— А почему тебе скверно, дядька Вильсон? У тебя же вторая судимость? Так сильно страдаешь по
Свободе?
— Я страдаю, когда вижу молодых дурачков вроде тебя. Джонни, ты мужик или нет? Тебе не
стыдно так страдать из-за бабы?
— Как? — растерялся я.
— Ныть из-за бабы. Хныкать. Жаловаться. Вешаться. — Вильсон говорил кратко и требовательно.
— Посмотри на кого ты похож! Нытик, а не мужик! Возьми себя в руки! Вытри розовые сопли!
Наплюй!
— Хорошо тебе говорить, дядька Вильсон, — я достал платок и высморкался, — со второй-то
судимостью…
— Не второй, а четвертой, если уж на то пошло… Ты мне другое скажи — кто она? На кого ты
повелся, дурень? Железяка с факелом! Рожа квадратная! Глаза пустые! Ни сисек тебе, ни писек!
— Как… — опешил я. — Как ты можешь так говорить про свою любовь?!
— Кто тебе сказал, что я ее люблю?
— Погоди… — я уже начал догадываться. — Так ты… ты любишь Гагарина?
— Я люблю деньги.
— Как же это? — совсем растерялся я.
И тут до меня дошло.
— Вильсон… Ты… Ты мне поможешь?
— Это будет немножко стоить… — сказал Вильсон.
— Я готов!
— Это будет немножко больно…
— Что может быть больнее?!
— Это может не получиться…
— Я верю, это получится!
— Об этом может кто-нибудь узнать…
— Об этом никто никогда не узнает!!!
— Переодень штаны, я жду тебя в машине, — цыкнул зубом Вильсон и вышел из гаража.
— Я расскажу вам историю великого самоубийства! — гремел под сводами голос мистера
Броукли. — Мы знаем, что многие осужденные решаются на это. Многие погибают. Иные
остаются калеками на всю жизнь. И никто не судит их за это! Но не таков наш Джонни! Да, он
пытался убить себя! Убить невиданным, уникальным способом! Но убил лишь свою любовь к
Свободе! Можем ли мы осуждать Джонни за то, что он хотел умереть и не умер? За то, что хотел
жить и выжил?
— Разблокировал судебное наказание при помощи самодельного прибора Скотти Вильсона,
также проходящего по делу о досрочно освободившихся преступниках, — сообщил обвинитель
монотонным голосом.
— Не перебивайте адвоката! — обиделся мистер Броукли. — Уважаемые судьи! Да, Джонни не
ангел! Он оступился? Да! Он в порыве отчаяния бросился на крайние меры? Да! Но можем ли мы
осуждать его? Нет! Мы просто дадим ему еще один шанс продолжить свое наказание! Да хранит
Господь Соединенные Штаты Земли!
Мистер Броукли замер с поднятой рукой, будто держал в ней факел. Наступила тишина. Вокруг
руки кружились молодые весенние мошки. А потом был удар молотка.
— Суд признает Джонни Кима виновным в незаконном обретении внутренней свободы. Суд
приговаривает Джонни Кима к трем годам лишения внутренней свободы в дополнение к сроку
предыдущего наказания…
Катаев Валентин - Уже написан Вертер (отрывок)
(~ 12 мин. современная проза
Любовь и долг. Как совместить стремление к светлому будущему всего человечества со своим
отдельно взятым светлым будущим? Долг и любовь - при смешивании получается
смертельный коктейль.)
…Похожий на громадного навозного жука виолончелист втащил на крышу конки стул, а потом и
свой инструмент, так же, как и он сам, напоминавший жука, и в то время, как вагон, подрагивая на
несвойственных ему рельсах, тронулся дальше, из-под смычка стали вытекать густые, как сироп,
звуки серенады Брага, а уличные мальчишки бежали за конкой, восхищаясь написанными на её
стенах пейзажами, восходящим солнцем, символической фигурой свободы, красными
фабричными корпусами с кирпичными трубами и карикатурами на врагов советской власти.
Среди артистов, фокусников, клоунов, агитаторов и поэтов в вагоне тряслись также художники
Изогита.
Тут же присутствовала и она, не без умысла вскочившая в вагон на одну из площадок. Она уже
давно завела дружбу с художниками поэтами и считалась, как тогда любили выражаться, своим
парнем. О ней было известно, что она работает где-то машинисткой, посещает совпартшколу,
готовится в Свердловский университет в Москве и является большой поклонницей поэзии и
живописи.
Отчасти это была её маска, но отчасти она и вправду любила людей искусства. В ней всё ещё
теплилось мещанское преклонение перед ними, перед их славой.
До этого дня она не выказывала никакого интереса к Диме. Он считался слабым живописцем,
дилетантом, чуть ли не бездарностью.
Но на этот раз она сделала вид, будто впервые заметила Диму, правильный овал его красивого,
несколько удлинённого женственного лица, его греческий нос, нежную шею и мысик уже
порядочно отросших волос на затылке, под ямочкой-врушкой.
В те легендарные дни у молодёжи было принято как бы немного играть во Французскую
революцию, обращаясь ко всем на «ты» и называя гражданин или гражданка, как будто
новорождённый мир русской революции состоял из Сен-Жюстов, Дантонов, Демуленов, Маратов
и Робеспьеров.
— Здравствуй, гражданин, — сказала она, ударив Диму по плечу и садясь рядом с ним на
решётчатую лавку конки.
— Привет и братство, гражданка, — ответил он.
Она ему втайне давно уже нравилась, и она это чувствовала. Она продолжала держать свою
непородистую руку с короткими, но красивыми пальчиками на его плече и заглянула ему в глаза;
от неё пахло свежевыстиранной и выглаженной голландкой, заправленной в юбку, подпоясанную
ремнём с медной бляхой с выпуклым якорем.
— Митя, хочешь быть моим первомайским кавалером? — спросила она.
Он молчал в смущении.
— Молчание — знак согласия, — сказала она, взяла его под руку и прижалась, пропев ему на
ухо вполголоса фразу из романса: — «Отдай мне эту ночь, забудь, что завтра день».
Он заметил под её глазом у самого нижнего века, или даже на самом веке, маленькую, как
маковое зёрнышко, родинку. Даже не маковую родинку, а соринку. Эта соринка под красивым
глазом решила его судьбу. Яд любви и похоти проник не только в его тело, но и в душу.
«Душа тобой уязвлена».
Его душа была уязвлена.
Она только ещё слегка попробовала силу своей женской власти, а он уже был готов! Она
удивилась столь быстрой победе: девичий румянец залил его лицо.
Она добросовестно выполняла задание. Однако такая быстрая победа не могла ей не польстить.
Она принадлежала к числу тех женщин, которые сразу дают много, с тем, чтобы потом взять всё:
он потерял всякое представление о том, что с ним происходит.
После первой ночи она стала появляться в его маленькой комнатке внезапно и так же внезапно
исчезать — как предмет исчезает во сне — иногда на несколько дней, в течение которых он
сходил с ума от ревности.
Вся его жизнь была у неё как на ладони.
Несмотря на близость, он для неё оставался всего лишь юнкером, белогвардейцем. И всё же
временами она испытывала к нему жгучую страсть.
В день ликвидации группы маяка её отпустили с работы раньше времени, незадолго до заката,
как бы щадя её чувства. Чаще всего она оставалась всю ночь на работе, где спала на раскладушке
в секретно-оперативном отделе, хотя в «Пассаже» у неё был номер. Теперь она отправилась в этот
номер и стала готовиться к завтрашнему уроку в совпартшколе, делая выписки из «Капитала» и
стараясь не думать о том, что сейчас совершается. Она знала, что сейчас, судя по розовому цвету
закатного неба, их начали фотографировать.
Она не испытывала ни душевной тяжести, ни угрызений совести, ни жалости.
Просто революция уничтожала своих врагов. Но, как это ни странно, в ней ещё теплилось то
сокровенное, женское, исконное, древнее, что отличает замужнюю от незамужней.
Она ещё в Питере успела прочитать «Ключи счастья» Вербицкой и «Любовь пчёл трудовых»
Коллонтай. Она была трудовая пчела, он был трутень. Она его уничтожила. Но, несмотря на все
соблазны свободной любви, сознание своей женской полноценности, тайной гордости было
сильнее. Всё-таки она была с ним если не обвенчана, то, по крайней мере, расписана. Какая
никакая, а жена. Он какой-никакой, а законный муж. И сегодня ночью его, голого, с родинкой
между лопатками, поведут в гараж и выстрелят в шелковистую кисточку волос на его затылке.
Она хорошо знала, как это делается.
Она была не в силах заниматься. Хоть бы это всё скорее кончилось! Ни о чём другом она уже не
могла думать. Она выбежала на улицу. Её понесло как по рельсам куда-то в обратную сторону.
Она увидела утро Первого мая и лавочные весы с медными чашками, на которых бывший
меньшевик, а ныне беспартийный, некто по фамилии Кейлис, завхоз, лысый пожилой еврей в
старорежимном люстриновом пиджаке, педантично взвешивал первомайские пайки ржаного
хлеба, нарезая его острым ножом, каждый раз опуская нож в ведро с водой, чтобы липкий хлеб
лучше резался.
Стрелка весов колебалась, как жизнь, и маленькие клеймёные гирьки мал мала меньше стояли
как дети возле весов, наблюдая за действиями Кейлиса и восхищаясь, как безошибочно точно он
оперирует с продуктами, отпущенными революцией для своих граждан в день Первого мая.
На этот раз революция расщедрилась: кроме двойного пайка хлеба, сырого сахарного песка в
фунтике, свёрнутом из листка арифметической тетрадки, восьмушки турецкого табака, каждому
трудящемуся ещё полагалась бутылка красного вина удельного ведомства, запечатанная
сургучом.
Вечером он и она распили это лилово-красное вино в его комнатке. Они пили его из одной
кружки. Они заели его ржаным хлебом с кисловатой каштановой коркой, посыпая его сахарным
песком.
Это был их свадебный ужин, их первая брачная ночь.
Она отгоняла от себя и никак не могла отогнать навязчивые воспоминания. Она стала быстро
ходить по городу из улицы в улицу, стараясь не приближаться к тому дому, где совершалось
последнее. К вечеру город сделался ещё безлюднее. Изредка слышался треск мотоцикла,
везущего куда-то пакет с пятью сургучными печатями цвета запёкшейся крови. Улицы, акации и
дома были погружены уже в ночную темь. Кое-где в окне с незапертыми деревянными ставнями
колебался дымный огонёк масляной коптилки: фитилёк из ваты на краю блюдечка. Лишь в одном
месте возле некогда людного перекрёстка, рядом с витриной, где стояло хорошо известное
пыльное чучело тигра, ярко светился шипящий электрический фонарь над входом в «Зал депеш»,
где по вечерам выступали политические ораторы, вывешивались последние сводки с фронтов
гражданской войны, поэты читали стихи и потом показывали какую-нибудь старую,
дореволюционную картину с Верой Холодной и Мозжухиным, чьи белые глаза с магнетическими
зрачками отца Сергия встретили Ингу, пробиравшуюся на ощупь по набитому людьми залу.
Прямо на эстраде перед экраном, свесив босые ноги, сидели пальчики и девочки из рабочих
предместий.
Чёрный язык оборванной ленты слизал с экрана глаза Мозжухина, и тотчас на яркомелькающем экране показался худой, измученный болезнью Ленин. Он ходит взад-вперёд по
начисто выметенному Кремлёвскому двору, по его мостовой и плитам, между Царь-Пушкой и
Царь-колоколом. В стороне от него ходил Бонч-Бруевич в драповом пальто, чёрной шляпе,
бородатый, с раздутым портфелем под мышкой. И всё это документально доказывало, что слухи о
смерти Ленина вздор, что он жив, что он поправляется и доктора позволили ему выйти на
прогулку…
Прозрачно-тёмный язык лизнул по экрану. Зажёгся свет. Свет был ей невыносим. Она снова как
неприкаянная выбежала на улицу и увидела над крышами созвездия летнего ночного неба.
Наверное, её Мити уже нет на свете.
Она пошла по мучительно длинной улице, где изредка её останавливали патрули. Но у неё был
ночной пропуск.
Где-то с шумом проехал грузовик, заставляя дрожать стёкла окон. Она представила, что это
везут за город мёртвые тела, покрытые брезентом, из-под которого торчит белое колено, может
быть даже его колено.
Она прислонилась к чёрствому стволу акации и укусила потрескавшуюся кору.
Она оплакивала свою погибшую любовь, оплакивала своего Митю, ещё не зная, что он жив, и её
сознание мутилось, угасало и, угасая, уносило её в тёмные области пересечённой местности, где
почти бесшумно и почти невидимо двигался бронепоезд, рассыпая из поддувала раскалённые
угольки, а Митю уносило в обратную сторону всё по тем же заржавленным рельсам трамвая, и
уже не слабый отпечаток пальца на мокром акварельном небе сопровождал его, а полная луна
над призраком маяка.
Кинг Стивен - Человек, который любил цветы
(~19 мин., фантаст. рассказ
"Любовь способна творить чудеса. Она преображает, делает лучше, это чувство, которое
невозможно ни с чем-то спутать, ни с чем-то сравнить. Но любовь может принести не
только радость..." © S1lent)
Ранним майским вечером 1963 года вверх по третьей авеню Нью-Йорка быстро шагал молодой
человек. Одну руку он держал в кармане. Воздух был очень мягким и свежим. Начинало
смеркаться. Цвет неба медленно изменялся от голубого к нежно-фиолетовому. Это был как раз
один из тех городских вечеров, за которые некоторые люди так любят город. Люди, выходящие в
вечер из кафе, ресторанов и магазинов или просто стоящие у их дверей, блаженно улыбались.
Какая-то старая леди, вышедшая из бакалеи с двумя огромными сумками, приветливо улыбнулась
молодому человеку:
— Эй, красавчик!
Тот тоже ответил ей полуулыбкой и лениво вскинул приветствии свободную руку.
ОНА ПРОВОДИЛА ЕГО УМИЛЬНЫМ ВЗГЛЯДОМ И ПОДУМАЛА: «СТРАШНО ВЛЮБЛЕН В КОГОНИБУДЬ, НЕ ИНАЧЕ».
Он действительно именно так и выглядел. На нем был светлый серый костюм, узкий галстук
немного ослаблен, а верхняя пуговица рубашки расстегнута. Темные волосы коротко и аккуратно
подстрижены. Светло-голубые глаза были глазами очень порядочного человека. В лице его не
было ничего примечательного, но в тот мягкий весенний вечер, в мае 1963 года на Третьей авеню
в Нью-Йорке, он действительно БЫЛ красавчиком, и пожилая женщина поймала себя на том, что
ностальгически вспоминает собственную молодость, и подумала о том, что весной красив
каждый, кто торопится на свидание, кого ожидает приятный обед или ужин вдвоем, а потом,
может быть, и танцы. Весна, пожалуй, единственное время года, когда ностальгия не в тягость, и
она была очень довольна тем, что поприветствовала этого милого юношу и что он махнул ей в
ответ рукой.
Энергичной походкой с все той же полуулыбкой на губах молодой человек перешел на другую
сторону 63-й стрит. Пройдя полквартала, он увидел старика со светло-зеленой тележкой, полной
цветов. Это были, в основном, желтые нарциссы и поздние крокусы. Были еще гвозди-ки и
несколько чайных роз — тоже в основном желтые или белые. Он жевал кукурузные хлопья и
слушал громоздкий транзистор, стоявший на углу тележки.
По радио передавали плохие новости, которые никто не слушал: маньяк-убийца до сих пор не
пойман, хороших известий из маленькой азиатской страны под названием Вьетнам (диктор
произнес это название «Вайтнам») по-прежнему не получено — остается пока ждать, в Ист-ривер
найдено тело женщины — личность не установлена, суду присяжных штата Нью-Йорк не удалось
доказать причастность некоторых членов администрации штата к истории с крупной партией
героина — еще одна битва в войне с наркомафией проиграна, русские провели еще одно ядерное
испытание. Все это казалось в этот вечер каким-то нереальным и совершенно никого не
волновало. Воздух был мягким и теплым. Двое мужчин с отвисшими от пива живота-ми
пересчитывали свои пятицентовики и время от времени обменивались дружескими шутливыми
тумаками. Весна плавно переходила в лето, а лето в городе — пора романтических мечтаний.
Молодой человек прошел мимо цветочника, и голос диктора постепенно стих у него за спи-ной.
Затем он вдруг остановился и, задумавшись, обернулся. Немного поколебавшись, он до-стал из
нагрудного кармана пиджака бумажник и, заглянув внутрь, положил его обратно. Затем он
потрогал какой-то предмет в другом кармане, и на мгновение на его лице появилось выражение
озадаченности, одиночества и какой-то почти загнанности или забитости. Он сунул руку в другой
карман, и на лицо снова вернулось выражение нетерпеливого ожидания чего-то очень для него
приятного.
Улыбаясь, он направился обратно к цветочной тележке. Он купит ей цветов — ей это будет очень
приятно. Он любил смотреть, как зажигаются ее глаза — она просто обожала сюрпризы. Обычно
это были небольшие скромные подарки, поскольку особенно богатым назвать его было нельзя.
Как правило, это была, например, коробка леденцов или какой-нибудь недорогой декоративный
браслет, а однажды он преподнес ей целую сумку валенсийских апельсинов, зная, что этот сорт —
ее самый любимый.
Цветочник встретил возвращающегося к его тележке молодого человека в сером костюме
неподдельно искренним восклицанием:
— Мой юный друг!
Старику было лет, может быть, шестьдесят восемь и несмотря на довольно теплую погоду на нем
был поношенный теплый вязаный свитер тоже серого цвета и мягкая фетровая шляпа. Лицо его
было испещрено глубокими морщинами, сильно прищуренные глаза слезились, а рука с
сигаретой по-старчески дрожала. Но он тоже прекрасно помнил, что такое молодость и что та-кое
весна, когда не ходишь, а буквально паришь над землей, едва касаясь ее ногами. Обычно лицо
цветочника было довело но кислым, но сейчас он улыбался почти так же, как улыбалась этому
молодому человеку та пожилая дама. Стряхивая крошки кукурузных хлопьев, он поду-мал: «Если
этот юноша болен любовью, о нем необходимо немедленно позаботиться».
— Сколько стоят ваши цветы? — спросил молодой человек.
— Я сделаю вам хороший букет за доллар. А вот чайные розы, выращенные в теплице. Стоят
подороже — по семьдесят центов за одну. Могу продать их вам полдюжины всего за три доллара
пятьдесят центов.
— Дороговато.
— Хорошее никогда не стоит дешево, мой юный друг. Разве ваша мама никогда не говорила вам
об этом?
— Может быть, и говорила, — ухмыльнулся молодой человек.
— Конечно говорила. Я сделаю вам букет из шести чайных роз: две красных, две желтых и две
белых. Это самые лучшие мои цветы, да вы и сами видите. Их запах вскружит голову любой
крошке. Я добавлю к ним еще две-три веточки папоротника. Прекрасно. А могу сделать обычный
букетик за доллар.
— Этих? — спросил молодой человек, продолжая улыбаться.
— Мой юный друг, — проговорил, тоже улыбаясь и стряхивая пепел с сигареты в водосточную
решетку, цветочник, — в мае никто не покупает цветы самому себе. Это как национальный закон.
Вы понимаете, о чем я говорю?
Молодой человек немного наклонил голову и представил себе Норму — ее удивленные и
счастливые глаза и мягкую улыбку.
— Думаю, что понимаю, — ответил он.
— Конечно понимаете. Так что будете брать?
— Так что бы вы посоветовали?
— Что ж, скажу. Советы и консультации бесплатно?
— Пожалуй, лучше бесплатно, — ответил с улыбкой молодой человек.
— Ну, бесплатно, так бесплатно, о'кей, мой юный друг. Если вы хотите купить цветы для своей
матушки, то я могу набрать вам букет из нескольких нарциссов, крокусов и степных лилий. Увидев
их, она не скажет вам ничего вроде «о, сынок, как они мне нравятся, но они ведь, наверное, очень
дорого стоят — не стоит тебе так транжирить деньги».
Молодой человек закинул назад голову и громко расхохотался.
— Но если это девушка, — продолжил цветочник, — то тогда совсем другое дело, сын мой. Ты,
наверное, и сам понимаешь. Если вы принесете ей букет чайных роз, ей будет некогда заниматься
подсчетами. А? Она в ту же секунду просто бросится вам в объятия...
— Я возьму чайные розы, — быстро проговорил молодой человек.
Тут уж расхохотался и цветочник. Стоявшие неподалеку и пересчитывавшие свои медяки
любители пива отвлекались от своего неотложного занятия и тоже заулыбались.
— Эй, парень! — крикнул один из них. — Тебе обручальное кольцо не нужно? Могу тебе уступить
по дешевке. Самому мне как-то надоело носить.
Молодой человек улыбнулся и покраснел до самих корней волос.
Цветочник выбрал ему шесть роз, немного подрезал кончики их стеблей, побрызгал на буто-ны
водой и оберну. их красивой хрустящей бумагой.
— Погода сегодня вечером как раз такая, какой вам хотелось бы, — послышалось из динамика
радиоприемника. — Воздух — мягкий и теплый. На небе ни облачка. Температура — чуть выше
шестидесяти градусов. Идеальная погода для романтического созерцания звезд после того, как
стемнеет. Наслаждайтесь Великим Вечерним Нью-Йорком!
Цветочник скрепил бумажный сверток скотчем и посоветовал молодому человеку сказать своей
девушке, чтобы она добавила в вазу с водой немного сахара для того, чтобы цветы по-стояли
подольше.
—Я скажу ей, — пообещал молодой человек и дал старику пятидесятидолларовую бумажку. —
Спасибо.
— Это моя работа, мой юный друг, — сказал цветочник, отдав ему доллар и два четвертака на
сдачу. Его улыбка стала немного более грустной. — Поцелуйте ее от меня.
«Фо Сизнз» запели по радио «Шерри». Молодой человек засунул сдачу в карман и зашагал вверх
по улице. Его глаза были широко раскрыты, а во взгляде сквозила какая-то тревога и напряженное
ожидание. Он, казалось, не видел никакого движения жизни вокруг него, не замечал, что на
Третью авеню уже опускаются сумерки — его взгляд был устремлен куда-то внутрь него самого.
Внутрь и вперед. Но кое-что он, все-таки, замечал: женщину, например, толкавшую перед собой
детскую коляску или ребенка, комично перепачкавшего всю мордашку мороженым. Еще он
обратил внимание на маленькую девочку, прыгавшую со скалкой и звонко распевавшую в такт
своим прыжкам:
«Бетти и Генри вначале целуются, Ну а затем? Затем женихаются. Ну а потом? Потом, ясно,
женятся. И в результате — извольте, младенец».
По дороге ему попались еще две курящих женщины, оживленно обсуждавших проблемы,
связанные с беременностью, группа мужчин, смотрящих бейсбол по огромному цветному
телевизору, выставленному в витрине магазина. Несмотря на четырехзначную цифру, аккуратно
нарисованную на ценнике рядом с телевизором, лица всех игроков были какими-то зелеными, а
поле наоборот, неопределенного бордового цвета. «Нью-Йорк Нетс» выигрывали у «Филлиз» со
счетом 6:1.
Он прошел мимо, не заметив, как те две куривших женщины прервали свою беседу и про-водили
его долгим тоскливо-задумчивым взглядом. Время, когда цветы дарили им самим, было у них уже
в далеком-далеком прошлом. Не заметил он и молодого регулировщика, который остановил все
движение на перекрестке между Третьей и Шестьдесят девятой улицами специально для того, .
чтобы он мог пройти. Ему, вероятно, просто бросилось в глаза мечтательное выражение молодого
человека — точно такое же, какое былой у него, когда он время от време-ни придирчиво
оценивал свою внешность в маленькое зеркальце для бритья, которое он нет-нет, да и вытаскивал
из кармана. Не заметил он и двух молоденьких девушек, которые, пройдя ему навстречу,
обернулись, обнялись и рассмеялись.
На перекрестке с 73-й улицей он остановился и. повернул направо. Эта улица была немного
темнее, и по обеим ее сторонам было множество небольших полуподвальных ресторанчиков с
итальянскими названиями. Где-то вдалеке в полусумерках угасающего дня местные мальчишки
играли в какую-то очень шумную игру. Молодой человек не собирался идти так далеко и, пройдя
полквартала, свернул в узкий переулок.
Теперь на небе уже были хорошо видны мягко мерцающие звезды. Переулок был темным и
тенистым. У одной из стен смутно угадывался ряд мусорных баков. Теперь молодой человек был
совершенно один. Нет, не совсем один — в сумерках вдруг послышалось какое-то волнообразное
завывание, и он неприязненно поморщился. Это была любовная песня какого-то не в меру
эмоционального кота, и ничего приятного он в ней не находил.
Он замедлил шаг и взглянул на часы. Они показывали четверть восьмого, и Норма как раз должна
была...
И тут он увидел ее. Сердце сразу же забилось частот часто. Она шла в его сторону и была одета в
темно-голубые широкие брюки и стильную матросскую блузку. Каждый раз, когда он видел ее
ВПЕРВЫЕ, он очень волновался. Это всегда был какой-то мягкий шок. Она была так МОЛОДА!..
Он улыбнулся. Он просто ЗАСИЯЛ этой улыбкой прибавил шаг.
— Норма! — окликнул он ее.
Она взглянула на него и приветливо улыбнулась... Но как только они приблизились друг к другу,
улыбка как-то почти сразу померкла и стала немного напряженной.
Его улыбка тоже стала какой-то неуверенной, и на мгновение он почувствовал небольшое
замешательство. Ее лицо над светлым пятном блузки было видно не очень хорошо, но в нем уже
вполне определенно угадывалась нарастающая тревога. Было уже довольно темно... Неужели он
ошибся? Конечно нет. ЭТО БЫЛА НОРМА. 1
— Я купил тебе цветы, — облегченно вздохнул он и протянул ей букет.
Она взглянула на цветы, снова улыбнулась и мягко отстранила его руку.
— Большое спасибо, но вы ошиблись. Меня зовут...
— Норма, — прошептал он и вытащил из нагрудного кармана пиджака увесистый молоток с
короткой ручкой.
— Они для тебя, НОРМА... они всегда для тебя... все для тебя...
Она побледнела от ужаса и отпрянула от него назад, широко раскрыв глаза и рот. Это была не
Норма. Настоящая Норма была давно мертва. Десять лет уже как мертва. Но сейчас это было не
важно. Сейчас важно было то, что она набрала уже полные легкие воздуха, чтобы закричать. Он
остановил этот уже поднимавшийся крик сильным ударом молотка прямо в голову. Он убил этот
крик одним движением. Букет упал на землю, и чайные розы — красные, желтые и белые —
рассыпались совсем недалеко от мусорных баков, за которыми, оглашая всю округу
непрекращающимися утробными воплями, остервенело занимались любовью кошки.
Одно движение — и крик не вырвался наружу. Но он обязательно вырвался бы, промедли он хоть
долю секунды, потому что это была не Норма. Ни одна из них не была Нормой. Он в исступлении
колотил своим молотком по совсем уже изувеченному лицу, еще, еще, еще, еще... ОНА . НЕ БЫЛА
НОРМОЙ, и поэтому он все наносил и наносил нескончаемые страшные удары — один за одним,
один за одним, один за одним...
Точно так же, как он проделал это уже пять раз до этого.
Спустя несколько секунд, а может быть, и через полчаса, он и сам бы не смог сказать точно через
сколько, он спрятал молоток обратно в карман и поднялся над распростертой на мостовой черной
тенью. Между ней и мусорными баками лежали чайные розы. Он развернулся и не спеша вышел
из темного переулка. Теперь было уже совсем темно. Мальчишки, шумевшие в конце улицы,
разошлись по домам. Если на костюме брызги крови, подумал он, то их будет не так заметно в
сумерках, если не выходить на ярко освещенные места. Ее имя было НЕ Норма, но он знал Свое
имя. Его имя было... было... ЛЮБОВЬ.
Его имя было Любовь, и он шел по темным улицам потому, что Норма ЖДАЛА его. И он найдет ее.
Обязательно найдет. Совсем скоро.
На его лице появилась улыбка. Выйдя на 73-ю улицу, он прибавил шаг. Супружеская парочка
средних лет, вышедшая посидеть перед сном на ступеньках своего подъезда проводила
прошедшего мимо них молодого человека долгим взглядом. Голова его была мечтательно
запрокинута назад, взгляд устремлен вдаль, на губах полуулыбка.
— Как давно я не видела тебя таким, — завороженно проговорила женщина.
— Что?
— Ничего, — ответила она, глядя вслед молодому человеку в сером костюме, исчезающему во
мраке надвигающейся ночи, и подумала о том, что прекраснее весны может быть только
молодость и любовь.
Киплинг Редьярд – Бими
(~15 мин.
"История прирученного орангутана, «с половиной человечьей душа в брюхе», который так
любил своего хозяина, что ревновал его друзей. А хозяин, тем временем, решил жениться...")
Беседу начал орангутанг в большой железной клетке, принайтовленной к овечьему загону. Ночь
была душная, и, когда мы с Гансом Брайтманом прошли мимо него, волоча наши постели на
форпик парохода, он поднялся и непристойно затараторил. Его поймали где-то на Малайском
архипелаге и везли показывать англичанам, по шиллингу с головы. Четыре дня он беспрерывно
бился, кричал, тряс толстые железные прутья своей тюрьмы и чуть не убил матроса-индийца,
неосторожно оказавшегося там, куда доставала длинная волосатая лапа.
- Тебе бы не повредило, мой друг, немножко морской болезни, - сказал Ганс Брайтман,
задержавшись возле клетки. - В твоем Космосе слишком много Эго.
Орангутанг лениво просунул лапу между прутьями. Никто бы не поверил, что она может позмеиному внезапно кинуться к груди немца. Тонкий шелк пижамы треснул, Ганс равнодушно
отступил и оторвал банан от грозди, висевшей возле шлюпки.
- Слишком много Эго. - повторил он, сняв с банана кожуру и протягивая его пленному дьяволу,
который раздирал шелк в клочья.
Мы постелили себе на носу среди спавших матросов-индийцев, чтобы обдавало встречным
ветерком - насколько позволял ход судна. Море было как дымчатое масло, но под форштевнем
оно загоралось, убегая назад, в темноту, языками тусклого пламени. Где-то далеко шла гроза: мы
видели ее зарницы. Корабельная корова, угнетенная жарой и запахом зверя в клетке, время от
времени горестно мычала, и в тон ей отзывался ежечасно на оклик с мостика впередсмотрящий.
Внятно слышался тяжелый перебор судовой машины, и только лязг зольного подъемника, когда
он опрокидывался в море, разрывал эту череду приглушенных звуков. Ганс лег рядом со мной и
закурил на сон грядущий сигару. Это, естественно, располагало к беседе. У него был
успокаивающий, как ропот моря, голос и, как само море, неисчерпаемый запас историй, ибо
занятием его было странствовать по свету и собирать орхидеи, диких животных и этнологические
экспонаты для немецких и американских заказчиков. Вспыхивал и гас в сумраке огонек его
сигары, накатывалась за фразой фраза, и скоро я стал дремать. Орангутанг, растревоженный
какими-то снами о лесах и воле, завопил, как душа в чистилище, и бешено затряс прутья клетки.
- Если бы он сейчас выходил, от нас бы мало что оставалось, - лениво промолвил Ганс. - Хорошо
кричит. Смотрите, сейчас я его буду укрощать, когда он немножко перестанет.
Крик смолк на секунду, и с губ Ганса сорвалось змеиное шипение, настолько натуральное, что я
чуть не вскочил. Протяжный леденящий звук скользнул по палубе, и тряска прутьев прекратилась.
Орангутанг дрожал, вне себя от ужаса.
- Я его остановил, - сказал Ганс. - Я научился этот фокус в Могун Танджунге, когда ловил
маленькие обезьянки для Берлина. Все на свете боятся обезьянок, кроме змеи. Вот я играю змея
против обезьянки, и она совсем замирает. В его Космосе было слишком много Эго. Это есть
душевный обычай обезьян. Вы спите или вы хотите послушать, и тогда я вам расскажу история,
такая, что вы не поверите?
- Нет такой истории на свете, которой бы я не поверил, - ответил я.
- Если вы научились верить, вы уже кое-чему научились в жизни. Так вот, я сделаю испытание для
вашей веры. Хорошо! Когда я эти маленькие обезьянки собирал - это было в семьдесят девятом
или восьмидесятом году на островах Архипелага, вон там, где темно. - он показал на юг,
примерно в сторону Новой Гвинеи, - майн готт! Лучше живые черти собирать, чем эти обезьянки.
То они откусывают ваши пальцы, то умирают от ностальгия - тоска по родине, - потому что они
имеют несовершенная душа, которая остановилась развиваться на полпути, и - слишком много
Эго. Я был там почти год и там встречался с человеком по имени Бертран. Он был француз и
хороший человек натуралист до мозга костей. Говорили, что он есть беглый каторжник, но он был
натуралист, и этого с меня довольно. Он вызывал из леса все живые твари, и они выходили. Я
говорил, что он есть святой Франциск Ассизский, произведенный в новое воплощение, а он
смеялся и говорил, что никогда не проповедовал рыбам. Он продавал их за трепанг - Beche-dеmer.
И этот человек, который был король укротителей, он имел в своем доме вот такой в точности, как
этот животный дьявол в клетке, большой орангутанг, который думал, что он есть человек. Он его
нашел, когда он был дитя - этот орангутанг, - и он был дитя и брат и комише опера для Бертрана.
Он имел в его доме собственная комната, не клетка - комната, с кровать и простыни, и он ложился
в кровать, и вставал утром, и курил своя сигара, и кушал свой обед с Бертраном, и гулял с ним под
ручку - это было совсем ужасно. Герр готт! Я видел, как этот зверь разваливался в кресле и
хохотал, когда Бертран надо мной подшучивал. Он был не зверь, он был человек: он говорил с
Бертраном, и Бертран его понимал - я сам это видел. И он всегда был вежливый со мной, если
только я не слишком долго говорил с Бертраном, но ничего не говорил с ним. Тогда он меня
оттаскивал - большой черный дьявол - своими громадными лапами, как будто я был дитя. Он был
не зверь: он был человек. Я это понимал прежде, чем был знаком с ним три месяца, - и Бертран
тоже понимал; а Бими, орангутанг со своей сигарой в волчьих зубах с синие десны, понимал нас
обоих.
Я был там год - там и на других островах, - иногда за обезьянками, а иногда за бабочками и
орхидеями. Один раз Бертран мне говорит, что он женится, потому что он нашел себе хорошая
девушка, и спрашивает, как мне нравится эта идея жениться. Я ничего не говорил, потому что это
не я думал жениться. Тогда он начал ухаживать за этой девушкой, она была французская
полукровка - очень хорошенькая. Вы имеете новый огонь для моей сигары? Погасло? Очень
хорошенькая. Но я говорю: "А вы подумали о Бими? Если он меня оттаскивает, когда я с вами
говорю, что он сделает с вашей женой? Он растащит ее на куски. На вашем месте, Бертран, я бы
подарил моей жене на свадьбу чучело Бими". В то время я уже кое-что знал про эта обезьянья
публика. "Застрелить его?" - говорит Бертран. "Это ваш зверь, - говорю я, - если бы он был мой, он
бы уже был застрелен".
Тут я почувствовал на моем затылке пальцы Бими. Майн готт! Вы слышите, он этими пальцами
говорил. Это был глухонемой алфавит, целиком и полностью. Он просунул своя волосатая рука
вокруг моя шея и задрал мне подбородок и посмотрел в лицо - проверить, понял ли я его
разговор так хорошо, как он понял мой.
"Ну, посмотрите! - говорит Бертран. - Он вас обнимает, а вы хотите его застрелить? Вот она,
тевтонская неблагодарность!"
Но я знал, что сделал Бими моим смертельным врагом, потому что его пальцы говорили убийство
в мой затылок. В следующий раз, когда я видел Бими, я имел на поясе пистолет, и он до него
дотронулся, а я открыл затвор показать ему, что он заряжен. Он видел, как в лесах убивают
обезьянки, и он понял.
Одним словом, Бертран женился и совсем забыл про Бими, который бегал один по берегу, с
половиной человечьей душа в своем брюхе. Я видел, как он там бегал, и он хватал большой сук и
хлестал песок, пока не получалась яма, большая, как могила. И говорю Бертрану: "Ради всего на
свете, убей Бими. Он сошел с ума от ревности".
Бертран сказал: "Он совсем не сошел с ума. Он слушается и любит мою жену, и если она говорит,
он приносит ей шлепанцы". - и он посмотрел на своя жена на другой конец комната. Она была
очень хорошенькая девушка.
Тогда я ему сказал: "Ты претендуешь знать обезьяны и этот зверь, который доводит себя на песках
до бешенства, оттого что ты с ним не разговариваешь? Застрели его, когда он вернется в дом,
потому что он имеет в своих глазах огонь, который говорит убийство - убийство". Бими пришел в
дом, но у него в глазах не был огонь. Он был спрятан, коварно - о, коварно, - и он принес девушке
шлепанцы, а Бертран, он повернулся ко мне и говорит: "Или ты лучше узнал его за девять
месяцев, чем я за двенадцать лет? Разве дитя зарежет свой отец? Я выкормил его, и он мое дитя.
Больше не говори эта чепуха моей жене и мне".
На другой день Бертран пришел в мой дом, помогать мне с деревянные ящики для образцов, и он
мне сказал, что пока оставлял жену с Бими в саду. Тогда я быстро кончаю мои ящики и говорю:
"Пойдем в твой дом, промочим горло". Он засмеялся и говорит: "Пошли, сухой человек".
Его жена не была в саду, и Бими не пришел, когда Бертран позвал. И жена не пришла, когда он
позвал, и он стал стучать в ее спальня, которая была крепко закрыта - заперта. Тогда он посмотрел
на меня, и лицо у него было белое. Я сломал дверь сплеча, и в пальмовой крыше была огромная
дыра, и на пол светило солнце. Вы когда-нибудь видели бумага в мусорной корзине или карты,
разбросанные по столу во время вист? Никакой жены увидеть было нельзя. Вы слышите, в
комнате не было ничего похожего на женщину. Только вещество на полу, и ничего больше. Я
поглядел на эти вещи, и мне стало очень плохо; но Бертран, он глядел немножко дольше на то,
что было на полу, и на стенах, и на дырка в крыше. Потом он начал смеяться, так мягко и тихо, и я
понял, что он, слава богу, сошел с ума. Совсем не плакал, совсем не молился. Он стоял
неподвижно в дверях и смеялся сам с собой. Потом он сказал: "Она заперлась в комнате, а он
сорвал крыша. Fi donc*. Именно так. Мы починим крыша и подождем Бими. Он непременно
придет".
Вы слышите, после того как мы снова превратили комната в комната, мы ждали в этом доме
десять дней и раза два видели, как Бими немножко выходил из леса. Он боялся, потому что он
нехорошо поступал. На десятый день, когда он подошел посмотреть, Бертран его позвал, и Бими
побежал припрыжку по берегу и издавал звуки, а в руке имел длинный прядь черного волоса.
Тогда Бертран смеется и говорит: "Fi donc!" - как будто он просто разбил стакан на столе; и Бими
подходил ближе, потому что Бертран говорит с таким сладким нежным голосом и смеется сам с
собой. Три дня он ухаживал за Бими, потому что Бими не давал до себя дотронуться. Потом Бими
сел обедать с нами за один стол, и шерсть на его руках была вся черная и жесткая от... от того, что
на его руках засохло. Бертран подливал ему сангари, пока Бими не стал пьяный и глупый и тогда...
*Фу! (фр.)
Ганс умолк, попыхивая сигарой.
- И тогда? - сказал я.
- И тогда Бертран убивал его голыми руками, а я пошел погулять по берегу. Это было Бертрана
частное дело. Когда я пришел, обезьянка Бими был мертвый, а Бертран, он умирал на нем; но он
все еще так немножко тихо смеялся, и он был совсем довольный. Вы ведь знаете формулу для
силы орангутанг - это есть семь к одному относительно человека. А Бертран - он убивал Бими тем,
чем его вооружал Господь. Это есть чудо.
Адский грохот в клетке возобновился.
- Ага! Наш друг все еще имеет в своем Космосе слишком много Эго. Замолчи, ты!
Ганс зашипел протяжно и злобно. Мы услышали, как большой зверь задрожал у себя в клетке.
- Но почему, скажите, ради Бога, вы не помогли Бертрану и дали ему погибнуть? - спросил я.
- Друг мой, - ответил Ганс, поудобнее располагаясь ко сну, - даже мне было не слишком приятно,
что я должен жить после того, что я видел эта комната с дыркой в крыше. А Бертран - он был ее
муж. Спокойной вам ночи и приятного сна.
Кристи Агата - Любовные перипетии
(~53 мин., детектив
Мистер Саттертуэйт, одинокий пожилой и крайне наблюдательный английский джентльмен
с помощью таинственного мистера Кина докапываются до истины.)
Мистер Саттертуэйт задумчиво поглядывал на своего собеседника. Странная дружба связывала
этих двоих. Полковник — как всякий уважающий себя сельский джентльмен — главнейшим делом
своей жизни почитал охоту. В Лондоне, куда ему иногда приходилось выбираться по долгу
службы, он с трудом выдерживал две-три недели. Мистер Саттертуэйт, напротив, был жителем
сугубо городским, знатоком французской кухни, дамских нарядов и всегда был в курсе последних
столичных сплетен. Этот господин всегда со страстью предавался изучению человеческой натуры,
у него был дар совершенно особого рода, а именно дар наблюдателя жизни.
Словом, с полковником Мелроузом — которого дела ближних не очень-то занимали, а всяких там
эмоций и прочих сантиментов вообще терпеть не мог — их как будто ничто не объединяло. Тем не
менее они дружили: в первую очередь потому, что в своё время дружили их отцы. Кроме того, у
них было много общих знакомых и одна общая нелюбовь к выскочкам-нуворишам.
Было уже около половины восьмого, друзья сидели в уютном кабинете полковника Мелроуза.
Хозяин увлечённо и обстоятельно рассказывал своему гостю об одном из прошлогодних выездов
на верховую охоту. Мистер Саттертуэйт, чьи знания о лошадиных статях черпались в основном из
воскресных визитов на конюшню — эта освящённая веками традиция ещё сохранилась в
отдельных сельских домах, — внимал со своей всегдашней вежливостью.
Резкий телефонный звонок прервал занимательную беседу. Мелроуз подошел к столу и снял
трубку.
— Полковник Мелроуз слушает, — голос и весь облик хозяина тут же изменился: вместо
вдохновенного охотника у аппарата стоял страж закона, взыскательный и суровый. — В чём дело?
Некоторое время он слушал молча, после чего решительно закончил разговор:
— Всё ясно, Кёртис. Сейчас буду, — он обернулся к своему гостю. — Убит сэр Джеймс Дуайтон.
Тело найдено в библиотеке его собственного дома.
— Что?! — мистер Саттертуэйт оторопел от неожиданности.
— Я должен немедленно ехать в Олдеруэй. Не хотите составить мне компанию?
«Ну да, Мелроуз ведь начальник полиции графства», — вспомнил мистер Саттертуэйт.
— Боюсь, не помешаю ли… — неуверенно начал он.
— Никоим образом. Звонил инспектор Кёртис. Хороший, честный малый, но дурак. Соглашайтесь
— я буду только рад. Дело, судя по всему, прескверное.
— Убийцу уже задержали?
— Нет, — лаконично ответил Мелроуз, и за этой лаконичностью чуткое ухо мистера Саттертуэйта
уловило что-то недосказанное.
Мистер Саттертуэйт постарался припомнить всё, что когда-либо слышал о Дуайтонах.
Покойный сэр Джеймс немного не дотянул до шестидесяти. Седые жидкие волосы, красное, в
прожилках, лицо. Чванливый старикашка — заносчивый и бесцеремонный. Врагов у такого могло
оказаться сколько угодно. Поговаривали, что к тому же он был скуп сверх всякой меры.
А леди Дуайтон? Образ её послушно всплыл перед мысленным взором мистера Саттертуэйта:
стройная красавица, юная и золотоволосая. В памяти закопошились обрывки каких-то сплетен,
намёков… «Ах, вот, значит, отчего полковник Мелроуз так сразу помрачнел. Впрочем, — тут же
одёрнул себя мистер Саттертуэйт, — нечего давать волю воображению».
Пять минут спустя он уже сидел рядом с Мелроузом, и двухместный автомобиль полковника
уносил их в ночную темень.
Полковник был человек немногословный. Они успели проехать не меньше полутора миль, когда
он наконец заговорил.
— Полагаю, вы их знаете? — без всяких предисловий осведомился он.
— Дуайтонов? Не очень хорошо. Но, разумеется, кое-что о них слышал. — Впрочем, такого
человека, о котором бы мистер Саттертуэйт не слышал, надо было еще поискать. — С сэром
Джеймсом я встречался лишь однажды, а вот жену его приходилось видеть не раз.
— Она недурна собой, — заметил Мелроуз.
— Красавица! — авторитетно заявил мистер Саттертуэйт.
— Вы так считаете?
— Чисто ренессансный тип! — воодушевляясь, заговорил мистер Саттертуэйт. — Прошлой весной
я видел её в любительских спектаклях — ну, вы знаете, ежегодная благотворительная
деятельность, — так вот, я был поражён. Ничего современного — чистый ренессанс! Так легко
представить её во дворце какого-нибудь дожа — прямо Лукреция Борджиа…
Тут машину слегка тряхнуло, и мистер Саттертуэйт осёкся. «Странно, — подумал он, — отчего это
мне вдруг вспомнилась Лукреция Борджиа? И именно сейчас, когда…»
— А Дуайтона случайно не отравили? — неожиданно для самого себя брякнул он.
Мелроуз кинул на него искоса несколько удивлённый взгляд.
— С чего вы взяли?
— Да… в общем, сам не знаю, — смешался мистер Саттертуэйт. — Так как-то, подумалось.
— Нет, его не отравили, — мрачно усмехнулся Мелроуз. — Ему, если вам угодно знать, проломили
череп.
— Вот оно что, — глубокомысленно кивнул мистер Саттертуэйт. — Тупым тяжёлым предметом.
Мелроуз досадливо поморщился.
— Послушайте, Саттертуэйт, вы прямо как сыщик из дешёвого детективчика. Сэра Джеймса просто
ударили по голове. Бронзовой статуэткой.
— А-а, — протянул мистер Саттертуэйт и умолк.
— А Поля Делангуа вы случайно не знаете? — спросил Мелроуз после паузы, растянувшейся ещё
на несколько минут.
— Знаю. Красивый юноша.
— Да уж, — проворчал полковник. — Красавчик. Дамский любимчик.
— А вам, я вижу, он не по душе?
— Не по душе.
— Странно, что он вам не нравится. Он ведь прекрасный наездник.
— Трюкач он, а не наездник. Кривляется в седле, будто иностранец какой.
Мистер Саттертуэйт едва сдержал улыбку. Бедняга Мелроуз! Вот что значит англичанин до мозга
костей! Сам мистер Саттертуэйт гордился широтою собственных взглядов и смотрел на
британский консерватизм со снисходительностью истинного космополита.
— Так он сейчас гостит в ваших краях? — спросил он.
— Гостил, — поправил Мелроуз. — У Дуайтонов. Но неделю назад сэр Джеймс, говорят, выставил
его из Олдеруэя.
— Почему?
— Вероятно, застал со своей женой… Что за чёрт?!
Резкий поворот сокрушительный удар.
— Здешние перекрёстки самые опасные во всей Англии, — проговорил Мелроуз, переведя дух. —
Но всё равно, тот парень должен был просигналить, мы ведь ехали по главной дороге… Впрочем,
ему, кажется, пришлось хуже нашего.
Полковник выбрался из машины, пассажир другой машины тоже вышел. Обрывки их разговора
доносились до Саттертуэйта.
— Да, это, конечно, моя вина, — говорил незнакомец. — Но дело в том, что я не очень хорошо
знаю эти места, а тут, как нарочно, кругом ни одного указателя — видите, нигде нет, что впереди
выезд на главную дорогу.
Полковник, явно смягчившись, что-то ответил. Они вместе склонились над пострадавшей
машиной, в которой уже копался шофёр, и дальше разговор принял сугубо технический характер.
— Что ж, тут возни на полчаса, не меньше, — заключил наконец незнакомец. — Но не стану вас
задерживать. Хорошо хоть, с вашей машиной ничего серьёзного.
— Собственно говоря… — начал было полковник, но ему не дали закончить.
Мистер Саттертуэйт неожиданно выпорхнул из машины, как птаха из клетки, и в величайшем
волнении схватил незнакомца за руку.
— Так и есть! То-то мне ваш голос сразу показался знакомым! — восклицал он. — Это
поразительно! Просто поразительно!..
— Что поразительно? — спросил полковник Мелроуз.
— Мелроуз, это же мистер Арли Кин. Вы наверняка о нём слышали — я столько раз рассказывал!
Полковник Мелроуз явно не мог припомнить никаких рассказов, но любезно решил не уточнять.
Мистер Саттертуэйт тем временем продолжал весело щебетать:
— Сколько же мы с вами не виделись? Позвольте, позвольте…
— С того вечера в «Наряде Арлекина», — подсказал мистер Кин.
— В наряде арлекина? — удивился полковник.
— «Наряд Арлекина» — это такая гостиница, — пояснил мистер Саттертуэйт.
— Странное название для гостиницы.
— Скорее старинное, — возразил мистер Кин: — В прежние времена, говорят, этот пёстрый наряд
гораздо чаще можно было встретить в Англии, чем сегодня.
— Да, прежде очень может быть, — несколько неопределённо пробормотал Мелроуз. Он
растерянно моргнул. Из-за причудливой игры света — белого от фар одной машины и красного от
заднего фонаря другой — ему вдруг померещилось, что и сам мистер Кин одет в какие-то пёстрые
лоскутья. Но это была, конечно, только игра света.
— Однако не можем же мы бросить вас на дороге, — волновался мистер Саттертуэйт. — Вы
поедете с нами! У нас хватит места для троих, — правда, Мелроуз?
— Гм-м, конечно, — голос полковника звучал не совсем уверенно. — Вот только, — заметил он, —
вы не забыли, Саттертуэйт? Мы же едем по делу.
Мистер Саттертуэйт замер на месте. Возбуждение его, видимо, достигло апогея, мысли в голове с
лихорадочной быстротой сменяли друг друга.
— О да! — воскликнул он. — Как же я сразу не догадался? Наше столкновение на ночной дороге
отнюдь не случайно! Уж поверьте, мистер Кин! Где вы, там нет места случайностям.
Мелроуз в немом изумлении глядел на своего друга.
— Помните, — вцепившись в локоть полковника, продолжал мистер Саттертуэйт, — я как-то
рассказывал вам историю своего приятеля Дерека Кейпела? Ну, что никто не мог разобраться в
мотивах его самоубийства? Это же мистер Кин тогда всё распутал — а сколько других дел было с
тех пор!.. Он заставляет людей видеть то, что как будто у всех на виду, но без него этого почему-то
никто не видит. Удивительнейший человек!
— Дорогой мистер Саттертуэйт, вы заставляете меня краснеть, — с улыбкой проговорил мистер
Кин. — Насколько мне помнится, все эти дела распутали вы, а не я.
— Только благодаря вам, — с видом непоколебимой убеждённости заявил мистер Саттертуэйт.
— Гм-да, — полковник Мелроуз, начинавший терять терпение, откашлялся. — Мы не можем
больше задерживаться. Пора ехать, — и решительно направился к машине.
Нельзя сказать, чтобы он был в восторге от того, что Саттертуэйт, в своей непонятной лихорадке,
навязывал ему совершенно незнакомого человека, — но веских возражений в голову как-то не
приходило, к тому же им действительно пора было спешить.
Мистер Саттертуэйт галантно предоставив мистеру Кину место в середине, сам сел возле дверцы.
Места и правда оказалось достаточно для всех троих, так что им даже не пришлось особенно
тесниться.
— Так вас, мистер Кин, интересуют преступления? — спросил полковник, стараясь быть
любезным.
— Не совсем.
— Что же тогда?
Мистер Кин улыбнулся.
— Спросим мистера Саттертуэйта. Знаете, он ведь тонкий наблюдатель.
— Думаю… — медленно проговорил мистер Саттертуэйт, — то есть, возможно, я ошибаюсь, но…
Думаю, что мистера Кина больше всего интересуют… любовники.
На последнем слове — коего ни один англичанин не произнесёт без смущения — мистер
Саттертуэйт залился краской, и сакраментальное слово прозвучало у него как-то виновато, словно
в кавычках.
— О-о, — озадаченно сказал полковник и умолк, решив про себя, что этот приятель Саттертуэйта,
кажется, подозрительный субъект.
Он незаметно покосился на мистера Кина. Да нет, с виду вроде человек как человек, довольно
молодой. Смугловат, правда, но в целом нисколько не похож на иностранца.
— А теперь, — торжественно объявил мистер Саттертуэйт, — я должен изложить вам наше
сегодняшнее дело.
Он говорил около десяти минут. Едва различимый в тёмном углу мчащегося сквозь ночь авто, он
наслаждался пьянящим чувством собственного могущества. Что из того, что в жизни он всего лишь
зритель? В его распоряжении слова. Они ему подвластны. Он волен сплести из них узор,
причудливый узор, в котором оживёт и красота Лоры Дуайтон — белизна обнажённых рук, золото
волос, — и тёмная, загадочная фигура Поля Делангуа, любимца дам. Фоном же пусть послужит
древний Олдеруэй, незыблемо стоящий на английской земле со времён Генриха VII, если не
раньше; Олдеруэй, обсаженный стрижеными тисами, за которыми тянутся хозяйственные
постройки и темнеет пруд — в былые времена по пятницам монахи вытаскивали из него жирных
карпов.
Всего несколько точных, чётких штрихов — и готов портрет сэра Джеймса Дуайтона, прямого
потомка старинного рода де Уиттонов. Эти де Уиттоны всегда славились своим умением
выкачивать деньги из всей округи и складывать их в кованые сундуки, так что, когда наступили
чёрные времена и многим английским семействам пришлось потуже затянуть пояса, богатство
Олдеруэя ничуть не оскудело.
И вот финал! С самого начала и до конца мистер Саттертуэйт был уверен в благосклонности
слушателей. Теперь он смиренно ждал заслуженной похвалы, и она не заставила себя ждать.
— Вы настоящий художник, мистер Саттертуэйт.
— Я… — блестящий рассказчик неожиданно стушевался. — Я просто старался быть точным.
Они уже несколько минут как миновали главные ворота олдеруэйского парка и теперь
подъезжали к парадному крыльцу. По ступенькам навстречу машине спешил констебль.
— Добрый вечер, сэр. Инспектор Кёртис в библиотеке.
Мелроуз взбежал на крыльцо, его спутники последовали за ним. В просторном вестибюле их
встретил насмерть перепуганный старик дворецкий. Мелроуз на ходу кивнул ему:
— Добрый вечер, Майлз. Печальное событие.
— Вы правы, сэр, — заметно дрожащим голосом отвечал дворецкий. — Просто не укладывается в
голове. Как подумаю, что какой-то злодей…
— Да-да, конечно, — не дослушал Мелроуз. — После поговорим, — и, не останавливаясь,
прошагал дальше.
В библиотеке его почтительно приветствовал инспектор, огромный детина солдафонского вида.
— Скверное дельце, сэр. До вашего приезда я ничего не трогал. Отпечатков нет, чисто сработано.
Так что убийца, судя по всему, не новичок.
Мистер Саттертуэйт скользнул взглядом по сгорбленной фигуре за огромным письменным столом
и торопливо отвёл глаза. Удар был нанесён сзади, со всего размаху, череп раздроблен — в общем,
зрелище малопривлекательное.
Само орудие убийства валялось на полу: бронзовая статуэтка высотой около двух футов, в пятнах
невысохшей крови на основании. Мистер Саттертуэйт наклонился, чтобы рассмотреть её получше.
— Венера, — вполголоса сообщил он. — Стало быть, Венера явилась виновницей его гибели.
Образ был не лишён поэзии, есть о чём поразмышлять на досуге.
— Все окна заперты, — продолжал докладывать инспектор, — изнутри.
Последовала многозначительная пауза.
— Значит, всё-таки кто-то из своих, — неохотно заключил начальник полиции. — Ну что ж, будем
разбираться.
Убитый был одет в костюм для гольфа, сумка с битами небрежно брошена на широкую кожаную
кушетку.
— Прямо с поля пришёл, — пояснил инспектор, проследив за взглядом шефа. — В пять пятнадцать
закончил игру — и прямо сюда. Дворецкий подал ему чай, а после чая он позвонил, чтобы лакей
принёс тапочки. Пока что выходит, что этот самый лакей как раз и видел его последний — живого.
Мелроуз кивнул и вернулся к изучению письменного стола.
От сильного сотрясения многие из настольных украшений опрокинулись, некоторые разбились.
Заметно выделялись большие часы тёмной эмали, лежавшие посреди стола.
Инспектор откашлялся.
— А вот тут нам, что называется, повезло так повезло. Видите — стоят. Ровно половина седьмого,
сэр! Вот вам и время совершения преступления. Редкостная удача, сэр!
Полковник долго всматривался в лежащие на боку часы.
— Да уж точно, редкостная, — сказал он наконец и, помолчав немного, добавил: — Даже
чересчур редкостная. Не нравится мне это, инспектор.
Он обернулся к своим спутникам.
— Нет, чёрт возьми, больно уж все гладко получается — догадываетесь, о чём я? — он заглянул в
глаза мистера Кина, словно ища поддержки. — В жизни так не бывает.
— Вы хотите сказать, — уточнил мистер Кин, — что часы так не падают?
Мелроуз озадаченно уставился на него, потом снова обернулся к часам. Часы, как всякий предмет,
неожиданно лишившийся привычного достоинства, имели вид жалкий и виноватый. Полковник
бережно поднял их и поставил на ножки, после чего изо всей силы стукнул кулаком по краю стола.
Часы покачнулись, но устояли. Мелроуз нанёс столу ещё один сокрушительный удар, и часы —
медленно, словно нехотя — завалились назад.
Мелроуз решительно обернулся к инспектору:
— В котором часу было обнаружено тело?
— Около семи, сэр.
— Кем?
— Дворецким.
— Позовите его, — приказал Мелроуз. — Мне нужно с ним поговорить. Кстати, а где леди
Дуайтон?
— У себя в комнате, сэр. Служанка говорит, что она просто убита горем и никого не хочет видеть.
Мелроуз кивнул, и инспектор Кёртис отправился выполнять приказ шефа. В ожидании дворецкого
мистер Кин задумчиво глядел в камин, и мистер Саттертуэйт последовал его примеру. Некоторое
время он щурился на тлеющие поленья, потом его внимание привлёк какой-то блестящий
предмет у самого края каминной решетки. Наклонившись, он подобрал узенький осколок
изогнутого стекла.
— Сэр, вы меня звали? — послышался от двери дрожащий голос дворецкого.
Мистер Саттертуэйт опустил осколок в жилетный карман и обернулся.
Старик дворецкий неуверенно топтался на пороге.
— Садитесь, садитесь, — приветливо встретил его Мелроуз. — Э-э, голубчик, да у вас все
поджилки трясутся! Вижу, вы ещё не оправились от потрясения.
— Это верно, сэр.
— Ну ничего, я вас надолго не задержу. Так вы говорите, хозяин вернулся после гольфа в начале
шестого?
— Да, сэр, и сразу приказал подать ему чай в библиотеку. А когда я зашёл за подносом, велел
прислать Дженнингса — это его лакей, сэр.
— Не помните, который тогда был час?
— Минут десять седьмого, сэр.
— Так, и что потом?
— Потом я передал, что было велено, Дженнингсу, сэр, и ушёл. А в семь часов захожу сюда, чтобы
закрыть окна и задёрнуть портьеры, а тут уже…
— Ну-ну, об этом не надо, — поспешно прервал его полковник. — Скажите лучше, вы не касались
тела? Ничего в комнате не трогали?
— Что вы, сэр! Я тут же бросился к телефону, звонить в полицию.
— Так. А что вы потом делали?
— Потом я велел Жанетте — это служанка её милости, сэр, — сообщить её милости о
случившемся.
— А что, сами вы хозяйку нынче вечером вовсе не видели? — спросил полковник как бы между
прочим, но чуткий слух мистера Саттертуэйта уловил в его голосе неприязнь.
— Во всяком случае, не говорил с ней. После этого страшного известия её милость не выходила
больше из своей комнаты.
— Это понятно. А до того вы её видели?
Вопрос был задан, что называется, в лоб, и все заметили, что дворецкий замялся, прежде чем
ответить.
— Разве что мельком, сэр… Когда она спускалась по лестнице.
— Она заходила в библиотеку?
Мистер Саттертуэйт затаил дыхание.
— Думаю… кажется, да, сэр.
— В котором часу?
Тишина сделалась почти оглушительной. «Интересно, осознаёт ли старик, как много зависит
сейчас от его ответа?» — успел подумать мистер Саттертуэйт.
— Где-то в половине седьмого, сэр.
Полковник Мелроуз глубоко вздохнул.
— Спасибо, достаточно, Майлз. И пожалуйста, пришлите ко мне Дженнингса, лакея.
Лакей явился по вызову без промедления. Кошачья походка. Узкое длинное лицо. Похоже,
хитроватый и скрытный тип.
«А парень-то, кажется, себе на уме, — подумал мистер Саттертуэйт. — Такой запросто укокошит
хозяина — лишь бы всё было шито-крыто».
Пока лакей отвечал на вопросы полковника, мистер Саттертуэйт ловил каждое слово, но всё как
будто сходилось: Дженнингс принёс хозяину мягкие кожаные тапочки, забрал спортивные
ботинки и ушёл.
— Куда вы направились потом?
— Вернулся в комнату для прислуги, сэр.
— В котором часу вышли от хозяина?
— Думаю, в четверть седьмого или чуть позже, сэр.
— Где вы были в половине седьмого?
— В комнате для прислуги, сэр.
Кивком отпустив лакея, полковник Мелроуз вопросительно взглянул на Кёртиса.
— Всё правильно, сэр. Я проверял. Примерно с шести двадцати до семи он находился в комнате
для прислуги.
— Значит, он отпадает, — не без сожаления произнёс Мелроуз. — Да и какой у него может быть
мотив?
Все выжидающе смотрели друг на друга. Молчание было прервано стуком в дверь.
— Войдите, — отозвался полковник. На пороге стояла обмирающая от страха служанка леди
Дуайтон.
— Прошу прощения, но… Её милость только что узнала о приезде господина полковника и хочет
его видеть.
— Разумеется, — сказал Мелроуз. — Я немедленно иду к ней. Проводите меня.
Но тут чья-то рука отодвинула девушку в сторону, и в дверном проёме возникла совершенно иная
фигура.
Всем присутствующим Лора Дуайтон показалась пришелицей из другого мира. На ней было
длинное облегающее платье из тускло-голубой парчи, сшитое в средневековом стиле. Длинные
золотисто-рыжие волосы расчёсаны на прямой пробор и собраны в простой узел на затылке:
найдя свой стиль еще в ранней юности, леди Дуайтон никогда не стригла волос.
Одной рукой она держалась за дверной косяк, чтобы не упасть; в другой у нее была книга. «Как
мадонна с полотна какого-нибудь представителя позднего Дученто», — пронеслось в голове у
мистера Саттертуэйта.
Она слегка качнулась, и полковник Мелроуз тут же подскочил к ней.
— Я пришла, чтобы сообщить вам… Чтобы сообщить… — низким грудным голосом начала она.
Мистер Саттертуэйт смотрел как заворожённый. Сцена была так драматична — он даже забыл, что
всё это происходит в жизни, а не на театральных подмостках.
— Не волнуйтесь, мадам, прошу вас! — заботливо поддерживая леди Дуайтон за талию, Мелроуз
увлёк её в маленькую проходную комнатку, смежную с вестибюлем. Кин и Саттертуэйт
последовали за ними.
Стены комнатки были задрапированы старинным выцветшим шёлком. Леди Дуайтон опустилась
на низкий диванчик терракотового цвета и, закрыв глаза, бессильно откинулась на подушки.
Мужчины терпеливо ждали. Наконец она открыла глаза, села прямо и тихо, еле слышно, сказала:
— Это я убила его. Вот что я пришла вам сообщить. Это я его убила.
В напряжённой тишине мистеру Саттертуэйту на миг почудилось, что сердце у него в груди
перестало биться.
— Леди Дуайтон, — заговорил Мелроуз. — Вы пережили тяжёлое испытание и, видимо, ещё не
вполне владеете собой. Вряд ли вы сейчас понимаете, что говорите.
«Может, одумается, пока ещё не поздно?» — подумал мистер Саттертуэйт.
— Нет, я прекрасно понимаю, что говорю. Это я застрелила своего мужа!
У двух из присутствующих в маленькой комнатке мужчин вырвалось невольное «ах», третий не
проронил ни звука. Лора Дуайтон упрямо расправила плечи.
— Надеюсь, все слышали мои слова? Я спустилась в библиотеку и застрелила своего мужа. Я
признаю себя виновной.
Книга, которую она все ещё держала в руке, скользнула на пол. Из неё выпал нож для разрезания
страниц, в форме старинного кинжала с каменьями на рукоятке. Мистер Саттертуэйт машинально
поднял его и положил на столик. «Опасная игрушка, — подумал он про себя, — таким и убить
можно».
— Итак? — в голосе Лоры Дуайтон уже слышалось нетерпение. — Что вы намерены делать?
Арестуете меня? Увезёте в тюрьму?
Полковник Мелроуз не сразу обрёл дар речи.
— Ваше заявление, леди Дуайтон, слишком серьёзно. Я вынужден просить вас побыть некоторое
время у себя в комнате, пока я… Гм-м, пока я не отдам необходимых распоряжений.
Леди Дуайтон кивнула и поднялась с дивана. Она шагнула было к двери, когда послышался голос
мистера Кина:
— Леди Дуайтон, а что вы сделали с револьвером?
На миг холодная уверенность, кажется, покинула её, она озадаченно остановилась.
— Я… уронила его на пол. Хотя нет, наверное, я выбросила его в окно… Впрочем, не помню. Да и
какая разница? Я вряд ли соображала, что делаю. Теперь ведь это уже не важно, правда?
— Да, пожалуй, не важно, — не стал настаивать мистер Кин.
Во взгляде леди Дуайтон как будто промелькнула тревожная тень — но она лишь выше подняла
голову и величественно удалилась. Мистер Саттертуэйт, беспокоясь, как бы она не лишилась
чувств, поспешил следом. Однако, пока он семенил к двери, леди Дуайтон успела подняться до
середины лестницы: от её неуверенности не осталось и следа. Перепуганная служанка всё ещё
торчала за дверью.
— Позаботьтесь о своей хозяйке, — строго сказал ей мистер Саттертуэйт.
— Да, сэр, — девушка послушно двинулась за златовласой красавицей, но тут же снова
обернулась. — Умоляю вас, сэр, скажите: они его подозревают?
— Кого — его? — не понял мистер Саттертуэйт.
— Дженнингса, сэр. Поверьте, сэр, он и мухи не обидит!
— Дженнингса? С чего вы взяли? Нет, конечно. Ну ступайте же, ступайте за ней!
— Да, сэр, — и девушка резво взбежала вверх по лестнице, а мистер Саттертуэйт возвратился в
комнату с шёлковыми драпировками.
— Провалиться мне на этом месте, — мрачно рассуждал полковник Мелроуз. — Что-то здесь не
так. Прямо как в романе каком-нибудь!
— Всё как-то ужасно не правдоподобно, — согласился мистер Саттертуэйт. — Похоже на сцену из
спектакля.
Мистер Кин кивнул.
— Да, вы же большой любитель театра, верно, мистер Саттертуэйт? Вы сумеете оценить хорошую
игру.
Мистер Саттертуэйт посмотрел на него очень внимательно.
В комнате повисла тишина. Где-то вдалеке послышался резкий отчётливый звук.
— Похоже на выстрел, — полковник Мелроуз поднял голову. — Наверное, сторож. Видно, и она,
скорее всего, что-нибудь такое услышала, спустилась вниз посмотреть… Близко к телу подходить
не решилась — вот и подумала, что…
— Мистер Делангуа, сэр!
Это был голос старого дворецкого.
— А? — Мелроуз обернулся. — Что такое?
— Пришёл мистер Делангуа, сэр, — виновато повторил дворецкий. — Просит разрешения с вами
поговорить.
Мелроуз откинулся на спинку стула и хмуро сказал:
— Пригласите.
Уже через минуту Пол Делангуа стоял в дверях маленькой комнатки. Полковник оказался прав: в
нём действительно было что-то от иностранца: слишком изящные жесты, слишком смуглое лицо,
слишком близко посаженные глаза. В нём тоже было что-то от ренессанса — это, видимо, и
сближало их с Лорой Дуайтон.
— Добрый вечер, господа.
Вошедший картинно поклонился.
— Не знаю, что за дело вас сюда привело, мистер Делангуа, — не очень любезно начал
полковник. — Но, думаю, вряд ли оно имеет отношение к сегодняшнему…
Делангуа рассмеялся.
— Ошибаетесь, полковник! Имеет, и самое непосредственное.
— Что вы хотите этим сказать?
— Я хочу сказать, — теперь голос Делангуа звучал тихо и серьёзно, — что я пришёл сдать себя в
руки правосудия — это я убил сэра Джеймса Дуайтона.
— Вы отдаёте себе отчёт в том, что говорите? — ещё угрюмее спросил Мелроуз.
— Вполне.
Взгляд молодого человека задержался на столике возле дивана.
— Но что… — начал полковник.
— Что заставило меня явиться с повинной? Раскаяние, угрызения совести — называйте, как
хотите! Главное, что я его заколол — можете в этом не сомневаться. — Он кивнул на столик. — Вот
и орудие убийства. Леди Дуайтон случайно оставила его в книге, чем я и воспользовался.
— Минуточку, — вмешался полковник Мелроуз. — Так вы утверждаете, что закололи сэра
Джеймса вот этим? — Он поднял кинжал для всеобщего обозрения.
— Совершенно верно. Как вы понимаете, в библиотеку я проник через окно. Всё оказалось очень
просто — он как раз сидел ко мне спиной. Удалился я тем же путём.
— Тоже через окно?
— Разумеется.
— В котором часу?
— В котором часу? — Делангуа поколебался. — Со сторожем я разговаривал в четверть седьмого
— да, в этот момент как раз ударил церковный колокол. Значит, из окна я выпрыгнул… по всей
видимости, где-то около половины седьмого.
На губах полковника заиграла мрачноватая усмешка.
— Вы правы, молодой человек, — сказал он. — Половина седьмого — это как раз то, что надо. Вы
ведь уже слышали об этом от прислуги? М-да, тем не менее мы имеем престранное убийство!
— Почему?
— Слишком много людей в нём признаётся…
Молодой человек явственно затаил дыхание.
— Кто ещё в нем признался? — он, видимо, старался сдержать дрожь в голосе, но это ему не
вполне удалось.
— Леди Дуайтон.
Делангуа откинул голову и рассмеялся несколько деланным смехом.
— Леди Дуайтон просто несколько истерична! — беспечно объявил он. — На вашем месте я бы не
придавал значения её словам.
— Пожалуй, я так и поступлю, — кивнул Мелроуз. — Но тут есть ещё одна загвоздка.
— Какая же?
— Видите ли, леди Дуайтон призналась в том, что она застрелила сэра Джеймса, вы — что
закололи его кинжалом. Однако, к счастью для вас обоих, его не застрелили и не закололи. Ему
попросту раскроили череп.
— Боже правый! Но ведь это невозможно! Разве женщина… — он вдруг прикусил губу. Мелроуз
удовлетворённо кивнул.
— Столько раз читал о таком, — заметил он, пряча ухмылку. — Но воочию сталкиваться пока не
приходилось.
— О чём вы?
— О чём? Да вот о таких полоумных парочках! Он, видите ли, думает на неё, она на него — и ну
выгораживать друг друга!.. Однако придётся нам с вами начать всё сначала.
— Лакей! — осенило вдруг мистера Саттертуэйта. — Ведь служанка мне только что… А я и
внимания не обратил! — Он запнулся, стараясь привести мысли в порядок. — Она волновалась, не
подозреваем ли мы лакея. Возможно, у него всё-таки был мотив — просто мы о нём не знаем. А
она знает.
Полковник Мелроуз насупился и позвонил в колокольчик.
— Пожалуйста, — сказал он явившемуся дворецкому, — попросите леди Дуайтон оказать нам
любезность и явиться сюда ещё раз.
Все молча дожидались прихода хозяйки.
При виде Поля Делангуа она покачнулась и словно протянула руку, пытаясь за что-то ухватиться.
Полковник Мелроуз тотчас поспешил ей на помощь.
— Всё в порядке, леди Дуайтон. Пожалуйста, не волнуйтесь.
— Я не понимаю… Зачем здесь мистер Делангуа?
Делангуа шагнул к ней.
— Лора, Лора! Зачем ты это сделала?
— Зачем… что?
— Я всё знаю. Ты пошла на это ради меня. Ты ведь думала, что это я… В конце концов, это было
бы естественно. И всё же… О, мой ангел!
Полковник Мелроуз многозначительно кашлянул. Он вообще не любил разных там эмоций, а уж
подобных представлений тем более терпеть не мог.
— Если мне будет позволено вмешаться, леди Дуайтон, вы с мистером Делангуа счастливо
отделались. Он, видите ли, тоже явился «признаваться» в совершении убийства, — да не
волнуйтесь вы так, не совершал он его! А теперь — хватит играть в кошки-мышки, пора наконец
выяснить истину. Итак, леди Дуайтон, дворецкий утверждает, что в половине седьмого вы
направились в библиотеку, верно ли это?
Лора кинула быстрый взгляд на Делангуа, тот кивнул.
— Говори правду, Лора, — сказал он. — Это единственное, что нам остаётся.
— Хорошо, я скажу, — сказала она, глубоко вздохнув, и опустилась на стул, который едва успел
пододвинуть мистер Саттертуэйт.
— В половине седьмого я действительно спустилась вниз. Войдя в библиотеку, я увидела…
Она судорожно сглотнула.
— Так, — мистер Саттертуэйт, наклонившись, легонько похлопал её по руке. — Стало быть, вы
увидели?..
— Мой муж сидел спиной к двери, навалившись всем телом на письменный стол. Его голова… И
эта лужа крови… Ах, нет!
Она закрыла лицо руками. Начальник полиции сочувственно склонился вперёд.
— Простите, леди Дуайтон. Так вы решили, что мистер Делангуа его застрелил?
Она кивнула.
— Прости меня, Поль, — проговорила она. — Но ведь ты сам говорил, что… что…
— Что пристрелю его как собаку, — угрюмо закончил за неё Делангуа. — Помню даже день, когда
я это сказал. Тогда я впервые узнал о том, как он над тобой издевается.
Полковник Мелроуз, однако, упорно гнул свою линию.
— Если я вас правильно понял, леди Дуайтон, из библиотеки вы поднялись к себе и… гм-м…
никому ничего не сказали. Не спрашиваю вас сейчас почему, меня интересует другое. Вы
подходили к письменному столу? Трогали тело?
Она содрогнулась.
— Нет! Нет. Я тут же выбежала из комнаты.
— Так, понятно. Вы можете точно назвать время, когда это было?
— К себе в спальню я вернулась ровно в половине седьмого.
— Ну что ж, — Мелроуз обвёл глазами собравшихся. — Значит, где-то в шесть двадцать пять сэр
Джеймс был уже мёртв. Так что время на часах было совсем другим — как мы и подозревали с
самого начала. К тому же убийца допустил одну оплошность — бросил часы совсем не так, как они
должны были упасть на самом деле. Стало быть, остаются дворецкий и лакей. Насчёт дворецкого
у меня лично нет и тени сомнения: это не он. Скажите, леди Дуайтон, а у Дженнингса, лакея, с
вашим мужем не было никаких конфликтов?
Лора Дуайтон отняла руки от лица.
— Не знаю, можно ли назвать это конфликтом… Но как раз сегодня утром Джеймс сказал мне, что
увольняет Дженнингса. Он поймал его на мелком воровстве.
— Ага! Кажется, подбираемся к сути. Значит, Дженнингсу грозило увольнение без письменной
рекомендации? Для прислуги это серьёзно.
— Вы говорили что-то о часах, — сказала Лора Дуайтон. — Может быть… Если вы хотите уточнить
время… Не уверена, что это поможет, но всё-таки… Джеймс, когда играл, всегда имел при себе
карманные часы. Может, они разбились, когда он упал?
— Это мысль, — медленно проговорил полковник. — Боюсь… Кёртис!
Инспектор кивнул и мигом исчез за дверью. Вернулся он через минуту, держа на ладони
серебряные часы: когда играют в гольф, игроки, как правило, носят такие в кармане для мячей, и
на крышке у них выгравированы такие же линии, как на мячах.
— Вот, сэр, — он предъявил добычу шефу. — Только вряд ли они нам помогут. Видно, что сделаны
на совесть, такие ещё поди разбей.
Полковник забрал у него часы и поднес к уху.
— Гм-м, тем не менее они стоят.
Он отщёлкнул крышку, и все увидели под ней вдребезги разбитое стекло.
— Вот оно! — торжествующе произнёс полковник. Стрелки часов показывали ровно четверть
седьмого.
***
— Превосходный портвейн, полковник, — похвалил мистер Кин.
Было половина десятого, запоздалый обед в доме полковника Мелроуза только что завершился.
Мистер Саттертуэйт прямо-таки сиял.
— Вот видите, мистер Кин, я оказался совершенно прав, — посмеиваясь, сказал он. — Вы сегодня
выехали на нашу дорогу отнюдь не случайно! Вы спасли двух безумцев, которые чуть было не
влезли головой в петлю.
— Вы ошибаетесь, — возразил мистер Кин. — Я и не думал их спасать.
— Так вышло, что это не понадобилось, — согласился мистер Саттертуэйт. — Но всё ведь висело
на волоске. Никогда не забуду, как леди Дуайтон произнесла: «Я убила его». Того, как они были
сказаны, я и на сцене никогда не слышал.
— Тут, пожалуй, я вынужден с вами согласиться, — заметил мистер Кин.
— Я думал, такое бывает только в романах, — повторил полковник, кажется, в двадцатый раз за
сегодняшний вечер.
— А разве нет? — спросил мистер Кин. Полковник удивлённо уставился на него.
— Но вы же всё видели своими глазами…
— И заметьте, — мистер Саттертуэйт, с бокалом портвейна в руке, откинулся на спинку стула, —
леди Дуайтон была великолепна — просто великолепна! — но в одном всё же ошиблась: решила
с чего-то, что её супруга не иначе как застрелили. И Делангуа тоже хорош: думает, раз на столе
лежит какой-то нож, то им непременно сэра Джеймса и закололи? Но ведь это чистая случайность,
что нож вообще выпал из книги леди Дуайтон.
— Думаете? — сказал мистер Кин.
— А представьте, — продолжал мистер Саттертуэйт, — если бы каждый из них просто признался в
убийстве, не уточняя, чем оно было совершено, — что тогда?
— Тогда бы им, чего доброго, поверили, — как-то странно улыбнулся мистер Кин.
— Ну точно как в каком-нибудь романе, — опять изрёк полковник.
— Да, — согласился мистер Кин. — Вероятно, оттуда они и почерпнули свою замечательную идею.
— Очень возможно, — оживился мистер Саттертуэйт. — Прочитанное возвращается к нам порой
самым неожиданным образом. Разумеется, часы с самого начала не внушали нам доверия, —
продолжал он, обращаясь к мистеру Кину. — Ведь яснее ясного, что их можно перевести вперёд
или назад.
— Вперёд, — повторил мистер Кин, и после паузы: — Или назад.
Его тон словно бы подбадривал мистера Саттертуэйта, как и взгляд его тёмных блестящих глаз.
— Но стрелки часов были переведены вперёд, — сказал мистер Саттертуэйт. — Это-то мы уже
выяснили.
— Думаете? — снова спросил мистер Кин. Мистер Саттертуэйт всё пристальнее вглядывался в
смуглое лицо.
— Вы хотите сказать, — медленно заговорил он, — что кто-то, наоборот, отвёл назад стрелки
карманных часов? Позвольте, но зачем? Нет, это совершенно невозможно!
— Отчего же невозможно? — пробормотал мистер Кин.
— Ну, во всяком случае, бессмысленно. Кому, по-вашему, это было нужно?
— Полагаю, тому, у кого есть алиби на это время.
— Чёрт меня подери! — взревел вдруг полковник. — Ведь Делангуа же нам как раз и показал, что
в шесть пятнадцать он разговаривал со сторожем!
— Да, он назвал именно это время, — подтвердил мистер Саттертуэйт.
Они с полковником переглянулись, и у обоих одновременно возникло странное чувство, будто
твёрдая почва уходит у них из-под ног. Все факты и события, казавшиеся такими понятными,
стремглав понеслись по кругу, при этом оборачиваясь к ним какими-то новыми, неожиданными
гранями, — а в самом центре этого калейдоскопа темнело смуглое, улыбающееся лицо мистера
Кина.
— Но в таком случае… — начал Мелроуз, — в таком случае…
— Всё было наоборот, — опередил его мистер Саттертуэйт, отличавшийся большей гибкостью
ума. — Всё так или иначе оказалось подстроено — против лакея… Да нет, не может быть, —
спохватился он. — Ерунда какая-то! Тогда зачем им вообще было брать вину на себя?
— Вот именно, зачем?.. Однако, пока они этого не сделали, оба были под подозрением, верно? —
в голосе мистера Кина появилась некая мечтательная умиротворённость. — Вы точно подметили,
полковник, — всё как в романе. Именно из романа они и позаимствовали весь этот сюжет. Они
ведь поступили так, как всегда поступают невиновные герой и героиня. Неудивительно, что и
полковник сразу же счёл их невиновными — как-никак, за ними сила литературной традиции.
Мистер Саттертуэйт, со своей стороны, без конца сравнивал происходившее с театром. И оба вы,
несомненно, были правы. Всё это мало правдоподобно и не имеет отношения к реальной жизни
— вы оба, сами того не сознавая, повторяли эту мысль снова и снова. Если бы они добивались
правдоподобия, им пришлось бы выдумать что-нибудь получше.
Полковник и мистер Саттертуэйт слушали его с самым безутешным видом.
— Да, им надо было бы быть поумнее, — проговорил наконец мистер Саттертуэйт. — И кстати, я
припоминаю, в семь часов дворецкий ведь спускался в библиотеку, чтобы закрыть окна? Стало
быть, им полагалось быть открытыми…
— Они и были открыты, когда через одно из них проник Делангуа, — кивнул мистер Кин. — Он
одним ударом убил сэра Джеймса, а потом — уже вдвоём — они довели дело до конца…
Он взглянул на мистера Саттертуэйта, как бы приглашая его дорисовать картину убийства, и тот
заговорил — поначалу не очень уверенно:
— Пожалуй, прежде всего они разбили большие часы и уложили их на стол… Да, вероятно, так.
Потом перевели стрелки на карманных часах и разбили стекло. Потом он выбрался наружу, а она
заперла все окна изнутри. Я только одного не пойму: чего ради они разбили карманные часы?
Разве недостаточно было настольных…
— Такой ход был чересчур очевидным, — возразил мистер Кин. — Его легко можно разгадать.
— Зато с карманными часами чересчур заумный. Мы ведь и подумали-то о них совершенно
случайно…
— Разве? — сказал мистер Кин. — Помнится, нам очень помогла подсказка её милости.
Мистер Саттертуэйт застыл с открытым ртом.
— Тем не менее, — мечтательно продолжал мистер Кин, — есть один-единственный человек,
который ни за что не забыл бы о карманных часах, — лакей. Лакею лучше всех прочих известно,
что лежит в карманах у его хозяина. Но он ничего не сказал. Переведи лакей стрелки на больших
часах — он бы уж не забыл и про карманные… Нет, эти двое не знатоки человеческой натуры! Им
далеко до мистера Саттертуэйта.
Мистер Саттертуэйт горестно качал головой.
— Как же я ошибся! — пробормотал он. — Решил, что вы явились спасать влюблённых!..
— Так оно и есть, — улыбнулся мистер Кин. — Только не этих двоих — других. Вы, возможно, не
обратили внимания на служанку её милости? Она, правда, не шуршала парчой и не разыгрывала
трагических сцен — но всё же она очень милая девушка и, кажется, по-настоящему любит своего
Дженнингса. Думаю, господа, что спасение её возлюбленного теперь целиком в ваших руках.
— Но мы не можем представить никаких доказательств, — мрачно буркнул полковник. Улыбка
озарила лицо мистера Кина.
— Мистер Саттертуэйт может.
— Я? — изумлённо переспросил мистер Саттертуэйт.
— Смешно. Вы можете доказать, что часы сэра Джеймса разбились отнюдь не в его кармане.
Прежде всего, нельзя вдребезги разбить стекло, не открыв при этом крышку. Не верите —
попробуйте сами. Кто-то вытащил их из его кармана, откинул крышку, отвёл стрелки назад,
ударил по стеклу, а потом уже закрыл часы и вернул их на место. Вот только он не заметил, что
один осколок при этом выпал.
— О Боже! — вскричал мистер Саттертуэйт. Рука его сама дёрнулась к жилетному карману, в
глубине которого он нащупал заострённый осколок изогнутого стекла.
Наконец-то наступила его минута.
— Это стёклышко, — провозгласил мистер Саттертуэйт, — поможет мне спасти человека от
виселицы.
Ле Гуин Урсула - Апрель в Париже
(~39 мин. Первый фантастический рассказ Урсулы ле Гуин
"Милый и добрый рассказ о том, как людей из разных социальных слоев и разного времени
объединяет одиночество.")
Профессор Барри Пенниуизер сидел за своим столом в холодной, сумрачной мансарде и не
сводил глаз с лежащей на столе книги и хлебной корки. Хлеб — его неизменный обед, книга —
труд всей его жизни. И то и другое слишком сухо. Доктор Пенниуизер вздохнул, его пробрала
дрожь. В нижнем этаже этого старого дома апартаменты весьма изысканные, однако же первого
апреля, какова бы ни была погода, отопление выключается; сегодня второе апреля, а на улице
дождь со снегом пополам. Приподняв голову, доктор Пенниуизер мог бы увидеть из окна две
квадратные башни Собора Парижской Богоматери — неотчетливые, в сумерках, они взмывают в
небо совсем близко, и, кажется, до них можно достать рукой: ведь остров Сен-Луи, где живет
профессор, подобен маленькой барже, что скользит по течению, как на буксире, за островом Ситэ,
на котором воздвигнут собор. Но Пенниуизер не поднимал головы. Уж очень он закоченел.
Огромные башни утопали во тьме. Доктор Пенниуизер утопал в унынии. С отвращением смотрел
он на свою книгу. Она завоевала ему год в Париже — напечатайтесь или пропадите пропадом,
сказал декан, и он напечатал эту книгу и в награду получил годичный отпуск без сохранения
жалованья. Мансонскому колледжу не под силу платить преподавателям, когда они не
преподают. И вот на свои скудные сбережения он вернулся в Париж и снова, как в студенческие
годы, поселился в мансарде ради того, чтобы читать в Национальной библиотеке рукописи
пятнадцатого века и любоваться цветущими каштанами вдоль широких улиц. Но ничего не
выходит. Ему уже сорок, слишком он стар для одинокой студенческой мансарды. Под мокрым
снегом гибнут, не успев распуститься, бутоны каштанов. И опостылела ему его работа. Кому какое
дело до его теории — «теория Пенниуизера» — о загадочном исчезновении в 1463 году поэта
Франсуа Вийона? Всем наплевать. Ведь в конце концов его теория касательно бедняги Вийона,
преступника, величайшего школяра всех времен, только теория, доказать ее через пропасть пяти
столетий невозможно. Ничего не докажешь. Да и что за важность, умер ли Вийон на
Монфоконской виселице или (как думает Пенниуизер) в Лионском борделе на пути в Италию?
Всем наплевать. Никому больше не дорог Вийон. И доктор Пенниуизер тоже никому не дорог,
даже самому доктору Пенниуизеру. За что ему себя любить? Нелюдимый холостяк, ученый сухарь
на грошовом жалованье, одиноко торчит в нетопленой мансарде обветшалого дома и пытается
накропать еще одну неудобочитаемую книгу.
— Витаю в облаках, — сказал он вслух, опять вздохнул, и опять его пробрала дрожь.
Он поднялся, сдернул с кровати одеяло, закутался в него и, вот так неуклюже замотанный, снова
подсел к столу и попытался закурить дешевую сигарету. Зажигалка защелкала вхолостую. Опять он
со вздохом поднялся, достал жестянку с вонючим французским бензином, сел, снова завернулся в
свой кокон и щелкнул зажигалкой. Оказалось, немало бензина он расплескал. Зажигалка
вспыхнула — и доктор Пенниуизер тоже вспыхнул, от кистей рук до пят.
— Проклятье! — вскрикнул он, когда по пальцам побежали язычки голубого пламени, вскочил,
неистово замахал руками, и все чертыхался и яростно негодовал на Судьбу. Вечно все идет
наперекос. А чего ради он старается? Было 2 апреля 1961 года, 8 часов 12 минут вечера.
В холодной комнате с высоким потолком сгорбился у стола человек. За окном позади него
маячили в весенних сумерках квадратные башни Собора Парижской Богоматери. Перед ним на
столе лежали кусок сыра и громадная рукописная книга в переплете с железными застежками.
Книга называлась (по-латыни): «О главенстве стихии Огня над прочими тремя стихиями». Автор
смотрел на нее с отвращением. Неподалеку, на железной печурке, медленно закипало что-то в
небольшом перегонном аппарате. Жеан Ленуар то и дело машинально пододвигал свой стул
поближе к печурке, пытаясь согреться, но мысли его поглощены были задачами куда более
важными.
— Проклятье! — сказал он наконец на французском языке эпохи позднего средневековья,
захлопнул книгу и поднялся.
Что, если его теория неверна? Что, если первоэлемент, главенствующая стихия — вода? Как
можно доказать подобные мысли? Должен же существовать некий путь… некий метод… чтобы
можно было увериться твердо, бесповоротно хотя бы в одной истине! Но каждая истина влечет за
собою другие, такая чудовищная путаница, и все великие умы прошлого противоречат друг другу,
да ведь никто не станет читать его книгу, даже эти жалкие ученые сухари в Сорбонне. Они сразу
чуют ересь. А чего ради он старается? Чего стоит его жизнь, прожитая в нищете и одиночестве,
если он так ничего и не узнал, а только путался в догадках и теориях? Он яростно шагал по
мансарде из угла в угол и вдруг застыл на месте.
— Хорошо же! — сказал он Судьбе. — Прекрасно! Ты не дала мне ничего, так я сам возьму то, чего
хочу!
Он подошел к кипе книг — книги повсюду штабелями громоздились на полу, — выхватил из-под
низу толстый том (причем поцарапал кожаный переплет и поранил пальцы, так как фолианты, что
лежали сверху, обрушились), с размаху швырнул книгу на стол и принялся изучать какую-то
страницу. Потом все с тем же застывшим на лице выражением мятежного вызова приступил к
приготовлениям: сера, серебро, мел… В комнате у него было пыльно и нахламлено, однако на
небольшом рабочем столе порядок безукоризненный, все колбы и реторты под рукой. И вот все
готово. Он чуть помедлил.
— Это нелепо… — пробормотал он и глянул в окно, туда, где теперь еле угадывались в темноте
квадратные башни.
Под окном прошел стражник, громко выкрикивая время — восемь часов, вечер холодный, ясный.
Тишина такая, что слышно, как плещет в берегах Сена. Жеан Ленуар пожал плечами, нахмурился,
взял кусок мела и начертил на полу, подле стола, аккуратную пентаграмму, потом взял книгу и
отчетливо, хоть и несмело, начал читать вслух:
— Haere, haere, audi me[2].
Заклинание такое длинное и почти сплошь — бессмыслица. Голос Ленуара звучал все тише. Стало
скучно и как-то неловко. Наскоро пробормотал он заключительные слова, закрыл книгу — и
шарахнулся, привалился спиной к двери и ошеломленно, во все глаза уставился на непонятное
явление: внутри пентаграммы возник кто-то огромный, бесформенный, освещенный только
голубым мерцанием, исходящим от огненных лап, которыми он неистово размахивал.
Барри Пенниуизер наконец опомнился и погасил огонь, сунув руки в складки одеяла, которым
был обмотан. Он даже не очень обжегся, только отчасти утратил душевное равновесие, и опять
подсел к столу. Поглядел на свою книгу. Глаза у него стали круглые. Перед ним лежала уже не
тощая книжка в серой обложке под названием «Последние годы Вийона, исследование
различных возможностей». Нет, это был тяжелый том в коричневом переплете, и назывался он
«Incantatoria Magna»[3]. У него на столе? Бесценная рукопись 1407 года? Да ведь единственный
список ее, который пощадило время, хранится в Милане, в Амброзиевской библиотеке?
Пенниуизер медленно обернулся. И медленно раскрыл рот от изумления. Обвел взглядом
железную печурку, рабочий стол, уставленный ретортами и пробирками, неправдоподобные тома
в кожаных переплетах — они громоздились на полу, десятка три солидных кип, — окно, дверь.
Знакомое окно, знакомая дверь. Но у двери съежился на полу кто-то маленький, бесформенный,
черный, и от этого существа исходил частый треск, точно от погремушки. Барри Пенниуизер не
отличался особой храбростью, но он был человек рассудительный. Он подумал, что сошел с ума, и
потому сказал совершенно спокойно:
— Вы кто, дьявол?
Существо содрогнулось и продолжало стучать зубами.
Профессор мельком глянул туда, где высился неразличимый в темноте собор, и для пробы
перекрестился.
Тут непонятное существо вздрогнуло, но не отпрянуло. Потом еле слышно что-то сказало, оно
отлично говорило по-английски… нет, оно отлично говорило по-французски… нет, оно довольно
странно говорило по-французски.
— Значит, вы есть Господь Бог, — сказало оно.
Барри встал и попытался его рассмотреть.
— Кто вы такой? — властно спросил он.
Существо подняло голову — лицо оказалось самое обыкновенное, человеческое — и кротко
ответило:
— Я Жеан Ленуар.
— Как вы попали в мою комнату?
Короткое молчание. Ленуар поднялся с колен, выпрямился во весь свой невеликий росточек —
пять футов и два дюйма.
— Эта комната — моя, — сказал он наконец с ударением, хотя и вполне вежливо.
Барри обвел взглядом книги и колбы. Еще минута прошла в молчании.
— Тогда как же я сюда попал?
— Я перенес вас сюда.
— Вы маг?
Ленуар с гордостью кивнул. Он весь преобразился.
— Да, я маг, — промолвил он. — Да, это я перенес вас сюда. Если Природе не угодно открыть мне
знания, так я могу покорить ее, Природу, я могу сотворить чудо! Тогда к дьяволу науку! Я был
ученым… с меня довольно! — Он устремил на Барри пылающий взор. — Меня называют глупцом,
еретиком, что ж, клянусь Богом, я и того хуже! Я колдун, доктор черной магии, я, Жеан чья
фамилия означает Черный! Магия действует, так? Стало быть, наука — пустая трата времени. Ха!
— фыркнул он, по лицу его совсем не видно было, чтобы он торжествовал. — Лучше бы она не
подействовала, — сказал он тише и зашагал взад и вперед между кипами книг.
— Я тоже предпочел бы, чтобы ваша магия не подействовала, — отозвался гость.
— Кто вы такой? — Ленуар вскинул голову и с вызовом поглядел в лицо Барри, хотя тот был на
голову выше.
— Меня зовут Барри Пенниуизер. Я профессор, преподаю французский язык в Мансонском
колледже, штат Индиана, провожу отпуск в Париже — продолжаю изучать позднее средневеко…
— он запнулся. Вдруг он понял, что за произношение у Ленуара и почему его зовут не просто Жан,
а Жеан. — Какой сейчас год? Какой век? Прошу вас, доктор Ленуар… — Лицо у француза стало
растерянное. Слова не только звучат по-иному, изменилось, кажется, и самое их значение. — Кто
правит вашей страной?! — закричал Барри.
Ленуар пожал плечами — истинно французский жест (есть вещи, которые не меняются).
— Королем сейчас Людовик, — сказан он. — Людовик Одиннадцатый. Гнусный старый паук.
Несколько минут они стояли недвижимые, точно вырезанные из дерева индейцы у дверей
табачной лавки, и в упор смотрели друг на друга. Ленуар заговорил первый:
— Так, значит, вы — человек?
— Да. Послушайте, Ленуар, по-моему, вы… ваши заклинания… должно быть, вы что-то напутали.
— Очевидно, — сказал алхимик. — А вы француз?
— Нет.
— Англичанин? — Глаза Ленуара гневно вспыхнули. — Проклятый британец!
— Нет. Нет, я из Америки. Я из… из вашего будущего. Из двадцатого века от Рождества Христова.
Барри покраснел. Это прозвучало преглупо, а он был человек скромный. Но он знал, ничего ему
не мерещится. Он у себя в комнате, но сейчас она совсем другая. Эти стены не простояли пяти
веков. Здесь не стирают пыль, но все новое. И том Альберта Великого в кипе у его колен —
новехонький, в мягком, ничуть не высохшем переплете из телячьей кожи, и ничуть не потускнело
тисненное золотом название. И стоит перед ним Ленуар — не в костюме, а в каком-то черном
балахоне, человек явно у себя дома…
— Пожалуйста, присядьте, сударь, — говорил меж тем Ленуар. И прибавил с изысканной, хотя и
рассеянной учтивостью ученого, у которого за душой ни гроша: — Должно быть, вы утомлены
путешествием? Не окажете ли мне честь разделить со мною ужин? У меня есть хлеб и сыр.
Они сидели за столом и жевали хлеб с сыром. Сперва Ленуар попытался объяснить, почему он
решился прибегнуть к черной магии.
— Мне все опостылело, — сказал он. — Опостылело! Я работал, не щадя себя, в уединении, с
двадцати лет, а чего ради? Ради знания. Дабы познать новые тайны Природы. Но познать их не
дано.
Он с маху на добрых полдюйма вонзил нож в доску стола. Барри даже подскочил. Ленуар
маленький, щупленький, но, видно, нрав у него пылкий. И лицо прекрасное — хоть и очень
бледное, худое, но столько в нем ума, живости, одухотворенности. Пенниуизеру вспомнилось
лицо прославленного атомного физика, чьи фотографии появлялись в газетах вплоть до 1953 года.
Наверно, из-за этого сходства у него и вырвалось:
— Иные тайны познать дано, Ленуар; мы не так уж мало всякого узнали…
— Что же? — недоверчиво, но с любопытством спросил алхимик.
— Ну, это не моя область.
— Умеете вы делать золото? — спросил Жеан с усмешкой.
— Нет, кажется, не умеем, но вот алмазы у нас делают.
— Каким образом?
— Из углерода… ну, в общем, из угля… при огромном нагреве и под огромным давлением, как я
понимаю. Вы же знаете, и уголь и алмаз — тот же углерод, один и тот же элемент.
— Элемент?!
— Ну, я ведь говорил, сам я не…
— Который из всех — первоэлемент? Который главенствующая стихия?! — закричал Ленуар,
вскинув руку с ножом, глаза его сверкали.
— Элементов около сотни, — стараясь не выдать испуга, сдержанно ответил Барри.
Два часа спустя, выжав из Барри до последней капли все остатки сведений по химии, которые тот
когда-то получил в колледже, Ленуар выбежал в ночь и вскоре возвратился с бутылкой.
— О господин мой! — кричал он. — Подумать только, что я предлагал тебе всего лишь хлеб и сыр!
В бутылке оказалось чудесное бургундское урожая 1477 года, добрый выдался год для винограда.
Они выпили по стаканчику, и Ленуар сказал:
— Если бы я мог тебя хоть как-то отблагодарить!
— Вы можете. Знакомо вам имя поэта Франсуа Вийона?
— Да, знаю, — не без удивления сказал Ленуар. — Но он ведь только сочинял какую-то чепуху, на
французском сочинял, а не на латыни.
— А знаете вы, когда и как он умер?
— Ну конечно. Его повесили здесь, на Монфоконе, то ли в шестьдесят четвертом, то ли в
шестьдесят пятом, с шайкой таких же негодников. А что тебе до него?
Еще два часа спустя бургундское иссякло, горло у обоих пересохло, за окном чуть брезжил ясный
холодный рассвет, и стражник выкрикнул три часа.
— Я дико устал, Жеан, — сказал Барри. — Отошли-ка меня обратно.
Алхимик не стал спорить, слишком он был учтив, полон благодарности, а вдобавок, пожалуй, тоже
совсем выдохся. Барри стал столбом внутри пентаграммы — высокий, костлявый, закутанный в
обгорелое одеяло, с дымящейся сигаретой в зубах.
— Прощай, — печально молвил Ленуар.
— До свиданья, — отозвался Барри.
Ленуар начал читать заклинание задом наперед. Пламя свечи затрепетало, голос алхимика
зазвучал тише.
— Me audi, haere, haere! — прочел он, вздохнул и поднял глаза. Пентаграмма была пуста.
Трепетал огонек свечи. — А я узнал так мало! — вскричал Ленуар в пустоту комнаты. Потом
забарабанил кулаками по раскрытой книге. — И такой друг… истинный друг…
Он закурил сигарету из тех, что оставил ему Барри, — он мигом пристрастился к табаку. Так, сидя
за столом, он уснул и проспал часа три. Пробудясь, посидел немного в хмуром раздумье, снова
зажег свечу, выкурил вторую сигарету, а потом раскрыл книгу под названием «Incantatoria» и
начал читать вслух:
— Haere, haere…
— О, слава Богу! — сказал Барри, поспешно выступил из пентаграммы и стиснул руку Ленуара. —
Послушай, я вернулся туда… в эту комнату, в эту самую комнату, Жеан! Но она была такая старая,
ужасно старая и пустая, тебя там не было… и я подумал, Господи, да что же я наделал? Я готов
душу продать, лишь бы вернуться назад к нему… Что мне делать со всем тем, что я узнал в
прошлом? Кто мне поверит? Как я все это докажу? Да и кому, черт возьми, рассказывать, когда
всем на это наплевать? Я не мог уснуть, битый час сидел и проливал слезы…
— Ты хочешь здесь остаться?
— Да. Вот, я прихватил… на случай, если ты опять меня вызовешь. — Он несмело выложил восемь
пачек все тех же сигарет «Голуаз», несколько книг и золотые часы. — За эти часы могут дать
хорошую цену, — пояснил он. — Я знал, от бумажных франков толку не будет.
При виде печатных книг глаза Ленуара загорелись любопытством, но он не двинулся с места.
— Друг мой, — сказал он, — ты говоришь, что готов был продать душу… ну сам понимаешь… Готов
был и я. Но мы ведь этого не сделали. Так как же… в конце-то концов… как все это случилось? Оба
мы люди. Не дьяволы. Не было договора, подписанного кровью. Просто два человека, оба жили в
этой комнате…
— Не знаю, — сказал Барри. — Это мы продумаем после. Можно, я останусь у тебя, Жеан?
— Считай, что ты у себя, — сказал Ленуар и с большим изяществом обвел рукой комнату, груды
книг, колбы и реторты, свечу, огонек которой уже побледнел. За окном, серые на сером небе,
высились башни Собора Парижской Богоматери. Занималась заря третьего апреля.
После завтрака (корки хлеба и обрезки сыра) они вышли из дому и взобрались на южную башню.
Собор был такой же, как всегда, только стены не такие закопченные, как в 1961 году, но вид с
башни поразил Пенниуизера. Внизу лежал совсем небольшой городок. Два островка застроены
домами; на правом берегу теснятся, обнесенные крепостной стеной, еще дома; на левом
несколько улочек огибают здание университета… и это все. Между химерами собора, на теплом
от солнца камне, ворковали голуби. Ленуар, которому этот вид был не внове, выцарапывал на
парапете (римскими цифрами) дату.
— Надо отпраздновать этот день, — сказал он. — Съездим-ка за город. Уже два года я не
выбирался из Парижа. Поедем вон туда… — он показал на зеленый холм вдали, там сквозь
утреннюю дымку чуть виднелись несколько хижин и ветряная мельница. — … на Монмартр, а?
Говорят, там есть неплохие кабачки.
Их жизнь быстро вошла в покойную колею. Поначалу Барри чувствовал себя неуверенно на
людных улицах, но Ленуар отдал ему запасной черный плащ с капюшоном, и в этом одеянии он
если и выделялся в толпе, то разве лишь высоким ростом. Во Франции пятнадцатого века он,
вероятно, был самый рослый из людей. Условия жизни убогие, вши — неизбежное зло, но Барри
и прежде не очень гнался за комфортом; всерьез ему недоставало только чашки кофе к завтраку.
Они купили кровать, бритву (свою Барри забыл прихватить), Жеан представил его домовладельцу
как мсье Барри, своего родича из Оверни, — и теперь их повседневная жизнь окончательно
устроилась. Часы Пенниуизера принесли им баснословное богатство — четыре золотые монеты,
довольно, чтобы прокормиться целый год. Продали они эти часы как диковинную новинку,
сработанную в Иллирии; покупатель, камергер двора его величества, как раз подыскивал
достойную вещицу в подарок королю; он поглядел на марку фирмы: «Братья Гамильтон, НьюХейвен, 1881» — и с понимающим видом кивнул. К несчастью, не успев еще вручить свое
подношение, он угодил за решетку, в одну из клеток в замке Тур, куда Людовик XI сажал
провинившихся придворных, и те часы, быть может, поныне лежат в тайнике за каким-нибудь
кирпичом в развалинах Плесси; однако двум ученым мужам это ничуть не повредило.
С утра они разгуливали по городу, любовались Бастилией и парижскими храмами, навещали
второстепенных поэтов, которыми интересовался Барри; после завтрака рассуждали об
электричестве, о теории атома, о физиологии и прочих материях, коими интересовался Ленуар,
производили небольшие химические и анатомические опыты — как правило, неудачные; после
ужина просто беседовали. В долгих непринужденных беседах они переносились через века, но
под конец неизменно возвращались сюда, в полутемную комнату с окном, настежь открытым
весенней ночи, к своей дружбе. Через две недели уже казалось, будто они знают друг друга всю
жизнь. Они были совершенно счастливы. Оба понимали — им не удастся применить знания,
полученные друг от друга. Как мог бы Пенниуизер в 1961-м доказать истинность своих познаний о
старом Париже? Как мог бы Ленуар в 1482-м доказать истинную ценность научного метода
познания? Обоих это ничуть не огорчало. Они и прежде всерьез не надеялись, что хоть кто-то их
выслушает. Они жаждали только одного — познавать.
Итак, впервые за всю свою жизнь оба они были счастливы; настолько счастливы, что в них стали
пробуждаться кое-какие желания, которые прежде задушены были жаждой знаний.
Однажды вечером, сидя за столом напротив Жеана, Барри сказал:
— Я полагаю, ты никогда особенно не помышлял о женитьбе?
— Да нет, — неуверенно ответил друг. — Все же я лицо духовное, хоть сан мой и скромен… да и
как-то было не до женитьбы…
— И это удовольствие не из дешевых. Да притом в мое время ни одна уважающая себя женщина
не захотела бы жить, как жил я. Американки до дьявола самоуверенны и деловиты, блистательны,
но наводят на меня страх…
— А наши женщины маленькие и черные, как жуки, и у них гнилые зубы, — мрачно сказал Ленуар.
В тот вечер о женщинах больше не говорили. Но заговорили назавтра, и на следующий вечер, а на
третий друзья удачно препарировали икряную самку лягушки, выделили нервную систему,
распили, чтобы отпраздновать такой успех, две бутылки Монраше 1474 года и порядком
захмелели.
— Читай-ка заклятие, Жеан, вызовем женщину, — сладострастным басом предложил Барри и
ухмыльнулся, точно химера на Соборе.
— А вдруг на этот раз я вызову дьявола?
— Пожалуй, разница невелика.
Они неудержимо расхохотались и начертили пентаграмму.
— Haere, haere… — начал Ленуар.
Тут его одолела икота, и за дело взялся Барри. Дочитал до конца. Налетел порыв холодного ветра,
запахло болотом — и в пентаграмме возникло совершенно обнаженное существо с длинными
черными волосами и дикими от ужаса глазами, оно отчаянно визжало.
— Ей-богу, это женщина, — сказал Барри.
— Разве?
Да, это была женщина.
— На, вот тебе мой плащ, — сказал Барри, потому что несчастная вся тряслась, испуганно тараща
глаза.
— Gratios ago, domine[4].
— Латынь! — вскричал Ленуар. — Женщина — и говорит по-латыни?!
Он был этим столь глубоко потрясен, что даже Бота быстрей оправилась от перенесенного ужаса.
Оказалось, она была рабыней в доме супрефекта Северной Галлии, жил супрефект на меньшем из
островов затерянного в болоте островного города, называемого Лютеция. По-латыни Бота
говорила с сильным кельтским акцентом и даже не знала, кто был римским императором в то
время, из которого она явилась. «Истинная дочь варварского племени», — презрительно заметил
Ленуар. Да, правда, она была невежественная, молчаливая смиренная дикарка с гривой
спутанных волос, белой кожей и ясными серыми глазами. Заклятие вырвало ее из глубины
крепчайшего сна. Когда два приятеля наконец убедили ее, что они ей не снятся, она, видно,
приписала случившееся какой-то прихоти своего чужеземного всемогущего господина-супрефекта
и приняла свою участь, не задаваясь больше никакими вопросами.
— Я должна вам служить, господа мои? — осведомилась она робко, но не хмуро, глядя то на
одного, то на другого.
— Мне — нет, — проворчал Ленуар и прибавил по-французски, обращаясь к Барри: — Валяй,
действуй; я буду спать в чулане.
Он вышел.
Бота подняла глаза на Барри. Никто из галлов и мало кто из римлян отличался таким
великолепным высоким ростом; ни один галл и ни один римлянин никогда не говорил с нею так
по-доброму.
— Светильник почти догорел, — сказала она (то была свеча, но Бота никогда прежде не видела
свеч). — Задуть его?
За добавочную плату — два соля в год — домовладелец разрешил им устроить в чулане вторую
спальню, и Ленуар теперь опять спал в большой комнате мансарды один. На идиллию друга он
смотрел с хмурым интересом, но без зависти. Профессора и рабыню соединила нежная,
восторженная любовь. Их счастье переливалось через край, обдавая и Ленуара волнами
радостной заботливости. Горька и жестока была прежняя жизнь Боты, все видели в ней только
женщину, но никто не обращался с нею как с человеком. А тут за какую-то неделю она расцвела,
воспрянула духом — и оказалось, под кроткой покорностью таилась натура жизнерадостная,
быстрый ум. Однажды ночью Жеан услышал (стенки чердака были тонкие), как Барри упрекнул
ее:
— Ты становишься заправской парижанкой.
И она ответила:
— Знал бы ты, как я счастлива, что не надо всегда ждать опасности, всего бояться, всегда быть
одной…
Ленуар сел на постели и глубоко задумался. К полуночи, когда все кругом затихло, он поднялся,
бесшумно приготовил щепотки серы и серебра, начертил пентаграмму, раскрыл драгоценную
книгу. И чуть слышно, опасливо прочитал заклятие.
Внутри пентаграммы появилась маленькая белая собачка. Она съежилась, поджав хвостик, потом
несмело подошла к Ленуару, понюхала его руку, посмотрела в лицо ему влажными ясными
глазами и тихонько, просительно заскулила. Щенок, потерявший хозяина… Ленуар ее погладил.
Собачка лизнула ему руки и стала прыгать на него вне себя от радости. На белом кожаном
ошейнике, на серебряной пластинке, выгравирована была надпись: «Красотка. Принадлежит
Дюпону, улица Сены, 36, Париж, VI округ».
Красотка погрызла хлебную корку и уснула, свернувшись в клубок под стулом Ленуара. Тогда
алхимик опять раскрыл книгу и начал читать, все так же тихо, но на сей раз без смущения, без
страха, уже зная, что произойдет.
Наутро Барри вышел из чулана-спальни, где проводил он медовый месяц, и на пороге остолбенел.
Ленуар сидел на своей постели, гладил белого щенка и увлеченно беседовал с особой, что сидела
в изножье кровати, — высокой огненно-рыжей женщиной в серебряном одеянии. Щенок залаял.
Ленуар сказал:
— Доброе утро!
Рыжая женщина чарующе улыбнулась.
— Черт меня побери, — пробормотал Барри (по-английски). Потом сказал: — Доброе утро. Откуда
вы взялись?
Эта женщина походила на кинозвезду Риту Хейворт, только облагороженную… пожалуй,
сочетание Риты Хейворт и Моны Лизы?
— Я с Альтаира, примерно из седьмого тысячелетия после вашего времени, — ответила она и
улыбнулась еще очаровательней. По-французски она говорила похуже какого-нибудь
первокурсника-футболиста из американского колледжа. — Я археолог, веду раскопки в
развалинах Третьего Парижа. Извините мое скверное произношение, ваш язык мы, понятно,
знаем только по надписям.
— С Альтаира? Со звезды? Но вы с виду совсем земная женщина… так мне кажется…
— Люди с Земли поселились на нашей планете примерно четыре тысячи лет назад… то есть через
три тысячи лет от вашего времени. — Она засмеялась еще того очаровательней и взглянула на
Ленуара. — Жеан мне все объяснил, но я еще немного путаюсь.
— Опасно было повторять этот опыт, Жеан! — с упреком сказал Барри. — До сих пор нам, знаешь
ли, просто на редкость везло.
— Нет, — возразил француз, — это не просто везенье.
— Но, в конце концов, ты шутки шутишь с черной магией… Послушайте, не имею чести знать
вашего имени, сударыня…
— Кеслк, — назвалась она.
— Послушайте, Кеслк, — без малейшей запинки продолжал Барри. — В ваше время наука, должно
быть, невообразимо ушла вперед… скажите, есть на свете какое-нибудь колдовство? Существует
оно? Можно ли и вправду нарушить законы Природы — ведь вот, похоже, мы их нарушаем?
— Я никогда не видела подлинного колдовства и не слыхала ни об одном научно
подтвержденном случае.
— Тогда что же происходит?! — завопил Барри. — Почему это дурацкое старое заклятие служит
Жеану, всем нам — только оно одно и только здесь, больше ни у кого и нигде не случалось ничего
подобного за пять… нет, за восемь, нет, за пятнадцать тысяч лет, что существует история?! Почему
так? Почему? И откуда взялась эта чертова собачонка?
— Собачка потерялась, — сказал Ленуар, смуглое лицо его было очень серьезно. — Потерялась на
острове Сен-Луи, где-то неподалеку от этого дома.
— А я разбирала черепки на месте жилого дома на Втором острове, четвертый участок раскопок,
сектор Д. Такой чудесный весенний день, а мне он был ненавистен. Просто отвратителен. И этот
день, и работа, и все люди вокруг. — Кеслк опять поглядела на сурового маленького алхимика
долгим, спокойным взглядом. — Сегодня ночью я пыталась объяснить это Жеану. Понимаете, мы
усовершенствовали человечество. Все мы теперь очень рослые, здоровые, красивые. Не знаем,
что такое пломбы… Среди нас есть люди с коричневой кожей, и с белой, и с золотистой. Но все —
красивые, здоровые, уравновешенные, напористые, преуспевающие. Профессию и степень успеха
для нас заранее определяют в государственных детских домах. Но изредка попадаются гены с
изъяном. Вот как у меня. Меня учили на археолога, потому что наши Учителя видели, что я, в
сущности, не люблю людей, тех, что вокруг. Люди наводили на меня скуку. С виду все — такие же,
как я, а внутренне все мне чужие. Если всюду кругом одно и то же, где найти дом?.. А теперь я
увидела не слишком чистое и не слишком теплое жилище. Увидела собор, а не развалины.
Встретила человека меньше меня ростом, с испорченными зубами и пылким нравом. Теперь я
дома, здесь я могу быть сама собой, я больше не одна!
— Не одна, — негромко сказал Ленуар Пенниуизеру. — Одиночество, а? Одиночество и есть
колдовство, одиночество сильней всякого колдовства… В сущности, это не противоречит законам
Природы.
Из-за двери выглянула Бота, лицо ее, обрамленное непослушным черными волосами,
разрумянилось. Она застенчиво улыбнулась и по-латыни учтиво поздоровалась с гостьей.
— Кеслк не понимает по-латыни, — с истинным наслаждением сказал Ленуар. — Придется
поучить Боту французскому. И ведь французский — это язык любви, так? Вот что, выйдем-ка в
город, купим хлеба, я проголодался.
Он завернулся в свой траченный молью черный балахон, а Кеслк поверх серебряной туники
набросила надежный, все скрывающий плащ. Бота причесалась. Барри рассеянно поскреб шею —
вошь укусила. А потом все отправились добывать завтрак. Впереди шли алхимик с межзвездным
археологом и разглагольствовали по-французски; за ними следовали галльская рабыня и
профессор колледжа штата Индиана, держась за руки и разговаривая по-латыни. На узких улицах
было людно, ярко светило солнце. Высоко в небо вздымались квадратные башни Собора
Парижской Богоматери. Рядом играла мягкой зыбью река. Был апрель, и в Париже, по берегам
Сены, цвели каштаны.
Лейбер Фриц - Порядочная девушка и пять ее мужей
(~40 мин., совр. проза, фантастика
"Когда Том Дорсет добрался до залитой ранними лучами солнца долины красных камней, из-за
круглой скалы выступила невероятно хорошенькая девушка с волосами цвета меди. Она
поведала о своей жизни в группе с пятью мужьями и несколькими соженами. Если и найдется
мужчина более трудный, сказала она, чем эти пятеро, им наверняка окажется марсианин.
Дюжина голых ребятишек наперегонки бежала вокруг ранчо.." © ozor)
Перевод О.В.Клинченко
Пребывать в оплачиваемом творческом отпуске и вдруг обнаружить, что ты не в состоянии ничего
создать, - вещь неприятная для любого художника. Очутиться среди дюжины таких же людей,
томящихся вынужденным бездельем в кучке словно бы выброшенных на необитаемый берег
домиков, - и того хуже. Поэтому, когда Том Дорсет добрался до залитой ранними лучами солнца
долины красных камней, его чувство раздражения и досады на самого себя и "ТоскерБрауновское Отпускное Братство" было вполне понятным. С натиравшим плечо ремешком
фотоаппарата он смирился, как с угрызениями совести. Как должное, воспринимал он и
пренебрежительное шуршание песка под подошвами теннисных туфель, страстно желая лишь
одного: чтобы дующий здесь время от времени легкий ветерок, едва слышно вторивший этой
уничтожительной песчаной "критике", унес его в какую-нибудь иную, более приветливую и не
столь завистливую эпоху.
Он и понятия не имел о том, что наряду с ветрами, дующими через пространство, существуют и
другие, веющие сквозь время. Среди последних случаются сильные и слабые. Сильные
встречаются не часто и редко дуют на короткие расстояния иначе бы о них знали больше.
Например, то, что если уж эти ветры что-нибудь подхватят, то непременно закружат и унесут в
далекое будущее или прошлое.
Случается такое и с людьми. Взять хотя бы Амброуза Бирса *, который исчез из Америки, будто и
не существовал никогда, равно как и тысячи других, пропавших совершенно бесследно, хотя
многие, разумеется, просто не могли быть унесены вихрями времени, и я не знаю, дул ли какойнибудь подобный зефир на палубе "Небесной Марии".
Порою ветер времени довольно шаловлив: подхватит живое существо или предмет, немного
позабавится им, а потом, не причинив никакого вреда, возвратит на исходное место. Бывает,
капризные ветры времени уносят нас, а мы этого
* Амброуз Бирс (1842-1914?) - американский журналист, автор коротких рассказов.
даже не замечаем. Память, к примеру, это тоже маленький ветерок времени - настолько слабый,
что способен вызвать рябь только в наших мыслях.
Очень немногие ветры времени подобны муссонам, дующим через определенные интервалы
сначала в одном направлении, затем в другом. Такой вот ветер времени гуляет возле качающейся
скалы в долине красных камней на американском Юго-Западе. Каждое утро, в десять часов, он
дует на сто лет в будущее, а днем, в два часа, - на сто лет в прошлое.
Довольно большое количество людей, сами того не подозревая, видели ветры времени. На
морском горизонте - это смутные, неясные пятна, в жаркой пустыне - колышущиеся лоскуты.
Миражи и видения - стихия воздушных струй и ледяных обелисков. А также пыльные дьяволы,
как, например, тот, в который вошел Той Дорсет у качающейся скалы.
Ему показалось, что это был только злобно взметнувшийся песок, отчего он зажмурился и не
размыкал ресниц - до тех пор, пока горячие песчинки не перестали покалывать веки. Он открыл
глаза и обнаружил, что качающаяся скала бесшумно упала и лежит теперь, на четверть занесенная
песком. "Нет, этого не может быть", - тотчас сказал он. Погруженный в свои мысли, он поначалу,
видимо, не обратил на нее никакого внимания и представил скалу только по памяти.
Несмотря на это показавшееся ему разумным заключение, Том был совершенно потрясен.
Ремешок фотоаппарата соскользнул с плеча, но он этого даже не почувствовал. И вот тогда-то изза круглой, как огромная катушка, скалы выступила невероятно хорошенькая девушка с волосами
розоватокрасного, свойственного чистой меди, цвета.
Она была боса, одета в бледно-голубой пляжный костюм, очень напоминавший греческую тунику.
Но более всего в ней, стоявшей прямо перед ним и отбрасывавшей на песке неровную тень,
бросалась в глаза абсолютная естественность, отсутствие каких-либо "острых углов",
непосредственность, отметающая всякую мысль о взрослости, в то время как долина, казалось, в
одно мгновение сделала еще один шаг к вечности.
Должно быть, она обнаружила такую же мягкость и в нем, поскольку ее легкое удивление тотчас
рассеялось, и она просто, словно они уже лет пять были знакомы, спросила:
- Скажи теперь - по-твоему, женщина может любить только одного мужчину? Всю жизнь? А
мужчина - только одну женщину?
Том Дорсет издал нечленораздельный звук, свидетельствовавший о крайнем изумлении.
Его мозг судорожно искал ответа.
- Я считаю, что может, - сказала она, глядя на него с таким же спокойствием, как если бы передней
стояла гора. - Я думаю, что и мужчина и женщина могут быть целым миром друг для друга, как
Тристан и Изольда, Фредерик и Катерина. Эти старые авторы знали, о чем писали. Я в самом деле
не понимаю, почему девушка должна разбрасываться своей любовью, пусть даже это способно
обогатить ее опыт.
- Знаете, я с вами согласен, - произнес Том, полагая, что уловил ее мысль, - было просто
невозможно не заметить ее случайный характер. - Я считаю, что в том, как сегодня буквально
гоняются за сексом, есть что-то дешевое и малопривлекательное.
- Я не имела в виду именно это. Нежность - это прекрасно, но... - Она недовольно надула губки. Большая семья иногда подавляет. Я хотела объявить сегодня выходной, но большинство
проголосовало против. Джок сказал, что это не совпадает с нашими циклами настроений. Я
разозлилась на них, надела вот это платье...
- Надели что?..
- Чтобы устроить сегодня выходной, - недоумевающе пояснила она. - В приступе раздражения я и
пришла сюда. - Она шагнула за край отбрасываемой Томом тени и тут же отпрыгнула назад. - Ой,
песок нагревается, - вымолвила она, отряхивая песчинки с незагоревших пальцев, по которым
можно было судить, что они никогда не знали узкой, стискивающей ногу обуви.
- Вы много ходите босиком? - предположил он.
- Нет, больше в шлепанцах, - ответила девушка, после чего достала из набедренного кармана
какой-то мерцающий предмет и натянула его на ногу. Это оказался прозрачный, с пятью
раздельными пальцами и полностью закрывающий лодыжку мокасин. Молниеносным
движением, как в фокусе с картами, она застегнула замочек. Затем подобным же образом
натянула мокасин и на другую ногу. И снова металлические кромки сомкнулись, казалось, сами
собой.
- Я отстал от моды, - любопытствуя, произнес Том. Теперь они шли рядом, направляясь в сторону,
откуда появилась она и куда раньше держал путь он. - Как работает эта "молния"?
- На магнитах. Такие у меня везде. Очень просто и удобно. - Она расстегнула свою тунику до пояса,
и та сошлась вновь.
- Умно придумано, - сглотнув от неожиданности, заметил Том. Похоже, естественность девушки не
знала границ.
- Я вижу, ты парень с винтиками, - сказала она. - Ты действительно веришь, что один мужчина и
одна женщина могут любить только друг, друга?
Он горько усмехнулся. Ему вспомнилась Элинора Мерфи из "Тоскер-Брауна" и сама мисс Тоскер с
ее холодным и безучастным лицом.
- Иногда я спрашиваю себя: а возможно ли вообще, чтобы кто-то кого-то любил.
- Ты еще не встретил своих девушек, - произнесла она.
- Девушку, - поправил он.
Она одобряюще улыбнулась:
- Я начинаю думать, что ты и впрямь сторонник моногамии. Из какой ты группы?
- Давай не будем об этом, - вежливо предложил он, решив даже отказаться от попыток узнать,
каким образом она догадалась о его принадлежности к некоему направлению в искусстве, лишь
бы избежать разговоров об "Отпускном Братстве" и этих действовавших на нервы маленьких
домиках.
- Моя группа в целом очень хорошая, - продолжала девушка, - но временами они просто
раздражают. Хуже всех - Джок спокойно руководит всеми, словно какой-нибудь аналитик. Как же
он отвратителен! Но и Лэрри почти такой же, со своим стыдливо-надменным взглядом - будто все
мы тайком пустились в увеселительную прогулку на Венеру. Другая крайность - Иокиши, вечно
боится, что не оделит своей привязанностью всех поровну, и потому скупо раздает ее в небольших
пакетиках, словно распределяя леденцы между завистливыми детьми, которые станут орать,
получив на одну тянучку меньше. А Саша и Эрнст...
- А о ком ты говоришь? - поинтересовался Том.
- О своих мужьях. - Она грустно покачала головой: - Если и найдется мужчина более трудный, чем
эти пятеро, им наверняка окажется марсианин.
Том лихорадочно прокручивал в памяти все разговоры в "Тоскер-Браун", стараясь зацепиться хоть
за какую-нибудь сплетню о местных сектах и религиозных культах. Ничего такого не обнаружив,
он расширил границы поисков. Мормоны (не созвучно ли это слово со словом "марсианин"?), но в
мормонских семьях муж всегда один.
Потом, эта Онеида * (не у них ли было по нескольку жен и мужей?), но это Новая Англия XIX века...
Реформистское религиозное общество, учрежденное в 1848 г. .D Онеиде, штат Нью-Йорк, основы
вероучения которого составляла идея о том, что грех может быть устранен путем социальных
реформ; D 1881 г. распущено и реорганизовано в акционерное общество.
- Пять мужей?- повторил он. Она кивнула. - Ты хочешь сказать, что живешь где-то одна с пятью
мужчинами?
- Ну, если быть совершенно точной, то нет, - ответила она. - Есть еще мои сожены.
- Сжены?
- Со-жены, - произнесла она немного медленнее. - Эти тоже могут весьма фашинеранно *
раздражать.
Мозг Тома произвел еще кое-какие вычисления.
- И ты все-таки веришь в моногамию?
Она улыбнулась:
- Только во время приступов раздражения. Ты проявил воспитанность, согласившись со мной.
- Но я и в самом деле верю в моногамию, - запротестовал было он.
Она слегка сжала его руку:
- Ты хороший, но теперь давай поспешим. Мой приступ раздражения прошел, и я хочу
познакомить тебя со своей группой. У нас ты сможешь немного развеяться.
И пока они почти бежали по ставшему уже горячим песку, нечто вроде беспокойства впервые
кольнуло Тома Дорсета. Что-то странное было в этой девушке, и это что-то было более
значительным, нежели ее странная одежда и проскальзывавшие непривычные речевые обороты
и незнакомые словечки, нечто почти - хоть привидения и не носят шлепанцев - почти призрачное.
Утопая ступнями в сыпучем песке, они вскарабкались на небольшую возвышенность и очутились
на совершенно ровном, простиравшемся вдаль плато. Невдалеке, огибая змейкой две огромные
каменные глыбы, виднелось глинобитное ранчо со множеством окон и крышей, выглядевшей так,
будто ее только что просмолили.
- О, да они все оделись, - удовлетворенно произнесла его спутница. - Решили все же устроить
сегодня выходкой.
В группе высыпавших им навстречу людей Том выделил бородатого мужчину. При виде этой
сектантской бороды у него появилось мимолетное ощущение превосходства, за которым,
впрочем, последовало такое же мимолетное опасение: все пять мужей были настоящими
здоровяками. Затем оба эти чувства поглотились шумным водоворотом приветственных фраз.
* От fasciner (фр.) - очаровывать, прельщать.
Он назвал свое имя, узнал, что его спутницу зовут Луиза Уолвер, потом улыбавшиеся ему лица
качнулись в легком поклоне, его ладони были стиснуты в рукопожатиях, его целовали в щеки и, в
конце концов, даже заставили несколько раз обернуться кругом, как при игре в жмурки, чтобы он
перепутал всех мужей и не смог запомнить, кто есть Мэри, кто Рахиль, кто Симона и кто Джойс.
Все же он уловил, что Иокиши принадлежит к восточной расе, - его без единой морщинки кожа
напоминала гладкий эмалированный фарфор, - и что Рахиль - это высокая стройная негритянка.
Услышал он также и слова о том, что "Джойс не Уолвер, а просто в гостях".
Впечатление от одежд было намного яснее, чем от имен: красочные, дорогие на вид вещи,
навеянные большей частью древнеегипетской и критской культурами. Некоторые костюмы
выглядели чересчур нескромными даже по сравнению с известными пляжными ансамблями мисс
Тоскер, разница же заключалась в том, что их обладатели этого, по-видимому, не чувствовали.
- Есть, уходит пол-утренняя ракета! - возбужденно крикнул кто-то.
Том, как и все остальные, глянул вверх и невольно зажмурился от ослепительно-яркого солнца.
Однако тут же до ушей донесся негромкий рев, который быстро ослабевал как по силе, так и по
высоте звука. Он вспомнил, что в этом районе находится военный ракетный полигон, но
осуществляли ли пуски ежедневно, он не знал.
- По-вашему, она сбилась с курса? - с тревогой спросил он.
- Это исключено, - ответил один из Уолверов.("Наверно, Борода", - подумал Том.) Уверенность, с
какой это было сказано, натолкнула на возможную разгадку: видимо, на днях сюда со всего света
съехались ученые со всякими передовыми идеями, и это - какая-нибудь группа, работающая на
строящемся неподалеку атомном центре и в перерывах устраивающая такие вот экстравагантные
выходки.
Когда они шумной компанией подходили к дому, он услышал, как Луиза сказала с упреком: "Но
ты все-таки объявил сегодня выходной", - и ответ мужа, своим обликом напоминавшего веселого
фараона: "Я еще раз проверил таблицы настроения и обнаружил тонкую волну, которую раньше
пропустил".
Тем временем Борода взял заботу о Томе на себя. Том не запомнил его имени, но это был
мужчина со светло-коричневой кожей (борода же у него была черной), одетый в зеленый саронг *
и извергавший безудержное веселье и экспрессию.
- Там вот плавательный бассейн, на другой стороне посадочная точка, - начал он, но, заметив
пристальный взгляд Тома, обращенный к черной, как сажа, крыше, осекся. - Солнечные батареи, пояснил он с гордостью. - Они покрывают все наши потребности в электричестве.
Том уловил в его голосе некую особую интонацию.
- Интересно, почему вы не используете атомную энергию? небрежно обронил он.
Борода кивнул:
- Нас уже спрашивали об этом. Дело эстетики. Зачем зря терять солнечный свет, а вместо него без
необходимости прибегать к тяжелым радиоактивным веществам? Ты, конечно, можешь думать
иначе. Из какой ты, сказал, группы?
- Тоскер-Брауновской, - ответил Том, но, увидев, как у того недоуменно съехались брови, добавил:
- Отпускное Братство. Да вы его знаете.
- Я - нет, - признался Борода. - А где оно находится?
Том коротко описал ранчо и домики на другой стороне долины.
- Забавно, но я не могу определить, где это, - пожал плечами Борода. - Вот есть пришли дети.
Дюжина голых ребятишек наперегонки бежала вокруг ранчо, за ними - тоже бегом - следовала
женщина в платье с глубокими разрезами по бокам, чем-то напоминавшем те, что носят
африканки.
- Ваши? - спросил Том.
- Наши, - ответил Борода.
- C'est un homme **.
- Regardez des vetements! ***
- He надо практиковаться, дети, у нас выходной, - сказал Борода. - Том, Хелен, - представил он
женщину в хорошо вентилируемом одеянии. - Сегодня ее очередь сопровождать die Kinder. ****
* Одеяние на манер юбки, образуемое обертыванием куска ткани вокруг нижней части тела и
являющееся основной одеждой как у мужчин, так и у женщин Малайского архипелага и
прилегающих к нему тихоокеанских островов.
** Это человек!
*** Посмотрите на одежду! (фр.)
**** Детей (нем.)
Один из мальчиков слегка стукнул Бороду по коленке:
- Можно, мы покажем незнакомцу наши вещи?
Тотчас с этой просьбой Бороду обступили и остальные. Он вопросительно взглянул на Тома,
который кивком выразил свое согласие. Через секунду маленькая "труппа" увлекла его в
направлении просторного сооружения-пристройки. Чего там только не было: разные странные
игрушки, камни, растения, небольшие животные в клетках и без оных, причудливые модели то ли
самолетов, то ли подводных лодок. Но внимательно рассмотреть хоть что-нибудь из этого
богатства Тому не удалось.
- Видишь мои кристаллы? Это я вырастил.
- Понюхай мои мутированные гардении *. Скажи теперь, есть разница?
Никакой разницы Том не заметил, но все же кивнул.
- Посмотри на моих толстякиттов. - Это относилось к нескольким белым длинноухим белкам,
грызшим морковь и орехи.
- Вот моя новейшая модель космического корабля, он называется DS-57-B. Смотри, какая здесь
детальность, - совал ему в лицо одну из похожих на подводную лодку штуковин самый старший.
Том почувствовал себя неким фантомом, бесплотным образом, которого пухлые ручки херувимов
увлекают в некую вычурно-пышную картинку. Если, конечно, не считать того, что херувимы были
стройными, загорелыми, кипели фантастической энергией и обладали, по-видимоwy, удручающе
высоким интеллектуальным коэффициентом **. (Что эти ученые сделали с детьми!). Он заскучал
по Луизе и проникся слезливой благодарностью к единственной маленькой девчушке, которая с
важным видом прыгала через скакалку в углу и не обращала на него никакого внимания.
В его память врезалась странная тарабарщина, которую она все время повторяла: "Гик-ло, И-о,
Рик-о, Джис-сс, Гик-ло, И-о..."
Вдруг воздух наполнился тихим мелодичным перезвоном.
* Вечнозеленое мареновое дерево или кустарник, произрастающее в Восточной Азии;
культивируется из*-за ароматных белых цветков.
** Уровень умственного развития, соответствующий определенному возрасту, разделенный на
реальный возраст индивида и умноженный обычно на 100. Например, ИК 10-летнего ребенка, чье
умственное развитие соответствует среднему уровню 12-летнего, равен 1,2 или 120.
- Обед! - закричали дети и гурьбой побежали из пристройки в сторону ранчо.
Он, гораздо более степенно, последовал за ними. Идя вдоль стены ранчо, он с интересом
заглядывал в огромные окна, пытаясь увидеть, как живут и где спят Уолверы, но оконные стекла
были непривычно затемнены. Затем он вошел в большой дверной проем, в котором исчезли дети,
и его любопытство сменилось неподдельным удивлением.
Упругий зеленый пол не был простой плоской поверхностью, подобно разбивающейся о пирс
волне он отлого поднимался по направлению к противоположной белой стене. Чаши кресел
являли собой заботливые руки великанов, выраставшие из зеленого пола грибы и растения с
широкими листьями - столики, окно громадную картину с изображением красных камней.
И все же по-настоящему его интерес художника разгорелся при виде облицованных деревом стен.
Они благоухали фруктами и цветами, непостижимо-волнующе вырезанными в разных стилях.
Никогда прежде ему не доводилось видеть столь изящной работы.
Неожиданно он осознал, что в комнате царит полная тишина - хозяева и хозяйки улыбались ему
из-за большого длинного стола. Движимый внезапно охватившим его чувством покорности, он,
опустившись поочередно на одно, затем на другое колено, расшнуровал свои теннисные туфли и
поставил их рядом со стоявшими у двери сандалиями и шлепанцами. Когда он поднялся,
раздались нежные и немного комичные звуки. Это дети, выстроившись за столом, торжественно
дули в деревянные флейты и рекордеры *. У стола оставалось одно свободное кресло, и он,
ощущая только песок у себя на ногах, направился прямо к нему.
Его огорчило, что Луиза оказалась не рядом с ним, но вид пищи заставил забыть обо всем, кроме
голода. Здесь были маленький прелестный антрекот, разрубленный на безупречно ровные
темные и светлые ломтики, а также всевозможные овощи и фрукты, из которых один или два вида
показались ему незнакомыми.
- Доставлены по воздуху из Африки, - произнес кто-то.
"Ох уж эти хитрюги-ученые, - подумал Том, - живут себе за охранным занавесом в своем
невообразимом мире!"
* Род старинной флейты.
Когда они сидели за кофе и вином (дети к этому времени уже закончили свой концерт и были
заняты обедом за другим столом), он спросил:
- Как вам удалось достичь всего этого?
Джок, "веселый фараон", пожал плечами:
- Это не трудно.
Рахиль, стройная негритянка, усмехнулась, глядя ему прямо в глаза:
- Мы честные и праведные люди. Том.
Он попытался сформулировать вопрос так, чтобы избежать упоминания о деньгах:
- Кто вы по профессии?
- Джок работает на урановых рудниках, - подхватывая нить разговора, живо отозвался Лэрри
(Борода). - Рахиль разводит морские водоросли на ферме. Я - пилот ракеты, Луиза...
Несмотря на радость, вызванную тем, что его догадка наконец-то подтвердилась, Том не смог
побороть ощущение сильной неловкости.
- А вы уверены, что следует рассказывать мне такие вещи?
Лэрри рассмеялся:
- А почему нет? Луиза и Иокиши последние шесть месяцев обмен-рабочие в Китае...
- Большей частью роем канавы, - иронично вставил Иокиши.
- ...а Саша трудится на сборочном заводе. Хелен - психиатр. И все мы занимаемся совершенно
обычными делами. Сейчас у нас общий отпуск..
- То есть мы в отпуске вместе, - внес ясность Лэрри. - А чем занимаешься ты?
- Я художник, - произнес Том, доставая сигарету.
- Но что ты делаешь еще? - переспросил его Лэрри.
Том почувствовал раздражение и замешательство одновременно.
- Просто художник, - пробормотал он с сигаретой во рту, роясь в карманах в поисках спичек.
- Погоди, - сказала сидевшая рядом Джойс, направляя на кончик его сигареты узкий пучок
серебристых лучей. Он ощутил на губах слабую вибрацию и, закашлявшись, отпрянул назад. На
кончике сигареты тлел красный огонек.
- Мамми, мутируй, пожалуйста, мои зернышки мака. - Из-за детского столика к Джойс метнулась
маленькая девчушка.
- Ты очень невоспитанная девочка, - произнесла Джойс без тени упрека в голосе. - Давай их сюда.
- И она направила короткий пучок серебристых лучей на глиняные шарики, лежавшие на смуглой
ладошке.
Девчушка вся затрепетала от удовольствия.
- Как я люблю ультразвук, он такой смешливый на ощупь! воскликнула она и стремглав умчалась к
своему столику.
Том кашлянул.
- Должен сказать, что меня ужасно поразила эта резьба по дереву. Я хотел бы ее
сфотографировать... О Господи!..
- Что случилось? - спросила Рахиль.
- Я потерял свой фотоаппарат.
- Фотоаппарат? - с любопытством отозвался Иокиши. - Ты имеешь в виду аппарат, снимающий
отдельные кадры?
- Да.
- А что за аппарат?
- Типа "лейки", - ответил Том.
Иокиши это, кажется, впечатляло.
- Интересно. Никогда не видел таких старых моделей.
- Том - парень с винтиками, - заметила Луиза, очевидно, в качестве пояснения. - Он был в таком
коричневом футляре? Ты обронил его в том месте, где мы с тобой встретились. Позже можно
будет отыскать.
- Ладно, но мне действительно очень хочется сделать эти снимки, - проговорил Том. - А кстати, кто
все это вырезал?
- Мы, - сказал Джок. - Все вместе.
В этот момент дети шумно выбежали из зала, избавив Тома от необходимости отвечать:
единственное, на что он был сейчас способен, так это изумленно промычать что-то
невразумительное.
Затем заговорили кто о чем: о некоем устройстве, именуемом психомашиной, путешествиях в
Россию, на Марс, о художниках, чьих фамилий Том никогда не слышал. Ему хотелось поговорить с
Луизой, но она и несколько ее соседей совсем по-детски болтали что-то о Марсе. Внезапно он
почувствовал себя неловко и отчужденно, и ни извиняющиеся замечания Рахиль о ее вкладе в
разные изображения, ни ободряющие улыбки Джойс этого состояния не облегчили. Он
обрадовался, когда все начали подниматься из-за стола, вышел на улицу и с ощущением
подавленности побрел в направлении детской пристройки.
И вновь он очутился в центре дружелюбного голого скопления. Только маленькая девчушка все
так же с важным видом прыгала через скакалку. Какая-то недобрая и особого успеха не сулившая
прихоть подтолкнула его спросить самого младшего:
- Сколько будет один и один?
- Десять, - бойко ответил мальчонка. Тому это доставило величайшее удовольствие.
- Может быть также и два, - заметил самый старший мальчик.
- Конечно может, - согласился Том. - А каково население Земли?
- Около семисот миллионов.
Том уклончиво кивнул и, ухватившись за первое пришедшее на ум длинное слово, обратился к
самой старшей девочке:
- Что такое полиомиелит?
- Впервые о таком слышу, - произнесла она.
Маленькая девчушка с важным видом продолжала бубнить свою смешную припевку: "Гик-ло, И-о,
Рик-о, Джис-со". С чувством удовлетворенного самолюбия он вышел на улицу и увидел Луизу.
- Что-то случилось? - спросила она.
- Ничего, - ответил Том.
Она взяла его за руку.
- Мы, наверное, слишком уж наехали на тебя? Надоели тебе своей болтовней? Наша семья
довольно криклива, а я не додумалась поинтересоваться - может, ты одинокился?
- Одинокился?
- Покинутился?
- Ну, в некотором роде, - сказал Том. Они немного помолчали.
- Луиза, ты довольна своей жизнью здесь, ты счастлива? задал он наконец вопрос.
Она просияла улыбкой:
- Конечно. Тебе не нравится моя группа?
Он заколебался.
- Я не очень хорошо чувствую себя среди них, - начал он, а затем добавил примиряюще: - Но это,
пожалуй, самые располагающие и привлекательные люди, которых я только встречал.
- Правда? - Она чуть сильнее сжала его руку. - Тогда почему бы тебе не остаться с нами на
некоторое время? Ты мне нравишься. Еще слишком рано что-либо предлагать, но, по-моему, у
тебя есть качество, которого не хватает нашей группе. А позже сам решишь, насколько удачно ты
вписываешься. И, кроме того, здесь Джойс. Она тоже наша гостья. Тебе не следовало
одинокиться, если, конечно, ты сам этого не хотел.
Прежде чем он успел хоть как-то обдумать ее слова, раздались быстрые шаги множества ног, и
они оказались в кольце Уолверов.
- Мы идем купаться, - объявила Симона.
Луиза вопросительно посмотрела на Тома. Он улыбнулся, высказывая готовность, потом
вспомнил, что у него нет плавок, но в конце концов пришел к выводу, что здесь такое было бы не
в диковинку. А интересно, сам он покраснеет или нет?..
Когда они, направляясь в бассейн, огибали ранчо, к нему пристроился Джок.
- Лэрри рассказал мне о твоей группе на том конце долины. Забавно, но я десятки раз кружил над
ней и никакого жилья не заметил. Как оно выглядит?
- Ранчо и несколько домиков.
Джок нахмурился.
- Забавно, но я никогда их не видел. - Затем его лицо прояснилось: - А как насчет, того, чтобы
слетать посмотреть? Ты бы сам и показал их мне.
- Они действительно там, - несколько смущенно произнес Том. - Я не выдумываю.
- Конечно, - заверил Джок. - Я просто предложил.
- А по дороге мы бы могли подобрать твой фотоаппарат, вмешалась в разговор Луиза.
Остальная компания, обогнув огромный овал бассейна и темно-синий сверкающий аппарат за
ним, стояла теперь, пестря разноцветными одеждами, перед игравшей голубыми бликами водной
гладью.
- Как насчет того, чтобы немного полетать? - спросил всех Джок. - Небольшая прогулка перед
купанием?
Кроме Луизы на это предложение откликнулись двое или трое, и Джок повел их к вертолету,
который находился, как сейчас разглядел Том, за бассейном: синий, как у жука-скарабея, корпус и
серебристые сверкающие лопасти.
Спутники Тома уже разместились в кабине. Он, с непринужденностью, на какую только был
способен, и одновременно пытаясь унять учащенное сердцебиение, последовал за ними.
- Все-таки интересно, почему вы нe пользуетесь ракетой? небрежно заметил он.
Джока это рассмешило.
- Для такой короткой прогулки?
Лопасти застучали, постепенно набирая темп. Том боязливо опустился в кресло, крепко
ухватившись за края, тело его словно одеревенело; потом он сообразил, что остальные с ленивой
беспечностью откинулись на мягких подушках сидений. Несколько напряженных секунд - и
вертолет пошел куда-то вперед и вверх. Глянув вниз, Том мельком увидел черную, как сажа,
крышу ранчо, голубизну бассейна и розоватую умбру * загорелых тел. Затем вертолет,
накренившись, мягко описал круг. Внезапно Тома охватило непонятное беспокойство, желание
зацепиться за что-нибудь и вместе с тем - стремление немедленно бежать. Он попытался убедить
себя, что это просто боязнь высоты.
До него донеслись слова, сказанные Луизой Джоку: "Вот то место, возле скалы, которая
напоминает рухнувший космолет".
Вертолет, выравниваясь, двинулся прямо. Том почувствовал, как на его руку легла ладонь Луизы.
- Ты не ответил на мой вопрос, - сказала она.
- Какой? - тупо переспросил он.
- Останешься ты с нами или нет? По крайней мере, хоть на некоторое время.
Он внимательно посмотрел на нее. Ее улыбка была воплощением покоя и уюта.
- Если только смогу, - проговорил он наконец.
- А что может тебе помешать?
- Не знаю, - неопределенно ответил он.
- Странный ты какой-то, - сказала Луиза. - От тебя исходит чувство грусти. Будто живешь в какойнибудь другой, не такой благополучной, как наша, эпохе. Будто сейчас не 2050-й.
- Две тысячи?.. - вздрогнув, проговорил он, пробуждаясь от своих мыслей. - Который час? спросил он озабоченно.
- Два часа, - произнес Джок. Это прозвучало, как дурное знамение.
- Тебе нужно взбодриться, - решительно заявила Луиза.
* Минеральная краска разных оттенков - от красновато-темнокоричневого до зеленоватокоричневого.
Среди все усиливающегося гула и шума отражавшихся от земли потоков воздуха они, слегка
покачнувшись, аккуратно опустились вниз. Луиза спрыгнула на песок.
- Пойдем, - сказала она.
Том выбрался за ней.
- Куда? - глупо спросил он, оглядываясь на красные камни, проступавшие в облаке взвихренного
лопастями песка.
- Твой фотоаппарат, - засмеялась она. - Он там. Давай наперегонки.
Он побежал вместе с ней - и в этот миг его беспокойство резко усилилось, выходя из-под контроля
воли. Он бежал все быстрее и быстрее. Потом увидел Луизу - она, зацепившись ногой за камень,
падала, распластавшись, на песок, - но остановиться не мог. В каком-то безумном безрассудстве
бежал он теперь вокруг скалы и вдруг с размаху влетел в столб взметнувшегося вверх песка; это
произошло так внезапно, что Том едва не закричал от ужаса. Он попытался вырваться из этого
жалящего и слепящего вихря, но ощутил кошмарный страх от того, что неистовый бег уносит его в
никуда.
Затем песок осел. Постепенно замедляя шаг, он остановился и огляделся. Рядом высилась
качающаяся скала. Он тяжело дышал. У его ног из песка выглядывал порыжевший ремешок
фотоаппарата. Луизы нигде не было. Равно как и вертолета. Долина казалась иной, более дикой и
нетронутой, - кто-то, возможно, сказал бы, что она стала моложе.
Совсем уже стемнело, когда он добрел до "Тоскер-Брауна". В зашторенных окнах некоторых
домиков еще горел свет. Он стер ноги, был совершенно сбит с толку и напуган. Весь следующий
день и весь вечер с его постепенно сгущающимися сумерками, до самой темноты, когда камни в
лунном свете превратились из красных в черные, он исследовал долину. Но нигде не удалось ему
отыскать ранчо Уолверов с его черной, как сажа, крышей. Он даже не смог определить, где
находилась та, похожая на огромную круглую катушку, скала, возле которой он встретил Луизу.
В течение последующих дней он снова и снова и приходил в долину. Но так ничего и не нашел. Ни
разу не случалось ему быть и возле качающейся скалы в десять или в два, когда там дуют ветры
времени, хотя однажды или даже пару раз он все же видел пыльных дьяволов. Потом он уехал и в
конце концов обо всем забыл.
В тех книгах и журналах, которые он иногда читал, ему, бывало, попадались на глаза научнопопулярные статьи с описанием двоичной системы чисел, используемой в электронновычислительных машинах, где один и один дают десять. Он всегда пролистывал эти страницы.
Порой его взгляд натыкался на четыре уравнения, выражающих обобщенную теорию гравитации
Эйнштейна.
Ни разу он не соотнес их с припевкой той маленькой девчушки: "Гик-ло, И-о, Рик-о, Джис-со".
Лилэн - Нас свела зима
(~42 мин. , женское любовное фэнтези)
Снежная пурга. Сильный пронизывающий ветер пополам со снегом со всей силы бил по лицу,
ослепляя глаза. Завернувшись лицом в шаль, в надежде укрыться от нахальных снежинок, я брела
по колено в сугробах со скоростью больной черепахи. Замерзшие ноги плохо слушались, с каждой
минутой идти становилось все труднее и труднее. Старые сани, с вязанкой хвороста понуро
тащились сзади. Разминая замерзшие пальцы, я перекидывала веревку из руки в руку.
И какой черт дернул меня отправиться в лес за хворостом перед самой бурей? Хотя чистое
небо с утра не предвещало снега. Проплутав несколько часов в лесу и насобирав несколько охапок
веток, я задержалась у кустов рябины, собирая красные ягоды. Из них получается хорошая
настойка, которую с удовольствием покупают деревенские для растирания спины при поясничных
болях, да и местные забулдыги не прочь прикупить бутылочку другую. Я так увлеклась делом, что
не заметила как начался снегопад. Споро засобиравшись домой, я только и успела, что выйти с
поляны как завыл северный ветер, пытаясь сбить с ног, а снег заметал дороги.
Проклиная все на свете, я двинулась в сторону дома, мечтая как можно скорее оказаться у
родной теплой печки, протянуть озябшие руки к ласковому огню и слушать тихое урчание кота
Васьки, под боком. Кота я подобрала на улице с год назад. Несчастный котенок прятался от дождя
у меня под забором, пожалев мальца, взяла его к себе. За прошедший год котяра так отъелся и
обленился, что даже мышей перестал гонять, только и знает, что зимой сидит целыми днями на
печи, а летом пропадает на недели в очередном загуле.
Еще одна порция снега в лицо, заставила вынырнуть из воспоминаний. Запнувшись обо что-то,
я не удержала равновесия и упала в сугроб. Снег полностью забил рот и глаза. Встав на колени и
отплевываясь, я заодно постаралась очистить одежду. Платок слетел с головы, ветер тут же
принялся играть распущенными волосами, бросая их в лицо. Холод забрался под одежду, зубы
начали отбивать барабанную дробь. Кое-как собрав непослушные волосы и нахлобучив обратно
платок, я нащупала веревку от саней и поспешила дальше. Благо дорогу я могу найти и с
закрытыми глазами.
В этой деревеньке я уже лет 9, живу у местной знахарки (или ведьмы, как ещё называют
местные жители). Мои родители умерли, а родственники не захотели кормить лишний рот и
выбросили меня на улицу. В деревню Вишенку я добралась с местными крестьянам, ехавшими
мимо на городскую ярмарку, где и повстречала Валию. Пожалев бедного ребенка, знахарка взяла
меня к себе и выучила своему искусству. Для меня она стала второй матерью и я очень горевала,
когда 2 года назад её не стало. Домик, на окраине деревни, достался мне в наследство, как и
звание знахарки. Нехотя, но жители деревни признали меня посчитав, что лучше знакомая ведьма
под боком, чем чужая пришлая.
Не удержавшись под очередным порывом ветра, я повторно упала, но на этот раз на что-то
мягкое. Сугроб подо мной еле слышно застонал. Испуганно вскочив, я осторожно попинала
подозрительный бугор. Стон повторился. Не задумываясь, я упала на колени и принялась
разгрcensored снег.
Похоже, какой-то бедолага заплутал и потерялся в метели.
И что теперь?
Как не хотелось взваливать на себя чужие проблемы, но пришлось.
Еле как перетащив бесчувственное тело на сани (пришлось распрощаться с парочкой вязанок)
я двинулась в путь.
Тяжелый зараза, это вам не хворост тягать. Сани медленно скользили по снегу, веревка
натужно скрипела, грозя разорваться в любую минуту. М-да, для таких нагрузок она явно не
предназначена.
Вдали показался край леса, я вышла на опушку, которую еще полностью не успело замести.
Обойдя сани, я принялась подталкивать их. Дело пошло быстрее.
Человек уже не двигался и, кажется, перестал дышать. Проклиная свою легкомысленность, я
поспешила к уже видневшейся калитке. Шаловливый ветер совал шаль и унес в неизвестном
направлении. Кое как открыв непослушными пальцами задвижку, поспешила вкатить сани внутрь.
А вот и сарай. Уф... закрыв за собой дверь, без сил прислонилась к стене.
Усевшись на корточки, я стала с любопытством оглядывать свою находку. По габаритам явно
мужчина, пока тащила не успела разглядеть, да и не до того было. Волосы длинные,
неопределенного цвета, припорошенные снегом. На лице запекшаяся корка крови, видимо не
только метель послужила причиной такого состояния.
Ну что ж, последний рывок.
Подхватив бесчувственное тело подмышки, я оттранспортировала находку в дом, благо сарай
соединялся с предбанником деревянной пристройкой. Сомневаюсь, что хватило бы сил выйти
обратно на улицу.
Кот удивленно мявкнул, увидев пыхтящую хозяйку с бесчувственной ношей на руках. Дотащив
тело до кровати, я с громких хеком взвалила его прямо поверх покрывала, и бухнулась на лавку у
печи, чтобы унять дрожь в руках.
Такие тяжести мне ещё таскать не приходилось, и дай стихии, больше не придется. Где это
видано, чтобы девицы таскали мужиков на руках, а не наоборот?
Стянув с себя мокрую одежду и переодевшись в домашнюю, я поставила греться воду,
попутно раздув почти погасшие угли. Хорошо хоть с утра успела протопить печь и тепло ещё не
выветрилось.
Взяв небольшую миску с водой, я принялась оттирать лицо мужчины от засохшей крови и не
смогла сдержать удивленного вскрика. Он был кем угодно, но не человеком. Слишком
правильные черты лица, бледная (почти белая) кожа и тонкие четко очерченные губы, сейчас
синеватого оттенка. Оттаявший снег открыл моему взору прелюбопытнейшую картину: волосы
незнакомца оказались длинные ярко-красного цвета, превратившиеся в один огромный колтун.
Сомневаюсь, что удастся распутать, придется обрезать как не жалко. Сомневаюсь, что потом
мне скажут за это спасибо, если оно вообще будет... это потом... отогнав невеселые мысли я
осторожно промокнула рану на лбу, вот откуда, наверное, столько крови натекло. В печи
послышалась злобное бульканье, закипела вода. Вытащив ухватом котелки, я слила воду в тазик и
пошла распаковывать мужчину от излишек одежды.
О-о-о... а незнакомец прекрасно сложен, несмотря на ушибы и синяки, на теле четко
вырисовывались рельефы мышц. На правом плече причудливая татуировка в виде язычка
пламени, под цвет волос. Кр-расив, зараза.
Дальнейший осмотр показал, что несколько ребер сломано, одно треснуто, правая рука
вывихнута, в боку рваная рана, будто со зверем подрался. Кровь уже не текла, но, судя по тому,
как сильно пропиталась куртка, вылилось немало. Два часа ушло на то, чтобы наложить лубки,
промыть и забинтовать раны, под конец мужчина больше смахивал на мумию, свежевыкопанную.
Силком влив в него немного отвара (каких трудов это стоило), чтоб согреть организм и, навалив
кучу одеял, я без сил опустилась на скамью, подперев лицо ладонями.
Как же я вымоталась...
Тут же подошел кот и стал тереться о ноги, громко требуя его покормить. Устало
усмехнувшись, я потрепала урчащего проглота и пошла готовить ужин.
Всю ночь больной вел себя на удивление смирно, порой мне даже казалось, что он умер, но
подходя к постели, я видела спокойное размеренное дыхание и, успокаиваясь, шла обратно спать.
Ни температуры, ни жара, как ни странно, не было, а вот кожа продолжала оставаться холодной
на ощупь.
На следующий день я все-таки обстригла ему волосы, надеюсь, меня за это не прибьют, но сил
распутывать такую гриву не было, так что... со спокойной совестью принялась орудовать
ножницами. Кот с интересом наблюдал за моими манипуляциями с печи, озорно сверкая
зелеными глазищами. Затем, напоив еще не пришедшего в себя мужчину укрепляющим отваром
(дело пошло лучше, он смог сделать пару глотков) и, поменяв пропитанные кровью повязки, я
решила отправиться за продуктами. Мясо закончилось, да и молока со сметаной не мешает
прикупить. Своей живностью обзаводится неохота, да и несподручно. Если надо, деревенские все
принесут в обмен на настойки да зелья. В который раз проверив спящего, и укутав его в одеяла, я
наказала коту сторожить нашего гостя и подхватив корзину, вышла во двор. Солнечный морозный
день поднял настроение и поскрипывая по хрустящему снегу, я поспешила в продовольственную
лавку.
Хотелось как можно быстрее покончить с делами, было боязно оставлять его одного, мало ли
что. Не сторговываясь я без возражений выложила нужную сумму на прилавок и, подхватив
полную корзину покупок, припустилась в обратный путь.
- Госпожа ведьма! - из-за поворота выскочила, чуть не сбив меня с ног, юркая востроглазая
девчонка с растрепанной косой. Платок съехал на бок, щеки красные, глаза горят, и смотрит на
меня как Васька на жбан со сметаной.
- Чего тебе Милёна? - раздраженно интересуюсь.
- Госпожа ведьма, - девица замялась и покраснела (хотя куда уж больше), - мне нужно... ну...
это... зелье, - с каждым словом голос понижается и концу речи приходится нагнуться, чтобы
понять чего эта заноза хочет. - Вы можете приготовить, ну... приворотное зелье.
- Что, опять? - удивленно восклицаю на всю улицу. Милёна шикает, прося говорить потише и
постоянно оглядывается, не заметил ли кто. - Я же тебе в прошлом месяце давала целый пузырек,
зачем тебе ещё?
- Ну... видите ли... помните Архипа, племянника кузнеца Николы, что приехал к нам в прошлом
месяце, так вот...
- Так, стоп, - я замахала руками. - Какой Архип? А как же Митька.
- Ой, так это давно в прошлом, - она замахала руками. - Митьку я разлюбила, он такой бабник
оказался, только и знает, что окрестных девиц на сеновал таскать, зелье ненадолго
подействовало, он еще больше... - дальше я просто пропустила мимо ушей, боясь свихнуться от
избытка информации, вылитой этой сорокой.
- Так, стоп, сто-о-оп! Милёна хватит, я поняла, но сейчас у меня нет возможности... не спорь, прикрикнула, видя, как эта заноза набирает воздуха в грудь для новых вопросов. - Сейчас зима, а
ингредиенты, что нужны для зелья можно найти только летом. Я сказала не раньше лета! Нет
сушеных, они не подействуют, нет других средств нет, а если тебе не нравится, воспользуйся
природным обаянием. Что это такое? Ну ты и спросила... Ну не знаю... Построй ему глазки,
польсти, скажи какой он сильный, ну придумай сама в конце-то концов! Я тебе не эксперт в этой
области, так... Что?! Так, все, пошла отсюда мне некогда. Я сказала БРЫСЬ или все деду расскажу.
Да, я злобная ведьма, будешь доставать меня - мужиков отважу. Да...
Облегченно вздохнув, я без дальнейших приключений дошла до дому, где меня ждал
сюрприз. Нет, бесчувственный красавец еще не пришел в себя, а вот кот. Это... животное, явно в
порыве дикого помешательства, ураганом пролетев по комнатам, разворотил все вещи. Посуда и
мешочки с травами вперемешку валялись на полу. Соль и сахар белой горкой сияли в углу, крупы,
лежащие за печкой, теперь представляли разноцветное ассорти, годное только для корма
скотине, а этот усатый черный нахал лежал на заляпанной кровью куртке и что-то сжимал в лапах,
при этом на морде светилось такое безумно-восторженное выражение, будто бы кот вылакал
целый бутыль валерьянки натощак.
- ВАСЬКА!!! - Мой вопль заставил стены дома задрожать, кот черной молнией метнулся под
печку. - Ну наглая морда, только попадись мне, усы пообрываю! - продолжала бушевать я.
Оглядев творящуюся в доме разруху, мне ничего не оставалось как заняться уборкой.
Проверив повязки у спящего красавца, я подивилась как быстро побледнели синяки, мне
кажется или вчера их было намного больше? Хотя... он вроде как не человек, кто знает как быстро
они восстанавливаются.
Провозившись с уборкой до самого вечера, я успела проворонить убежавший суп и подпалить
пирог, когда забыла его вовремя вытащить из печи. Каждый раз проходя мимо печи, прожигала
злобным взглядом подпол, где нашел убежище черный "кошмар". Оттуда то и дело высовывалась
наглая морда, но завидев мою персону, тут же пряталась обратно, даже за едой не вышел,
удивительно.
О неужели, я наконец-то закончила, уложив остатки трав, что удалось спасти, в мешочки, я
подхватила злополучную куртку и с визгом отскочила подальше. Из рукава выпала небольшая,
размером с пол ладони, оранжевая ящерка. Полупав на меня золотистыми глазками, она смешно
фыркнула (ящерица то?!) и быстренько юркнула под кровать, я и глазом не успела моргнуть. Так
вот кого Васька так активно ловил, видимо посчитал ящерку забавной яркой мышкой и гонял
бедняжку по всему дому.
Ящерка, не теряя даром времени, вползла на кровать и пробралась под одеяла. Рванувшись
следом и откинув одеяла, я удивленно разглядывала как малышка уютно устроилась на груди
мужчины, испуская мягкий золотистый цвет. Вернув одеяло на место, решила не заморачиваться и
пошла есть.
Ночью меня разбудило дикое шипение и грохот разбиваемой посуды. Резко вскинувшись, я
чуть не сверзилась с печи, но успела вцепиться в край стены в самый последний момент. Васька
снова решил потиранить бедную ящерку, которая, вереща, скакала не хуже кузнечика по всей
комнате, кот за ней еле поспевал. Васька врезался тараном в разнообразную утварь, с грохотом
роняя все на пол.
- Вас-с-ська, - прошипела я, сползая с нагретого места. Увидев меня, ящерка ринулась в мою
сторону, кот следом. Влетев мне на руки, малышка быстро юркнула за ворот, пролетев по
инерции, кот врезался мне в живот. Охнув, я согнулась пополам, стараясь возобновить сбившееся
дыхание. В душе поднимались злость и раздражение, не люблю, когда меня поднимают среди
ночи - готова любого убить. Вот и сейчас, схватив первую попавшуюся под руку тряпку, я
принялась гонять нахала, из-за пазухи то и дело выглядывала довольная мордочка ящерки,
вцепившаяся коготками в рубаху.
Пару раз мне даже удалось зацепить наглую заразу полотенцем, на что кот протестующее выл
и пытался спрятаться под печкой, куда я его активно не пускала. В очередной раз зацепившись
ногой обо что-то, я упала, больно стукнувшись коленом. Взвыв, принялась ругаться не хуже
портового грузчика, перечисляя коту, что я с ним сделаю, как только он попадется мне в руки.
Ящерка радостно вторила мне радостным писком. Из под печи светились зеленые глаза. Запалив
свечу, я поспешила затолкать полотенце в дыру, чтоб кот не смог выбраться и поднялась. За
спиной послышался сдавленный смешок. Резко развернувшись, я встретилась взглядом с
черными глазами, и навсегда утонула в них.
Затягивающие, манящие черные озера с алыми искрами где-то в глубине. Мой невольный
пациент сидел в кровати и наблюдал за бесплатным представлением в моем лице. Еще бледный,
но такой довольный, так и подмывало стереть эту ухмылочку с лица. Я представила какой сейчас
выгляжу в его глазах и щеки помимо воли заалели. Растрепанная черноволосая ведьма в рубахе,
едва прикрывающей колени, и с горящими в темноте зелеными глазами. Мда, картинка еще та
получается...
Радостно пискнув, ящерка скатилась вниз и посеменила в сторону кровати. Взобравшись
наверх, она стала тыкаться мордочкой ему в руку, умильно треща. Мужчина усмехнулся, обнажив
при этом длинные клыки, и потрепал оранжевую красавицу. Я стояла ни жива ни мертва. Кто же
он такой? В голове проносились всевозможные названия рас, но к какой именно принадлежит
данный представитель, я не могла сказать. Ни эльф, ни оборотень, ни вампир - это уж точно,
может демон? Не-е, те страшные как наш староста, во время очередного запоя.
Накинув на плечи лежавший рядом халат, я подошла к кровати и вопросительно уставилась на
мужчину. Тот ответил чистым взглядом невинного младенца. Опустив глаза, чтоб успокоить вновь
бешено скакнувшее сердце, я деловым тоном поинтересовалась:
-Как самочувствие? У вас было сильное обморожение и несколько переломов, - кивок на
лубки. Мужчина удивленно осмотрел себя, будто первый раз увидел, потрогал здоровой рукой
бинты, коснулся волос... я невольно задержала дыхание и даже зажмурилась, но... похоже
пронеслось. Он тихонько фыркнул.
- Мне намного лучше, - бархатный голос обволакивал меня теплым одеялом. И зачем я
спросила? Лучше бы он молчал, потому что... все, я пропала. Никогда не верила, что существует
любовь с первого взгляда, и смеялась над теми, кто говорил подобную чушь. И вот теперь, как
последняя дура, стою, и понимаю - я влюбилась, окончательно и бесповоротно.
Внезапное озарение припечатало не хуже обуха по голове.
- Я бы не отказался перекусить, - красноволосый ослепительно улыбнулся. Я заворожено
кивнула и поспешила спрятаться за печью. Демонстративно громко стуча посудой, я поставила
разогреваться вчерашний суп. Руки невольно дрожали, я никак не могла справиться с
нахлынувшими ощущениями, что угодно бы отдала, чтоб причина моих смятений оказался как
можно дальше.
Почему так?
Может быть дело в том, что я никогда по-настоящему не влюблялась?
- ...убегает!
- Что? - удивленно оглядываюсь.
- Суп убегает, - послушно повторил красноволосый и с интересом стал ждать моей реакции.
Подскочив как ужаленная, я бросилась к печи. Подхватив магией бурлящий котелок, чуть не
расплескала содержимое на себя.
- Слишком горячий, - виновато втянув голову в плечи, сообщила я, не зная, чем еще можно
накормить мужчину.
- Сойдет и так, неси.
Удивленно вскинув бровь, все же послушалась. Передав кружку с бульоном, я с интересом
стала наблюдать как он, не моргнув глазом, в пару глотков выдул всю кружку, будто там был не
обжигающий кипяток, а обычная вода.
- Да кто ты такой? - непроизвольно вырвалось у меня.
- Эйлар, - последовал незамедлительный ответ и мужчина, с сожалением тряхнув кружкой,
вернул её мне.
- Алира, - на автомате представилась я.
- Приятно познакомится с такой очаровательной девушкой, - радостная улыбка, от которой
сердце ёкнуло в груди. - А не подскажешь ли Алира, как называется этот мир?
Сказать честно от такого вопроса я опешила, и несколько минут не знала, что и сказать. Видя
мои умственные потуги Эйлар соизволил объяснить.
- Видишь ли, меня случайно выбросило из сломанного портала прямо в сугроб, и я даже не
представляю, в нужный ли мир попал.
- А раны тогда откуда? Тебя будто зверь потрепал, - честно, не хотела спрашивать, но слова
сами слетели с губ, прежде чем я успела их остановить. Когда-нибудь любопытство меня погубит.
- Поверь мне, девочка, - в голосе Эйлара проскользнули стальные нотки, что мне захотелось
срочно забиться в какой-нибудь угол. - Тебе лучше не знать - дольше проживешь.
Больше походит на угрозу. Ладно, молчу-молчу, неприятности мне ни к чему. Чувствую, что и
одного его будет достаточно.
- А... можно еще добавки?
Утро. Радостное трещание поленьев и умопомрачительный запах приготовленной еды
разбудили меня. Спустившись, я застала следующую картину: Эйлар сидел за столом завернутый в
одеяло и с аппетитом уплетал жареную картошку с мясом. Его красные волосы ежиком торчали во
все стороны, напоминая языки пламени. Рядом примостился Васька (догадываюсь, кто его
выпустил) и не менее жадно уплетал здоровенный кусок мяса, громко урча. С другой стороны
ящерка, плавала в тарелке с молоком, исходящим паром.
- Доброе утро, Алира, - Эйлар приглащающе махнул рукой. И только тут я заметила, что
повязок и в помине нет.
- Где повязки? - в возмущении я подскочила к Эйлару и принялась собственноручно
ощупывать места переломов - удивительно, но все срослось. Мужчина ошалелым взглядом
провожал мои движения, не делая, в прочем, попыток сопротивляться.
- Как такое возможно? - удивлялась я попутно пытаясь стащить с Эйлара одеяло и осмотреть
ребра получше. Мужчина заартачился и наотрез отказался отдавать одеяло, перетягивая оное на
себя. Я не отставала и тянула в свою сторону. Во мне проснулся исследовательский интерес, и я не
хотела пропускать такую находку, ну где я еще найду человека (а человека ли?) который за
неполный день смог полностью залечить свои раны, не прибегая к помощи магии. На такое даже
наши архимаги не способны.
Вот то-то же. И я не собиралась упускать такую возможность.
В очередной раз тянув злополучный кусок материи на себя, я запуталась ногами в одеяле и
стала заваливаться назад размахивая руками. В последний момент Эйлар успел схватить меня за
правую руку и дернул на себя, в результате чего я свалилась ему на колени. Уткнувшись носом
ему в грудь, я невольно затаила дыхание, боясь спугнуть новые для меня ощущения.
Было немного неловко от такой близости, но рушить мгновение я не решалась. Да и Эйлар не
спешил убирать руки, удобно устроив их на моей талии. Несмело подняв глаза я встретилась с его
изучающим взглядом, казалось бы заглядывающим в самую душу. Эти несколько минут
показались мне вечностью, мы смотрели друг на друга, пока... его губы не накрыли мои.
Обжигающее пламя промчалась по венам к самым кончикам пальцев. С хриплым стоном, я
обвила руки вокруг его шеи, старясь прижаться сильнее. Все разумные мысли на тот момент
вылетели из головы, хотелось с головой окунуться в новый, доселе неведомый, водоворот чувств.
На короткое время мы оба выпали из реальности, полностью поглощенные друг другом. Его
руки блуждали по моему телу заставляя плавиться от наслаждения.
Не знаю, чем бы все закончилось, если бы ящерка с громким писком не упала на пол вместе со
своей тарелкой, звон, и миска раскололась на несколько кусков. Я отпрыгнула от Эйлара как от
чумного. Краска залила лицо и я поспешила позорно бежать с поля боя, скрывшись в соседней
комнате и не видела, как подняв обиженно трещавшую ящерку, Эйлар загадочно чему-то
улыбнулся, осторожно поглаживая не перестававшую жаловаться ящерку по голове. И уж точно я
не видела выражения Васькиной морды, у которого даже кусок мяса из пасти выпал. Кот
проводил хозяйку ошарашенным взглядом, явно не веря в реальность происходящего.
Я, наверное, сошла с ума.
Но все время игнорировать присутствие Эйлара я не могла. Он то и дело мелькал в поле
зрения, расхаживая по дому, закутанный в одеяло на манер тоги. Его одежда пришла в негодность
и пришлось выкинуть, а ничего подходящего для его комплекции не нашлось. С каждым часом
Эйлар чувствовал себя все лучше и лучше, что оставалось только дивиться скорости регенерации.
Кости срослись, синяки рассосались, лицо перестало напоминать маску - румянец прилил к
щекам. Сам он напоминал довольного жизнью кота, забравшегося в хозяйскую кладовую.
Мои мрачные взгляды он, с по-истине царским видом, игнорировал. Заинтересовавшись моей
скудной библиотекой он большую часть дня провел уткнувшись в книгу, не забывая свободной
рукой тягать со стола горячие пирожки, которые я только и успевала вынимать из печи, попутно
дивясь, куда все уходит.
А за окном все шел снег...
Крупные хлопья аккуратно ложились на землю, укрывая её белоснежным покрывалом.
Вечером без сил повалившись на кровать, я бессмысленно уставилась в потолок - ни думать,
ни двигаться не хотелось.
За день Эйлар успел достать меня вопросами о мире, магии и прочими подробностями - не
выдержав, я указала ему на очередную стопку книг, ютившихся в углу комнаты, и попросила хоть
на несколько минут оставить меня в покое.
Сбоку что-то зашуршало, приоткрыв один глаз я узрела ящерку с любопытством меня
осматривающую. Немного подумав, она взобралась мне на живот и свернувшись клубочком,
принялась негромко потрескивать, напоминая треск поленьев в камине. По телу разлилось
приятное тепло, снимая боль и прогоняя усталость. Я мурлыкнула от удовольствия и даже слегка
задремала.
В тот момент я не видела как Васька, ревниво сверкая зелеными глазищами, следил за нами и
когда я закрыла глаза этот... гад, прыгнул из своего укрытия на меня, в надежде достать рыжую
нахалку.
Я взвыла, когда острые когти вонзились мне в живот. Юркая ящерка успела ушмыгнуть.
Сбросив кота, я вскочила, швырнув в нахала подушкой. Достала. Впечатав кота в стену, я на
этом не успокоилась, и подхватив полотенце бросилась вдогонку. Эйлар покатывался со смеху,
уткнувшись лицом в книгу. Кот не оставлял бедную ящерку, я - кота, попутно смахивая
попадавшие под руку предметы.
Понаблюдав за нашими метаниями еще немного, Эйлар подозвал коротким свистом ящерку,
подхватил в полете кота за шкирку и выкинул в сени. Развернулся и подхватил на руки не
успевшую затормозить меня, еле как устояв на месте, и понес к кровати. Осторожно опустил.
- Подними рубаху.
- Зачем? - опешила я, машинально натягивая её пониже.
- Царапины залечить, - последовал лаконичный ответ.
- Я сама справлюсь, - пытаюсь вяло отбрыкиваться. - Я все-таки ведьма.
- Не спорь, - под его пронизывающим взглядом все возражения увяли на корню.
Страдальчески вздохнув я легла и немного робея, оголила живот. Поперек красовались десять
кровавых полос. Мужские пальцы осторожно пробежались по коже, заставив меня вздрогнуть
всем телом. Затем ладонь полностью накрыла живот, мне показалось что горячие волны
распространились от неё, принося странное успокоение. Я пропустила момент когда Эйлар отнял
руку и прижался губами к пылающей коже. Меня будто током дернуло, вскочить не дали мужские
руки, прижавшие мое тело к кровати. Губы неспешно стали подниматься выше, оставляя огненную
дорожку следов от поцелуев. Сердце бросилось вскачь, намереваясь выскочить из груди.
Чуткие пальцы быстро расправились с пуговицами обнажив грудь. Его дыхание горячим огнем
обжигало кожу, он и сам походил в этот момент на пламя, в котором хотелось сгореть без остатка.
Когда его губы нашли мои - мир растворился в причудливом танце огня. Заснули мы только под
утро.
Около недели я прожила как в раю. Никогда мне еще не было так хорошо и спокойно. Мы
наслаждались каждым моментом, проведенным вместе, стараясь не упустить ни минуты. Я
рассказала Эйлару о своей жизни: как поселилась в этой деревне и стала знахаркой.
Он немного поведал о себе, его раса называется сендор (что это означает не сказал) да и
вообще, каждый раз, когда речь заходила о его родине Эйлар замолкал и старался как можно
быстрее сменить тему, я не настаивала. Хоть и чувствовала что это важно, но навязываться не
хотела.
Он охотно рассказал о Тили - маленькой оранжевой ящерке. Она оказалась духомвоплощением огня, такой же любопытной и беззаботной. Отличается от саламандры только тем,
что способна контролировать свою силу и не поджигать все, к чему прикасается, также её огонь
способен лечить, что и произошло с самим Эйларом.
В последние дни я все больше замечала что Эйлар подолгу сидит у окна смотря на падающий
снег, и чувствовала, что что-то должно в скором времени измениться.
И душу сжимал страх, как только думала что больше никогда его не увижу...
Не хочу прощаться....
И вот настал последний день. Старательно отводя взгляд Эйлар сказал, что сегодня должен
уйти. Ничего не ответив, я просто развернулась и вышла из комнаты. Если бы я удосужилась в тот
момент обернуться, то увидела бы каким безнадежным взглядом одарил меня он, в котором
граничили боль и сожаление. В тот вечер мы в последний раз были вместе, а на утро я проснулась
в пустой постели.
Слезы навернулись на глаза, и я уткнулась лицом в подушку.
Прощай.
Почти два года спустя.
Очередная зима поспешила порадовать нас своим присутствием. Снег валил не переставая,
грозя замести дороги. Каждое утро мужики из деревни очищали главную улицу, но на следующий
день снег брал свое и насыпал ещё больше сугробов.
В этот раз я заготавливала снадобья против простуды и болей в спине. Прошлой зимой зелий
не хватило и пришлось ехать в соседний город закупать травы, которые кот успел распотрошить.
Шиан сидел на кровати, обложенный со всех сторон подушками и играл. Но его внимание все
чаще и чаще отвлекал Васька, шастающий туда-сюда, и дразня хвостом. Ребенок не выдержал и
при очередном проходе, схватил кота за хвост. Тот взвыл и отчаянно попытался вырваться.
Кровать ходила ходуном и я боялась как бы эта парочка не грохнулась на пол.
Разложив на столе травы, я аккуратно складывала их в несколько кучек, заливая некоторые
спиртом, но громкий смех сына то и дело отрывал меня от работы.
Красноволосый, как и его отец, малыш активно не желал спокойно сидеть, так и норовил
сверзнуться вниз головой, чему активно способствовали попытки кота.
Громкий рев окончательно отбил рабочее настроение. Бросив травы, я присела рядом с
Шианом, который не переставая реветь, показывал мне поцарапанную ручку.
- Что милый, вредный Васька поцарапал тебя? - спросила я, стирая с мокрых щек слезинки. - В
следующий раз не дергай так сильно его за хвост и он не будет драться, ладно?
Малыш только кивнул не переставая сопеть и с интересом стал наблюдать за моими
манипуляциями. Сжав его ладошки в руках я прошептала наговор и царапины исчезли. Шиан
радостно взвизгнул и полез обниматься. Обхватив тоненькое тельце сына, я в который раз
подивилась его схожести с отцом.
Как же я скучаю.
Через месяц, ухода Эйлара, я поняла, что забеременела и признаться немного растерялась. Я
старалась скрыть беременность, чтоб как можно дольше её не заметили, но живот продолжал
расти и деревенские бабы заинетесовались. Этим сплетницам дай только волю и они такого
понапридумывают. Какие только слухи не ходили, пришлось даже пригрозить порчей, если это не
прекратиться. Самое смешное, когда о моем состоянии стало известно, местные мужики, включая
нашего кузнеца, приходили ко мне свататься. До сих пор не понимаю, зачем? Неужто боялись, что
я покину деревню и оставлю их одних? Честно сказать деревенские отчаянно боялись новой
ведьмы, которую бы назначил ковен магов. Жители Вишенки держались обособленно и
предпочитали знакомое зло незнакомому. Мне по секрету поведала Милена, которой все-таки
удалось захомутать племянника кузнеца и сама теперь ждала пополнения в семействе.
Я обещала, что никуда не денусь, и от меня, наконец, отстали.
Но каждую ночь приходило отчаянье и я не могла сдержать слез. Столько времени прошло, я
надеялась, что боль утихнет, но раны продолжали ныть. Я не могла выбросить из головы образ
красноволосого сендор.
Шло время и родился Шиан - живое напоминание о моей первой и единственной любви.
Малыш явно пошел в своего папочку, его сила подчас поражала меня. Он спокойно мог
прикоснуться к огню при этом не обжечься, а мелкие порезы и синяки, что набивало себе
неугомонное чадо, иногда заживали сами по себе. Я не знала смеяться мне или плакать когда
домашняя утварь принималась ходить ходуном, явно не без помощи магии. Но я держалась,
пытаясь научить сына сдерживать свою силу.
...Взвыл ветер, бросив в окно пригоршню снега. Опустив сына на пол, я вернулась к
заготовкам, отбрасывая косу за спину. Шиан пополз вслед за котом, метнувшегося к входной
двери.
Глядя на играющего сына, в очередной раз накатила меланхолия и я не расслышала шаги за
дверью.
Встрепенулась только, когда услышала звук открываемой двери.
На порог шагнул... ступка выпала у меня из рук.
Передо мной стоял Эйлар. Чуть отросшие волосы падали ему прямо на глаза. Черная одежда
пестрела незнакомыми рунами на воротнике и краям рукавов. За спиной виднелся эфес меча.
Окинув взглядом обстановку, он на несколько мгновений задержался на Шиане, сидящим
прямо перед ним и улыбающимся всеми десятью зубами. Интерес сменился удивлением, я не
успела и слова сказать как Эйлар нагнулся и подхватил сына на руки, малыш радостно засмеялся и
полез исследовать светящиеся завитушки. Подойдя почти вплотную, Эйлар посмотрел на меня
таким знакомым, пронизывающим до самой души, взглядом и сказал:
- Ну, здравствуй, родная...
Одинокая слезинка скатилась вниз по щеке.
- Здравствуй...
Миллер Генри - Первая любовь
(~12 мин.
Чистая и трогательная история о первой любви от скандально известного автора «Тропика
Рака».)
Мысленным взором я вижу ее так же отчетливо, как в тот день, когда мы впервые встретились.
Это было в одном из коридоров средней школы Восточного округа в Бруклине, и она шла из
одного класса в другой: чуть пониже меня ростом, прекрасно сложенная, полногрудая,
искрящаяся здоровьем, высоко подняв голову с властным и в то же время вызывающим видом, за
которым таилась странная, тревожащая застенчивость. Рот у нее был теплый, улыбчивый,
приоткрывавший крупные, ослепительно белые зубы. Но прежде всего внимание приковывали ее
глаза и волосы — легкие, золотистые, туго собранные на затылке в форме раковины. Волосы
натуральной блондинки, какую встретишь разве что в оперном театре. А глаза — голубые,
лучистые, озадачивающе прозрачные — удивительно гармонировали с цветом ее волос и нежным
румянцем, так напоминавшим яблоню в цвету. В свои шестнадцать она, разумеется, была не так
уверена в себе, как казалось со стороны. Но среди одноклассниц безошибочно выделялась, как
выделяются те, в чьих жилах течет голубая кровь. (Голубая и ледяная, чуть не вышло из-под моего
пера.)
Этим первым взглядом она буквально сбила меня с ног. Ее красота не просто ошарашивала: она
вселяла в меня дотоле неведомую робость. Не помню уже, как я нашел в себе силы приблизиться
и пролепетать несколько ничего не значащих слов. Помню только, что мне потребовались долгие
недели, дабы при последующих встречах повторить этот немыслимый подвиг. Но одна деталь
прочно запала в мою память: каждый раз, когда мы ненароком перекрещивались друг с другом в
школьных коридорах, она краснела. Само собой, наши разговорные экспромты не шли дальше
телеграфно-беглого обмена репликами. У меня, по крайней мере, не отложилось ничего из слов и
фраз, какие она роняла на ходу, торопясь с одного урока на другой. Чуть не забыл добавить, что
хотя мы были одних лет, по учебе я опережал ее на класс или два. Все это не имело ровно
никакого значения, но в моих глазах приобретало сверхъестественную важность.
Только окончив среднюю школу, мы обменялись с ней несколькими письмами. Летние каникулы
она проводила в Эшбери-Парк, штат Нью-Джерси, а я, как обычно, тянул лямку в офисе цементной
компании “Атлас Портленд”. Каждый вечер, вернувшись с работы, я устремлялся к камину, на
котором складывали пришедшую почту, и почти всегда тщетно. Повезло мне только раз или два за
все лето. Это не в меру затянувшееся ухаживание лишь усугубляло во мне ощущение
безнадежности. От времени до времени, но нечасто, мне доводилось сталкиваться с ней на
танцах. Два раза, насколько помню, я приглашал ее в театр. Меня даже не удостоили фотографии,
которую я носил бы на сердце и на которую мог бы поглядывать украдкой.
Но мне и не было нужды в фотографиях. Ее лицо постоянно маячило на горизонте моего сознания;
а ее физическое отсутствие делалось той нескончаемой пыткой, какая лишь отчетливее
запечатлевала ее черты в моем мозгу. Я носил ее в себе, нередко вступая с нею в диалог,
мысленный или прямой, когда поблизости не было посторонних. Возвращаясь вечерами после
ритуального обхода дома, где она жила, я в гулкой пустоте выкрикивал ее имя, обращая в
запредельную высь свою отчаянную мольбу быть услышанным. В этом не было и тени актерства:
для меня она пребывала в этой недостижимой, запредельной выси, будто богиня, ведомая мне
одному и ставшая моим безраздельным кумиром. Ведь это я, дурак, каких свет не видывал,
поднял ее над твердью земной и не дал опуститься на почву, по которой ступают другие
смертные. Последнее, правда, предопределилось в первый же миг нашей встречи: выбирать мне
было не из чего.
Странно: она ни разу не продемонстрировала мне и тени безразличия или враждебности. Кто
знает: быть может, и она молчаливо ждала, что в моей страсти проступит нечто земное, похожее
на обычные мужские заигрывания; быть может, и она тайно желала, чтобы я взял ее как мужчина,
если понадобится — силой.
Раз или два в год, не чаще, судьба сводила нас на вечеринках в домах одноклассников — на тех
затягивавшихся за полночь подростковых сборищах с песнями, танцами и нелепыми играми типа
“Поцелуй подушку” или “Почты”, какие давали возможность, избрав желанный объект, вволю
потискать его в темной комнате. Но даже когда нам открывалась возможность беспрепятственно
обняться и поцеловать друг друга, наша застенчивость не позволяла пойти дальше самого
невинного и общепринятого. Когда мы танцевали, меня с головы до ног пробирала дрожь и я без
конца спотыкался, сбиваясь с ритма к вящему смущению моей избранницы.
Оставалось одно: неистово бренчать по клавишам пианино — бренчать, ревниво глядя, как она
вытанцовывает с моими друзьями. И ни разу не подошла она ко мне сзади, не обняла за плечи, не
прошептала на ухо какую-нибудь милую банальность. А после таких вечеров я часами ворочался
на постели, скрежеща зубами, или рыдал, как несмышленое дитя, или молился Богу, в которого
уже не верил, чтобы Он даровал мне невиданную милость: увидеть в ее глазах искорку
благосклонного внимания.
И на протяжении всех этих пяти или шести лет она оставалась для, тем же, чем стала в первый
миг: непрестанно маячащим в сознании образом. Я и понятия не имел, о чем она думает, мечтает,
к чему стремится. Она была чистым листом, на котором я горестно запечатлевал все, что
приходило в голову. Стоило ли надеяться, что я был для нее чем-то большим?
Наконец наступил день, когда нам пришлось распрощаться. День, когда я уезжал на Дикий Запад
— чтобы стать ковбоем, как я наивно полагал. Я подошел к ее дому и несмело нажал кнопку
звонка. (На подобный подвиг я отваживался только дважды или трижды.) Она показалась в
дверях — похудевшая, осунувшаяся, выглядящая старше, нежели я привык ее видеть.
Ей двадцать один; мне тоже, и я уже два или три года жил с “вдовушкой” (из-за которой-то,
собственно, я и бежал на Дальний Запад: мне во что бы то ни стало требовалось освободиться от
этого злосчастного помешательства). Она не пригласила меня зайти в квартиру, а, напротив,
вышла со мной наружу и проводила до тротуара; там мы остановились и минут пятнадцать—
двадцать проговорили о разных разностях. Само собой, я заранее известил ее, что зайду
попрощаться, и бегло очертил свои планы на будущее. Разумеется, умолчав о том, что в один
прекрасный день пошлю за ней из своего далека (эта и подобные глупости так и остались
несказанными). На что бы я в глубине души ни надеялся, было ясно: сложившегося не повернуть
вспять. Она знала, что я люблю ее — это знали все, — но связь с “вдовушкой” решительно и
бесповоротно исключила меня из круга ее потенциальных избранников. Эта связь была чем-то,
чего она не могла понять, не говоря уж о том, чтобы простить.
Ну и жалкое зрелище я тогда собой представлял! Ведь даже в тот момент, найдись у меня
достаточно решимости и отваги, для меня еще не все было потеряно. По крайней мере, так
казалось мне, когда я видел потерянное, расстроенное выражение ее глаз. (И все-таки продолжал
бодро и нелепо разглагольствовать о славе Золотого Запада.) И даже отдавая себе отчет в том,
что, скорее всего, вижу ее в последний раз, не решился я заключить ее в объятия и подарить ей
последний, страстный поцелуй. Вместо этого мы всего лишь пожали друг другу руки,
пробормотали несколько невнятных прощальных слов, и я двинулся прочь.
Я ни разу не обернулся. Но ни минуты не сомневался в том, что она все еще стоит у ворот,
провожая меня взглядом. Дожидаясь, пока я исчезну за поворотом, чтобы ринуться к себе в
комнату, броситься на постель и от всей души зарыдать? Этого я не узнаю ни в этом мире, ни на
том свете.
Спустя еще год, когда я, погрустневший и помудревший, вернулся с Запада, чтобы опять оказаться
в объятьях “вдовушки”, от которой бежал, мы ненароком еще раз столкнулись. В последний раз.
Дело было в трамвае. Хорошо, что со мной оказался один из старых друзей, хорошо ее знавший; в
противном случае я бы смутился и ретировался. После нескольких необязательных слов мой
приятель полушутя заметил, что, дескать, не худо бы было, если бы она пригласила нас к себе
домой. Теперь она была замужем и, как ни трудно в это поверить, жила как раз по другую сторону
дома, где обитала “вдовушка”. Мы поднялись по высокой каменной приступке и вошли в ее
квартиру. Она показала нам одну комнату за другой и, в завершение осмотра, спальню. А затем,
смутившись, обронила нелепую фразу, пронзившую меня острее ножа. “А здесь, — пояснила она,
указывая на большую двуспальную кровать, — мы спим”. С этими словами между нами словно
опустился железный занавес.
Таким был для меня финал. Но не совсем финал. Ибо на протяжении всех прошедших лет она
оставалась для меня женщиной, которую я любил и потерял, недостижимой. В ее фарфоровых
глазах, таких холодных и зовущих, таких огромных и прозрачных, я вновь и вновь вижу себя
самого: нелепого, одинокого, бесприютного, неугомонного, отвергнутого художника, человека,
влюбившегося в любовь, всегда одержимого поисками абсолюта, всегда взыскующего
недостижимого. Как и прежде, ее образ за железным занавесом свеж и отчетлив, и ничто,
кажется, не в силах омрачить его или заставить поблекнуть.
Мисима Юкио - Джунгли чувственности
(~31 мин., соврем. проза, нетрадиционная любовь
отрывок из книги Запретные удовольствия)
Универсальная красота покорила всех с первого взгляда.
Юити купался в желании. Во взглядах, направленных на него, он чувствовал то, что чувствует
женщина, когда проходит среди мужчин, моментально раздевающих её глазами до последней
нитки. Опытные глаза ценителей обычно не ошибались. Слегка выпуклая грудь, которую Сунсукэ
увидел в морских брызгах, сужающийся к талии чистый зрелый торс, длинные, легкие,
мускулистые ноги. Если к этому добавить юношеские плечи, как у статуи, брови, словно узкие
клинки, меланхоличные глаза, мальчишеские губы, белые, ровные, правильные зубы, все, вместе
взятое, составит потенциально привлекательную гармонию, такую же совершенную, как
пропорция золотого сечения.
Даже обычно придирчивые критики в заведении «У Руди» лишились дара речи. Их взгляды
рисовали самые красивые образы бесчисленных молодых людей, которых они ласкали, и
помещали рядом с обнаженным телом Юити, которое они видели только в своем воображении.
Там парили неясные тени воображаемых юношей, тепло их плоти, запах их тел, их голоса, их
поцелуи. Но когда эти видения ставились рядом с обнаженным телом Юити, они скромно
удалялись прочь. Их красота была пленительной в замке индивидуальности, красота Юити,
попирая индивидуальность, ослепительно сверкала.
Ощущая тяжесть этих пристальных сосредоточенных взглядов, Юити стоял потупив взор.
Так, его красота приняла подобие ничего не подозревающего знаменосца во главе полка.
Эй-тян виновато покинул столик иностранца, подошел к Юити и коснулся его плеча.
– Давай присядем, – сказал Юити.
Они уселись друг против друга, чувствуя на себе множество взглядов. Заказали торт. Сам того не
осознавая, Юити широко открыл рот и запихнул туда огромный кусок слоеного торта с фруктовой
начинкой. У наблюдающего за ним мальчика возникло ощущение, словно Юити поглощает его
тело к его безграничному удовольствию.
– Эй-тян, не хочешь ли представить хозяина? – осведомился Руди.
Мальчику не оставалось ничего иного, как познакомить их.
– Как поживаете? Мы надеемся, вы будете приходить сюда часто. Все наши постоянные клиенты –
прекрасные люди, – сказал владелец таким тоном, словно гладил кошку.
Через некоторое время Эй-тян ушёл в туалет. Именно в этот момент крикливо одетый мужчина
средних лет направлялся к кассе, чтобы оплатить счет. На его лице была написана некая
непонятная ребячливость, сдерживаемая детскость. Особенно бросались в глаза младенческие
тяжелые веки и пухлость щёк. «Наверное, нализался», – подумал Юити. Мужчина действительно
вёл себя как пьяный. Явно неприкрытая похоть, которой горели его глаза, резко контрастировала с
той ролью, какую он изображал. Хватаясь за стену, он оперся о плечо юноши.
– О, извините, – сказал он, убирая руку.
Однако между тем, как были произнесены слова, и тем, как была убрана рука, произошло то, что
можно назвать ощупыванием. Это оставило неприятный отпечаток на плече юноши, словно свело
мышцы. Мужчина снова посмотрел на него, затем, словно удирающий лис, отвел взгляд и
удалился.
Когда Эй-тян вернулся из туалета, Юити рассказал ему о случившемся. Мальчик был ошеломлен.
– Что? Уже? Так скоро! Этот тип с тобой заигрывал!
Для Юити этот ресторан был сродни парку, он был шокирован тем, как быстро прошел
формальности.
В этот момент появился невысокий смуглый юноша с ямочками на щёках рука об руку с красивым
иностранцем. Юноша был балетным танцором, недавно ставшим широко известным. Репутацией
юноша в настоящее время был многим обязан тому, что работал с таким учителем. На
протяжении нескольких лет жизнерадостный златовласый француз делил кров со своим
компаньоном, моложе его на двадцать лет. Ходили слухи, что француз недавно в приличном
подпитии выкинул номер – он взобрался на крышу и, подражая наседке, пытался отложить яйца.
Юити, услышав эту историю, смеялся без перерыва. Потом, будто кто-то неодобрительным
хмурым взглядом прервал его веселье, он умолк и немного погодя спросил мальчика:
– Этот иностранец и балетный танцор – как долго у них это продолжается?
– Они вместе четыре года.
– Четыре года!
Юити попытался представить долгих четыре года с этим мальчиком, сидящим за столом напротив.
Почему он чувствовал уверенность, что экстаз позавчерашней ночи больше никогда не повторится
за эти четыре года?
Тело мужчины подобно плоской равнине. На нём нет никаких свежих маленьких изумительных
источников, нет каменных пещер, где можно увидеть восхитительные кристаллические наплывы,
как это бывает с телом женщины, которое при каждой встрече обнаруживает нечто новое. Это –
простой экстерьер, воплощение чистой, очевидной красоты. При первом лихорадочном
любопытстве любовь соперничает с желанием. После этого любовь наполняет душу или просто
легко и незаметно ускользает в другое тело.
Несмотря на то, что опыт Юити ограничивался одним случаем, он уже обрел право думать так:
«Если уже в первую ночь моя любовь проявила себя, будет нечестным как для меня, так и для
моего возлюбленного повторять неуклюжие ксерокопии этой первой ночи. Мне не пристало
судить о моей искренности по искренности моего возлюбленного. По-видимому, моя искренность
обретет форму через неограниченное число первых ночей, проведенных с вереницей
возлюбленных, встречаемых по очереди. Моя неизменная любовь будет связующей нитью в
экстазе несчетных первых ночей, не что иное, как сильное презрение к постоянным встречам с
одним и тем же, не важно, кого я встречу».
Юити сравнивал свою любовь с синтетической любовью, которой он наделил Ясуко. Обе любви, и
та и другая, преследовали его безостановочно. Его охватило чувство одиночества.
Пока Юити был погружен в молчание, Эй-тян от нечего делать смотрел мимо него на столик,
который занимала группа юношей. Они сидели, прислонившись друг к другу. Казалось, они
отдавали себе отчет о мимолетности связей, сводивших их вместе, и, потираясь друг о друга
плечами и держась за руки, они с трудом преодолевали ощущение неловкости. Связь,
соединяющая их, казалась похожей на взаимную привязанность товарищей по оружию, которые
чувствуют, что завтра умрут. Не в силах больше терпеть, один поцеловал другого в шею. Через
некоторое время они поспешно удалились.
Эй-тян наблюдал за ними, слегка приоткрыв рот. Юити оглядел его с головы до ног. Взгляд его
был полон откровенной жестокости. Юити показалось, что он знает каждый уголок тела мальчика,
даже небольшую родинку на спине. Мальчик почувствовал этот холодный взгляд и неожиданно
схватил руки Юити под столом. Юити безжалостно высвободил руки. Такая жестокость была до
определенной степени намеренной. Отягощенный негодованием на свою жену, которое не мог
показать, Юити жаждал права быть недвусмысленно жестоким к тому, кого любит. Глаза мальчика
наполнились слезами.
– Я знаю, что ты чувствуешь, Ю-тян, – сказал он. – Я уже тебе надоел, верно?
Юити горячо отрицал это, но Эй-тян, имевший опыт совершенно иного уровня, чем у его старшего
друга, продолжал решительно, как взрослый:
– Да. Я понял это, как только ты вошел. Так и должно быть. Такие мы все, «одноразовые» люди. Я
к этому привык и смогу с этим смириться. Но я надеялся, что ты, в отличие от других, будешь моим
большим братом до конца наших дней. Теперь я буду довольствоваться тем, что был твоим
первым любовником. Ты ведь не забудешь меня, правда?
Юити глубоко тронула такая нежная просьба. На его глаза тоже навернулись слезы. Он нашел руку
мальчика под столом и нежно её сжал.
В этот момент открылась дверь и вошли три иностранца. Юити вспомнил, что уже видел лицо
одного из них. Это был стройный мужчина, который вышел из здания на противоположной
стороне улицы во время свадебной церемонии Юити. На нём был другой костюм, но все тот же
галстук-бабочка в горошек. Его ястребиный взгляд блуждал по залу. Видимо, он был пьян. Он
резко хлопнул в ладоши [44] и позвал:
– Эй-тян! Эй-тян!
Его приятный звучный голос эхом отдавался от стен.
Юноша наклонил голову, чтобы не было видно его лица. Потом он прищелкнул языком совсем как
взрослый:
– О господи! Я же сказал ему, что меня здесь сегодня не будет!
Руди подобрал полы небесно-голубого пиджака и наклонился над столом:
– Эй-тян, ты прекрасно знаешь, что это твой клиент.
Атмосфера заведения наполнилась печалью.
Этому способствовал настойчивый призыв Руди. Юити устыдился своих невольных слез. Мальчик
бросил взгляд на Руди и встал.
Моменты принятия решения иногда проливают бальзам на душевные раны. Юити теперь
чувствовал гордость от спокойствия, с которым мог наблюдать за Эй-тяном. Его взгляд
натолкнулся на нерешительный взгляд мальчика. Затем, словно в еще одной попытке исправить
все, их глаза снова встретились, но безрезультатно. Мальчик ушёл. Юити посмотрел в другом
направлении, где заметил красивые глаза юноши, подмигивающего ему. Его сердце
беспрепятственно и непринужденно, как мотылек, устремилось навстречу этому взгляду.
Юноша сидел возле стены напротив него. На нём были рабочие брюки из грубой бумажной ткани
и темно-синий вельветовый пиджак. Он носил темно-красный галстук грубого плетения. По виду
он был на год-два моложе Юити. Плавная линия бровей и копна вьющихся волос делали его лицо
похожим на какого-то легендарного героя. Печально, как одноглазый матрос, он подмигивал
Юити.
– Кто это?
– О, это Сигэ-тян, сын бакалейщика из Накано. Он довольно смазлив. Позвать его? – предложил
Руди.
Он сделал знак, и тот проворно поднялся со своего стула. Мальчик заметил, что Юити только что
вытащил сигарету, чиркнул спичкой с отрепетированной грацией и загородил огонь рукой. Это
была большая натруженная рука, как можно предположить, наследство тяжелого труда его отца.
Изменения в мышлении мужчин, которые посещали это место, были действительно едва
уловимыми. Со второго дня пребывания там Юити стали называть Ю-тяном. Руди относился к
нему как к близкому другу. В конце концов, клиентов в заведении стало намного больше, после
того как он появился там, словно эта новость была передана по радио. На третий день произошло
нечто, поднявшее репутацию Юити на еще большую высоту. Сигэ-тян пришёл обритый наголо, как
монах. После того как Юити разделил с ним постель предыдущей ночью, он без сожаления сбрил
красивые густые волосы в знак своей любви.
Многочисленные фантастические истории подобного рода быстро распространялись в этом
извращенном мире. По кодексу тайного общества ничто не выносилось наружу, но, как только
что-нибудь удивительное происходило внутри, это заменяло все прежние альковные тайны.
Большая часть ежедневных разговоров была связана с эротическими описаниями собственного
опыта или опыта других.
По мере познавания нового для него мира Юити все больше и больше изумлялся его
масштабности.
Прикрывшись соломенной циновкой, этот мир бездельничал в дневное время. Там была дружба,
товарищеская любовь, филантропия, любовь хозяина и протеже, там были деловые партнеры,
ассистенты, менеджеры, мальчики-слуги, вожди и их сторонники, братья, кузены, дяди и
племянники, референты, личные секретари, шоферы. Были там многочисленные представители
другого рода: чиновники, актеры, певцы, писатели, художники, музыканты, всесильные и
могущественные профессора колледжей, сарари мэн [45], студенты. В мире мужчин они
бездельничали, завернувшись в соломенные циновки.
Они просили для себя пришествия высшего благословенного мира. Связанные узами общей
судьбы, они видели сны о простой истине. Истина состояла в том, что мужчина любит мужчину, и
опровергала старую догму, что мужчина любит женщину. Они с такой ненормальной силой
цеплялись за однозначную унизительную точку зрения, что походили на евреев. Именно такое
состояние души, свойственное этому племени, порождало фанатичный героизм во время войны.
После войны оно гордилось, что пребывает в авангарде декаданса. Оно буйно разрасталось на
неразберихе. На этой растрескавшейся почве оно прорастало пучками крошечных темных фиалок.
На этом мире мужчин, однако, лежала невидимая женская тень. Все метались в ночных
кошмарах, ощущая на себе её влияние. Некоторые открыто игнорировали её, некоторые
примирялись с ней, некоторые сопротивлялись и, в конце концов, терпели поражение, некоторые
боготворили её с самого начала. Юити считал себя исключением из правил. Потом он молился,
чтобы быть исключением. Он обманывал себя тем, что может, по крайней мере, ограничить
влияние этой внушающей страх тени на тривиальные пустяки, такие как частое поглядывание в
зеркало, или простительную привычку оборачиваться, чтобы полюбоваться своим отражением в
окнах на углу улицы, или, когда он ходил в театр, незначительную бессмысленную привычку
прогуливаться у всех на виду в холле во время антракта. Такие привычки конечно же
распространены и среди нормальных молодых людей.
Однажды в холле театра Юити увидел певца, который, хотя и пользовался известностью в том,
другом, мире, был женат. Его отличали мужественное лицо и фигура. В часы досуга он усердно
боксировал на ринге, который установил у себя дома. Словом, он обладал всеми качествами,
которые любят девушки. Сейчас он находился в окружении четырех-пяти юных созданий женского
пола. Случилось так, что некий господин приблизительно такого же возраста, как и певец,
окликнул его, оказавшись рядом. Возможно, он был его товарищем по школе. Певец схватил его
руку и принялся её трясти. (Вид у них был такой, точно они собирались драться.) Он энергично
пожимал правую руку своего друга и с силой ударял его по плечу. Его худой серьезный приятель
немного пошатнулся. Молодые дамы переглянулись и захихикали.
Увиденное неприятно поразило Юити. Пустое искусственное кокетство певца было направлено на
женщин, на которых сконцентрирована вся его жизнь. Его периферическая нервная система,
неестественно изогнутая, настороженная, напряженная, была полностью задействована в
усердном изображении мужественности, от чего хотелось заплакать. Наблюдать за этим было
невыносимо горько.
Впоследствии Ю-тяна непрестанно осаждали просьбами. Короче говоря, ему силой навязывали
интим.
Через несколько дней некий романтически настроенный торговец средних лет проделал путь в
Токио из Аомори, прослышав об Юити и страстно его возжелав. Один иностранец через Руди
предлагал костюм, пальто, ботинки и часы – щедрая плата за одну ночь. Однажды какой-то
мужчина уселся на стул рядом с Юити и, притворяясь пьяным, натянул поля своей шляпы на глаза.
Затем он несколько раз многозначительно ткнул Юити пальцем в ребра.
Юити приходилось возвращаться домой кружным путем, чтобы запутать тех, кто тайно следовал
за ним.
Все, что было известно о нём – он еще студент. Его семейное положение, происхождение, адрес
его дома не знала ни одна душа. Появлению этого красивого юноши вскоре был предан оттенок
божественного чуда.
Однажды в заведение «У Руди» пришёл хиромант, который имел дело главным образом с
гомосексуалистами. Этот старик в потертом пальто старого покроя посмотрел на ладонь Юити и
сказал:
– У тебя есть два пути, смотри. Как два меча Мусаси Миямото [46]. Где-то ты оставил женщину в
слезах, а здесь делаешь вид, что ничего не знаешь об этом, верно?
Юити слегка вздрогнул. Подмечено было довольно верно. Жизнь обитателей подобных
заведений похожа на существование сосланных в колонии административных чиновников. В этом
мире нет ничего, кроме голой сущности чувства, точнее, жестокой дисциплины чувства. Это были
джунгли чувств. Здесь произрастали растения, обладающие неимоверной цепкостью.
Мужчина, который потерялся в этих джунглях, начинает постепенно отравляться губительными
испарениями и в итоге превращается в некое вызывающее отвращение чудовище. Ни у кого нет
права смеяться над этим. Разница только в степени отравления. В мире гомосексуалистов ни один
мужчина не обладает силой противостоять загадочному могуществу, которое затягивает помимо
воли людей в пучину чувственности. Мужчина может, к примеру, сопротивляться, сосредоточив
усилия на бизнесе, или на каком-то требующем умственного напряжения занятии, или искусстве,
и примкнуть к высшим интеллектуальным кругам мужского мира. Ни один мужчина, однако, не
может выдержать потока эмоций, который вливается в его жизнь, ни один мужчина не способен
забыть связь, которая каким-то образом существует между его телом и этой трясиной. Ни одни
мужчина не способен полностью избежать той унылой фамильярности, которая установилась у
него с существами подобного рода. Предпринимались бесчисленные попытки. Результатом
каждой, однако, оказывалось снова это влажное рукопожатие и знакомое липкое подмигивание.
Такие мужчины, которые по сути своей не способны содержать дом, могут обрести нечто похожее
на домашний очаг только в печальных глазах, которые говорят: «Мы с тобой одной крови, ты и я».
Однажды в перерыве между лекциями Юити прогуливался у фонтана в университетском саду.
Дорожки образовывали причудливый узор вокруг лужайки. На фоне деревьев выделялся одиноко
стоящий фонтан. За воротами старинные городские трамваи оповещали о себе звуками, эхом
отражавшимися от мозаичных стен лекционных залов.
Юити не выделял кого-то из своих друзей, у него не возникало необходимости в ком-то, кому
можно было бы излить свою постоянную тоску, кроме немногих неподкупных душ, с которыми он
мог обмениваться конспектами. Эти преданные друзья завидовали, что у Юити такая милая жена,
и вопрос о том, излечит ли женитьба его донжуанство, обсуждался очень серьезно. Этот довод,
который, казалось, преднамеренно клонил к одному, привел к заключению, что Юити – записной
волокита.
Когда он неожиданно услышал, что кто-то назвал его именем «Ю-тян», его пульс забился быстрее,
как после хорошей пробежки.
Это был студент, сидящий на каменной скамейке, увитой плющом, рядом с одной из тропинок,
освещаемой ласковыми лучами солнца. Согнувшийся над открытым толстым учебником по
электротехнике, студент не был в поле зрения Юити до тех пор, пока его не окликнул.
Юити остановился и пожалел об этом. Лучше было сделать вид, что это имя не имеет к нему
никакого отношения. Студент снова позвал: «Ю-тян!» – и встал. Он аккуратно стряхнул пыль с
брюк. У него было веселое круглое лицо. Стрелки его брюк были прямыми и твердыми, словно
брючины разрезали, а потом склеили.
– Ты со мной говоришь? – спросил Юити, останавливаясь.
– Да. Я встречал тебя в заведении «У Руди». Мое имя Судзуки.
Юити снова посмотрел ему в лицо.
– Полагаю, ты забыл. Там полно мальчишек, которые подмигивают Ю-тяну, даже те, которые
пришли туда со своими покровителями.
– Что тебе нужно?
– Что мне нужно? Ю-тян, ради бога! Не прикидывайся. Хочешь позабавиться сейчас?
– Позабавиться?
– Ты что, не понимаешь?
Юноши почти вплотную приблизились друг к другу.
– Но еще ведь белый день.
– Есть много мест, куда можно пойти даже среди бела дня.
– Да, но для мужчины с женщиной.
– Не только. Я тебе покажу.
– Но… У меня при себе нет денег.
– У меня есть. И если Ю-тян поедет со мной, то я с удовольствием заплачу.
Юити прогулял дневную лекцию.
Заработанные где-то деньги младший студент отдал таксисту. Такси двигалось через тоскливый,
выгоревший район особняков на улице Такаги-тё в Аояме. Когда они въехали в ворота, от которых
сохранилась лишь уцелевшая при пожаре каменная стенка, Судзуки приказал такси остановиться
перед домом с названием «Кусака» и едва различимой новой временной крышей. Судзуки
позвонил в колокольчик и без видимой причины расстегнул воротничок своей студенческой
формы. Он повернулся к Юити и улыбнулся.
Через короткое время послышались шаги. Голос – не то мужской, не то женский, сразу не
разберешь – осведомился о том, кто пришел.
– Это Судзуки, откройте! – сказал студент.
Дверь открылась. Мужчина среднего возраста в ярко-красном пиджаке поприветствовал двух
юношей. У сада был какой-то странный вид. По тоби-иси – дорожке из плоских камней – можно
было попасть в пристройки, крытым переходом соединяющиеся с главным строением. Однако
садовые деревья практически все погибли. Ручеек высох. Осенняя трава буйно разрослась на
пожарище. В траве белел фундамент – все, что осталось после пожара. Молодые люди вошли в
новый флигель размером четыре с половиной татами [47], который еще хранил запах свежей
древесины.
– Вам нагреть ванну?
– Нет, спасибо, – ответил Судзуки.
– Не желаете ли выпить?
– Спасибо, нет.
– Ладно, – сказал мужчина, ухмыльнувшись. – Я постелю постель. Молодым людям всегда не
терпится забраться в постель.
Они ждали в примыкающей комнате размером в два татами, пока постелят футон [48]. Судзуки
предложил Юити сигарету. Тот согласно кивнул. Тогда Судзуки взял две сигареты, прикурил их и с
улыбкой протянул одну Юити. Тот не удержался от мысли, что в преувеличенном спокойствии
студента видны следы детской невинности.
Послышались раскаты далекого грома, в соседней комнате закрывали ставни, хотя был день.
Их позвали в спальню. У кровати горела лампа. Стоя по другую сторону раздвижной двери,
мужчина сказал:
– Отдыхайте как следует.
Судзуки расстегнул пуговицу на груди и улегся на стеганое одеяло. Опершись на локоть, он курил
сигарету. Как только звук шагов замер, он вскочил, как молодой охотничий пес. Ростом он был
чуть ниже Юити. Он бросился обнимать Юити за шею и целовать его. Студенты целовались минут
пять. Юити просунул ладонь под форменный китель мальчика, туда, где была расстегнута
пуговица. Сердце под рукой неистово билось. Двое разомкнули объятия, отвернулись друг от
друга и поспешно принялись стаскивать с себя одежду.
Двое обнаженных юношей обнимали друг друга, звуки проходящих трамваев и пение петухов,
неуместное в такое время, доносились до них, словно пробило полночь.
В луче закатного солнца, пробившегося через щель между ставней, танцевала пыль. Наплывы
застывшей смолы в середине наростов на деревьях под солнечными лучами выглядели как
запекшаяся кровь. Тонкий луч света отражался от грязной воды, заполнявшей вазу в токонома.
Юити зарылся лицом в волосы Судзуки, которые были смазаны лосьоном вместо масла с вполне
приятным запахом. Судзуки спрятал лицо на груди Юити. В уголках его закрытых глаз блестели
слезы.
Рев пожарных сирен достиг ушей Юити. Стихнув вдалеке, он повторился. В конце концов Юити
услышал этот звук в третий раз где-то совсем далеко.
«Еще один пожар… – Юити погнался за ускользающим шлейфом мыслей. – Как в тот день, когда я
впервые ходил в парк. В большом городе всегда где-то пожар. А с пожарами всегда нога в ногу
идут преступления. Бог, отчаявшись выжечь преступления огнем, видимо, распределил пожары и
преступления в равных количествах. Так, преступление никогда не будет поглощено пожаром, в то
время как невинность может сгореть. Вот почему страховые компании процветают. Чтобы стать
чистой и невосприимчивой к огню, разве не должна моя невинность сперва пройти испытание
огнем? Моя абсолютная невиновность по отношению к Ясуко… Разве я когда-то не молил Бога,
чтобы родиться заново ради Ясуко? А теперь?»
В четыре часа дня два студента обменялись рукопожатиями перед станцией Сибуя и расстались.
Ни у кого из них не было чувства, что он покорил другого.
Когда Юити пришёл домой, Ясуко сказала:
– Ты сегодня необычно рано. Собираешься пробыть дома весь вечер?
Юити ответил, что собирается, но они с женой все-таки отправились в кино. Сиденья были узкими.
Ясуко прижалась к его плечу. Неожиданно она отстранилась. Её глаза хитро сузились. Всем своим
видом она напомнила сейчас собаку с настороженными ушами, делающую стойку.
– От тебя хорошо пахнет. Ты пользовался своим лосьоном для волос, верно?
Юити начал было отрицать, но спохватился и сказал, что она права. Однако Ясуко, кажется,
поняла, что этот запах не мог принадлежать её мужу. Ну и что такого? Действительно, ведь этот
запах не мог принадлежать и женщине.
Никольская Ева, Зимняя Кристина - Белая ворона
(~46 мин., соврем. женская проза
Можно читать на два голоса: мужской и женский, мужского меньше.
Для каждой Белой Вороны найдётся свой кусок зефира... современная история любви.)
Юлька
Парик сползал на ухо, а слишком длинная челка цеплялась за густо накрашенные ресницы,
добавляя дискомфорта. Нельзя было позволять Машке "камуфляжную раскараску" создавать! Ох,
нельзя. Чуть тушью глаз не выколола, визажистка недоделанная, до сих пор слезится. В
довершение картины юбка, одолженная сестренкой на вечер, была слегка мала и так и норовила
заползти повыше и прикинуться поясом. А еще от жутких сетчатых колготок до одури чесались
ноги. Утешало одно - эта готесса малолетняя правду сказала: здесь почти все одеты так, будто из
"театра кошмаров" сбежали. Да и обстановочка посетителям вполне соответствует. Все черное,
мрачное, в дыму утопает, со сцены солист группы завывает, аки волк в полнолунье, а народ под
этот "шедевр" современной музыки радостно отрывается: кто на танцполе, кто за столиками в
обнимку с алкогольными напитками, ну а некоторые, как и я... колонны изучают на предмет их
устойчивости. Впрочем, нет, я как раз степень непрозрачности оных исследую: пытаюсь найти
оптимальное место, чтоб мне было хорошо видно бар, а меня с бара - ни-ни. Вообще, клуб "Белая
ворона" меньше всего ассоциировался с белым цветом. Площадка для тусовок неформалов и тех,
кому по приколу потусоваться с этими самыми неформалами. Довольно простой интерьер, если
не сказать грубый. Лавки и столы такие, что повредить их можно было, только если между двумя
камазами, идущими на лобовое столкновение, поставить. Все здесь друг другу соответствовало,
все было на своем месте, одно напрягало - я-то тут чего забыла?
Прислонившись спиной к прохладной колонне, вздохнула. Затем огляделась и... побледнела,
став, наверное, еще больше похожей на местных завсегдатаев. И зачем я только про камазы
думала? А? Словно в ответ на те мысли из клубов табачного дыма показалась ТАКАЯ рожа... мда.
Эту пьяную ухмылку только с бампером и сравнишь! Ы-ы-ы-ы.... и ко мне сей бампер... то есть
рожа плывет... улыба-а-ается. Попыталась слиться с колонной, авось не заметит. Но проклятая
юбка опять поползла вверх, испортив весь мой план. Громила облизнулся, как будто у него ген
канибализма вдруг проснулся, я мысленно перекрестилась и полезла в карман за пакетиком с
перцем. Как там Машка вещала? В морду сыпануть уроду мохнорылому и драпать, пока копыта не
отвалятся? Да-а-а, лексикон у сестренки тот еще... зато совет дельный! Я уже подготовилась дать
отпор плотоядно ухмыляющемуся "бамперу", как из-за его плеча вынырнула бритая наголо
девица в чем-то, напоминающем лохмотья костюма женщины-кошки. Аборигенка этого злачного
местечка скользнула по мне злющим взглядом и, подпрыгнув, отвесила громиле размашистый
подзатыльник.
- Ты куда зенки таращишь, имбицил? - рявкнула эта малявка.
- Ну, за-а-ая - неожиданно жалобно проныл амбал и потянул свои гигантские лапищи к
подружке.
Та поотбивалась для виду, оставив на небритой физиономии пару неглубоких царапин, после
чего "нехотя" сдалась на милость победителя. Я выдохнула, разжав пальцы, стиснувшие пакетик с
перцем. Пффф... пронесло!
Делая осторожные шаги, сменила неудачно выбранную колонну на художественнообшарпанную стену с граффити. А затем, старательно придерживая юбку от новых попыток
миграции, заскользила вдоль шероховатой поверхности подальше от экзотичной парочки. Вдруг
опять рассорятся, а я крайней окажусь? Нет уж, увольте! У меня тут дела поважнее есть, чем
мишенью для местных психов работать. Дела, да... черт бы побрал эти самые дела! Обернувшись
в последний раз на парочку - передернула плечами. Эти двое, похоже, решили прелюдией себя не
ограничивать. Жуть какая-то, а не клуб! Хотя чего я ожидала от заведения, "за глаза" прозванного
"кровавый экстаз"? Чаепития с накрахмаленными салфетками? Знала ведь куда иду! И все равно
пришла.
Ой! Кажется, стенка закончилась! Ну что, так и стоять в углу до закрытия? Или все-таки
набраться решимости и осмотреться, как следует? Кто я в конце концов: староста группы с
волевым характером или мелкая трусиха в чужих шмотках? Мде... и почему мне кажется, что
второе сейчас актуальней? Ладно! Раз пришла - буду действовать. А то как-то глупо получается столько усилий и все зря! Конечно, по уму надо было забить на этот звонок. Ведь удавалось же
две недели дурацкие анонимки из почтового ящика в пепел на блюдце Машкиной зажигалкой
превращать, не веря в их содержание. Так почему же хриплое : "Зубришь, дурочка? А Леончик
твой с Кати тебе рога наставляет" вдруг доверие пошатнуло? Голос в телефонной трубке, несмотря
на напускную хрипоту, знакомым показался? Мало ли, кому что кажется. Понятно ведь все! Я же
видела, как девчонки на потоке коситься стали, когда мне звезда универа начала знаки внимания
оказывать. Зависть! Банальная зависть! Умом все понимаю, а все равно пришла.... Эх, дурацкая
затея, надо было поехать к Леону и все ему рассказать, а не изображать тут шпиЁна под
прикрытием, пытаясь выследить того, кого тут нет и быть не может! Или... может? Я чуть не
споткнулась, заметив за крайним столиком знакомые лица.
Первый красавчик нашего потока, который официально считался моим парнем уже... я
машинально загнула пальцы, подсчитывая дни - две с половиной недели, сидел на топорного
вида лавке в самом углу зала, курил и обнимал за талию какую-то девку. Стоп! Леон курит? Он же
бросил! Неужели соврал? Я нервно потерла переносицу, дав себе мысленную затрещину - нашла
о чем думать! Нет, чтоб ту стерву, что с ним сидит, получше разглядеть. Вон она как раз в мою
сторону повернулась... тряхнула взбитой в стог шевелюрой, бесцеремонно отобрала у Лео
сигарету, затянулась, выпустила дым, а потом пиявкой присосалась к шее парня. МОЕГО ПАРНЯ!
Катька, Катюха, Кати. Это ведь действительно она - анонимный доброжелатель не солгал! Та
самая Катя, с которой мы за одной партой сидели, дружили со школы и последней конфеткой
делились. Все напополам... угу... видать, это она по привычке решила, что и парень должен быть в
общем пользовании? "А может, это она просто спьяну пристала, а Леньке ее послать неудобно?" подала робкий голос надежда. Послать неудобно, ага! А врать, что на соревнования уехал удобно! Леон по-хозяйски "облапал" прильнувшую к нему девушку, поцеловал в подставленные
губки, а потом поднялся, утягивая эту блондинистую предательницу за собой. К горлу неожиданно
подкатила тошнота. Увидела то, Зачем пришла? И что дальше? Скандал устраивать? Глупо.
А парочка тем временем продвигалась в мою сторону. На ловца и зверь бежит!
Притиснувшись друг к другу на манер сиамских близнецов, два человека, которым я доверяла,
огибали столики и о чем-то мило шушукались, приближаясь. От выражения на их лицах
затошнило еще больше. В области солнечного сплетения неприятно закрутило, колени ослабели,
а в пальцах появилась предательская дрожь. Черт! А ведь я банально боюсь встречи лицом к
лицу! Тоже мне... волевой характер! Резко развернувшись, бросилась к выходу! Хватит с меня на
сегодня развлекательной программы! Пореву дома вволю, план составлю.... хоть какой-нибудь,
но составлю. Потому что не представляю, что делать дальше. То есть абсолютно.
"Так, Юлька, не плакать! Не плакать! А то тушь потечет! - мысленно уговаривала я себя,
пробираясь сквозь довольно людное и темное помещение к выходу. На миг зажмурилась,
пытаясь удержать злые слезы. - Ай!"
Нога в неудобном ботинке на высоченной платформе угодила во что-то склизкое. Я нелепо
взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие, и вдруг услышала тихое "бум" - кольцо с
черепом за что-то зацепилось. Ой-мамочки... может, глаза лучше не открывать? Сбоку провыли
басом: "Твою ж м-а-а-аать!!!" Точно лучше не открывать!
Так с закрытыми я и шмякнулась на что-то твердое - по высоте похожее на стол. "Дзинь" жалобно пропела посуда, вытесненная моей... эм, мной, короче со своего законного места. А
потом повисла странная тишина. Даже музыка именно в этот момент перестала играть. И голоса
будто притихли. Это что, все на меня уставились, что ли? Осторожно поднимаю веки и бледнею
больше прежнего. Теперь меня любой гот за свою в доску примет. Угу. Только вот компания за
столом, на краю которого я сижу, увы, не готы. Темноволосый парень, зажавший рукой ухо с
туннелем в мочке, смотрит на меня в упор и начинает матерится, разбавляя непривычное затишье
неприличными эпитетами. На его белую футболку с надписью "Жесть" капает кровь. Символично
так... Понятно теперь, что я черепом зацепила, угу. На скамье белобрысый приятель раненого,
оттянув руками черную майку, недоумевающе рассматривает обильные потеки, сильно пахнущие
хмелем. Ага, куда пиво выплеснулось, теперь тоже предельно ясно! Пол живописно усыпан
осколками от стеклянных бокалов и посреди них валяется поднос.
Все! Занавес! Ау, люди?! Срочно нужен занавес! А то меня сейчас убивать будут!
А занавеса-то и нету! Попадалово.
Я пискнула: "Простите!" - реально пискнула, никогда не думала, что мой голос способен такие
высокие ноты брать - и попыталась свалить, пока эти двое в себя не пришли. Но тут блондин
отпустил свою несчастную майку и молниеносным движением атакующей кобры схватил меня.
Сильно сжав запястье, он потянул мою скромную персону обратно и вкрадчиво так
поинтересовался:
- Куда это ты собралась, мелочь? А ущерб кто компенсировать будет?
Мелочь? Это я мелочь?! Да мои сто шестьдесят сэмэ - самый что ни на есть настоящий средний
рост! Белобрысый меж тем кровожадно ухмыльнулся и, так и не отцепив свою "клешню" от моей
руки, поднялся на ноги. Э-э-э... ну да, с его роста я, конечно же, мелочь! Но это еще не повод лапы
распускать. Где там перец? Как там Машка учила? Морду кирпичом и побольше наглости?
- Отпус-с-сти! - зашипела я, пытаясь попасть трясущимися пальцами в свой собственный
карман.
- Держи-держи ее, Зэф, - поддержала друга жертва моего перстня.
Я задергалась, пытаясь вырвать свою конечность из враждебного захвата и поскорее слинять с
места разборок, чтобы затеряться в толпе, слиться со стенами или прикинуться во-о-он той
симпатичной колонной на выходе, там как раз два охранника стоят. Очень кстати!
- Стоять, сказал! - скомандовал беловолосый то ли панк, то ли рокер, то ли еще кто-то, кто
бреет виски, носит серьги в ухе и одевается в кожаную одежду с кучей всяких металлических
бляшек, цепочек и прочей фигни, в которой я ни в зуб ногой.
- Я же извинилась, ребята! - почти взмолилась, понимая, что фокус с перцем не пройдет, ибо
мне его банально не вытащить из кармана. Да и как бы за такой финт не прикопали окончательно.
Пока-то есть надежда отделаться легким испугом, а за перец... у-у-у. - Да отпусти ты! - сделала
попытку вывернуть запястье. Мне больно - ему хоть бы хны!
- Хой, Зефирчик! Да ты никак себе новую чиксу завел? - прозвучал за спиной до боли знакомый
голос.
О нет! Только не это. Пальцы блондина разжались, а я вместо того, чтобы, как умная девочка,
рвануть прочь, бросилась к нему на шею... ну, не совсем на шею, а куда достала. И все только за
тем, чтобы спрятать лицо от Леона и Кати, так не вовремя подошедших к нам. Облитый пивом
парень, никак не ожидавший подобной реакции, не удержался на ногах и рухнул обратно на
скамью, я же приземлилась сверху, отбив себе пятую точку о его костлявые коленки.
- Э-э-э-э.... - растерянно протянул блондин.
- Я передумала, - пробормотала тихо и уткнулась носом в жизнерадостно скалящийся череп на
пропитанной хмелем майке, затем намертво обхватила торс парня, запустив обе руки под его
короткую косуху и не менее жалобно, чем до этого, прошептала: - Пожалуйста, не отпускай! А?
Многозначительное "Кхм" было мне ответом.
- Зефирчик, познакомь с девочкой-то? - насмешливо сказал Леон.
Я боднула лбом отворот расстегнутой куртки и, кажется, даже зубами в майку парня
вцепилась. Пусть только попробует от меня избавиться - укушу!
- Валил бы ты отсюда, а? - белобрысый неожиданно перестал корчить из себя истукана,
расслабился и оперся спиной о колонну, которая располагалась как раз за скамьей. - У тебя своя
девка есть, нефиг на мою губу раскатывать!
Молодец! Пятерка за сообразительность! Э-эй! А "клешню" зачем мне на бедро укладывать? Я
непроизвольно заерзала, пытаясь отползти подальше от наглой руки и ущипнула парня за бок, за
что тут же схлопотала увесистый шлепок по проклятой юбке.
- Да чего жмешься-то, Зефир? Как хоть зовут твою "шоколадку"? - договорив фразу, Леон
громко заржал, и Катька... моя "добрая, все понимающая" Катька вторила ему ехидным
хихиканьем. - Зефир в шоколаде, ой не могу-у-у... это ж прям краткое описание вашей интимной
жизни!
- *** отсюда! - вступил в разговор темноволосый парень, и опять начал с нецензурщины.
- Да ладно тебе, Ник, - примирительно протянул мой парень... бывший парень. - Может, мне
малышка понравилась, страстная такая, прыгучая! - продолжал глумиться Леон. - Эй, Зефирка, - и
как только можно склонять и без того не самое лучшее прозвище, а?! - махнемся на ночь?
"Что-о-о-о?!" - возмущенно воскликнула я... мысленно.
- Что-о-о-о?! - не менее возмущенно взвизгнула Кати вслух. - Совсем охамел, Ленчик?!
"О времена, о нравы!" - не к месту всплыло в голове.
Лапища блондина, кажется, надолго прописалась на моей ноге, парень деликатно обводил
пальцем по контуру одну из крупных ячеек на сетке дурацких колготок. От этой точки по коже
кругами расползалось странное тепло. Черт! Свалят эти двое когда-нибудь или нет? Обычно, если
нервничала, я начинала машинально раскладывать какие-нибудь предметы. Но таковых под
руками сейчас не оказалось, зато были ребра, пересчетом которых я из занялась. Раз ребро, два
ребро... и чего дергаться? я же больше не щиплюсь!
- Да шучу я, шучу! - продолжал развлекаться Леон. Мда, может он чего-то не то там с Катькой
курил, а? - Если эта "Гюльчатай" так упорно личико прячет, значит, что-то с ней не то... Колитесь,
мужики: страшная, старая... или косая? Нормальные ведь от такого придурка как ты, Зэф,
врассыпную разбегаются.
Белобрысый напрягся. Спокойно, мальчик, спокойно! Я тоже злая, но молчу. Я потом... завтра
выскажусь. Перед первой парой в универе. А пока... поглубже вдохнули, выдохнули! Вдохнули,
вы.... м-м-м, какой одеколон приятный! Несмотря на хмельную добавку. Желая помочь парню
немного расслабиться, я осторожно провела рукой по его позвоночнику: вверх - вниз, вверх вниз... Ой! А чего это он закаменел, и меня сжал так, что вот-вот кости захрустят? Или в буклете не
всю правду про этот массажный прием написали?
Зэф
"Да она издевается!" - стиснув зубы, сделал глубокий вдох, затем выдох, потом чуть ослабил
хватку, а то еще сломаю этой мелочи предприимчивой что-нибудь... от переизбытка чувств.
А вечер так хорошо начинался... После пар встретились с Ником, зашли в спортзал, потом к его
тетке на пироги, и в завершение "культурной программы" отправились в "Кровавый экстаз"
отмечать последнюю игру сезона. И тут явилась эта курица неуклюжая! Хотя какая она курица?
Скорее уж цыпа, причем хорошенькая: фигурка клевая, ножки стройные, мордашка бледная, но
симпатичная, волосы... гм... странные. Крашеная? А-а-а, пофиг! Про поведение вообще лучше
промолчать: то руками машет да стаканы бьет, то на шею кидается. Хотя, против последнего я не
возражаю. Держать девчонку на руках, несмотря на ее недавнюю провинность, оказалось
неожиданно приятно. А вот встретить в клубе бывшего одноклассника Леньку Крюкина по кличке
Леон - отнюдь. Да и шальная незнакомка, судя по всему, этому баклану была не рада. Явно ведь
пыталась вырваться и драпануть от меня, а как Леньчик со своей кралей путь к отступлению
перегородили, она и передумала. Из двух зол предпочла меньшее в моем лице? Ну-ну, интер-рресный выбор! Чем же ей Леон так насолил-то? Или это девка его ей не по нутру? И сидит теперь
эта мелочь, уткнувшись носом в мое плечо, вцепилась своими маленькими пальчиками, как клещ,
в мокрую майку, сама уже небось вся пивом пропахла, а сваливать и не думает. Странная девочка,
забавная... хрупкая. И почему-то хочется покрепче обнять ее, защитить, оградить от идиотских
насмешек и намеков Леона, от презрительных взглядов его беловолосой подружки. А ведь пару
минут назад я жаждал придушить дурёху прямо на месте. Хм... Забавная смена ощущений,
непривычная. Инстинкт защитника проснулся, что ли? Потому, наверное, и кулаки так чешутся
рыло чересчур разговорчивому однокласснику начистить.
Пропускать мимо ушей злые шутки Леона в свой адрес я привык давно, но ведь этот
зазвездившийся кретин прикопался сейчас не столько ко мне, сколько к ней. А она нервничает, но
молчит. И ребра мне пересчитывает, маленькая зараза. Не въезжает что ли, что я щекотки боюсь?
Глядя на девчонку, меня буквально разрывало от одновременного желания выйти "поговорить" с
Леоном, и покрепче прижать ее к себе, чтобы зафиксировать проворные руки в одном
положении, а еще... чтобы насладиться ароматом девичьего тела. Горьковато-сладким с
примесью хмеля. Эх... хорошее было пиво. Уберется Крюкин вон, новое закажем. На троих.
Любопытно, эта курочка, которая цыпа, любит светлое нефильтрованное?
"А-а-а, бли-и-ин! Надо хоть имя ее спросить, а то цыпа как-то примитивно звучит и ей не
очень-то подходит, - решил я, переключая внимание с малышки, которую держал в объятьях, на
базар кореша с этим звездуном недоделанным. Примечательный такой диалог у них был, угу.
Эмоционально окрашенный в лучших традициях русского-матерного.
- ... я сказал! - практически орал Ник, подавшись вперед. - З...л уже, Леон, - совсем взбесился
мой друг, потому и матерился через слово. Поцарапанный, без любимого напитка и в обществе
ненавистного одноклассника - он был вне себя от злости. Нормально для вспыльчивого Никиты, и
хорошо для цы... девочки, что прижалась ко мне. Значит, ее меньше цеплять будет, так как пар
выпустит.
- Да не ори ты так, пока доброжелатели охрану не позвали, - поморщился "звездный мальчик",
обнимая свою подружку, которая пыталась увести его прочь, дергая за локоть, уже минуты две
как.
- Иди отсюда, - на порядок спокойней и, что показательно, без матов, сказал Ник.
"Доброжелатели" за соседними столами, у колон и ближайшей стены разочарованно
загудели, видать на крутые разборки нацелились, а тут типа на спад все пошло.
- Меня уже нет, - примирительно поднял руки Леон и начал отступать. - Эй, "шоколадка", пакостно улыбнулся этот урод, проходя мимо, - мы еще встретимся! - пообещал он и, подмигнув
мне на прощание, ущипнул девчонку за задницу. Вот же... свинство!
Она взвизгнула, дернулась... а меня взгребло. На глаза будто красный туман опустился. И ведь
понимаю, что все это Ленькина провокация, а завожусь. Надо же... я и не знал, что "резиновое"
терпение так резко и неожиданно лопается. Во всяком случае, раньше со мной подобного не
случалось.
Юлька.
Мое местоположения изменилось так стремительно, что я не сразу сообразила, как это
произошло. Да еще и проклятый парик окончательно съехал, заслонив длинной челкой мне
большую часть обзора. Р-р-р... вернусь домой, займусь метанием Машкиных шпилек по мишени,
то есть по сестрице. Пощупала поверхность, на которой оказалась почему-то в полулежачей позе твердая, холодная, большая. Значит стол. Опять! Эх, не такие уж и костлявые колени у этого
Зефира были. И как он умудрился только меня так быстро переместить? Да еще и от вожделенной
майки оторвать без фатальных последствий... для майки. Я дернула за черную прядь парика,
пытаясь выровнять его на голове, и с удивлением покосилась на скрюченные в захвате, но пустые
пальцы другой руки. Ни клочка не осталось! Ну, надо же... видать, я себя переоценила. Перевела
не менее удивленный взор на странную возню в паре шагов от стола, и вернула на прежнее место
челку, дабы не видеть этот кошмар. Так вот куда белобрысый рванул... м-да. Следовало ожидать,
в этом притоне, небось каждый день драки!
- Хва-а-атит! Отвали, урод! - это Катька визжит? Да она в первом классе так не орала, когда ей
Митька жабу за ворот сунул. - Ленечка, я сейчас, Леня! - вопила моя бывшая подруга, пытаясь
оседлать Зэфа.
- .... ! ....! твою ...! - бубнил Ник, пытаясь разнять сцепившихся парней. Все-таки не мешало бы
ему рот мылом помыть! Хозяйственным! А лучше с дустом! Но... потом. Сейчас пусть что хочет
говорит, лишь бы остановил двоих придурков с явно выраженным приступом агрессии.
Я осторожно сползла со стола, решив, что настал идеальный момент для незаметного бегства.
И была уже готова направить стопы свои к выходу из "Белой вороны", как моя психованная
подружка добилась-таки своего. Точнее моего. Снова! И как только умудрилась дура
блондинистая на этого долговязого влезть? Да еще и "грабли" свои в волосы парня запустила с
явным намерением их проредить. Ей одного мужика что ли мало? Убью стерву!
Тот самый замечательный подносик, что уцелел после моего первого приземления на стол,
обнаружился среди осколков, рассыпанных в непосредственной близости от сцепившихся парней.
Как все-таки удачно, что его еще никто не подобрал! До меня. Вооружившись им, я размахнулась,
чтобы огреть Катьку по дурной башке - все равно она у нее чугунная - ее даже портфель с пятью
учебниками не брал. А так хоть верещать Зэфу в ухо перестанет. Вот только блондин не вовремя
пригнулся, стряхивая с себя балласт, а я не удержала поднос, и он, просвистев над макушкой
парня, смачно впечатался в лоб Леона. Вот она... справедливость в действии! И заметьте, я ведь не
специально.
- Юля? - потирая ушибленное место, пробормотал Леон.
Упс... спалилась!
- Э-э-э... - мигом растеряв весь свой воинственный настрой, протянула я. - Привет, Лео! натянув на лицо невинную улыбку, помахала ему ручкой. На запястье зазвенели Машкины
браслеты, с гроздью мелких черепков на цепочке.
- Юль, а что ты тут делаешь? - следя за рукой, как за маятником гипнотизера, ошарашено
спросил он. Потрепанный, с шишкой чуть выше переносицы, и с кровоточащим носом парень
выглядел уже не так самоуверенно, как вначале. И точно не так шикарно, как обычно. Он
медленно поднялся с помощью моей... хотя уже своей подруги и вытер носовым платком кровь на
губах и подбородке.
- Эм... на концерт пришла, - выдала на автомате придуманную сестрой легенду и тут же
подумала: а чего это я оправдываюсь? Это он здесь с предательницей Кати взасос целуется, а не я!
Накатившая волна злости, вылилась в язвительное добавление: - Не сидеть же дома у окошка,
пока ты... на соревнованиях!
Катька фыркнула от смеха:
- На концерт, ага! Еще и выступить умудрилась, дурочка!
- Заткни свою шавку, - попросил блондин, садясь обратно на скамью. Ему тоже хорошо
досталось, судя по слегка припухшему глазу и расцарапанной скуле.
- Сам заткнис-с-сь, - прошипела Катя, плотнее прижавшись к Лео.
- Ты почему... в таком виде, Юль? - не обращая внимания на обоих, продолжал допрос тот.
Первый красавец нашего потока проехался хмурым взглядом по моей фигуре, облаченной в
плоды Машкиных трудов, и нахмурился.
- А ты почему тут и... в такой компании? - тем же тоном ответила я, указав на катькину лапку,
демонстративно полирующую кожанку на его плече. - Соревнования отменили? Так позвонил бы,
в филармонию б сходили. Ты ведь так хотел! Так сокрушался, что билеты сдать пришлось! добавила с фальшивым сочувствием.
- Я... - Леон смутился и отвел глаза, затем получил тычок в бок от своей новой пассии и... до
него, наконец-то, дошло. - Я почему? Да? - прищурившись, процедил он. - Это ты почему тут с
ЭТИМ?! За моей спиной шашни крутишь?
- Я не... а вообще какое твое дело, Крюкин? Тебе с моей подругой... бывшей... - презрительно
посмотрела на нагло ухмыляющуюся Катьку, - по клубам шляться можно, а мне нельзя, значит?
- Ах по клубам! Шлять-с-с-ся... ну ты и... - он сплюнул на довольно грязный пол и поморщился.
- Я, между прочим, здоровый молодой мужик и у меня нормальные потребности имеются. И
выгуливать каждый вечер фригидную с..у на набережной в обмен на скромный поцелуй у ее
подъезда - это, знаешь ли, чересчур. Хотя я идиот думал, что ты, правда, чистая. А выходит, что
дрянь лицемерная! Мне втирала, мол, типа, девственница, и все такое... испытательный срок для
отношений придумала, а сама по клубам... да еще и с этим! - на лице Леона появилась брезгливая
гримаса. - Да ты, ты... ш-ш-ш...
- Еще слово - и я не только нос тебе подправлю, Леон, - на мое плечо опустилась большая
ладонь Зефира. И когда только встать и подойти успел, да еще так бесшумно. Хотя о чем это я?
Музыка орет, народ галдит - какая уж тут бесшумность!
- Убери лапы, урод! - отчего-то взбеленился Леньчик и, решив, видимо, что я все еще его
собственность, хоть и "дрянь лицемерная", двинулся к нам.
- Да зачем тебе эта шалава? - вмешалась Катька, повиснув на его шее: - Я же говорила что она
лживая и двуличная, - ну, спасибо тебе, подружка! - А еще у нее пятно родимое на заднице!
Уродливое, - подло ухмыляясь, сообщила она всем присутствующим.
Это моя-то крошечная "бабочка" уродливая?! Именно в этот момент я поняла, что зверею.
Дернула головой, пытаясь избавиться от проклятой челки, опять съехавшей на глаз, и принялась
озираться в поисках несчастного подноса.
- Ну ты и...
- Кто? - Катька явно нарывалась на ссору.
- Дура, - ответил за меня Ник.
- Да пошел ты! - отмахнулась от него она, но за плечо Леона все ж таки спряталась.
- А не пошли бы вы все отсюда! - между парочкой из бывшей подруги и бывшего парня и мной
встала увесистых размеров швабра и угрожающе закачалась из стороны в сторону. - Стаканов
набили, пивом все залили, мне тут только крови с мясом не хватает для уборки! С-с-скоты! тощенькая светловолосая девушка в форме официантки шипела не хуже разъяренной змеи. За ее
спиной маячили два амбала охранника, но лезть в наши разборки не спешили. Судя по странным
жестам и перемигиваниям, он были хорошо знакомы с Ником и Зефиром, потому, видать, и
медлили с торжественным выдворением нас из клуба.
- Ну, Светик, лапуля, не сердись! Мы все компенсируем! - э-э-э... это Ник сейчас сказал, я не
ослышалась? обалдеть!
Прижатая к надписи "жесть" уборщица, которую от души потискал и ласково чмокнул в нос
брюнет, несколько подобрела и даже швабру свою сместила в сторону, чуть не полоснув мокрой
тряпкой Катьке по физиономии. Охранники переглянулись, после чего подошли к Леону и что-то
ему шепнули. Тот кивнул, хмыкнул, зло посмотрел на меня, еще более зло на Зэфа, а потом обнял
за плечи мерзкую гадину по имени Кати и потопал с нею прочь. Проводив эту парочку взглядом, я
тяжело вздохнула и повернулась к оставшимся парням. Что ж... теперь не только извиняться, а
еще и благодарить придется.
- Ребята, - начала, все больше смущаясь. - А давайте я... э-э-э... деньги вам на пиво оставлю?
Взамен разбитого. Ну... и пойду, пожалуй, - мило улыбнулась, переводя взгляд с одной побитой
физиономии на вторую. Впрочем, Ника в этой заварушке почти не тронули. Ему исключительно от
меня досталось. То есть от Машкиного перстня на моем пальце.
- Нет уж, мелкая! - криво из-за рассеченной губы ухмыльнулся Зефир. - Пивом ты могла
раньше отделаться! А теперь придется с нами выпить! - он похлопал по скамье радом с собой. - За
знакомство! А денег мы с девченок не берем. Да, Ник? - парень подмигнул здоровым глазом
приятелю, который нашептывал что-то на ушко краснеющей Светлане.
- Чего? - не въехал сходу брюнет.
- Пива, говорю, еще принеси. А я пока послежу, чтобы эта "катастрофа ходячая" руками не
махала и тебе второе ухо не оборвала.
- Сам неси! - огрызнулся темноволосый.
- А давайте, я схожу! - широко улыбнулась, делая осторожный шажок в сторону бара. Закажу
этим оболтусам пива и смотаюсь. Если повезет, еще и в метро успею до закрытия.
- Зефирчик! Мой сладенький! - раздалось прямо за спиной. Я чуть повернула голову, желая
посмотреть, кто это там такой большой любитель сладостей в рокерской обертке. И, ощутив
резкий рывок, полетела на уже знакомое место - то есть на колени блондина. Вот тебе бабушка и
юрьев день! Успела, называется, на метро. Попытка сползти с рук Зэфа успехом не увенчалась. Его
наглая рука опять очутилась на моем бедре, а вторая намертво прижала голову к плечу парня. Ну,
здравствуй-здравствуй, дивный аромат мужского одеколона в сочетании с "пивными
благовониями". Вдохнула, почувствовала себя кошкой, подсевшей на валериану, зажмурилась,
выдохнула и... возмущенно промычала куда-то в область его ключицы:
- Ты спятил? - возмущаться с физиономией, впечатанной в многострадальную майку было
сложновато.
- С-с-сидеть!- прошипел парень, уткнувшись носом мне в ухо. - Твоя очередь ширмой
подрабатывать.
- Эй, Зефирушка?! - в высоком женском голосе на первый план вышли визгливые нотки, а я
подумала, что склонять прозвище блондина - привычка не только Леона.
- Вики? - деланно-удивленным тоном спросил Зэф.
- Это что за шалава у тебя на руках расселась? - без особых церемоний осведомился уже
знакомый мне женский голос. М-да... Вечер вежливости, не иначе! Хоть бы путаной кто назвал,
что ли, для разнообразия. - Да я этой с... все патлы сейчас повыдергаю! - заявила Вики и...
- Ай! Больно! - схватившись за голову, вскрикнула я. Стоп! А челка где? Медленно ощупала
свою гладкую макушку и нехорошо так скрипнула зубами. Кажется кого-то сейчас будут убивать,
вернее, на этот раз убивать буду я. Представляю, на кого я похожа с зализанными под парик
волосами. Р-р-р-р... кошке мало "валерьянки", она явно хочет крови.
Я раздраженно отмахнулась от немного шокированного сменой моей масти парня, и
обернулась. Фигуристая девка с огненного цвета дрэдами и толстым слоем штукатурки на лице
держала в "когтистой" лапе мою челку вместе со всем остальным черным великолепием.
- Да она еще и лысая! - заржала Вики и швырнула мою "прическу" на пол. Прямо в изрядно
затоптанную пивную лужу.
Машкин парик... а-а-а, мне кранты! И куда эта выдра рыжая копыто свое тянет? Убью гадину!
Хоть одну, но точно убью!!!
Эпилог
Двое сидели на деревянной скамейке под большим фонарем: хрупкая девушка в сетчатых
колготках и смешных башмаках на высокой платформе и долговязый парень в кожаной косухе. Ее
миловидное личико "украшали" три свежих царапины и черный потек от туши, похожий на слезу
Пьеро. Он же мог смело похвастаться красочным фингалом и лиловым синяком на скуле. Но
несмотря на подобные дополнения оба выглядели на удивление довольными. Их все-таки
выставили из клуба... часа на полтора воздухом подышать. Мол, приятельские отношения с
охраной - это хорошо, но и наглеть не стоит. Две драки за один вечер - это слишком даже для
завсегдатаев "Кровавого экстаза".
- Так, значит, студентка? - задумчиво разглядывая соседку, спрашивал парень.
- Угу, - кивала головой та, хитро поглядывая на него из-под прикрытия длинных ресниц. Русые
волосы, освобожденные от заколок, рассыпались по ее плечам и спине, а в карих глазах плясали
лукавые "чертики".
- Любительница классической музыки?
- Точно.
- И девственница?
- Допустим! А тебе-то что?
Зэф рассмеялся. По-доброму, без издевки. А потом сказал:
- Вот уж не думал, что в "Белой вороне" и правда найду когда-нибудь... белую ворону. Тебе не
страшно сюда идти-то было, девочка- катастрофа?
- Я Юлька, - в который раз за ночь напомнила та.
- Юлька тоже может быть катастрофой, - парировал парень.
- Может, - не стала спорить она. - А все-таки... как тебя зовут, Зэф? И откуда эта сладкая кличка
вообще? - не скрывая любопытства, спросила девушка.
Он немного подумал, разглядывая ее, потом поманил пальцем, предлагая придвинуться
ближе. Помедлила, но решилась. Когда она оказалась совсем рядом, блондин обнял ее за плечи
и, склонившись к аккуратному ушку с длинной серьгой, прошептал:
- В детстве я был бледным и толстым, а еще жутко любил всякие сладости, вот и прозвали
добрые одноклассники.
- Ты толстым? - засмеялась Юля. - Не верю!
- А зря, - подмигнув ей, улыбнулся Зефир. - Так все и было. Сладкое, кстати, до сих пор люблю,
- признался он.
- А имя?
- Саша я. Александр. Но только тс-с-с... никому не говори, мелкая.
- Так и быть, не скажу, - подыграла ему она, а потом, вздохнув, сказала: - Ладно, Саша. Давай
прощаться, что ли.
- Это еще зачем?
- Домой пора! Завтра зачет на первой паре.
- Так какой смысл вообще ложиться? - взглянув на часы, хмыкнул парень.
- Ложиться смысла нет, а вот умыться и переодеться - очень даже. А то, не дай бог, у
преподавателя инфаркт случиться, а я потом виноватой буду.
- Я тебя провожу, - серьезно проговорил Зэф.
- Я лучше на такси, - уклончиво ответила Юлька.
- Опять хочешь сбежать? - прищурился он. - Думаешь, я тебя так просто отпущу?
- Думаю, ты не из тех, кто насильно удерживает без серьезной причины, - ее губы растянулись
в хитрую улыбку.
- Так есть причина! - обрадовался блондин.
- Это какая же? - насторожилась девчонка.
- А ущерб кто возмещать будет?
- Кому? Мне? О да-а-а... Твоя Вики чуть было...
- Да ладно, это ты ей чуть голову не оторвала вместе с руками и ногами, - перебил ее Зефир. Еле оттащили. Она теперь мою скромную персону десятой дорогой обходить будет, раз уж у меня
подружка такая буйная, - парень склонил белобрысую голову и интимно зашептал ей на ухо. - А у
тебя правда родимое пятно есть?
- Грабли убери! - девушка шлепнула соседа по руке, снова нагло ползущей по ее бедру.
- Ну хорошо! - сдался он. А потом вдруг сказал: - Давай я тебя в твою филармонию свожу в
качестве благодарности. А ты...
- Что? - поторопила Юлька, когда пауза затянулась. - Еще какой-нибудь твоей бывшей в глаз
надо дать? - пошутила она.
- А ты... подари мне свою девственность, - без тени улыбки, попросил блондин.
- Чего? - опешила его собеседница.
- На испытательный срок согласен! - торопливо добавил он. - Только чтоб никаких
культпоходов без меня, а то мало ли к кому ты еще на шею бросишься!
- ЧЕГО? - ее ярко накрашенные глаза округлились. - Да я...
- Того! - ухмыльнулся Зэф и заткнул ей рот поцелуем.
Сначала нежным и осторожным, будто прощупывающим почву. Ждал отклика или...
сопротивления? Но Юлька не дергалась, не вырывалась, хоть и не спешила отвечать, только
многострадальную майку на палец накручивала и чуть царапала острым ногтем кожу на его груди.
Он прижал девушку сильнее, погладил по спине, запустил пальцы под ворот и, легко коснувшись
кожи, начал массировать круговыми движениями девичью шею. Ладони Юли скользнули под его
косуху, но щекотно на этот раз ему не было. Парень сорвал чуть слышный стон с ее губ,
приоткрывшихся навстречу его ласке, и нежный поцелуй превратился в страстный. Они оба словно
выпали из реальности, занятые друг другом. Не было больше этой скамейки, фонаря... клуба,
расположенного в здании напротив. Ничего не было, только он, она и постепенно тающая ночь в
объятьях алого рассвета...
- Кхе-кхе, - раздалось рядом. И судя по интонациям, это было уже далеко не первое
покашливание. - Я, конечно, все понимаю, но мне долго еще тут стоять с этим чертовым пивом? проворчал Ник. - Сначала сгоняй, а потом погуляй, что ли? Я вам не шестерка, в конце-то концов!
Пиво в ту ночь было самым вкусным, симфонический концерт следующим вечером - самым
длинным, а испытательный срок у Сашки с Юлькой - до безобразия коротким.
Нэш Огден - Мужьям – по секрету
(~2.5 мин., юмор)
Если вы женаты, любезный читатель, то вас, вероятно, не удивит,
Что вашу законную супругу как правило совершенно не устраивает ее внешний вид.
Она повторяет, что выглядит ужасно, что цвет лица у нее отвратительный и что фигура у нее
подкачала,
А волосы – это вообще не волосы, а старая, мерзкая, грязная мочала.
Перед зеркалом, роняя в раздражении щетки,
Она отыскивает мнимые двойные подбородки,
И клянется, что ее прелестная кожа
На дно пересохшей лужи похожа,
И в сердцах именует идиотскими тумбами свои соблазнительные, стройные ножки,
И сравнивает свою несравненную талию с плохо завязанным мешком картошки.
Право, лучше стоять на шатком мосту, где за вами лев, перед вами тигр, а внизу кишмя кишат
крокодилы, которым присуща кровожадность и бешеность,
Чем остаться один на один с любимой, сквозь зубы комментирующей собственную внешеность;
Лучше разом пропасть – погибнуть в огне, потонуть в океане, поесть в кафетерии, –
Чем всю жизнь находиться в глупейшем положении, потому что если вы с ней соглашаетесь, это
значит, что вы ее больше не любите, а если вы пытаетесь ей возражать, вас обвиняют во лжи и
лицемерии.
Почему наши с вами жены не верят, что матерями наших детей они оказались как раз потому, что
для нас в целом свете никого нету краше?
Ведь именно в силу этой причины они не чужие жены, а наши.
Довольно бессмысленных самонападок!
Настала пора навести порядок.
Мало того, что они во всеуслышанье порочат свою безупречную наружность,- они грешат кое-чем
похуже:
Они осмеливаются ставить под сомнение безупречный вкус собственного мужа.
Перевод Ирины Комаровой
Нэш Огден - То, что знает почти каждая женщина, а если не знает, то
скоро узнает
(~2.5 мин., юмор)
Мужья – это такая разновидность людей, с которыми просто невозможно жить дружно:
Они вечно путаются у вас под ногами и ждут от вас завтрака, обеда и ужина.
В воспитании детей они смыслят много меньше, чем в вопросах футбола или автовождения,
И всегда забывают все дни рождения.
Они полагают, что любые поступки
Можно с легкостью загладить поцелуем в губки,
А если вы пытаетесь им растолковать, в чем и как они провинились, они слушают с фальшивотерпеливым выражением и думают: от этого меня не убудет;
Сегодня пошумит, а завтра забудет.
В гостях они с неприличной скоростью поглощают мартини и другие коктейли,
Но стоит вам только покоситься в их сторону, они принимают мученический вид, как будто против
них невесть что затейли.
Они очень быстро прошагают пять миль ради партии в гольф с товарищем юности, но если
попросить их что-то сделать по дому, они идут вздремнуть и спят летаргически, –
И они же еще говорят, что женщины совершенно не способны мыслить логически!
Они встают и ложатся когда им вздумается, лишь бы только не в одно время с вами,
А если вы приводите в порядок лицо, они смотрят на вас такими глазами, будто пудра и помада –
это черная магия, а вы сами – индийские факиры и свами.
Когда вы подаете на обед фрикадельки, они мрачно спрашивают, неужели так трудно хоть раз
приготовить нормальный кусок мяса, и трапеза проходит в зубовном скрежете,
И вы им готовите нормальный кусок мяса – готовите раз, и другой, и третий, а когда приходит счет
от мясника, выясняется, что вы их без ножа режете.
Они сохраняют полнейшее спокойствие в тех случаях, когда болеете вы, хотя в свое время давали
обет быть вам опорой в горе и хвори,
Но если сами схватят простуду или у них заболит живот, они впадают в такую панику, как будто с
жизнью простятся вскоре.
Когда вы с ними наедине, они не обращают на вас внимания и проблемами приличия и хорошего
тона, как правило, менее всего озабочены,
Но зато при посторонних они преображаются: придвигают вам кресла, приносят пепельницы и
вообще так раскланиваются и расшаркиваются, что вам охота залепить им пощечину.
Мужья воистину несносные творения, но раз уж Провидение придумало брак,
То бедные жены их все-таки выносят, хотя и сами удивляются как.
Перевод Ирины Комаровой
Пелевин Виктор - Ника
(~37 мин., соврем. проза
"Это рассказ о вечных переживаниях, постоянных сомнениях и привязанностях, которые
каждый из нас испытывал хотя бы раз в жизни. Это размышление о непостижимости
внутреннего мира другого человека, не в зависимости от близости к нему. Это попытки
анализа связей между внутренним миром и внешними проявлениями человека: его поведением,
отдельными поступками, а также позиционными выходками. И естественное, закономерное
полное фиаско героя в планировании исхода сложившейся ситуации, в модели которой не
учитывались ни внешние факторы, ни непредсказуемость реакции и поведения других «миров»,
ни хаотичность изменений, врывающихся в нашу жизнь.")
Теперь, когда ее легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом
холодном весеннем ветре, и на моих коленях лежит тяжелый, как силикатный кирпич, том
Бунина, я иногда отрываю взгляд от страницы и смотрю на стену, где висит ее случайно
сохранившийся снимок.
Она была намного моложе меня, судьба свела нас случайно, и я не считал, что ее привязанность
ко мне вызвана моими достоинствами, скорее, я был для нее, если воспользоваться термином из
физиологии, просто раздражителем, вызывавшим рефлексы и реакции, которые остались бы
неизменными, будь на моем месте физик фундаменталист в академической ермолке, продажный
депутат или любой другой, готовый оценить ее смуглую южную прелесть и смягчить ей тяжесть
существования вдали от древней родины, в голодной северной стране, где она по недоразумению
родилась. Когда она прятала голову у меня на груди, я медленно проводил пальцами по ее шее и
представлял себе другую ладонь на том же нежном изгибе — тонкопалую и бледную, с
маленьким черепом на кольце, или непристойно волосатую, в синих якорях и датах, так же
медленно сползающую вниз — и чувствовал, что эта перемена совсем не затронула бы ее души.
Я никогда не называл ее полным именем — слово «Вероника» для меня было ботаническим
термином и вызывало в памяти удушливо пахнущие белые цветы с оставшейся далеко в детстве
южной клумбы. Я обходился последним слогом, что было ей безразлично, чутья к музыке речи у
нее не было совсем, а о своей тезке богине, безголовой и крылатой, она даже не знала.
Мои друзья невзлюбили ее сразу. Возможно, они догадывались, что великодушие, с которым они
— пусть даже на несколько минут — принимали ее в свой круг, оставалось просто незамеченным.
Но требовать от Ники иного было бы так же глупо, как ожидать от идущего по асфальту пешехода
чувства признательности к когда то проложившим дорогу рабочим, для нее окружающие были
чем то вроде говорящих шкафов, которые по непостижимым причинам появлялись рядом с ней и
по таким же непостижимым причинам исчезали. Ника не интересовалась чужими чувствами, но
инстинктивно угадывала отношение к себе — и, когда ко мне приходили, она чаще всего вставала
и шла на кухню. Внешне мои знакомые не были с ней грубы, но не скрывали пренебрежения,
когда ее не было рядом, никто из них, разумеется, не считал ее ровней.
— Что ж твоя Ника, на меня и глядеть не хочет? — спрашивал меня один из них с усмешечкой. Ему
не приходило в голову, что именно так оно и есть, со странной наивностью он полагал, что в
глубине никиной души ему отведена целая галерея.
— Ты совершенно не умеешь их дрессировать, — говорил другой в приступе пьяной
задушевности, — у меня она шелковой была бы через неделю.
Я знал, что он отлично разбирается в предмете, потому что жена дрессирует его уже четвертый
год, но меньше всего в жизни мне хотелось стать чьим то воспитателем.
Не то, чтобы Ника была равнодушна к удобствам — она с патологическим постоянством
оказывалась в том самом кресле, куда мне хотелось сесть, — но предметы существовали для нее
только пока она ими пользовалась, а потом исчезали. Наверное, поэтому у нее не было
практически ничего своего, я иногда думал, что именно такой тип и пытались вывести коммунисты
древности, не имея понятия, как будет выглядеть результат их усилий. С чужими чувствами она не
считалась, но не из за скверного склада характера, а оттого, что часто не догадывалась о
существовании этих чувств. Когда она случайно разбила старинную сахарницу кузнецовского
фарфора, стоявшую на шкафу, и я через час после этого неожиданно для себя дал ей пощечину,
Ника просто не поняла, за что ее ударили — она выскочила вон, и, когда я пришел извиняться,
молча отвернулась к стене. Для Ники сахарница была просто усеченным конусом из блестящего
материала, набитым бумажками, для меня — чем то вроде копилки, где хранились собранные за
всю жизнь доказательства реальности бытия: страничка из давно не существующей записной
книжки с телефоном, по которому я так и не позвонил, билет в «Иллюзион» с неоторванным
контролем, маленькая фотография и несколько незаполненных аптечных рецептов. Мне было
стыдно перед Никой, а извиняться было глупо, я не знал, что делать, и оттого говорил витиевато и
путано:
— Ника, не сердись. Хлам имеет над человеком странную власть. Выкинуть какие нибудь
треснувшие очки означает признать, что целый мир, увиденный сквозь них, навсегда остался за
спиной, или, наооборот и то же самое, оказался впереди, в царстве надвигающегося небытия…
Ника, если б ты меня понимала… Обломки прошлого становятся подобием якорей,
привязывающих душу к уже не существующему, из чего видно, что нет и того, что обычно
понимают под душой, потому что…
Я из под ладони глянул на нее и увидел, как она зевает. Бог знает, о чем она думала, но мои слова
не проникали в ее маленькую красивую голову — с таким же успехом я мог бы говорить с
диваном, на котором она сидела. В тот вечер я был с Никой особенно нежен, и все же меня не
покидало чувство, что мои руки, скользящие по ее телу, немногим отличаются для нее от веток,
которые касаются ее боков во время наших совместных прогулок по лесу — тогда мы еще ходили
на прогулки вдвоем.
Мы были рядом каждый день, но у меня хватило трезвости понять, что по настоящему мы не
станем близки никогда. Она даже не догадывалась, что в тот самый момент, когда она
прижимается ко мне своим по кошачьи гибким телом, я могу находиться в совсем другом месте,
полностью забыв о ее присутствии. В сущности, она была очень пошла, и ее запросы были чисто
физиологическими — набить брюхо, выспаться и получить необходимое для хорошего
пищеварения количество ласки. Она часами дремала у телевизора, почти не глядя на экран,
помногу ела — кстати, предпочитала жирную пищу — и очень любила спать, ни разу я не помню
ее с книгой. Но природное изящество и юность придавали всем ее проявлениям какую то
иллюзорную одухотворенность, в ее животном — если вдуматься — бытии был отблеск высшей
гармонии, естественное дыхание того, за чем безнадежно гонится искусство, и мне начинало
казаться, что по настоящему красива и осмысленна именно ее простая судьба, а все, на чем я
основываю собственную жизнь — просто выдумки, да еще и чужие. Одно время я мечтал узнать,
что она обо мне думает, но добиваться от нее ответа было бесполезно, а дневника, который я мог
бы украдкой прочесть, она не вела.
И вдруг я заметил, что меня по настоящему интересует ее мир.
У нее была привычка подолгу просиживать у окна, глядя вниз, однажды я останавился за ее
спиной, положил ладонь ей на затылок — она чуть вздрогнула, но не отстранилась — и попытался
угадать, на что она смотрит, и чем для нее является то, что она видит. Перед нами был обычный
московский двор — песочница с парой ковыряющихся детей, турник, на котором выбивали ковры,
каркас чума, сваренный из красных металлических труб, бревенчатая избушка для детей,
помойки, вороны и мачта фонаря. Больше всего меня угнетал этот красный каркас — наверно
потому, что когда то в детстве, в серый зимний день, моя душа хрустнула под тяжестью огромного
гэдээровского альбома, посвященного давно исчезшей культуре охотников за мамонтами. Это
была удивительно устойчивая цивилизация, существовавшая, совершенно не изменяясь,
несколько тысяч лет где то в Сибири — люди жили в небольших, обтянутых мамонтовыми
шкурами полукруглых домиках, каркас которых точь в точь повторял геометрию нынешних
красных сооружений на детских площадках, только выполнялся не из железных труб, а из
связанных бивней мамонта. В альбоме жизнь охотников — это романтическое слово, кстати,
совершенно не подходит к немытым ублюдкам, раз в месяц заманивавшим большое доверчивое
животное в яму с колом на дне — была изображена очень подробно, и я с удивлением узнал
многие мелкие бытовые детали, пейзажи и лица, тут же я сделал первое в своей жизни
логическое умозаключение, что художник, без всякого сомнения, побывал в советском плену. С
тех пор эти красные решетчатые полусферы, возвышающиеся почти в каждом дворе, стали
казаться мне эхом породившей нас культуры, другим ее эхом были маленькие стада фарфоровых
мамонтов, из тьмы тысячелетий бредущие в будущее по миллионам советских буфетов. Есть у нас
и другие предки, думал я, вот например трипольцы — не от слова «Триполи», а от «Триполье», —
которые четыре, что ли, тысячи лет назад занимались земледелием и скотоводством, а в
свободное время вырезали из камня маленьких голых баб с очень толстым задом — этих баб,
«Венер», как их сейчас называют, осталось очень много — видно, они были в красном углу
каждого дома. Кроме этого про трипольцев известно, что их бревенчатые колхозы имели очень
строгую планировку с широкой главной улицей, а дома в поселках были совершенно одинаковы.
На детской площадке, которую разглядывали мы с Никой, от этой культуры остался бревенчатый
домик, строго ориентированный по сторонам света, где уже час сидела вялая девочка в
резиновых сапогах — сама она была не видна, виднелись только покачивающиеся нежно голубые
голенища.
Господи, думал я, обнимая Нику, а сколько я мог бы сказать, к примеру, о песочнице? А о
помойке? А о фонаре? Но все это будет моим миром, от которого я порядочно устал, и из которого
мне некуда выбраться, потому что умственные построения, как мухи, облепят изображение
любого предмета на сетчатке моих глаз. А Ника была совершенно свободна от унизительной
необходимости соотносить пламя над мусорным баком с московским пожаром 1737 года, или
связывать полуотрыжку полукарканье сытой универсамовской вороны с древнеримской
приметой, упомянутой в «Юлиане Отступнике». Но что же тогда такое ее душа? Мой
кратковременный интерес к ее внутренней жизни, в которую я не мог проникнуть, несмотря на то,
что сама Ника полностью была в моей власти, объяснялся, видимо, моим стремлением
измениться, избавиться от постоянно грохочущих в моей голове мыслей, успевших накатать
колею, из которой они уже не выходили. В сущности, со мной уже давно не происходило ничего
нового, и я надеялся, находясь рядом с Никой, увидеть какие то незнакомые способы чувствовать
и жить. Когда я сознался себе, что, глядя в окно, она видит попросту то, что там находится, и что ее
рассудок совершенно не склонен к путешествиям по прошлому и будущему, а довольствуется
настоящим, я уже понимал, что имею дело не с реально существующей Никой, а с набором
собственных мыслей, что передо мной, как это всегда было и будет, оказались мои
представления, принявшие ее форму, а сама Ника, сидящая в полуметре от меня, недоступна, как
вершина Спасской башни. И я снова ощутил на своих плечах невесомый, но невыносимый груз
одиночества.
— Видишь ли, Ника, — сказал я, отходя в сторону, — мне совершенно наплевать, зачем ты
глядишь во двор и что ты там видишь.
Она посмотрела на меня и опять повернулась к окну — видно, она успела привыкнуть к моим
выходкам. Кроме того — хоть она никогда не призналась бы в этом — ей было совершенно
наплевать на все, что я говорю.
Из одной крайности я бросился в другую. Убедившись, что загадочность ее зеленоватых глаз —
явление чисто оптическое, я решил, что знаю про нее все, и моя привязанность разбавилась
легким презрением, которого я почти не скрывал, считая, что она его не заметит. Но вскоре я
почувствовал, что она тяготится замкнутостью нашей жизни, становится нервной и обидчивой.
Была весна, а я почти все время сидел дома, и ей приходилось проводить время рядом, а за
окном уже зеленела трава, и сквозь серую пленку похожих на туман облаков, затянувших все
небо, мерцало размытое, вдвое больше обычного, солнце.
Я не помню, когда она первый раз пошла гулять без меня, но помню свои чувства по этому поводу
— я отпустил ее без особого волнения, отбросив вялую мысль о том, что надо бы пойти вместе. Не
то, чтобы я стал тяготиться ее обществом — просто я постепенно начал относиться к ней так же,
как она с самого начала относилась ко мне — как к табурету, кактусу на подоконнике или
круглому облаку за окном. Обычно, чтобы сохранить у себя иллюзию прежней заботы, я провожал
ее до двери на лестничную клетку, бормотал ей вслед что то неразборчиво напутственное и шел
назад, она никогда не спускалась в лифте, а неслышными быстрыми шагами сбегала по лестнице
вниз — я думаю, что в этом не присутствовало ни тени спортивного кокетства, она действительно
была так юна и полна сил, что ей легче было три минуты мчаться по ступеням, почти их не касаясь,
чем тратить это же время на ожидание жужжащего гробоподобного ящика, залитого тревожным
желтым светом, воняющего мочей и славящего группу «Depeche Mode». (Кстати сказать, Ника
была на редкость равнодушна и к этой группе, и к року вообще — единственное, что на моей
памяти вызвало у нее интерес — это то место на «Animals», где сквозь облака знакомого дыма
военной трехтонкой катит к линии фронта далекий синтезатор, и задумчиво лают еще не
прикормленные Борисом Гребенщиковым электрические псы.) Меня интересовало, куда она
ходит — хоть и не настолько, чтобы я стал за ней шпионить, но в достаточной степени, чтобы
заставить меня выходить на балкон с биноклем в руках через несколько минут после ее ухода,
перед самим собой я никогда не делал вид, что то, чем я занят, хорошо. Ее простые маршруты
шли по иссеченной дорожками аллее, мимо скамеек, ларька с напитками и спирального подъема
в стол заказов, потом она поворачивала за угол высокой зеленой шестнадцатиэтажки — туда, где
за долгим пыльным пустырем начинался лес. Дальше я терял ее и — Господи! — как же мне было
жаль, что я не могу на несколько секунд стать ею и увидеть по новому все то, что уже стало для
меня незаметным. Уже потом я понял, что мне хотелось просто перестать быть собой, то есть
перестать быть, тоска по новому — это одна из самых мягких форм, которые приобретает в нашей
стране суицидальный комплекс.
Есть такая английская пословица — «у каждого в шкафу спрятан свой скелет». Что то мешает
правильно, в общем, мыслящим англичанам понять окончательную истину. Ужаснее всего то, что
этот скелет «свой» не в смысле имущественного права или необходимости его прятать, а в смысле
«свой собственный», и шкаф здесь — эвфемизм тела, из которого этот скелет когда нибудь
выпадет по той причине, что шкаф исчезнет. Мне никогда не приходило в голову, что в том шкафу,
который я называл Никой, тоже есть скелет, я ни разу не представлял ее возможной смерти. Все в
ней было противоположно смыслу этого слова, она была сгущеной жизнью, как бывает сгущеное
молоко (однажды, ледяным зимним вечером, она совершенно голой вышла на покрытый снегом
балкон, и вдруг на перила опустился голубь — и Ника присела, словно боясь его спугнуть, и
замерла, прошла минута, я, любуясь ее смуглой спиной, вдруг с изумлением понял, что она не
чувствует холода или просто забыла о нем). Поэтому ее смерть не произвела на меня особого
впечатления. Она просто не попала в связанную с чувствами часть сознания и не стала для меня
эмоциональным фактом, возможно, это было своеобразной психической реакцией на то, что
причиной всему оказался мой поступок. Я не убивал ее, понятно, своей рукой, но это я толкнул
невидимую вагонетку судьбы, которая настигла ее через много дней, это я был виновен в том, что
началась длинная цепь событий, последним из которых стала ее гибель. Патриот со слюнявой
пастью и заросшим шерстью покатым лбом — последнее, что она увидела в жизни — стал
конкретным воплощением ее смерти, вот и все. Глупо искать виноватого, каждый приговор сам
находит подходящего палача, и каждый из нас — соучастник массы убийств, в мире все
переплетено, и причинно следственные связи невосстановимы. Кто знает, не обрекаем ли мы на
голод детей Занзибара, уступая место в метро какой нибудь злобной старухе? Область нашего
предвидения и ответственности слишком узка, и все причины в конечном счете уходят в
неизвестность, к сотворению мира.
Был мартовский день, но погода стояла самая что ни на есть ленинская: за окном висел
ноябрьский чернобушлатный туман, сквозь который еле просвечивал ржавый зиг хайль
подъемного крана, на близкой стройке районной авроркой побухивал агрегат для забивания свай.
Когда свая уходила в землю и грохот стихал, в тумане рождались пьяные голоса и мат, причем
особо выделялся один высокий вибрирующий тенор. Потом что то начинало позвякивать — это
волокли новую рельсу. И удары раздавались опять. Когда стемнело, стало немного легче, я сел в
кресло напротив растянувшейся на диване Ники и стал листать Гайто Газданова. У меня была
привычка читать вслух, и то, что она меня не слушала, никогда меня не задевало. Единственное,
что я позволял себе — это чуть выделять некоторые места интонацией:
«Ее нельзя было назвать скрытной, но длительное знакомство или тесная душевная близость
были необходимы, чтобы узнать, как до сих пор проходила ее жизнь, что она любит, чего она не
любит, что ее интересует, что ей кажется ценным в людях, с которыми она сталкивается. Мне не
приходилось слышать от нее высказываний, которые бы ее лично характеризовали, хотя я говорил
с ней на самые разные темы, она обычно молча слушала. За много недель я узнал о ней чуть
больше, чем в первые дни. Вместе с тем у нее не было никаких причин скрывать от меня что бы то
ни было, это было просто следствие ее природной сдержанности, которая не могла не казаться
мне странной. Когда я ее спрашивал о чем нибудь, она не хотела отвечать, и я этому неизменно
удивлялся…»
Я неизменно удивлялся другому — почти все книги, почти все стихи были посвящены, если
разобраться, Нике — как бы ее не звали и какой бы облик она не принимала, чем умнее и тоньше
был художник тем неразрешимее и мистичнее становилась ее загадка, лучшие силы лучших душ
уходили на штурм этой безмолвной зеленоглазой непостижимости, и все расшибалось о
невидимую или просто несуществующую — а значит, действительно непреодолимую — преграду,
даже от блестящего Владимира Набокова, успевшего в последний момент заслониться
лирическим героем, остались только два печальных глаза да фаллос длиной в фут (последнее я
объяснял тем, что свой знаменитый роман он создавал вдали от Родины).
«И медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, — бормотал я сквозь дрему,
раздумывая над тайной этого несущегося сквозь века молчания, в котором отразилось столько
непохожих сердец, — был греческий диван мохнатый, да в вольной росписи стена…»
Я заснул над книгой, а проснувшись, увидел, что Ники в комнате нет. Я уже давно замечал, что по
ночам она куда то ненадолго уходит. Я думал, что ей нужен небольшой моцион перед сном, или
несколько минут общения с такими же никами, по вечерам собиравшимися в круге света перед
подъездом, где всегда играл неизвестно чей магнитофон. Кажется, у нее была подруга по имени
Маша — рыжая и шустрая, пару раз я видел их вместе. Никаких возражений против этого у меня
не было, и я даже оставлял дверь открытой, чтобы она не будила меня своей возней в темном
коридоре и видела, что я в курсе ее ночных прогулок. Единственным чувством, которое я
испытывал, была моя обычная зависть по поводу того, что от меня опять ускользают какие то
грани мира — но мне никогда не приходило в голову отправиться вместе с ней, я понимал, до
какой степени я буду неуместен в ее компании. Мне вряд ли показалось бы интересным ее
общество, но все таки было чуть чуть обидно, что у нее есть свой круг, куда мне закрыт доступ.
Когда я проснулся с книгой на коленях и увидел, что я в комнате один, мне вдруг захотелось
ненадолго спуститься вниз и выкурить сигарету на лавке перед подъездом, я решил, что если и
увижу Нику, то никак не покажу нашей связи. Спускаясь в лифте, я даже представил себе, как она
увидит меня, вздрогнет, но, заметив мою индифферентность, повернется к Маше — отчего то я
считал, что они будут сидеть на лавке рядом — и продолжит тихий, понятный только им разговор.
Перед домом никого не было, и мне вдруг стало неясно, почему я был уверен, что встречу ее.
Прямо у лавки стоял спортивный «мерседес» коричневого цвета — иногда я замечал его на
соседних улицах, иногда перед своим подъездом, то, что это одна и та же машина, было ясно по
запоминающемуся номеру — какому то «ХРЯ» или «ХАМ». Со второго этажа доносилась тихая
музыка, кусты чуть качались от ветра, и снега вокруг уже совсем не было, скоро лето, подумал я.
Но все же было еще холодно. Когда я вернулся в дом, на меня неодобрительно подняла глаза
похожая на сухую розу старуха, сидевшая на посту у двери — уже пора было запирать подъезд.
Поднимаясь в лифте, я думал о пенсионерах из бывшего актива, несущих в подъезде последнюю
живую веточку захиревшей общенародной вахты — по их трагической сосредоточенности было
видно, что далеко в будущее они ее не затащат, а передать совсем некому. На лестничной клетке
я последний раз затянулся, открыл дверь на лестницу, чтобы бросить окурок в ведро, услышал
какие то странные звуки на площадке пролетом ниже, наклонился над перилами и увидел Нику.
Человек с более изощренной психикой решил бы, возможно, что она выбрала именно это место
— в двух шагах от собственной квартиры — чтобы получить удовольствие особого рода,
наслаждение от надругательства над семейным очагом. Мне это в голову не пришло — я знал, что
для Ники это было бы слишком сложно, но то, что я увидел, вызвало у меня приступ
инстинктивного отвращения. Два бешено работающих слившихся тела в дрожащем свете
неисправной лампы показались мне живой швейной машиной, а взвизгивания, которые трудно
было принять за звуки человеческого голоса — скрипом несмазанных шестеренок. Не знаю,
сколько я смотрел на все это, секунду или несколько минут. Вдруг я увидел никины глаза, и моя
рука сама подняла с помойного ведра ржавую крышку, которая через мгновение с грохотом
врезалась в стену и свалилсь ей на голову.
Видимо, я их сильно испугал. Они кинулись вниз, и я успел узнать того, кто был с Никой. Он жил
где то в нашем доме, и я несколько раз встречал его на лестнице, когда отключали лифт — у него
были невыразительные глаза, длинные бесцветные усы и вид, полный собственного достоинства.
Один раз я видел, как он, не теряя этого вида, роется в мусорном ведре, я проходил мимо, он
поднял глаза и некоторое время внимательно глядел на меня, когда я спустился на несколько
ступеней, и он убедился, что я не составлю ему конкуренции, за моей спиной опять раздалось
шуршание картофельных очисток, в которых он что то искал. Я давно догадывался — Нике
нравятся именно такие, как он, животные в полном смысле слова, и ее всегда будет тянуть к ним,
на кого бы она сама ни походила в лунном или каком нибудь там еще свете. Собственно, сама по
себе она ни на кого не похожа, подумал я, открывая дверь в квартиру, ведь если я гляжу на нее, и
она кажется мне по своему совершенным произведением искусства, дело здесь не в ней, а во
мне, которому это кажется. Вся красота, которую я вижу, заключена в моем сердце, потому что
именно там находится камертон, с невыразимой нотой которого я сравниваю все остальное. Я
постоянно принимаю самого себя за себя самого, думая, что имею дело с чем то внешним, а мир
вокруг — всего лишь система зеркал разной кривизны. Мы странно устроены, размышлял я, мы
видим только то, что собираемся увидеть — причем в мельчайших деталях, вплоть до лиц и
положений — на месте того, что нам показывают на самом деле, как Гумберт Гумберт,
принимающий жирный социал демократический локоть в окне соседнего дома за колено
замершей нимфетки.
Ника не пришла домой ночью, а рано утром, заперев дверь на все замки, я уехал из города на две
недели. Когда я вернулся, меня встретила розоволосая старушка с вахты, и, поглядывая на трех
других старух, полукругом сидевших возлее ее стола на принесенных из квартир стульях, громко
сообщила, что несколько раз приходила Ника, но не могла попасть в квартиру, а последние
несколько дней ее не было видно. Старухи с любопытством глядели на меня, и я быстро прошел
мимо, все таки какое то замечание о моем моральном облике догнало меня у лифта. Я чувствовал
беспокойство, потому что совершенно не представлял, где ее искать. Но я был уверен, что она
вернется, у меня было много дел, и до самого вечера я ни разу не вспомнил о ней, а вечером
зазвонил телефон, и старушка с вахты, явно решившая принять участие в моей жизни, сообщила,
что ее зовут Татьяна Григорьевна, и что она только что видела Нику внизу.
Асфальт перед домом на глазах темнел — моросил мелкий дождь. У подъезда несколько девочек
с ритмичными криками прыгали через резинку, натянутую на уровне их шей — каким то чудом
они ухитрялись перекидывать через нее ноги. Ветер пронес над моей головой рваный
пластиковый пакет. Ники нигде не было. Я повернул за угол и пошел в сторону леса, еще не
видного за домами. Куда именно я иду, я твердо не знал, но был уверен, что встречу Нику. Когда я
дошел до последнего дома перед пустырем, дождь почти кончился, я повернул за угол. Она
стояла перед коричневым «мерседесом» с хамским номером, припаркованный с пижонской
лихостью — одно колесо было на тротуаре. Передняя дверь была открыта, а за стеклом курил
похожий на молодого Сталина человек в красивом полосатом пиджаке.
— Ника! Привет, — сказал я, останавливаясь.
Она поглядела на меня, но словно не узнала. Я наклонился вперед и уперся ладонями в колени.
Мне часто говорили, что такие, как она, не прощают обид, но я не принимал этих слов всерьез —
наверно, потому, что раньше она прощала мне все обиды. Человек в «мерседесе» брезгливо
повернул ко мне лицо и чуть нахмурился.
— Ника, прости меня, а? — стараясь не обращать на него внимания, прошептал я и протянул к ней
руки, с тоской чувствуя, до чего я похож на молодого Чернышевского, по нужде заскочившего в
петербургский подъезд и с жестом братства поднимающегося с корточек навстречу влетевшей с
мороза девушке, меня несколько утешало, что такое сравнение вряд ли придет в голову Нике или
уже оскалившему золотые клыки грузину за ветровым стеклом.
Она опустила голову, словно раздумывая, и вдруг по какой то неопределимой мелочи я понял, что
она сейчас шагнет ко мне, шагнет от этого ворованного «мерседеса», водитель которого сверлил
во мне дыру своими подобранными под цвет капота глазами, и через несколько минут я на руках
пронесу ее мимо старух в своем подъезде, мысленно я уже давал себе слово никуда не отпускать
ее одну. Она должна была шагнуть ко мне, это было так же ясно, как то, что накрапывал дождь, но
Ника вдруг отшатнулась в сторону, а сзади донесся перепуганный детский крик:
— Стой! Кому говорю, стоять!
Я оглянулся и увидел огромную овчарку, молча несущуюся к нам по газону, ее хозяин, мальчишка
в кепке с огромным козырьком, размахивая ошейником, орал:
— Патриот! Назад! К ноге!
Отлично помню эту растянувшуюся секунду — черное тело, несущееся низко над травой, фигурку
с поднятой рукой, которая словно собралась огреть кого то плетью, нескольких остановившихся
прохожих, глядящих в нашу сторону, помню и мелькнувшую у меня в этот момент мысль, что даже
дети в американских кепках говорят у нас на погранично лагерном жаргоне. Сзади резко
взвизгнули тормоза и закричала какая то женщина, ища и не находя глазами Нику, я уже знал, что
произошло.
Машина — это была «лада» кооперативного пошиба с яркими наклейками на заднем стекле —
опять набирала скорость, видимо, водитель испугался, хотя виноват он не был. Когда я подбежал,
машина уже скрылась за поворотом, краем глаза я заметил бегущую назад к хозяину собаку.
Вокруг непонятно откуда возникло несколько прохожих, с жадным вниманием глядящих на
ненатурально яркую кровь на мокром асфальте.
— Вот сволочь, — сказал за моей спиной голос с грузинским акцентом. — Дальше поехал.
— Убивать таких надо, — сообщил другой, женский. — Скупили все, понимаешь… Да, да, что вы на
меня так… У, да вы, я вижу, тоже…
Толпа сзади росла, в разговор вступили еще несколько голосов, но я перестал их слышать. Дождь
пошел снова, и по лужам поплыли пузыри, подобные нашим мыслям, надеждам и судьбам,
летевший со стороны леса ветер доносил первые летние запахи, полные невыразимой свежести и
словно обещающие что то такое, чего еще не было никогда. Я не чувствовал горя и был странно
спокоен. Но, глядя на ее бессильно откинутый темный хвост, на ее тело, даже после смерти не
потерявшее своей таинственной сиамской красоты, я знал, что как бы не изменилась моя жизнь,
каким бы ни было мое завтра, и что бы не пришло на смену тому, что я люблю и ненавижу, я уже
никогда не буду стоять у своего окна, держа на руках другую кошку.
Пру Энни - Горбатая гора
(~75 мин., соврем. проза, нетрадиционная любовь
"Эннис дель Мар и Джек Твист, два работника с фермы, встретились во время работы
пастухом и сторожем лагеря, расположенного на Горбатой горе. В начале их связь кажется
невольной и неизбежной, но что-то более глубокое проскальзывает между ними тем летом.
Оба парня трудятся на ранчо, женятся, заводят детей, потому что так делают все ковбои.
Но их нечастые встречи становятся для них самой важной в жизни вещью, и они делают все,
чтобы продолжить свои отношения. Журнал Нью Йоркер получил за публикацию «Горбатой
горы» Национальную журналистскую награду в номинации «Художественная литература», а
сам рассказ завоевал премию О'Генри 1998 года. Ярким, захватывающим языком Пру описывает
сложные и опасные отношения двух ковбоев, которые смогли пережить всё, кроме жестокой
нетерпимости общества.")
Эннис Дел Мар просыпается, когда ещё нет пяти утра. Ветер сотрясает трейлер, со свистом
врываясь в щели вокруг алюминиевой двери и оконных рам, а сквозняк слегка колышет рубашки,
висящие на гвозде. Эннис встаёт, почёсывая седеющие волосы на животе и лобке, и, прошаркав к
газовой плите, выливает вчерашний кофе в эмалированную кастрюльку со сбитыми краями;
пламя окутывает посудину голубым ореолом. Включив воду, он мочится в раковину, потом
натягивает джинсы, рубашку и притопывает каблуками поношенных сапогов, чтобы вогнать в них
ноги как следует. Ветер гудит и воет снаружи, обдувая корпус трейлера и словно бы шлифуя его
пригоршнями песка и мелкой гальки. В такую штормовую погоду, пожалуй, с автоприцепом с
лошадьми на шоссе будет морока. Да, этим утром ему опять надлежит собрать вещи и съехать:
ранчо разорилось, лошадей распродали и рассчитали всех работников. Хозяин, бросив Эннису
ключи, сказал: «Отдашь этому барыге-агенту, а я сматываю удочки». Наверно, придётся какое-то
время перекантоваться у дочери с зятем – пока не подвернётся другая работа, но мысли об этом
смывает волной удовольствия: сегодня Эннису приснился Джек Твист.
Он успевает снять едва не сбежавший кофе с огня и перелить в немытую чашку. Дуя на чёрную
горячую бурду, он продолжает грезить наяву. Если дать этим мыслям волю, они могли бы
продолжаться весь день, воскрешая в его памяти те холодные дни на горе, когда весь мир был у
их ног, и всё казалось прекрасным. Порыв ветра обрушился на трейлер, как огромная куча земли
из самосвала, а потом стих – на время.
Они выросли на маленьких бедных ранчо в противоположных уголках штата Вайоминг: Джек – в
Лайтнинг Флэт, что у границы с Монтаной, а Эннис – в Сэйдже, ближе к Юте. Оба – не
доучившиеся в школе и бесперспективные ребята, грубые, приученные к тяготам нищенской
жизни и умеющие вкалывать. Энниса воспитали старшие брат и сестра, а от родителей,
разбившихся на повороте дороги Дэд Хорс Роуд, им остались только двадцать четыре доллара
наличными и дважды заложенное ранчо. На дорогу в школу Эннису, в четырнадцать лет
получившему права, приходилось тратить целый час. У старого пикапа, на котором он ездил, не
было обогревателя и одного дворника, шины – лысые, а когда сломалась передача, не нашлось
денег на ремонт. Дышащий на ладан пикап сломался, не довезя Энниса до заветной цели –
окончания средней школы, и ему пришлось взяться за работу по хозяйству.
В шестьдесят третьем году – году их с Джеком встречи – Эннис был помолвлен с Алмой Бирс. Оба
парня пытались откладывать деньги; все сбережения Энниса, в количестве двух пятидолларовых
бумажек, хранились в жестяной коробке из-под табака. Той весной, готовые схватиться за любую
работу, через сельскохозяйственное агентство по найму они подрядились вместе пасти овец к
северу от Сигнала; одному из них предстояло стать сторожем, а другому – пастухом. Летнее
пастбище находилось выше границы лесов во владениях лесничества на Горбатой горе. Джек
Твист в прошлом году уже работал здесь, а Эннис устраивался впервые. Обоим ещё не было и
двадцати лет.
Они познакомились в душном, прокуренном трейлере, оборудованном под контору, перед
заваленным бумагами столом, на котором стояла пепельница, до отказа набитая окурками. В
треугольнике света, пробивавшегося сквозь жалюзи, двигалась тень руки нанимавшего их
бригадира – Джо Агирре, пепельноволосого, причёсанного на косой пробор. Он и обрисовал
парням ситуацию.
– Лесничество сдаёт участки специально под лагерь. Только вот лагерь-то находится в паре миль
от места выпаса, так что стадо несёт урон от хищников: некому приглядывать за овцами по ночам.
Я как хочу сделать? Сторож расположится в лагере, а вот пастух, – бригадир ребром ладони
сделал движение в сторону Джека, – пастух поставит маленькую палатку неподалёку от овец и
будет там спать. Завтракать и ужинать в лагере, но спать с овцами – железно! Костров не жечь,
ничего после себя не оставлять. Палатку каждое утро сворачивать, потому что лесники там везде
шастают. Возьмёшь собак, «винчестер» и будешь спать с овцами. Прошлым летом волки с
койотами четверть стада на хрен вырезали, такого мне больше не надо. Ты, – обратился бригадир
наконец к Эннису, цепким взглядом отмечая его большие шершавые руки, всклокоченные
волосы, рваные джинсы и отсутствие пуговиц на рубашке, – по пятницам в полдень являйся к
мосту с мулами и списком того, что вам надо на неделю. Туда вам будут подвозить провиант.
Не спросив, есть ли у Энниса часы, Джо достал из коробки на верхней полке дешёвое круглое
подобие будильника на плетёном шнурке, завёл его, поставил время и небрежно пододвинул
парню, как будто получить что-то прямо в руки было слишком большой честью для такого
оборванца.
– Ну, значит, завтра утром подбросим вас туда.
Куда? Им, двоим оболтусам, было всё равно.
Они забрели в бар и пили пиво целый день. Джек рассказывал, как в прошлый раз молнией убило
сорок две овцы и как воняли их раздувшиеся туши; чтобы находиться там, требовалась целая
прорва виски. Повернув голову, Джек показал Эннису трофей – заткнутое за ленту на шляпе перо
орла, которого он подстрелил. На первый взгляд его кудри и быстрый смешок производили
приятное впечатление; правда, для своего небольшого роста он был полноват в бёдрах, а при
улыбке из его рта торчали кривые зубы – не настолько выпирающие, чтобы Джек мог доставать
ими поп-корн из горлышка кувшина, но довольно заметные. Парень был помешан на родео, и на
его ремне красовалась небольшая пряжка объездчика быков, но сапоги он носил изношенные до
дыр и не поддающиеся ремонту. Больше всего Джек мечтал убраться куда угодно – лишь бы
подальше от своего родного Лайтнинг Флэт.
Эннис, голенастый, с горбоносым узким лицом и слегка впалой грудью, выглядел неряшливо, но
всё это восполнялось в целом мускулистым и сильным телосложением: он был прямо-таки создан
для седла и для драки. Реакциями он отличался необыкновенно быстрыми, зато был
дальнозорок и не читал ничего, кроме каталога седел Хэмли.
Овец и лошадей выгрузили у подножья горы, и по-кавалерийски кривоногий баск показал Эннису
все хитрости навьючивания мулов и закрепления груза на животном – какие делать узлы, как
располагать тюки.
– Только суп лучше не заказывай, – сказал он. – Эти коробки хреново упаковывать.
Три щенка одной из австралийских овчарок ехали в корзине, а самый младший – за пазухой у
Джека: малыш ему понравился. Эннис выбрал себе крупную гнедую по кличке Окурок, а Джек –
кобылу той же масти, оказавшуюся, впрочем, довольно пугливой. В веренице остальных лошадей
Эннису приглянулась мышасто-серая. Подгоняемые пастухами и собаками, тысячи овец с
ягнятами, лошади и мулы мутным потоком хлынули по горной тропе, вьющейся по лесистому
склону и ведущей на открытые всем ветрам луга, полные цветов.
Джек и Эннис поставили большую палатку на предоставленном лесничеством участке, прочно
закрепили кухню и ящики с едой. В первую ночь оба спали в лагере, и Джек брюзжал по поводу
распоряжения ночевать с овцами и не жечь костров; однако ранним утром, ещё засветло, он всё
же оседлал свою гнедую – без лишних слов. Прозрачно-оранжевый рассвет был снизу схвачен
студенистой зеленоватой полоской, а угольно-чёрный склон горы медленно светлел, пока не
слился цветом с дымом от костра, на котором Эннис готовил завтрак. Холодный воздух был свеж и
чист, камушки и комочки земли отбрасывали неожиданно длинные тени, а широкохвойные сосны
покрывали гору мрачноватым малахитовым морем.
Днём Эннис, вглядываясь в луг по другую сторону ущелья, иногда замечал там Джека,
казавшегося крошечным, как муха на скатерти, а Джеку ночью был виден костёр Энниса, красной
искоркой блестевший на огромном чёрном склоне горы.
Однажды Джек приехал позднее обычного, выпил две бутылки охлаждённого пива, поджидавшие
его в мокром мешке в тени палатки, съел две порции тушёнки, четыре твердокаменных бисквита
и банку консервированных персиков, после чего закурил, глядя на закат.
– Дорога занимает четыре часа в день, – сказал он мрачно. – Я еду сюда завтракать, возвращаюсь
к овцам, жду, пока они не улягутся на отдых, еду ужинать, а потом – снова к овцам. И вскакиваю
по десять раз за ночь, отгоняя койотов. Этот чёртов Агирре не имеет права заставлять меня
мотаться туда-сюда. Я не обязан спать с овцами.
– Ну, давай поменяемся, – предложил Эннис. – Я не против пасти овец.
– Нет, вся штука в том, что мы оба должны спать в лагере. А та грёбаная палатка вся провоняла
кошачьей мочой. Или даже чем похуже.
– Я не против с тобой поменяться, – повторил Эннис.
– Говорю тебе, придётся десять раз за ночь этих самых койотов гонять. Можно и поменяться,
только предупреждаю, что готовить я ни хрена не умею. Ну, только если консервы открывать –
справлюсь.
– Ну, значит, ничуть не хуже, чем я. Я правда не против.
Они посидели около часа, отгоняя мрак светом керосиновой лампы, а около десяти Эннис уехал
по сверкающей от инея тропе на Окурке, хорошо умевшем ориентироваться ночью. С собой он
прихватил бисквиты, джем и кофе, чтобы не ездить в лагерь на завтрак.
На следующий вечер, намыливая лицо в надежде, что в бритвенном лезвии осталось хоть
немного остроты, он рассказал Джеку, занимавшемуся чисткой картошки:
– На рассвете койота пристрелил. Здоровенный сукин сын, а яйца у него – как яблоки. Как пить
дать, этот гад утащил парочку ягнят. На вид – верблюда бы сожрал и не подавился. Воды горячей
надо? Тут много.
– Забирай всю себе.
– Ну, тогда я помою всё, что смогу достать, – сказал Эннис, стягивая сапоги и джинсы.
Он растирался зелёной мочалкой для мытья посуды, разбрызгивая воду и заставляя костёр
шипеть. Ни трусов, ни носков он не носил, заметил Джек.
Наконец они поужинали у костра: каждый съел по банке бобов с жареной картошкой, после чего
была распита кварта виски на двоих. Сидя у бревна, с раскалёнными огнём подмётками и
медными заклёпками джинсов, они по очереди прикладывались к бутылке. Искры от костра
взлетали к темнеющему лавандовому небу, прохлада разливалась в воздухе, а они всё курили,
пили, то и дело отходя по малой нужде, и беседовали о разном: о лошадях, родео, торговле
скотом, о всяческих травмах, что им довелось получить. Говорили они также о пропавшей без
вести двумя месяцами ранее подводной лодке «Трэшер» и гадали, каково там было команде в их
последние минуты; потом стали обсуждать всех собак, которые у них были, затем – призыв в
армию, свои родные ранчо, старшего брата Энниса, жившего в Сигнале, и сестру в Каспере. Отец
Джека был когда-то знаменитым мастером скачки на быках, но секретов своих не передавал
никому, даже сыну. Он не дал Джеку ни одного наставления и ни разу не пришёл на его
выступления на родео, хотя в детстве и катал его на овечках. Энниса же интересовали скачки,
которые длились дольше восьми секунд и имели какой-то смысл. Весь смысл – в деньгах, заметил
Джек, и Эннис согласился. В общем, каждый из них уважал мнение собеседника и был рад его
обществу, особенно здесь – в таком месте, где человеческое общество найти сложновато. Трясясь
в седле назад к овцам, в неверном сумеречном свете Эннис думал о том, что это было лучшее
время в его жизни: он мог бы достать луну с неба, если бы ему вздумалось.
Лето продолжалось: они перегнали стадо на новое пастбище и переместили лагерь. Расстояние
между лагерем и овцами увеличилось, равно как и время на дорогу. Эннис умудрялся спать в
седле с открытыми глазами, но стадо оставалось без его присмотра всё дольше. Джек, бывало,
извлекал надрывно-хриплые звуки из губной гармошки, слегка сплющенной от падения с
норовистой гнедой, а Эннис обладал неплохим голосом с хрипотцой, и несколько вечеров подряд
они развлекались пением. Эннис знал неприличный вариант слов песенки «Гнедая Строберри», а
Джек орал дурным голосом «я сказа-а-ал» – из песни Карла Перкинса, но любимым у него был
печальный гимн «Иисус, идущий по воде», которому его научила мать, свято чтившая Троицын
день. Джек выводил этот гимн медленно и заунывно, и ему вторило вдали тявканье койотов.
– Нет, к этим проклятым овцам уже слишком поздно тащиться, – сказал однажды ночью пьяный в
стельку Эннис, ползая на четвереньках.
Уже перевалило за два часа, камни на лугу мертвенно белели в лунном свете, а беспощадный
холодный ветер гулял по траве, низко прибивая жёлтые языки пламени костра и заставляя их
шелковисто трепетать.
– Есть ещё одеяло? Я бы завернулся в него тут и соснул чуток, а с первыми лучами выехал бы.
– У тебя задница замёрзнет напрочь, когда костёр потухнет, – отсоветовал ему Джек. – Лучше иди
в палатку.
– Да ничего моей заднице не будет.
Однако Эннис заполз под полог, сбросил сапоги и захрапел на подстилке палатки. А потом Джек
проснулся от клацанья его зубов.
– Господи Иисусе, прекращай выбивать челюстями дробь и иди сюда, – проворчал он заспанно. –
В постели хватит места.
Да, места там было достаточно, а также тепло, и вскоре простое соседство их тел перешло в
близость. Эннис всегда и быстро запрягал, и шибко ехал; не стал он долго раздумывать и сейчас,
когда Джек схватил его левую руку и поднёс к своему стоящему члену. Эннис отдёрнул её, словно
обжегшись, потом встал на колени, расстегнул ремень, спустил штаны и поставил Джека на
четвереньки. Немного ловкости и слюна для смазки – и он был уже внутри. Ничего подобного он
не проделывал раньше, но инструкций и не потребовалось. Они провернули это молча, не считая
нескольких глубоких судорожных вдохов; Джек выдохнул: «Я разрядился», – после чего они
разъединились, упали и погрузились в сон.
Уже алела утренняя заря, когда Эннис проснулся – со спущенными штанами и Джеком под боком.
О случившемся между ними не было сказано ни слова, но оба знали, как пройдёт остаток лета.
Чтоб этим овцам провалиться!
И это продолжилось. Они не говорили на эту тему вслух, их просто тянуло друг к другу – сначала
только под покровом ночи и палатки, потом уже и днём, под жаркими лучами солнца, а также
вечерами при свете костра. Они предавались утехам грубовато и торопливо, со смехом и
фырканьем – в общем, далеко не бесшумно, но без единого слова по существу происходящего.
Один только раз Эннис сказал:
– Я не педик.
– Так и я тоже не такой, – встрепенулся Джек. – Просто одноразовый трах, и никого, кроме нас, это
не касается.
И это не касалось никого, кроме них. Они парили выше ястребов, в воздухе, пропитанном
горьковатым восторгом, над огоньками автомобильных фар, ползающими на распростёртой внизу
равнине, над лаем собак в ночи – над всей этой обыденностью. Они считали, что их никто не
замечает, но это было не так: Джо Агирре как-то раз целых десять минут наблюдал за ними в
бинокль и видел, как они застегнули джинсы и Эннис поехал на пастбище. После этого Агирре
передал Джеку весть от его родных – мол, дядя Гарольд слёг с воспалением лёгких и, возможно,
его не переживёт. Впрочем, дядя выздоровел, о чём Агирре вновь не поленился сообщить,
вызывающе уставившись на Джека с высоты седла.
В августе Эннис провёл с Джеком целую ночь в лагере, и их овцы, испуганные грозой с градом,
свернули на запад и смешались с другим стадом. Целых пять кошмарных дней Эннис и пастухчилиец, не знавший ни слова по-английски, пытались отделить своих от чужих, что было
практически невыполнимой задачей: нанесённые краской клейма к концу сезона почти стёрлись.
Хоть число овец в стаде было вроде бы верным, но Эннис знал, что чужие среди них всё же
остались. Смешались не только овцы – всё вокруг странным образом перепуталось, лишая Энниса
покоя.
Снег выпал рано – тринадцатого августа, толщиной в целый фут, но быстро растаял. Через неделю
Джо Агирре велел им спускаться: со стороны Тихого океана шла новая, ещё более сильная буря.
Они собрались в спешном порядке и вместе с овцами помчались вниз: камни сыпались у них изпод ног, над головами клубились, надвигаясь с запада, сизые тучи, а в воздухе остро пахло снегом.
Всё вокруг бурлило в адском вихре, сверкали молнии, трава низко стелилась под ветром, зверски
ревевшим над поваленными стволами и расселинами в скалах. Спуск по склону показался Эннису
замедленным, но крутым и безостановочным падением.
Когда настало время расчётов, Джо Агирре был немногословен. Заплатив им, он окинул кислым
взглядом топчущееся стадо и сказал:
– Не все из них поднимались с вами на пастбище.
Пересчитывать овец он даже не стал. Эти охламоны с ранчо никогда не умели делать что-то как
следует, думал он.
– Вернёшься сюда на следующее лето? – спросил Джек Энниса на улице, уже закинув одну ногу в
свой зелёный пикап, обдуваемый пронзительным холодным ветром.
– Может, и нет. – Эннис прищурился от пыли и песка, летевших ему в глаза. – Как я уже говорил,
мы с Алмой собираемся в декабре пожениться. Попытаюсь найти какую-нибудь работу на ранчо.
А ты? – Эннис отводил взгляд от синяка на подбородке Джека, который он ему поставил в их
последний день на горе.
– Может, вернусь, если ничего получше не найду, – ответил Джек. – Пока подумываю отправиться
домой, надо папане помочь зимой. А весной, может, двину в Техас. Если в армию не
заграбастают.
– Ну, тогда, наверно – до скорого.
Ветер гнал по улице пустой пакет, пока тот не залетел под машину.
– Ага, – сказал Джек.
Они обменялись рукопожатием, похлопали друг друга по плечу и расселись по машинам. Их
разделяло уже сорок футов, и ничего не оставалось иного, как только разъехаться в разные
стороны. Отъехав на милю, Эннис ощутил, будто кто-то вытягивал из него кишки – ярд за ярдом,
наматывая на руку. Остановившись у обочины, он попытался выблевать это отвратительное
чувство, но из желудка ничего не вышло. Летел, кружась, свежий снежок. Никогда ещё Эннису не
было так плохо, и прошло немало времени, прежде чем это отступило.
В декабре он женился на Алме Бирс, а к середине января она уже забеременела. Поработав на
ранчо там и сям, Эннис устроился ковбоем на Вершину Элвуд, к северу от Лост Кэбин, в округе
Уошэки. Он всё ещё там работал, когда в сентябре родилась Алма-младшая – так он назвал дочку.
Спальня наполнилась запахами засохшей крови, молока и детских какашек; малышка то вопила,
то чмокала у груди сонно стонавшей Алмы. Для человека, привыкшего работать с домашней
скотиной, все эти звуки и запахи символизировали плодовитость и продолжение рода.
Когда Вершина Элвуд закрылась, они переехали в квартирку над прачечной в Ривертоне. Эннис
устроился в дорожно-ремонтную бригаду, не находя в этой работе особенного удовольствия, а по
выходным трудился на ранчо – за возможность держать там своих лошадей. Родилась вторая
дочка, и Алма пожелала остаться в городе, поближе к больнице, потому что у девочки
обнаружились признаки астмы.
– Эннис, пожалуйста, больше никаких заброшенных ранчо, – попросила она, сидя у него на
коленях и обнимая его худыми веснушчатыми руками. – Давай поселимся в городе.
– Пожалуй, – сказал Эннис, забираясь пальцами под её рукав и вороша пушистые волосы под
мышкой.
Уложив жену на кровать, он скользнул рукой по её рёбрам и студенисто-мягкой груди,
округлостям живота и колена – прямо во влажную щель, после чего двинулся к северу или
экватору – кому как предпочтительнее ориентироваться. Он пощекотал там, пока Алма не
содрогнулась, сопротивляясь, и тогда он перевернул её и быстро совершил с ней то, что она
терпеть не могла.
Они так и остались жить в этой квартирке, которую Эннис выбрал потому, что от неё можно было в
любое время без проблем отказаться. Шёл июнь четвёртого по счёту лета с тех пор, как он
покинул Горбатую гору, когда ему пришло письмо от Джека Твиста. И Эннис ожил – впервые за
всё это время.
«Дружище, это письмо, наверно, здорово запоздало, но надеюсь, ты его получишь. Слышал, что
ты в Ривертоне. Двадцать четвёртого я буду там проездом. Может, по пиву? Я угощаю. Черкни мне
пару строк, где ты и как».
Письмо пришло из Чайлдресса, штат Техас. Эннис ответил: «Всегда рад», – и надписал свой адрес.
Утро того дня было солнечным и жарким, но к полудню воздух сгустился, а с запада надвинулись
тучи. Эннис не знал точного времени, когда приедет Джек, а потому отпросился на работе на весь
день. В своей лучшей рубашке, белой в широкую чёрную полоску, он расхаживал взад-вперёд и
выглядывал на улицу, посеревшую от пыли. Алма говорила что-то насчёт того, чтобы оставить
детей с няней и сходить всем вместе в ресторан: готовить ужин ей не хотелось из-за жары, но
Эннис ответил, что, скорее всего, он с Джеком просто сходит куда-нибудь и напьётся.
– Джек – не любитель ресторанов, – пояснил он, вспоминая о грязных ложках, засунутых в
пристроенные на бревне консервные банки с холодными бобами.
Ближе к вечеру под ворчание грома во двор въехал знакомый зелёный пикап, и из него вышел
Джек – в потёртой, видавшей виды шляпе, сдвинутой на затылок. Энниса будто окатило горячей
волной, и он выскочил на лестничную площадку, захлопнув за собой дверь, а Джек уже бежал к
нему, перескакивая через ступеньку. Схватив друг друга за плечи, они обнялись так крепко, что и
не вздохнуть, всё повторяя: «Сукин ты сын, сукин ты сын!» Их губы притянулись друг к другу, будто
мощным магнитом, и слились – крепко, смачно, даже до крови (виной тому были кривые зубы
Джека). Шляпа Джека свалилась. Вжимаясь друг в друга всем телом, наступая друг другу на ноги и
царапаясь щетиной, они не заметили, как Алма на пару мгновений приоткрыла дверь, увидела
напряжённые плечи Энниса и тут же её закрыла.
Наконец они разжали удушающие объятия, чтобы глотнуть воздуха, и Эннис, обычно скупой на
ласку, прошептал Джеку «малыш» – так он называл только своих дочерей и лошадей.
Дверь снова приоткрылась, и в узкой полоске света показалась Алма. Что он мог ей сказать?
– Алма, это Джек Твист. Джек, это моя жена Алма.
Эннис еле сдерживал тяжело вздымающуюся грудь. Вдыхая знакомый запах Джека – крепкую
смесь табака, пота и еле приметного аромата луговой травы, он вновь ощущал порывистоветреный холод Горбатой горы.
– Алма, мы с Джеком не виделись четыре года, – сказал Эннис оправдывающимся тоном. Хорошо,
что на площадке было сумрачно: не приходилось отворачиваться.
– Да уж, оно и видно, – пробормотала Алма тихо. Она всё видела. В окне комнаты за её спиной
белым сполохом сверкнула молния, и из квартиры послышался детский плач.
– У тебя ребёнок? – Джек дрожащей рукой стиснул руку Энниса, и между ними будто проскочил
электрический разряд.
– Две маленькие дочурки, – ответил Эннис. – Алма-младшая и Франсина. Обожаю их.
При этих словах Алма криво усмехнулась.
– У меня – парень, восемь месяцев, – сказал Джек. – В Чайлдрессе я женился на техасской
красотке по имени Лурин.
Его трясло так, что пол под ногами Энниса вибрировал.
– Алма, мы с Джеком пойдём прогуляться и выпить, – сказал Эннис. – Не теряй, если загул
затянется до завтра: нам надо о многом поболтать.
– Да уж, само собой, – ответила жена, доставая из кармана доллар на сигареты: видимо, она
надеялась этим поручением вернуть Энниса домой пораньше.
– Приятно было познакомиться, – проговорил Джек, дрожа, как загнанная лошадь.
– Эннис... – несчастным голосом окликнула Алма.
Но это его не остановило. Сбегая вниз по лестнице, он крикнул:
– Если тебе надо сигареты, возьми в кармане моей голубой рубашки, которая в спальне!
Они отъехали на машине Джека. По дороге была куплена бутылка виски, а через двадцать минут
кровать в номере мотеля «Сиеста» сотрясалась от их страсти. В оконное стекло сыпанул град,
потом забарабанил дождь, разводя на улице слякоть, а ветер всю ночь хлопал незапертой дверью
соседнего номера.
В комнате стояла вонь спермы, табака, пота и виски, смешанная с запахами старого ковра и
прелого сена, седельной кожи, навоза и дешёвого мыла. Эннис лежал раскинувшись и переводя
дух, взмокший и обессилевший, а Джек рядом пускал кверху мощные, как китовый фонтан,
струйки сигаретного дыма.
– Господи, твою мать! Как же хорошо снова быть в седле, – сказал он. – Да ведь? Богом клянусь, я
даже не думал, что всё снова повторится... Да нет, что там, вру – знал, конечно. Потому и мчался к
тебе сломя голову.
– Где тебя только черти носили все эти четыре года, – проговорил Эннис. – Я уж и не надеялся тебя
снова увидеть... Думал, ты обиделся на меня за ту мордотычину.
– Приятель, я в Техасе в родео участвовал, – ответил Джек. – Там и встретил Лурин. Глянь-ка, что
вон там висит.
На спинке замызганного стула сияла пряжка.
– Скачки на быках?
– Ага. Три чёртовы тысячи долларов в тот год заработал. Чуть с голоду, блин, не сдох. Жил в долг
так, что только зубная щётка своя была. Весь Техас исколесил, а этот дебильный пикап просто
задолбался чинить. Но о проигрыше даже мысли не допускал. Лурин? За ней стоят серьёзные
деньжата: у её папаши – фирма по производству сельхозтехники. Но бабки свои он при себе
держит, а меня люто ненавидит. Так что не больно-то и много там можно урвать, но ничего – мы
ещё посмотрим, кто кого.
– Что ж, значит, у тебя всё пучком, – сказал Эннис. И спросил: – В армию как – не загребают?
Гроза уходила на восток, на прощание озаряя небо алыми вспышками.
– Проку им от меня – шиш: у меня позвонки травмированы и трещина в руке, – ответил Джек. –
Скачки доканывают, сам знаешь – медленно, но верно. Там трещина, здесь перелом... Как ни
затягивайся – а всё равно понемногу раздолбит. Болит это всё, скажу я тебе – охренеть можно. А
ногу аж в трёх местах ломал. Бык меня сбросил – здоровенный такой племенной бычараосеменитель. В три секунды управился: сбросил и погнался за мной. Ну и, конечно, догнал, мать
его за ногу. Мне ещё повезло, а вот одному моему приятелю – не очень. Померили ему уровень
масла бычьим рогом, так сказать... Ну, и ещё куча всяких болячек: растяжения там, рёбра,
разрывы связок и прочая хрень.
Помолчав, Джек добавил:
– Сейчас с родео всё обстоит не так, как во времена моего отца. Чтобы участвовать, нужны деньги.
Парни побогаче поступают в колледж, тренируются. А тесть мой, скупердяй, чёрта лысого даст...
Ну, если не даст дуба, конечно. Кроме того, я уж достаточно в этом деле покрутился, так что знаю
– чемпионство мне по-любому не светит. Лучше уж выйти из игры, пока не стал инвалидом.
Эннис притянул к себе руку Джека с сигаретой, затянулся.
– Ну, с тобой всё ясно. А я вот тут всё думаю, пытаюсь разобраться. Я же не этот самый... ну, ты
понимаешь. У нас же с тобой жёны, дети и всё такое. С женщинами мне тоже нравится, но, чёрт
побери, с ЭТИМ – ничто не сравнится! Нет, у меня даже в мыслях не было сделать это с другим
мужиком, но вот когда о тебе думал – сто раз кончал. А ты, Джек? У тебя другие парни, кроме
меня, были?
– Ты спятил? Нет, конечно! – рассерженно отозвался тот. – Горбатая нас затянула по полной
программе и вряд ли даст нам свернуть с этой тропы. Вот только надо теперь решить, что нам со
всей этой ерундой дальше делать.
– Тем летом, – проговорил Эннис, – когда мы получили деньги и разъехались, меня просто
вывернуло наизнанку. Я думал – сожрал что-то не то в Дюбуа, остановился и хотел проблеваться у
обочины, да не в еде было дело. Только через год я допёр, что это такое: тебя я не хотел
отпускать. Но было слишком поздно.
– Дружище, – сказал Джек. – Мы здорово влипли с тобой. Давай думать, как быть дальше.
– Сомневаюсь, что мы сможем что-то придумать, – ответил Эннис. – Понимаешь, Джек, за эти
годы у меня появилась другая жизнь. Я люблю моих дочек. А Алма... Она ни в чём не виновата. У
тебя тоже жена и сын в Техасе. Не знаю... Поведи мы себя вот так в неподходящем месте – нам не
жить. – Эннис имел в виду тот порыв страсти, что внезапно накатил на них при встрече на
лестнице. – А в узде чувства сдержать невозможно. Вот что меня пугает до смерти.
– Я вот думаю, друг, что тем летом нас видели, – сказал Джек. – На следующий сезон я там
побывал – хотел наняться опять, но дело не выгорело, пришлось искать счастья в Техасе. Так вот,
этот Джо Агирре и говорит мне: «Ну что, ребятки, нашли способ весело провести там время, а?» Я,
конечно, промолчал, но когда проходил мимо его машины, приметил там бинокль.
Джек не упомянул, впрочем, что Агирре добавил ещё. А тот, откинувшись на спинку скрипучего
стула, дал ему от ворот поворот со словами: «Я вам, голубчики, не за то платил, чтобы вы, оставив
стадо на одних только собак, сами развлекались вовсю!»
– Да, – прибавил Джек вслух. – Тот твой ударчик меня застал врасплох. Не ожидал я, что ты на
такое способен.
Эннис рассказал:
– У меня есть брат – на три года меня старше. Так вот, он донимал меня каждый божий день. Отцу
надоело моё нытьё, и он однажды сказал мне так: «Эннис, свою проблему ты должен решить сам,
иначе она так и останется с тобой до самой старости». А я ему отвечаю, мол, брат-то ведь больше
меня. А отец мне: «Застань его врасплох, всыпь ему как следует и делай ноги. И повторяй это,
пока до него не дойдёт. Раз он не понимает по-хорошему – по-плохому поймёт уж наверняка». Ну,
я так и сделал. Сперва я подкараулил брата во дворе, прыгнул на него с лестницы, а ещё оттрепал
хорошенько, подкравшись к нему, пока тот спал. И с тех пор он стал тише воды, ниже травы. Вся
штука в том, что проучить надо быстро, жёстко и без лишних слов.
В соседнем номере зазвонил телефон. Он трезвонил и трезвонил беспрестанно, пока наконец не
стих внезапно на середине звонка.
– Больше ты меня не подкараулишь, – усмехнулся Джек. – Я вот что думаю... Было бы здорово
завести своё ранчо, торговать скотом помаленьку. Взяли бы туда твоих лошадей. Из родео я точно
уйду – я же не идиот какой-нибудь, чтобы продолжать калечиться дальше или, не приведи Бог,
угробить себя насмерть. Только если я брошу это дело, я останусь на мели. Но ничего – вместе мы
справимся, я кое-что надумал. Папаша Лурин, как пить дать, с радостью отстегнёт мне отступных,
если я свалю из их семейки. В общем-то, он уже дал мне это понять...
– Э-э, нет, так не пойдёт! Нельзя так. Я прочно застрял, Джек, и мне не выпутаться. Эти парни, ну,
ты знаешь, какие... Я не хочу быть как они. И шкура моя пока ещё мне дорога. Знаешь, жили у нас
когда-то по соседству двое таких ребят – Эрл и Рич. Отец всякий раз отпускал шуточки, когда их
видел. Над ними все насмехались, хоть они и были оба весьма крутыми парнями. А кончилось
всё... В общем, когда мне было лет девять, Эрла нашли мёртвым в канаве. Его избили
монтировкой, привязали за член и таскали волоком по острым камням, пока тот не оторвался. Всё
его тело и лицо после этого было сплошным кровавым месивом – как жареный помидор.
– Ты это видел?
– Отец водил меня с братом посмотреть на труп. Помню, он ещё смеялся... Уверен, он во всём
этом тоже участвовал, чёрт бы его побрал. Да если бы он был сейчас жив и заглянул в эту комнату,
то точно бы схватился за монтировку. Чтобы два парня жили вместе? Никогда в жизни. Всё, что
нам остаётся – это встречаться изредка тайком, где-нибудь у чёрта на куличках...
– Изредка – это как, по-твоему? – спросил Джек. – Один раз в четыре долбаных года?!
– Нет. – Стоило ли сейчас искать виноватых? Эннис решил – нет смысла. – Чёрт, думаешь, я
радуюсь тому, что утром ты уедешь, а мне идти на работу? Когда изменить ничего нельзя,
остаётся только смириться... Тьфу ты! Хоть у людей спрашивай, что делать. Думаешь, с кем-то ещё
такое случалось?
– Не знаю, в Вайоминге, наверно, ни с кем. А даже если и случалось, то я понятия не имею, как
они с этим разбирались. Наверно, валили в Денвер. – Джек сел, устало отвернувшись от Энниса. –
Да плевать хотел я на всё это... Эннис, сволочь ты моя, ну возьми пару отгулов, а? Прямо сейчас.
Собирай манатки, кидай в мою машину и рванём в горы! Всего на пару деньков. Позвони жене,
скажи, что уезжаешь. Ну же! Ты растравил мне душу – так дай хоть какое-то утешение. Это вопрос
жизни и смерти!
За стеной опять гулко зазвонил телефон, и Эннис, словно бы отвечая на звонок, поднял трубку и
набрал свой собственный номер.
В отношениях Энниса с женой начался разлад. Скандалов не было – просто молчаливое
отдаление. Расходы семьи росли, и Алма устроилась в магазин продавцом. Не желая снова
забеременеть, она попросила Энниса пользоваться презервативами, но он отказался. И добавил,
что с радостью больше не притронется к ней, если Алма не хочет от него детей. А она со вздохом
сказала:
– Я бы рада завести ещё, если ты сможешь их прокормить.
А мысленно добавила: «От того, чем ты любишь заниматься, детей не бывает».
Недовольство, которое началось с подсмотренной ею сцены на лестнице, росло год от года.
Примерно каждые шесть месяцев Эннис уезжал на рыбалку с Джеком Твистом, а с нею и с
девочками не проводил отпуск никогда; он не любил развлечений и убивал кучу времени на
низкооплачиваемую работу на ранчо, вместо того чтобы найти что-то более достойное и
постоянное – например, в какой-нибудь муниципальной конторе или электрокомпании. Он имел
обыкновение отворачиваться к стене и засыпать, едва коснувшись головой подушки. Всё это
угнетало Алму, и в конце концов, когда девочкам исполнилось девять и семь лет, она решилась
подать на развод, а потом вышла замуж за бакалейщика.
Эннис вновь стал трудиться на ранчо, нанимаясь то на одно, то на другое. Пусть платили там
немного, но он был рад снова вернуться к возне с домашним скотом. Он с лёгкостью менял места
работы и мог по малейшему желанию укатить в горы. Тяжёлого горя он не испытывал, просто
смутно чувствовал себя обманутым, но как ни в чём не бывало пришёл на праздничный обед в
День Благодарения к своей бывшей семье, главой которой теперь стал бакалейщик Алмы. Сидя
между дочерьми, он рассказывал им о лошадях, шутил и смеялся, стараясь не казаться грустным и
брошенным.
После того как был съеден пирог, Алма позвала Энниса с собой на кухню. Моя тарелки, она
сказала, что беспокоится за него и считает, что ему надо бы опять жениться. Она снова была
беременна – на четвёртом или пятом месяце.
– Обжёгся один раз, – ответил Эннис, прислоняясь к рабочей поверхности возле раковины. Кухня
почему-то казалась ему тесной.
– Всё ещё рыбачишь с Джеком Твистом? – спросила Алма.
– Бывает, – ответил он.
Алма тёрла тарелку так, будто пыталась соскрести с неё рисунок.
– Знаешь, – начала она, и в её тоне Эннис почуял недобрые нотки, – я всё гадала, почему ты ни
разу не привёз домой хоть немного форели, хотя всегда рассказывал, что улов был огромный.
Однажды вечером, перед одной из этих твоих поездочек я открыла садок для рыбы, купленный
пять лет назад... На нём, кстати, всё ещё висел ценник. Я привязала к леске записку: «Привет,
Эннис, привези домой рыбы. С любовью, Алма». А потом ты вернулся и сказал, что вы наловили
целую кучу рыбы, но всю съели сами, помнишь? Улучив момент, я заглянула в садок, а там
осталась моя записка – совсем сухая, без единой капли воды.
Произнеся слово «вода», Алма пустила её из крана, ополаскивая тарелки.
– Это ни о чём не говорит.
– Не лги мне, не держи меня за дурочку, Эннис! Говорит, и ещё как. Джек Твист? Джек Развратник.
Я знаю, ты с ним...
Это было уже слишком. Эннис до боли стиснул её запястье.
– Замолчи, – процедил он. – Это не твоего ума дело, ты ничего не понимаешь.
Из глаз Алмы катились слёзы, тарелка в дрожащей руке стучала о мойку.
– Я закричу... Позову Билла.
– Давай, попробуй! Мне пох**! Пикнешь – заставлю вас обоих вылизывать ваш грёбаный пол!
Вывернув руку Алмы напоследок ещё раз, он выпустил её, оставив на запястье бывшей жены
горящий след своего пожатия. Нахлобучив на ходу шляпу и хлопнув дверью, он отправился в бар
«Чёрно-синий орёл», напился и подрался.
Эннис долгое время не искал встреч с дочерьми, полагая, что с возрастом, став
самостоятельными, они всё поймут и сами найдут его. Ни он, ни Джек уже не были молодыми
ребятами, у которых вся жизнь впереди. Джек раздался вширь, а Эннис остался всё таким же
худым, как вешалка. Круглый год он ходил в одних и тех же старых сапогах, рубашках и джинсах,
разве что в зимние холода надевал ещё парусиновую куртку. Небольшое доброкачественное
новообразование отягощало веко на одном глазу, а сломанный нос был свёрнут набок.
Год за годом они объездили верхом все окрестные горы и луга: побывали на Биг Хорн, Медисин
Боу и южной оконечности хребта Галлатин, не раз обследовали горы Абсарока, Гранит, Оул Крик,
Бриджер-Тетон Рэйндж, Фризаут и Ширли, Феррис и Рэттлснейк, Солт Ривер Рэйндж, Винд Ривер.
Не обошли они вниманием и Сьерра-Мадре, Грос-Вентре, Уошэки, Ларами, но на Горбатую гору
никогда не возвращались. В Техасе умер тесть Джека, и Лурин, унаследовав его бизнес,
обнаружила талант к управлению делами и заключению контрактов. Джек получил должность с
непонятно-вычурным названием и разъезжал по выставкам скота и сельхозтехники. Теперь у него
водились деньги, которым он успешно находил применение. Разговаривал Джек, произнося
некоторые слова на техасский манер, а кривые зубы подправил – это, как он говорил, было
совсем не больно. Вдобавок ко всему этому он отрастил густые усы.
В мае восемьдесят третьего они несколько дней мёрзли на безымянных горных озёрах, скованных
льдом, а потом пересекли долину реки Хэйл Стрю. На подъёме солнце пригрело и тропа раскисла,
а потому им пришлось идти в обход, карабкаясь с лошадьми через валежник. На Джеке была
старая шляпа с орлиным пером; подняв голову, он вдохнул нагретый полуденный воздух,
пропитанный ароматом смолы и хвои, а под копытами лошадей хрустели можжевеловые ветки.
Эннис, наблюдательный по части погоды, выискивал на западе кучевые облака, но небо синело
такой чистой и мягкой глубиной, что, по словам Джека, в нём можно было утонуть.
К трём часам они пробрались по узкому проходу на юго-восточный склон, открытый лучам
весеннего солнца, и снова вышли на уже очистившуюся от снега тропу. До их слуха доносилось
журчание реки, заглушавшее отдалённый шум поезда. Спустя двадцать минут они вспугнули
медведя барибала, который на берегу реки перекатывал бревно в поисках жуков. Гнедая Энниса
лишь нервно затопталась, фыркая, но храбро выстояла, а лошадь Джека испуганно взвилась на
дыбы.
– Тпррр, тихо! – пытался успокоить её Джек.
Он потянулся за своей винтовкой «спрингфилд», но необходимость в ней уже отпала: испуганный
барибал ускакал в лес неуклюжим медвежьим галопом, от которого вся его туша сотрясалась,
словно готовая развалиться на куски. Вздувшаяся и коричневая от таяния снегов река неслась
мощным потоком, окутывая камни белыми шлейфами бурунов и вовлекая в течение даже тихие
заводи. Ивы лениво покачивались, и на фоне их охристой коры пушистые серёжки были похожи
на желтоватые отпечатки чьих-то пальцев. Лошади принялись пить, и Джек, спешившись, тоже
зачерпнул горстью ледяную воду. Роняя с пальцев прозрачные капли, он поднёс воду ко рту. Его
губы и подбородок влажно заблестели.
– Ещё подхватишь каких-нибудь червячков себе в печёнку, – заметил Эннис. И добавил, окинув
взглядом уступ на берегу реки со старыми следами от охотничьих костров: – Хорошее место.
За уступом отлого поднимался луг, ограждённый соснами. Сухостой был здесь в изобилии, и они,
привязав лошадей, без лишних слов разбили лагерь. Джек распечатал виски и сделал большой
обжигающий глоток, шумно выдохнул и передал бутылку Эннису со словами:
– Это как раз то, что мне сейчас нужно.
На третье утро с запада набежали облака, которых ждал Эннис. Стало сумрачно, задул ветер, и
полетели мелкие белые хлопья. Лёгкий весенний снегопад закончился через час, оставив на
земле мокрые сугробы. К ночи похолодало. Джек с Эннисом долго жгли костёр, передавая друг
другу косячок с травкой; Джек, жалуясь на холод, не находил себе места – то ворошил палкой
огонь, то крутил ручку транзисторного радиоприёмника, пока не сели батарейки.
Эннис рассказал, что он пытался встречаться с женщиной, работавшей на полставки в баре
«Волчьи уши» в Сигнале, где он работал в ковбойской бригаде на ферме Стаутмайера. Однако
женщина оказалась обременена какими-то проблемами, и отношения с ней у него зашли в тупик.
Джек поведал, что закрутил интрижку с женой хозяина ранчо по соседству и в последние
несколько месяцев жил в ожидании, что его убьёт либо Лурин, либо сосед-рогоносец.
– Ну и поделом тебе, – засмеялся Эннис.
А Джек ответил:
– Вроде бы дела в целом идут нормально, вот только по тебе страшно скучаю – хоть волком вой
на луну.
В темноте, окутывавшей всё за пределами костра, слышалось лошадиное ржание. Эннис, обняв
Джека за плечи и крепко прижав к себе, рассказал:
– С девчонками моими я вижусь раз в месяц. Алме-младшей уже семнадцать, она застенчивая,
высокая и худая как жердь – вся в меня... А Франсина – этакий маленький живчик.
– А у моего пацана, кажется, дислексия или что-то наподобие этого, – посетовал Джек, скользнув
холодной рукой к ширинке Энниса. – Пятнадцать лет ему уже, а он всё никак не научится толком
читать, вечно у него всё путается... Ясно же, как божий день, что у парня проблемы, но эта тупая
стерва Лурин делает вид, что всё нормально и отказывается хоть что-нибудь предпринять. Даже
вот, блин, не знаю, как быть... Всеми деньгами распоряжается она.
– Вообще-то, я когда-то хотел сына, – сказал Эннис, расстёгивая пуговицы. – Но получались только
девочки.
– А я вообще никого не хотел, – признался Джек. – Но так, чтоб по-моему – ни хрена не
получалось. Ни разу в жизни ничего не вышло, как надо.
Не вставая на ноги, он подбросил в костёр сухих веток, так что огненные искры взвились в небо,
перепутывая правду и ложь, и уже в который раз обожгли им руки и лица. Джек и Эннис скатились
на землю. Искрящийся восторг от их нечастых встреч неизменно омрачался чувством, что время
бежит со страшной скоростью и его всегда мало, слишком мало.
Через пару дней грузовик с лошадьми уже стоял на парковке у начала горной тропы: Эннис
возвращался в Сигнал, а Джек собирался в Лайтнинг Флэт – повидаться с отцом. Эннис,
нагнувшись к окну машины, сказал то, что держал в себе целую неделю:
– Скорее всего, в следующий раз я смогу выбраться только в ноябре. Пока не отстреляемся с
продажей скота и заготовкой корма, отпуск взять не получится.
– В ноябре? А как же август, чёрт возьми? Мы же договорились – в августе, девять-десять дней!
Господи, Эннис, и ты молчал?! Ходил, гад, всю неделю, словно воды в рот набрав! И почему мы
всё время встречаемся в такой собачий холод? С этим надо что-то делать. Съездить как-нибудь на
юг... В Мексику, а?
– Мексика? Джек, ты же знаешь, путешественник я тот ещё – из своих родных мест носа в жизни
не высовывал. Да и весь август я буду горбатиться на заготовке корма – в том-то всё и дело. Ну,
Джек, не расстраивайся... В ноябре славно поохотимся, лося завалим. Может, попробую опять
уговорить Дона Роу сдать нам хижину. Здорово в том году было, да?
– Слушай, дружище, мне всё это чертовски не нравится. Раньше ты был лёгок на подъём, а теперь
легче с Папой Римским встретиться, чем с тобой.
– Не так всё просто, Джек. Раньше-то я мог бросить работу, когда мне вздумается. У тебя богатая
жена, хорошая должность, и ты забыл, каково это – быть на мели. Ты когда-нибудь слышал про
алименты? Я их плачу из года в год, и конца этому не видно. Эту работу я бросить не могу, даже
отпуск взять не получится. Я и сейчас-то со скрипом вырвался – коровы там ещё телятся, горячая
пора. Когда я пришёл отпрашиваться, хозяин так разорался! Скандалист он, конечно, но я на него
не в обиде: ему там, наверно, даже прилечь некогда – дел по горло, а рук не хватает. А в августе –
продажа. Ну, что, есть какие-нибудь идеи?
– Были... когда-то, – проговорил Джек с горечью.
Эннис молча выпрямился, потирая лоб. Лошадь топнула копытом в прицепе. Он подошёл к
грузовику, приложил руку к бортику прицепа и шепнул что-то лошадям, а потом медленно побрёл
обратно.
– А ты уже ездил в Мексику, Джек? – спросил он.
Эннис знал: Мексика была злачным местом для таких, как они. Расстояние между ним и Джеком
угрожающе сокращалось.
– Ну, ездил, и что? В чём проблема-то, не понимаю?
Этот вопрос мучил Энниса всё время, с самого начала и по сей день. И вот он, ответ.
– Скажу тебе на полном серьёзе, Джек, и повторять не буду. Может, я чего-то не знаю... Но если я
узнаю, что у тебя БЫЛО с кем-то за моей спиной – убью.
– А теперь ТЫ послушай, что я скажу, – ответил Джек. – И тоже не буду повторять. Мы могли жить
вместе счастливо, чёрт побери, могли! Но ты не захотел. И теперь всё, что у нас осталось – это
Горбатая гора. Да, приятель, всё хорошее, что у нас было, осталось там. Надеюсь, ты понимаешь
хотя бы это, если не хочешь понять больше ничего. Прежде чем спрашивать меня про Мексику и
угрожать убийством, сосчитай сначала – сколько раз мы встретились за эти двадцать лет? Ты
думаешь, мать твою, мне хватает этого одного – максимум двух раз в год? Я – не ты, мне мало
того голодного пайка, на котором ты меня держишь. Сволочь ты, Эннис. С меня хватит. Послать бы
тебя к чёрту...
Всё, что за эти годы осталось невысказанным, и чему теперь уже вряд ли суждено было облечься в
слова – признания, объяснения, стыд, вина, страх – всё это окружило их стеной, как клубы густого
пара от гейзера в зимнюю стужу. Эннис стоял как вкопанный, стиснув кулаки, с закрытыми
глазами и посеревшим лицом, на котором глубже обозначились морщины, а потом его ноги
подогнулись, и он рухнул на колени.
– Господи, – пробормотал Джек. – Эннис, ты что?
Но прежде чем он успел выскочить из машины, гадая, сердечный ли то был приступ или же
приступ жгучей ярости, Эннис уже поднялся на ноги. Прямой, будто аршин проглотил, он добрался
до своей машины, открыл её и сел внутрь. Снова они пришли к тому, от чего пытались уйти.
Ничего нового они не открыли, ничто не закончилось, не началось, не разрешилось.
Джеку вспомнилось с безотчётной тоской, как однажды тем далёким летом на Горбатой горе
Эннис подошёл к нему сзади, обхватил и притянул к себе – молча, без тени намёка на похоть. Они
долго так стояли у костра, плясавшего красными языками пламени, и тени от их фигур на скале
сливались в одно целое. Круглые часы в кармане Энниса отсчитывали минуты, тут же сгоравшие
дотла на костре. Звёздный свет пробивался сквозь густое жаркое марево, колыхавшееся над
огнём. Эннис, тихо и размеренно дыша, слегка покачивался в блеске звёздного шатра и негромко
напевал, не разжимая губ. Джек, прислонившись к нему спиной, ощущал спокойное биение его
сердца, и под это мычание, напоминавшее тихое гудение электричества, впал в какое-то подобие
транса. Наконец Эннис произнёс старые как мир слова, выудив их из детских воспоминаний:
«Пора в люльку, ковбой. Поеду я... Ты тоже иди на боковую, а то уже спишь стоя, как конь».
Встряхнув и шутливо пихнув Джека, он ушёл. Послышался звон его шпор и тихое «до завтра»,
потом коротко фыркнула лошадь, и цоканье копыт по камням стихло во мраке.
Это полусонное объятие отпечаталось в памяти Джека – единственный миг светлого,
простодушно-завораживающего счастья в их нелёгких судьбах. Этот образ не омрачался даже
мыслью о том, что Эннис не обнимал его, глядя ему в лицо – наверно, чтобы не видеть, КОГО он
обнимает. Так у них всю жизнь и было. Ну что ж, пусть.
Эннис узнал о несчастном случае только спустя несколько месяцев – когда его открытка, где он
писал, что с нетерпением ждёт ноября, вернулась обратно со штемпелем «адресат умер». Он
набрал техасский номер Джека – всего во второй раз в жизни. Впервые это было как раз после
развода с Алмой; Джек тогда неправильно его понял и проделал к нему путь в тысячу двести миль
на север – увы, впустую.
Эннису не суждено было услышать голос Джека, отвечающий утвердительно на его приглашение.
В трубке послышался голос Лурин.
– Кто? Кто это? – спросила она.
Эннис назвался, и она рассказала, что это произошло на загородной дороге: Джек накачивал
шину, но она лопнула, и обод, отлетев ему в лицо, сломал Джеку нос и челюсть. Лёжа на спине
без сознания, он захлебнулся собственной кровью до прибытия помощи.
Нет, подумал Эннис. Это были монтировки.
– Джек говорил о вас, – сказала Лурин. – Вы с ним рыбачили и охотились, я помню. Я бы сообщила
раньше, но Джек держал имена и адреса своих друзей только в голове, никуда не записывая. Всё
это так ужасно... Ему было только тридцать девять.
Бескрайняя печаль северных равнин накрыла Энниса, налетел холодный ветер и загудел в ушах.
Он не знал, были ли это удары монтировки или действительно нечастый случай. Кровь лилась
Джеку в горло, и никого не было рядом, чтобы его перевернуть. Стальной обод врезался в лицо,
ломая кости, а потом ещё долго звенел и вертелся на асфальте...
– Где его похоронили? – спросил Эннис, а с его губ было готово сорваться проклятие в адрес жены
Джека. Она не спасла его, дав ему умереть на той проклятой дороге.
Её техасский голосок прожурчал по телефонной линии:
– Мы поставили памятник. Он хотел, чтобы его кремировали, а прах развеяли на Горбатой горе. Я
не знаю, что это за место. Его кремировали и половину праха похоронили здесь, а половину я
отослала его родителям. Я подумала, что Горбатая гора – это где-то там, в его родных местах. А
может, какое-то выдуманное место, где поют птички и льются реки виски – это вполне в его духе.
– Мы там с ним пасли овец однажды летом, – с трудом выговорил Эннис.
– А, понятно... Он говорил, что это его любимое место. Мне показалось, что он имеет в виду какойнибудь притон, где он напивался. Он вообще частенько выпивал.
– Его родители всё ещё живут в Лайтнинг Флэт?
– Да, конечно. Они никуда оттуда не денутся, до самой смерти. Я никогда их не видела, они даже
не приезжали на похороны. Если вы с ними свяжетесь, передайте им, пожалуйста, последнюю
волю Джека.
Несомненно, она держалась безупречно вежливо, но в её голоске звенел лёд.
Дорога к Лайтнинг Флэт пролегала по безлюдной местности. Каждые восемь-десять миль
встречались заброшенные ранчо с пустыми домами, окружёнными высокой травой и
поваленными изгородями. На почтовом ящике Эннис увидел надпись: «Джон С. Твист». Нищее
ранчо заросло молочаем, а о состоянии скота издали судить было трудно: он смог разглядеть
лишь масть – чёрно-белую, «блэк болди». Коричневый оштукатуренный домишко состоял из
четырёх комнат, по две на каждом из этажей.
Эннис сидел за кухонным столом с отцом Джека. Мать, полная женщина с осторожными, словно
после операции, движениями, предложила:
– Кофе будете? Может, кусок вишнёвого пирога?
– Спасибо, мэм, кофе – можно, а есть я сейчас не могу.
Старик сидел молча, сложив руки на пластиковой скатерти и глядя на Энниса с осознанной
неприязнью и вызовом – не иначе, он что-то знал. Эннис отнёс бы его к тому типу людей, которые
считают, что на свете есть только два мнения: одно – их, другое – неправильное. Ни на одного из
родителей Джек не походил.
Собравшись с духом, Эннис проговорил:
– То, что случилось с Джеком – ужасно. Всех слов на свете мало, чтобы сказать, насколько я этим
потрясён. От его жены я узнал, что он хотел, чтобы его прах был развеян на Горбатой горе... Я
почту за честь это сделать, если вы позволите.
В ответ – молчание. Эннис прочистил горло, но ничего не сказал. Наконец отец Джека ответил:
– В общем, такое дело. Я знаю, где эта ваша чёртова Горбатая гора. Джек, видно, считал себя
каким-то особенным, раз не захотел быть похороненным дома.
Мать, не обращая внимания на эти слова, сказала:
– Джек приезжал домой каждый год, даже после того как женился в Техасе... Помогал отцу на
ранчо, всё по дому делал, ворота починил. Его комната осталась в том виде, в каком она была в
его детстве. Если хотите её посмотреть – пожалуйста.
Отец рассердился:
– Вот ещё, выдумала! Джек все уши прожужжал своим Эннисом Дел Маром. Всё обещал, что
однажды привезёт его сюда, и они вместе приведут это треклятое ранчо в порядок. У него была
такая бредовая идея – чтобы вы поселились тут вдвоём в деревянном домике и стали работать по
хозяйству. А потом весной он пообещал привезти сюда другого, какого-то своего техасского
соседа по ранчо – тоже, мол, чтобы построить дом и помогать мне с хозяйством. Сказал даже, что
разведётся с женой и переедет обратно домой. Вот так вот он говорил. Но, как и большинство его
затей, это так и осталось на словах.
Теперь Эннис был уверен: всё-таки – монтировка. Встав, он сказал, что очень хотел бы посмотреть
комнату. А ещё ему вспомнилась одна из историй, рассказанных Джеком о своём старике.
Джек был обрезан, а его отец – нет. Это анатомическое несоответствие сын открыл случайно.
Четырёхлетним малышом он не успевал добежать до туалета по малой нужде: пока он путался с
пуговицами, боролся с сиденьем и карабкался на слишком высокий для него унитаз, всё было уже
на полу. Отца это страшно сердило, а в тот раз он пришёл в неописуемую ярость.
– Господи, он тогда просто озверел! – рассказывал Джек. – Повалил меня на пол в ванной и
выпорол ремнём. Я думал, он меня убьёт. А он говорит: «Ну, зассанец, сейчас ты у меня узнаешь,
как это!» Достал свой прибор и обделал меня с головы до ног, вымочил всего до нитки. А потом
швырнул мне полотенце и велел вытереть пол, раздеться и выстирать в ванне всё – и одежду, и
полотенце. Пока я ревел и размазывал сопли, он застёгивал штаны. Но я всё-таки заметил у него
там кусочек плоти, которого у меня не было. Это обрезание было вроде как знак отличия – как
купированные уши или выжженное клеймо. После этого я и не смог больше ладить с отцом.
В спальню вела непривычно крутая лестница. В крошечной комнате было душно и жарко,
солнечный свет лился в западное окно прямо на узенькую детскую кровать у стены. Рядом стоял
заляпанный чернилами стол с деревянным стулом, а над кроватью на самодельной подставке
висело пневматическое ружьё. Окно выходило на покрытую гравием дорогу – наверно, это была
единственная знакомая Джеку в детстве дорога. На стене у кровати висел вырезанный из старого
журнала портрет какой-то темноволосой кинозвезды, выцветший от времени.
Внизу мать Джека набрала в чайник воды и поставила на плиту, а потом о чём-то тихо спросила у
мужа.
Гардероб отделялся от комнаты выцветшей хлопчатобумажной занавеской и представлял собой
небольшое углубление в стене с деревянной вешалкой для одежды. Там висели две пары
джинсов, тщательно отутюженные и аккуратно свёрнутые, а на полу стояла пара старых
ковбойских сапог – Эннис даже помнил их. В углу шкафа было что-то вроде тайника, в котором
обнаружилась рубашка, задубевшая от долгого висения на гвозде. Эннис снял её. Старая рубашка
Джека – ещё со времён Горбатой горы... На рукаве было засохшее пятно крови – его собственной,
хлынувшей у него из носа в последний день на горе. Они с Джеком тогда в шутку боролись, и
Эннис крепко получил коленом в лицо. Льющуюся ручьём кровь Джек заботливо остановил своим
рукавом, но ненадолго: Эннис ударом кулака уложил своего «ангела-хранителя» в траву.
Рубашка показалась ему тяжёлой: внутри неё оказалась ещё одна, аккуратно заправленная
рукавами в рукава верхней. В ней Эннис узнал свою старую клетчатую рубашку – грязную, с
надорванным карманом и без пуговиц. Он думал, что потерял её давным-давно в какой-нибудь
Богом забытой прачечной, а выяснилось, что это Джек стащил её и бережно хранил внутри своей
рубашки. Они висели одна в другой, соприкасаясь, как две кожи. Эннис зарылся лицом в ткань и
глубоко вдохнул, надеясь учуять легчайший аромат шалфея и дыма, смешанного с солоноватосладким запахом тела Джека, но на рубашке остался только призрак запаха – призрак Горбатой
горы, и единственную вещь, напоминавшую о ней, Эннис держал сейчас в руках.
Упрямый старик всё-таки отказался отдать прах Джека.
– У нас есть семейный участок на кладбище, и Джек будет похоронен там, – заявил он.
Мать, вырезая сердцевины у яблок острым зазубренным инструментом, сказала:
– Приезжайте ещё как-нибудь.
Трясясь по ухабистой дороге мимо сельского кладбища, обнесённого покосившейся проволочной
оградой, Эннис бросил взгляд на несколько могил, пестревших искусственными цветами. Не
хотелось даже думать, что Джек останется лежать на этом огороженном клочке земли посреди
печальной равнины.
Несколько недель спустя, в субботу, Эннис собрал все лошадиные попоны с ранчо Стаутмайера и
отвёз на машинную мойку, чтобы прополоскать под мощными струями воды. Убрав мокрые
попоны в грузовик, он зашёл в магазин подарков Хиггинса и остановился у стенда с открытками.
– Эннис, что ты там в этих открытках выискиваешь? – спросила Линда Хиггинс, выкидывая в
мусорный бачок использованный фильтр для кофе.
– Вид на Горбатую гору.
– Это где – в округе Фримонт?
– Нет, к северу отсюда.
– Я такие не заказывала, но на складе они должны быть. Мне всё равно надо заказать кое-какие, а
заодно и тебе могу достать – хоть сотню.
– Хватит и одной, – сказал Эннис.
Когда тридцатицентовая открытка пришла, Эннис приколол её в своём трейлере латунными
кнопками. Чуть ниже он вбил гвоздь, на который повесил вешалку с двумя рубашками. Отойдя на
шаг, он окинул эту композицию взглядом, и глаза защипало от слёз.
– Джек, я клянусь... – начал он и осёкся. Джек никогда не брал с него никаких клятв и сам не был
любителем их давать.
Примерно с этого времени Джек и начал ему сниться – молодой, кудрявый, с кривозубой улыбкой
болтающий что-то про свои карманы. В снах появлялась и банка бобов с торчащей из неё ложкой,
кое-как примощённая на бревне и будто нарисованная в аляповато-мультяшном стиле, нелепом и
абсурдном до непристойности. Ручка ложки была похожа на рукоятку монтировки. Временами
Эннис просыпался расстроенным, иногда – с прежним чувством радости и облегчения, а бывало, и
на мокрой от слёз подушке и пропитанной потом простыне. Между действительностью и грёзами
простиралась непреодолимая пропасть, но с этим ничего нельзя было поделать. А когда ничего
нельзя изменить, остаётся только смириться и продолжать жить – с тем, что есть.
Райхер Виктория - Букет невесты (отрывок)
(~8 мин., соврем. проза
Регистрироваться пошли по-студенчески. Возле ЗАГСА только что окольцованный приятель
жениха подарил невесте свадебный букет, который она хранила долгие годы.)
На набережной дул сильный ветер, и у какой-то невесты сорвало длиннющую фату и унесло на
воду. Соня её пожалела: бедная невеста, сколько времени, наверное, выбирала. У самой Сони не
было никакой фаты. Она была в белой блузке и синей юбке, юбку мама перешила ей из своей еще
для выпускного. «Ну точно на экзамен», – восхитился Санька, когда увидел, как она оделась.
Схватил на руки и потащил вниз с четвертого этажа. Тащил и напевал: «На экзамен, на экзамен».
– Поставь меня, вот же псих! – отбивалась Соня.
От смеха у нее не получалось четко выговаривать слова.
– Что-что? – возмущался Санька. – Оставь меня для всех? Для кого это «для всех»? Смотри, до
ЗАГСа понесу, если вырываться не перестанешь!
– Надорвешься, – смеялась Соня, – ЗАГС далеко!
– Да чего там далекого, – отмахивался Санька, – я тебе сейчас под ближайшим кустом устрою…
ЗАГС…
Они остановились перед выходом из подъезда и стали целоваться – до тех пор пока в подъезд
не вошла соседка, тетя Наташа. Увидела Соню в белой кофточке, Саньку в белой рубашке,
расплылась с умилением:
– Ой, Сонечка! Расписываться идете?
– Идем, – веско согласился Санька.
Поправил волосы и застегнул Соне верхнюю пуговицу на блузке.
– А что же ты, деточка, без цветочков? – присмотрелась тетя Наташа. – Нехорошо без цветочков,
Сонечка, примета плохая!
Соня на секунду растерялась. Они с Санькой как-то не подумали про цветы.
– Мы не верим в приметы, мы математики! – сообщил Санька, снова взвалил Соню на руки и
строго обратился к ней: – А ты не вырывайся. Слышишь, что говорят – примета плохая!
– Я не верю в приметы! – у Сони уже слезы текли от смеха. – Я математик!
– Разве бывают женщины-математики? – удивился Санька. Они с Соней учились на одном
факультете. – Никогда не встречал…
Когда они, наконец, вышли из подъезда, надо было уже бежать. К счастью, автобус подошел
почти сразу. В автобусе было только одно свободное место, и на него уселся Саня, пристроив
Соню к себе на колени.
– Санька, – Сонина щека стала теплой от солнца, бьющего в окно, – Сань, я цветочков хочу…
– Нарвем, – пообещал Санька, посылая обаятельную улыбку тонкогубой старушке, с
неодобрением глядящей на голые Сонины ноги. – В лес поедем и нарвем. Ландышей. Хочешь
ландышей?
– Да нет же, Сань! – Соня тормошила его за воротник, оттягивая от переглядывания со старушкой.
– Какие ландыши в июле? Я букет хочу! Букет невесты!
– Нарвем букетов невесты, – легко согласился Саня. – Только увидим клумбу с букетами невесты –
и сразу же нарвем.
Он спрыгнул с автобусных ступенек, подхватил Соню. Донес до ЗАГСа и только там опустил на
землю.
– Ненормальный, – бормотала Соня, отряхивая юбку. В автобусе к синей ткани прилип какой-то
белый пух. – Сань, я вся грязная, смотри!
– Дома мы тебя разденем, – пообещал Санька. – И помоем. Будешь чистая.
И вдруг на них обрушился вопль.
– Рубинштейн! Рубинштейн!
По шоссе, не разбирая дороги, к Саньке мчался, раскинув руки, какой-то парень. Мчался,
радостно голося и подпрыгивая на ходу.
– Рубинштейн, Сашка! Я еду мимо, смотрю – и правда ты! Ты сегодня что, тоже женишься, да?
– Женюсь, – подтвердил Санька, пожимая парню руку. – А почему «тоже»? Я вроде в первый раз
женюсь.
– Так и я! – просиял парень, продолжая подпрыгивать. – У меня невеста знаешь какая? Мы с ней
расписались с утра!
– Поздравляю, – сказала Соня.
Парень всем корпусом обернулся к ней.
– Здравствуйте, вы меня извините, пожалуйста, что я так набросился, я просто его давно не видел
и очень обрадовался. Надо же, думаю, Рубинштейн тоже женится, во дела. Я и не знал.
– Такие новости надо знать, – Санька подмигнул Соне. – Мы уже сто лет собирались.
Жениться они решили три месяца назад. Санька сказал: «Сонь, а чего это мы с тобой до
сих пор не женаты?», и Соня тоже удивилась – правда, чего? Пошли в тот же день, подали
заявление, назначили регистрацию. Потом, в автобусе, вспомнили, что Санька забыл
родителям сообщить.
– Подождите! – еще раз подпрыгнул парень. – Подождите секундочку, я сейчас!
Он убежал так же стремительно, как появился.
– Сань, это кто?
Саньку вечно находили какие-то люди и сообщали, что он их лучший друг.
– Так это же Андрюха Вишневецкий! Ты не помнишь? Мы с ним статью писали в прошлом году, он
у нас дома как-то был.
У них «дома», в съемной комнате размером с книжный шкаф, успело перебывать столько
народу, что Соне было трудно запомнить всех. Но она старалась.
– Андрюха, – повторила она. – Вишневецкий. Я поняла.
Парень тем временем появился снова. В руке он держал роскошный белый букет.
– Вот! – Андрей поклонился, вручая Соне цветы. – Это вам. Поздравляю! И тебя, Сашка, ты
молодец! Живи сто лет!
И Андрей Вишневецкий исчез, испарился, оставив после себя только шелково-белый букет в
руках у Сони.
Букет показался Соне какой-то редкой игрушкой. Кроме живых цветов и шелковых листьев,
в букете были жемчужинки, бусинки и, кажется, даже маленький колокольчик. Соня таких букетов
не видела никогда.
– Санька… – она рассматривала букет. – Санька, это что???
– Букет невесты, – Саня небрежно махнул вслед Андрею, одновременно прощаясь с ним и
объясняя происхождение букета. – Ты же просила? Ну вот. Владей. И пошли уже, пожалуйста,
жениться, а то там все переженятся раньше нас.
– Санька, где он достал такое чудо?
– Кого? Невесту? Ну, добыл себе где-то среди знакомых, должны же и остальные на ком-то
жениться, если ты уже занята…
Белая блузка окончательно порвалась через четыре года, когда бережливая Соня в пятый
раз перешивала кружевной воротничок. Синяя юбка куда-то делась, на свидетельство о браке
Санька в день пятилетия свадьбы умудрился поставить винное пятно. А белый букет, с
засушенными цветами и чуть пожелтевшим шелком, Соня хранила в папиросной бумаге в
платяном шкафу.
Резник Майк - Влюбленная метла
(~30 мин., юморист. фантаст. Рассказ
О том, что и вещи умеют любить, особенно если они волшебные )
Закинув ноги на письменный стол и сдвинув на затылок потрепанную фетровую шляпу, Джон
Джастин Мэллори внимательно рассматривал расписание скачек.
— Знаешь, — заявил он, — схожу-ка я сегодня на скачки — скажем, во второй половине дня.
— Боже мой! — выдохнула Виннифред Каррутерс, его низенькая седовласая партнерша,
обладательница пухлых розовых щек. — Кто-то снова запряг это несчастное существо, не так ли?
— Как ты догадалась? — спросил Мэллори.
— Чего тут догадываться! Ты наведываешься на скачки только в тех случаях, когда бежит Летун.
— «Бежит» — это сильно сказано, — заметило не-совсем-человеческое существо,
примостившееся наверху холодильника в соседней комнате. — «Еле тащится» — вот что он
делает, этот Летун.
— Когда мне потребуется совет офисной кошки, — раздраженно буркнул Мэллори, — будь
уверена, я тебя о нем попрошу.
— Вот-вот, — продолжала вещать Фелина с высоты холодильника, — как раз это качество и
отличает вашего хваленого Летуна. Я имею в виду — неколебимая уверенность.
— Если тебе придет в голову уйти отсюда, — сказал Мэллори, — можешь поискать работу в труппе
комедиантов. Подобным шуточкам там самое место.
— С какой стати мне уходить отсюда? — заурчала Фелина. — Тут тепло, сухо, и ты меня кормишь.
— Джон Джастин, сколько забегов подряд проиграл Летун на настоящий момент? — спросила
Виннифред.
— Пятьдесят три.
— Это тебе ни о чем не говорит? — не унималась она.
— Просто его час пока не настал.
— Удивительно! — Виннифред пожала плечами. — Как самый лучший детектив на этом
Манхэттене может быть таким глупым?
— Тебе просто недостает веры, — вздохнул Мэллори.
— Ты распутал уйму сложных дел и как минимум дюжину раз был на волосок от смерти, — гнула
свое миссис Каррутерс. — Неужто все это имело одну цель — раз за разом просаживать деньги в
тотализатор, делая ставки на Летуна?
— Когда я берусь за дело, моя задача заключается в том, чтобы найти искомое, — ответил
Мэллори. — А когда иду на бега — в том, чтобы испытать судьбу. Не понимаю, почему это тебя
вообще должно беспокоить. Агентство «Мэллори и Каррутерс» оплачивает все свои счета, но что
касается личного дохода, тут каждый из партнеров распоряжается им по своему усмотрению.
— К стремлению «испытать судьбу» я отнеслась бы с пониманием, — отрезала партнерша, — это
предусматривает элемент случайности. В случае же с Летуном ничем таким и не пахнет — верный
проигрыш.
— Ну и дурацкий же у тебя будет вид, когда он наконец всех обставит, — парировал Мэллори.
— Хорошо сказано! — послышался чей-то скрипучий голос — Ты молодчина, Джон Джастин
Мэллори!
— — Кто это? — строго спросил Мэллори, мгновенно вскочив на ноги. — Кто это сказал?
Пружинисто спрыгнув на пол, Фелина вбежала в кабинет и с ухмылкой ткнула блестящим когтем в
прислоненную к стене в дальнем углу помещения метлу.
— Да ладно тебе! — усмехнулся детектив. — Метлы не разговаривают.
— А я тем не менее очень даже разговариваю, — возразила метла.
Мэллори вытаращился на нее, а потом перевел взгляд на Виннифред.
— Твоя? — спросил он.
— Никогда раньше ее не видела, — покрутила головой партнерша.
— Что она в таком случае здесь делает?
— Почему бы не спросить у нее самой? — предложила женщина.
— Мне никогда не доводилось разговаривать с метлами. Как к ней следует обращаться?
— Вы можете называть меня Геката, — представилась метла.
— По-моему, так звали какую-то колдунью, — заметила Виннифред.
— Точно. Она была моей первой хозяйкой.
— Хорошо, Геката, — кивнул Мэллори. — Ответь мне, кто ты такая, что ты собой представляешь и
— самое важное — что ты делаешь в моем офисе?
— Я хочу быть рядом с тобой, Джон Джастин Мэллори, — промолвила Геката.
— Почему?
— Гранди терпеть тебя не может. Разве этого недостаточно?
— Ага, значит, за всем этим стоит он, верно?
— Нет, он не знает, что я здесь, — возразила метла.
— Трудновато сохранить что-то в секрете от самого могущественного демона на Восточном
побережье, — указал Мэллори. И, помолчав, осведомился: — И где же, по мнению Гранди, ты
находишься?
— У него на стене, вместе с прочими магическими трофеями.
— Так почему ты не там?
— Он противный, прижимистый, жестокий и неделикатный, — пожаловалась метла. — Прошел
уже целый год, как повесил меня на стенку и с тех пор не позволял спускаться. На протяжении
нескольких месяцев я обдумывала побег, но никак не могла найти подходящее укрытие. Ну а
потом он начал вслух жаловаться на тебя: «Мэллори сделал то, Мэллори сделал се, Мэллори
опять расстроил все мои планы»… Вот я и поняла, что ты единственный человек, который
способен защитить меня от Гранди. — Геката помолчала и добавила: — Он все повторял: «Этот
урод Мэллори», но теперь я вижу, что это вранье. Ты настоящий красавчик, Джон Джастин
Мэллори!
Детектив повернулся к Виннифред.
— Вызови такси.
— Что ты собираешься делать? — с опаской спросила Геката.
— Я собираюсь вернуть тебя твоему хозяину, прежде чем он разнесет мой офис вдребезги.
— Не делай этого! Он же снова повесит меня на стенку!
— У нас хватает своих проблем, — сообщил детектив, направляясь к метле. — И с твоими, Геката,
придется разбираться тебе без нашего участия, самостоятельно.
Он взял метлу и понес ее к парадной двери, на выход. Та запищала:
— Ах! Ох! Надо же! Какие у тебя сильные, мужественные руки, Джон Джастин Мэллори!
— Откуда, черт возьми, исходит твой голос? — поинтересовался Мэллори.
— А что?
— Я хочу, чтобы ты заткнулась. Наверное, не мешало бы заклеить тебе рот.
— Ни за что тебе не скажу!
Мэллори открыл дверь, потом оглянулся через плечо.
— Виннифред, скажи им, что я заплачу вдвойне, если таксист не будет задавать вопросов.
— Хорошо, — пообещала партнерша.
Детективу потребовалось двадцать минут, чтобы добраться до готического баптистского замка
Гранди в северном конце Центрального парка. Прибыв туда, он вручил метлу одному из троллей
— прислужников демона, сел в такси и вернулся домой. А когда он вошел в офис, метла уже
дожидалась его у письменного стола.
— Я прощаю тебя, Джон Джастин Мэллори, — произнесла она.
— Как, черт побери, тебе удалось сюда вернуться раньше меня?
— Я — волшебная метла, поэтому умею не только болтать, но и летать. Ох, и полетали же мы в
свое время, с моей прежней хозяйкой! Она, помнится, любила закладывать мертвые петли, пока
артрит ее окончательно не замучил.
— Забудь обо всем этом, — сказал Мэллори. — Боюсь, ты не совсем понимаешь здешнюю
ситуацию. Твой нынешний владелец не только мой злейший недруг, но еще и существо, которому
ничего не стоит, дунув и плюнув, заморозить весь этот чертов город. Все, кто с ним связывается,
имеют кучу неприятностей. Если он найдет тебя здесь, то подумает…
— Что он подумает?
— Дерьмо! — проворчал детектив, обернувшись к новому гостю. — Похоже, стучаться больше не
принято. Как, впрочем, и вообще пользоваться дверью.
Напротив Мэллори стояло примечательное во всех отношениях существо, ростом чуть выше шести
футов, чью безволосую голову украшали внушительные рога. Кожа его была глянцево-красной,
глаза — жгуче-желтыми, зубы ярко-белыми, а нос своей формой походил на орлиный клюв.
Одежду незваного и нежданного посетителя составляли рубашка и штаны из мятого бархата и
атласный плащ с воротником и обшлагами из меха какого-то обитателя полюса. Этот наряд
дополняли блестящие черные перчатки, сапоги и висевшая на шее золотая цепь с двумя
магическими рубинами. Вдобавок ко всему при дыхании гость испускал из ноздрей и рта
маленькие облака пара.
— . С какой это стати я должен стучаться? — ответил Гранди. — Ты разве стучался, когда стянул у
меня мою метлу?
— Да не крал я ее, — возразил детектив. — - Черт, я только что пересек весь город, чтобы вернуть
ее тебе.
— Однако она у тебя. — Демон указал на Гекату.
— Забирай ее, — буркнул Мэллори. — Я ее не звал, и мне чужого не надо. Она твоя.
— Как ты можешь говорить это! Неужели ты забыл, чем мы были друг для друга? — вопросила
метла.
— Ничем мы друг для друга не были, ни в каких отношениях не состояли и никогда больше не
увидимся! — отрезал мужчина. Взяв метлу, он кинул ее в руки Гранди. — Возьми ее и убирайся
отсюда!
— Так ты по-прежнему меня нисколько не боишься? — с любопытством в голосе осведомился
посетитель.
— Давай скажем так: я питаю здоровое уважение к твоим возможностям, — ответил детектив.
— И никакого страха?
— Во всяком случае сейчас я тебя не боюсь. Но ты должен знать: эту чертову штуковину я не крал,
и не моя вина, если она прониклась ко мне симпатией. — Он покачал головой. — Может, тебе
стоило познакомить ее с красивым, мужественным веником.
— — Нет! — воскликнула метла. — Мне нужен только ты, и никто, кроме тебя!
Мэллори и Гранди переглянулись, и в первый раз со времени прибытия в этот Манхэттен из
своего собственного, детектив ощутил прилив сочувствия к своему незваному гостю. Как может
противостоять сколь угодно могущественный демон такой искренней, пусть и неверно
ориентированной страсти?
— Мэллори! — вскрикнула метла, когда Гранди слишком крепко ее сжал. — Неужели ты ничего не
скажешь?
— Мы всегда будем помнить нашу встречу, — — ответил мужчина.
В это мгновение Гранди с метлой пропали из виду. Всего лишь доля секунды, а их уж и след
простыл.
— Ну, — покрутил головой детектив, — что ты об этом думаешь?
— Мне жаль ее, — сказала Виннифред.
— У нас есть Фелина. Хватит нам и одной нахлебницы.
— Но провести остаток жизни повешенной на стенку…
— Это же метла, бога ради! — раздраженно произнес Мэллори. — Она не живая.
— Геката способна думать и чувствовать! — упрямо возразила розовощекая партнерша.
— Чувства у нее дурацкие, а мысли иррациональные, — парировал детектив.
— И это говорит человек, собравшийся в очередной раз поставить на Летуна!
— Уберусь-ка я отсюда, подобру-поздорову — например, в паб «Изумрудный остров», там ко мне
цепляться не будут, — пробурчал Мэллори.
— Я с тобой, — раздался знакомый уже голос. Оглядев комнату, детектив увидел приткнувшуюся к
камину метлу.
— Дерьмо! Ты откуда взялась? Разве Гранди не забрал тебя пару минут тому назад?
— Он умеет приспосабливать время так, как хочет, — ответила метла. — Я провела в замке почти
три дня субъективного времени, все ждала, когда троллям, эльфам да гоблинам осточертеет за
мной присматривать и можно будет дать деру.
— Но ты же понимаешь, что я должен отправить тебя обратно, — устало вздохнул Мэллори.
— Нет! — воскликнула метла. — Ты не можешь отправить меня обратно и обречь на вечное
унижение и прозябание. Все относятся ко мне, словно… к какому-то предмету.
— Вряд ли у меня получится выразить это поделикатнее, но ты и есть предмет.
— Нет! Я — живое существо с надеждами, мечтаниями, страхами и сексуальными потребностями!
— Не могу сказать, будто я рад это слышать, — отозвался детектив.
— Ты не можешь отослать меня обратно! Умоляю тебя, Мэллори, я живу только ради тебя!
Позволь мне остаться здесь, чтобы вместе с тобой ловить преступников!
— Но я не полицейский. В патрули не хожу, дежурство не несу и ловлей преступников не
занимаюсь. Я — детектив. Сижу у себя в офисе и жду, когда кто-нибудь меня наймет.
— Ты нуждаешься в менеджменте, рекламе. Позволь мне составить хороший текст объявления о
твоем агентстве для телефонного справочника. И, — тут метла перешла на шепот, — бросай ту
толстую тетку. Зачем тебе кто-то кроме меня!
— Мне это нравится! — хмыкнула Виннифред.
— А есть у тебя еще какие-то другие предложения? — саркастически осведомился Мэллори.
— Позаботься о том, чтобы эта противная глупая кошка не точила об меня свои когти.
— И это все?
— Все — если не считать того, что мне не терпится увидеть тебя за работой. Когда ты
рассчитываешь выследить злодея в темной аллее?
— Боюсь, в ближайшие пять — десять минут этого ожидать не приходится, — - язвительно
заметил сыщик.
— В таком случае я просто останусь здесь и буду восхищаться тобой, — заявила метла. — Ты
прекрасен, Джон Джастин Мэллори. Изысканный, утонченный… Короче говоря, воплощение
совершенства.
— Спасибо, — устало отозвался мужчина.
— Бьюсь об заклад, что ты покажешь высший класс в спальне, где будет зеркальный потолок, а
также кровать в форме сердца с водяным матрасом.
— Пошла к черту! — рявкнул Мэллори — Я уже почти два года отираюсь в этом Манхэттене, но
всякий раз, когда мне кажется, будто я вроде бы начинаю хоть чуточку понимать его, кто-нибудь
обязательно убеждает меня в обратном, ляпнув нечто подобное!
— Зато у меня с этим нет проблем, — заметила Фелина. — Тут полно народу, собранного
специально для того, чтобы гладить меня, почесывать за ухом и кормить.
Бочком кошка осторожно приблизилась к Мэллори.
— Спроси ее, пьет ли она молоко.
— Ты хочешь поделиться с ней молоком? — удивился детектив.
— Ну уж нет! Если она заявит, что пьет, я буду царапать и скрести ее до тех пор, пока от нее
останется только куча опилок.
— Я все слышу! — строго сказала метла. — Что за чудовищ ты держишь в своем офисе, приятель?
Он вздохнул.
— Что есть, то есть. И своих хватает, и новые прибиваются.
— Итак, отвечаю на вопрос этой безмозглой кошки: молока я не пью.
— Спрашиваю исключительно из любопытства — что же ты ешь и пьешь? — Мэллори никак не мог
понять, где у метлы находится рот.
— Ела я так давно, что уже не припомню, что именно, — призналась Геката. — Не всем выпало
счастье жить в комфорте и довольстве. Некоторые терпят лишения и невзгоды, в то время как те,
кого они любят, не обращают на них внимания.
— Я являюсь объектом твоей любви, самое большее, минут десять, — указал ее собеседник.
— Это не так. На расстоянии я люблю тебя уже не один год.
— Не один год? — переспросил Мэллори.
— Ну, не год, так неделю, какая разница. — Геката пренебрежительно фыркнула. — Стоит ли
мелочиться, Джон Джастин Мэллори? Почему бы тебе вместо этого не заключить меня в объятия
и не сказать, что ты готов ответить на мою любовь?
— Тебе нужен полный перечень причин?
— Боже мой, какой ты безжалостный, как умеешь ты ранить словом! — простонала метла. — Это
так унизительно — слышать нечто подобное, особенно в присутствии этой толстой тетки и
мерзкой кошки.
— Уверен, что они обе в должной мере оценили твою чувствительность.
— Как они могли? Они что, все еще здесь?
— Видишь ли, они вообще-то здесь живут, А ты — нет.
</emphasis> Как ты можешь говорить мне такие вещи? — возмутилась Геката. — Кто другой
способен любить тебя до такой степени полно и бескорыстно? Кто еще слышит небесную музыку в
звуке твоего голоса? Это страсть вечности! Как можешь ты быть слеп к столь высокому чувству?
— У меня катаракта, — сухо пояснил мужчина.
— Я изливаю душу в присутствии двух ничтожных прихлебательниц, а ты отпускаешь мелкие
шуточки! Неужели тебе нравится причинять мне такую боль?
— Вообще-то, я об этом не подумал, — признался Мэллори. — Но и теперь, когда ты открыла мне
глаза, я все равно не чувствую за собой никакой вины.
— Растерзай меня заживо! Наплюй на мою любовь! — с трагическим пафосом вскричала метла. —
Ты увидишь, насколько сильна моя страсть!
Детективу надоело ее слушать. Он взял телефон, набрал одну за другой буквы «Г», «Р», «А», «Н»,
«Д», «И», и спустя мгновение перед письменным столом материализовался демон.
— Будь любезен, забери обратно свою эмоционально неустойчивую метлу, — сказал Мэллори.
Гранди смерил метлу долгим взглядом, потом повернулся к детективу.
— Похоже, от этой метлы больше хлопот, чем она того стоит. Поэтому я дарю ее тебе.
— Мне она не нужна. Геката издала стон.
— Что тебе нужно или не нужно, меня ничуть не интересует, — заявил демон. — Метла теперь
твоя.
— Ты, Гранди, — воплощенное великодушие, — вздохнул детектив.
— Прибереги свой сарказм, Мэллори, — фыркнул демон. — Он понадобится тебе для облегчения
страданий, когда я стану тебя потрошить — медленно и мучительно.
— Ты собираешься заняться этим в скором времени?
— Скоро, не скоро, какая разница? — В конечном счете смерть всегда побеждает.
— Не понимаю, почему тебе так хочется меня убить. — Мужчина пожал плечами. — Я
единственный человек, который никогда тебе не лгал.
— А как по-твоему, почему ты до сих пор жив? — задал встречный вопрос демон. И, не
дождавшись ответа, исчез.
— Приходят, уходят, мелькают… просто проходной двор, а не офис частного детектива, —
саркастически заметил Мэллори. — Почему-то мне кажется, что мы уже больше не в Канзасе,
Тото.
— Меня зовут Геката, а не Тото, — заметила метла. — И теперь наконец мы с тобой навеки будем
вместе. Разве это не прекрасно?
Сыщик бросил взгляд на Виннифред.
— Знаешь, я ведь действительно мог бы возненавидеть этого чертова демона.
— А что ты собираешься предпринять в отношении… ну, ты знаешь, кого?
— Метлы? — уточнил он. — Ну что ж, она здесь и она наша. Почему бы не занять ее работой?
— Мытья посуды или там окон вы от меня не дождетесь, — заявила Геката.
— Ты волшебная, а значит, и возможности у тебя волшебные. Вот мне и пришло в голову: не взять
ли тебя с собой на дело и посмотреть, на что ты способна.
— Ты и я? Вместе? Будем выслеживать суперзлодеев в их логовищах? Разоблачать
международные шпионские банды?
— Есть тут одна гоблинша, вообразившая, что ее обманывает муж, — уточнил детектив. — Мне
нужно проследить за ним и выяснить, ошибается она или нет.
— Какая проза!
— За выслеживание суперзлодеев полагаются медали, — пояснил Мэллори. — А вот за ходящих
на сторону мужей выкладывают деньги. Такой у нас бизнес.
— Неважно, — сказала метла после недолгого размышления. — Раз уж я буду с тобой… хм…
можно мне называть тебя — дорогой.
— Лучше не надо.
— Хорошо, сладкий мой, — сказала метла. — Давай выслеживать неверных гоблинов.
В ночь с понедельника на вторник Геката и Мэллори отправились на первое совместное задание.
Они последовали за гоблином до перекрестка улиц Вожделения и Отчаяния, где подозреваемый в
измене муж резко свернул на улицу Вожделения.
— Ага, с ним все ясно! — возбужденно вскричала метла. — Этот малый наверняка держит путь в
бордель!
Гоблин обернулся на звук голоса метлы, вгляделся в темноту и, увидев Мэллори, припустил, как
летучая мышь из ада.
— Огромное спасибо, — пробормотал детектив.
На второе дело они отправились в среду, тоже ночью. Прячась неподалеку от пансиона
«Кринглово воинство», сыщик и метла следили за тем, как личности, наряженные Санта-Клаусами,
один за другим заходили в парадную дверь, каждый с горшком денег в руках.
— И как же ты различишь, какие из них законопослушные, а какие — жулики и бандиты? —
полюбопытствовала Геката, не удосужившись хоть бы немного понизить голос.
Трое Санта-Клаусов мгновенно выскочили из вестибюля и открыли по затаившимся наблюдателям
беглый огонь. Под неприятно близкий свист пуль Мэллори нырнул за угол и укрылся позади пары
мусорных баков.
— Что бы я только без тебя делал? — вздохнул детектив, удостоверившись, что его руки и ноги
непонятно каким чудом уцелели.
Следующее задание предполагалось осуществить в субботу вечером.
Старик с редкими седыми волосами и длинными, до подбородка, бакенбардами, пряча глаза за
темными стеклами очков, стоял на Бродвее, держа в одной руке миску нищего-попрошайки, а в
другой — старую трость. Он внимательно наблюдал за «Салоном экзотики» Гадкого Конрада.
Сейчас, как полагал сыщик, этот самый Конрад показывал очередному намеченному им для
шантажа клиенту кое-какие, может быть не вполне художественные, зато более чем откровенные
фотографии.
Проходившая мимо женщина бросила в чашку Мэллори несколько монет и случайно слегка
толкнула его. Детектив, чтобы не выйти из образа слепого попрошайки, пошатнулся, сделав вид,
будто вот-вот упадет, и она, остановившись, поддержала его.
— Не смей трогать руками моего возлюбленного! — взревела метла.
Гадкий Конрад, привлеченный неожиданным шумом, выглянул из своего логова, внимательно
присмотрелся к нищему, а когда узнал его, то злорадно ухмыльнулся. А несколько снимков
Вихревой Мерцалки — девушки-ящерицы, которая ради этой операции с шантажом в «Бурлеске
Риалто» четыре раза за ночь меняла кожу, — мигом исчезли неизвестно куда.
— Ну и как? — спросила Виннифред, оторвав глаза от бумаг, когда детектив, шаркая, вошел в
офис.
— Если я возьму эту чертову метлу еще на пару-тройку дел, нам придется закрывать агентство и
искать новую работу.
— Где сейчас Геката?
— В углу, ест кофе и пончики.
— А почему бы ей…
— Она не хочет, чтобы я узнал, где находится ее рот, — объяснил, не дождавшись вопроса,
Мэллори. — Хотя на данный момент мне куда больше хотелось бы установить, где у нее яремная
вена.
— И что же нам делать?
— Я уже думал об этом, — сказал Мэллори. — В конце концов, мы же детективы. Наша работа не
обязательно заключается в ловле мошенников или в предотвращении преступлений. Суть ее
состоит в разрешении проблем… так что, сдается мне, пора нам отвлечься от чужих и заняться
нашими собственными.
— Каким образом? У тебя есть идея?
— Идея-то у меня есть, но вот воплотить ее в жизнь мне самому не под силу. Чертова метла не
выпускает меня надолго из виду. — Он достал из кармана скомканные банкноты и с мрачным
видом пересчитал их. — Эти деньги я собирался поставить на Летуна в тот вечер, когда объявилась
Геката.
— Мне-то что с ними делать, Джон Джастин? Он швырнул ей купюры.
— Купи галлон клея и несколько бутылок лаку, а потом пойди к Моргану, в лавку скобяных
товаров Горгоны и…
— Что здесь происходит? — строго спросила Геката.
— Обычные дела, — сказал Мэллори. — А что?
— Ничего себе — обычные! — заявила метла.
— А, ты имеешь в виду их? — Сыщик с улыбкой указал на двадцать новехоньких метелок,
выстроившихся у стены. Каждая из них была покрыта сверкающим золотым или серебряным
лаком.
— Да, я имею в виду их! — отрезала Геката. — Раньше их здесь не было! Что происходит, Джон
Джастин Мэллори?
— Помощь, которую ты оказывала мне в последние несколько ночей, была просто неоценима, вот
я и подумал, что тебе не помешают помощницы, — пояснил Мэллори. — Коль скоро я собираюсь
проводить все мое время с ними, то почему бы не окружить себя красотой?
— Но… но… — запинаясь, произнесла Геката, которую гнев едва ли не лишил дара речи.
Сыщик выбрал наугад одну из метелок.
— Разве она не великолепна? — спросил он, любовно поглаживая вызолоченные прутья. —
Теперь уж мне точно не придется скучать во время слежки.
— Неблагодарный! — вскричала Геката. — Невежда! Подлец! Свинья! Как ты посмел предпочесть
меня другой метле?
— Двадцати другим, — любезным тоном поправил ее Мэллори.
— А я уж было собралась выйти за тебя замуж, — проговорила метла, сотрясаясь от рыданий. —
Но нет, коварный изменник, теперь мне ясна твоя лживая суть, и я вернусь туда, где меня ценили.
Может быть, Гранди и не проводил со мной много времени, но мне был обеспечен должный
уход, я находилась на виду, и люди даже замирали на месте, чтобы полюбоваться мною… — Ее
голос потонул в плаче.
— Ты можешь остаться здесь, — предложил детектив. — Я клятвенно обещаю выводить тебя из
чулана не меньше двух раз в год, причем на исключительно легкие дела. И подумай о том, как
тебе будет весело в компании всех этих поистине прекрасных метелок. Кто знает, может быть, ты
даже позаимствуешь часть их очарования?
— Моя матушка была права! — воскликнула метла. — Все мужчины — обманщики, и порядочная
метелка не должна верить ни одному из них!
Издав напоследок душераздирающий стон, она растворилась в воздухе — в одно мгновение!
Такое исчезновение сделало бы честь и самому Гранди.
— Наконец-то ты отделался от нее, Джон Джастин! — воскликнула Виннифред.
— Чувствую себя дерьмом, — угрюмо проворчал Мэллори, — и все же другого выхода у меня не
было.
— Не расстраивайся, — сказала Фелина. — Я уж точно не буду расстраиваться, когда вынуждена
буду тебя покинуть.
— Спасибо, — иронично заметил Мэллори. — Я черпаю в этом огромное утешение.
Кошка радостно улыбнулась.
— Я так и знала.
— Напомни мне, чтобы через несколько месяцев я проверил, как у метлы дела. Хочется быть
уверенным, что у нее все в порядке.
— Обязательно, Джон Джастин, — пообещала миссис Каррутерс.
— Хорошо. — Он достал бумажный носовой платочек, высморкался и кинул его в корзину для
бумаг рядом с письменным столом. — Где ты купила такую штуковину?
— О чем речь?
— Мусорная корзина с такой забавной отделкой, — пояснил детектив. — Не помню, чтобы видел
ее раньше.
— Никаких корзин, забавных или не очень, я не покупала, — заявила партнерша.
Корзина для бумаг приблизилась к Мэллори и нежно потерлась о его ногу.
— Мне кажется, я в тебя влюблена, — промурлыкала она.
Ритчи Джек - Ланч со смаком
(~10 мин., соврем. проза, триллер (?)
Остроумный рассказ о неверной жене, о любви и ненависти и о бутербродах с ... колбасой )
Перевод с английского: Юзеф Пресняков
Лично я считаю, что колбаса — одно из величайших изобретений человечества, — сказал Генри
Чандлер. — А уж бутерброд с колбасой — комбинация не только питательная, но и замечательно
удобная. Процесс его поглощения не мешает другим занятиям. Вы можете читать, или смотреть
телевизор, или держать револьвер. — Он откусил от бутерброда. Прожевал. Проглотил. Потом
улыбнулся. — Вы, мистер Дэвис, и моя жена были осторожны. Чрезвычайно осторожны, и теперь
это работает на меня. Конечно, я постараюсь создать видимость самоубийства. Но если полиция
не даст себя провести и решит, что имеет дело с убийством, она станет в тупик в поисках мотива.
Нет никакой видимой взаимосвязи между мною и вами, кроме того факта, что я — один из
двадцати ваших служащих.
Я чувствовал, как похолодели мои пальцы.
— Ваша жена догадается и пойдет в полицию.
— Вы так думаете? Сомневаюсь. Женщина на многое способна ради своего любовника… пока он
жив. Но если он мертв, это уже совсем другое дело. Женщины — очень практичный народ, мистер
Дэвис. И не забудьте: она будет только подозревать, что, возможно, это я вас убил. Но знать-то
она не будет. И уже одна эта неуверенность помешает ей пойти в полицию. Она скажет себе (и с
полным основанием), что нет никакого смысла предавать гласности свою связь с вами. Найдется,
наверное, не один десяток людей, которые могли бы желать вашей смерти.
В моем голосе прозвучали нотки отчаяния:
— Полиция проверит всех и каждого. Они обнаружат, что вы остались здесь после того, как все
ушли.
Он покачал головой.
— Не думаю. Никто не знает, что я здесь. Я ушел вместе со всеми. А потом вернулся, зная, что вы
остались один. — Он прожевал еще один кусок бутерброда. — Я, мистер Дэвис, решил, что
разумнее всего убить вас в перерыве на ланч. Полиции труднее всего будет выяснить, кто где
находился именно в это время. Люди перекусывают, прогуливаются, делают покупки или,
наконец, возвращаются на свои рабочие места. Что бы они ни говорили, подтвердить или
опровергнуть их показания будет практически невозможно.
Он опять сунул руку в пакет из коричневой бумаги.
— Обычно я перекусываю в любом из окрестных кафетериев. Но я ведь не из тех, чье присутствие
— или отсутствие — замечают. Я, мистер Дэвис, две недели дожидался, чтобы вы замешкались
после ухода остальных. — Он улыбнулся. — И вот сегодня утром я заметил, что вы принесли с
собой свой ланч. Вы что, решили, что сегодня будете слишком заняты, чтобы выйти перекусить?
Я облизнул губы:
— Да.
Он поднял верхний ломтик хлеба и взглянул на две маленькие колбаски.
— Человеческий организм реагирует на раздражители довольно странным образом. Как я
понимаю, на стрессовые ситуации — огорчение, страх, гнев — он часто откликается ощущением
голода. И меня в данный момент, мистер Дэвис, одолевает прямо-таки волчий голод. — Он
улыбнулся. — Вы в самом деле не хотите разделить со мной трапезу? В конце концов, бутерброды
ведь ваши.
Я промолчал.
Он промокнул губы бумажной салфеткой.
— На нынешней стадии эволюции человек все еще нуждается в мясе. Однако что до меня, с моей
чувствительностью — у меня удовольствие от мяса сопряжено с некоторыми сложностями.
Например, к бифштексу я всегда приближаюсь не без опаски. Видите ли, если на зуб мне попадет
хотя бы кусочек хряща, меня это до того выбивает из колеи, что я ничего в рот взять не могу.
Он изучающе посмотрел на меня.
— Вы, наверное, думаете: «Что за истерик! Разговаривать о еде в такую минуту!» — Он задумчиво
кивнул. — Что ж, я и сам не знаю, почему медлю застрелить вас. Может, потому, что боюсь
поставить финальную точку? — Он пожал плечами. — Но даже если я в самом деле боюсь,
позвольте вас заверить, что я решительно намерен довести дело до конца.
Я отвел взгляд от бумажного пакета и потянулся за пачкой сигарет на моем столе:
— Вы знаете, где сейчас Элен?
— Вы хотели бы с нею проститься? Или надеетесь, что она могла бы отговорить меня от
задуманного? Очень сожалею, мистер Дэвис, но ничем не могу помочь. Элен уехала в четверг к
сестре и проведет у нее неделю.
Я закурил, глубоко затянулся:
— Умирать мне не жаль. Думаю, я сполна рассчитался с миром и с его обитателями.
Он непонимающе покачал головой.
— Это случилось трижды, — сказал я. — Трижды. До Элен была Беатрис, а до Беатрис была
Дороти.
Он вдруг улыбнулся.
— Так вы хотите выиграть время? Ничего не выйдет, мистер Дэвис. Я запер наружную дверь. Если
кто-нибудь вернется раньше часа — в чем я сомневаюсь, — он не сможет войти. А если он будет
очень уж настырно стучать, я попросту пристрелю вас и уйду через черный ход.
Кончики моих пальцев оставили влажные следы на поверхности стола.
— Любовь и ненависть — близкие соседи, Чандлер. Особенно у меня. Когда я люблю или
ненавижу, я предаюсь этому всей душой. — Я уставился на кончик своей сигареты. — Я любил
Дороти и был уверен, что она любит меня. Мы должны были пожениться. Я на это рассчитывал. Я
ждал этого. Но в последнюю минуту она сказала, что не любит меня. И никогда не любила.
Чандлер улыбнулся и откусил большой кусок бутерброда.
Я прислушался к шуму улицы за окнами.
— Мне она не досталась, но и другим тоже. — Я перевел взгляд на Чандлера. — Я убил ее.
Он моргнул и уставился на меня:
— Зачем вы мне это рассказываете?
— Сейчас это уже ничего не меняет. — Я сделал глубокую затяжку. — Да, я убил ее, но для меня
этого было мало. Понимаете, Чандлер? Слишком мало. Я ненавидел ее. Ненавидел.
Я раздавил сигарету и спокойно продолжал:
— Я купил нож и ножовку. А когда закончил, утяжелил мешок камнями и бросил расчлененное
тело в реку.
Лицо Чандлера побледнело.
Я с ненавистью глядел на окурок в пепельнице.
— А через два года я познакомился с Беатрисой. Она была замужем, но мы бывали в обществе
вместе. В течение полугода. Я думал, она любит меня так же, как я любил ее. Но когда я
предложил ей взять развод, выйти замуж за меня, она рассмеялась. Она смеялась.
Чандлер сделал шаг назад.
Я чувствовал, как пот выступает у меня на лице.
— На этот раз ножовки и ножа мне было мало. Это не удовлетворило бы меня. — Я наклонился
вперед. — Ночью я отнес мешок к хищникам. При свете луны. И я наблюдал, как они с рычанием
терзали мясо и ждали у решетки, не достанется ли им еще.
Чандлер вытаращил глаза.
Я медленно поднялся. Я протянул руку к бутерброду, который он оставил на моем столе, и снял
верхний ломоть хлеба. Я улыбнулся:
— Свиные кишки продаются густо подсоленными, Чандлер. Вы этого не знали? В небольшой
круглой коробке. Пятьдесят фунтов кишок за восемьдесят восемь центов.
Я вернул ломоть хлеба на его место.
— Вы знаете, что колбасный шприц стоит всего тридцать пять долларов?
Я улыбнулся, глядя мимо него вдаль.
— Сначала вы снимаете мясо с костей — у мясников это называется «обвалка мяса». Потом
нарезаете его на куски подходящего размера. Постное мясо, жир, хрящи.
Я посмотрел ему прямо в глаза:
— Ваша жена не захотела расстаться с вами, Чандлер. Она играла со мной все это время. Я любил
ее и ненавидел. Ненавидел, как еще никого на свете. И я вспомнил этих хищных кошек, и как они
смаковали каждый…
В глазах Чандлера стоял ужас.
Я сказал:
— Как вы думаете, где сейчас Элен на самом деле?
И протянул ему недоеденный бутерброд.
После похорон я проводил Элен к машине. Когда мы остались одни, она повернулась ко мне:
— Я уверена, что Генри ничего о нас не знал. Не могу понять, с чего он вздумал покончить с собой,
да еще у тебя в кабинете.
Я выехал из кладбищенских ворот и улыбнулся:
— Понятия не имею. Наверное, съел что-нибудь.
Роллинс Джеймс - Влюбленный Ковальски
(~50 мин., рассказ из сборника "Триллер"
Джо Ковальски - персонаж многих романах Роллинса. Он постоянно влипает во всякие
неприятности, вот и в этом рассказе попадает в ловушку, а выпутавшись, влюбляется, но не
в ту, на кого бы вы подумали)
Она не могла на это спокойно смотреть… как он раскачивается туда‑сюда, пойманный в ловушку
для диких свиней. Курносый нос, коротко остриженные тусклые волосы — шестифутовый кусок
мяса, подвешенный на крюк; обнаженный, если не считать мокрых трусов‑боксеров серого цвета.
Грудь вся иссечена старыми шрамами, и на их фоне выделяется свежая рваная рана,
протянувшаяся от ключицы до паха. В широко раскрытых глазах застыло дикое выражение.
И тому есть причины.
Две минуты назад доктор Шэй Розауро приземлилась на пляже и едва отцепила парашют, как
услышала в джунглях крики и поспешила проверить, что случилось. Передвигалась она незаметно,
скрываясь в тени и листве, абсолютно бесшумно и постоянно оглядываясь по сторонам.
— Убирайся, извращенец хренов!
Мужчина беспрерывно исторгал проклятия с выраженным акцентом уроженца Бронкса.
Американец. Такой же, как и она.
Доктор Розауро взглянула на часы. Тридцать три минуты девятого утра.
Остров взлетит на воздух через двадцать семь минут.
Мужчина умрет раньше.
Непосредственную угрозу для него представляли двуногие обитатели острова, привлеченные
человеческими криками. Взрослая особь мандрила[1] весит в среднем свыше сотни фунтов,
большая часть которых приходится на мышцы и зубы. Странно было видеть типичного
представителя африканской фауны на лесистом острове у побережья Бразилии. Желтые
ошейники с радиомаяком свидетельствовали о том, что прежде обезьяны служили объектами
изучения профессора Салазара, который устроил на этом удаленном острове исследовательскую
лабораторию. Mandrillus sphinx считаются плодоядными животными, то есть их пищевой рацион
состоит из фруктов и орехов.
Но не всегда.
Иногда мандрилы не прочь отведать и мяса.
Из стаи выступил самец с угольно‑черной шерстью; его широкую красную морду окаймляли с
обеих сторон костные борозды голубого цвета — окраска вожака стаи. Он медленно обошел
вокруг пойманного в ловушку мужчины. Самки и рядовые самцы — все с шерстью коричневого
цвета — сидели неподалеку или же висели на ветках ближайших деревьев. Один из мандрилов
зевнул, широко раскрыв пасть и обнажив трехдюймовые клыки и набор великолепных резцов.
Самец принюхался к мужчине, и тут же в нескольких сантиметрах от морды любопытного примата
просвистел мощный кулак.
Встав на задние конечности, вожак зарычал, в оскаленной пасти сверкнули во всей красе желтые
клыки. Ужасающее и впечатляющее зрелище. Остальные обезьяны придвинулись ближе.
Появившись на поляне, Шэй мгновенно оказалась в центре внимания всех присутствующих. Она
подняла руку и нажала кнопку на специальном звуковом устройстве, называемом в обиходе
«крикуном». Последовавший за этим рев сирены произвел ожидаемый эффект.
Обезьяны стремительно бросились в лес. Мандрил‑вожак подскочил, ухватился за нависшую над
землей ветку и, перебирая руками‑ногами, исчез в спасительной темноте джунглей.
Мужчина, по‑прежнему раскачиваясь на веревке, обратился к своей спасительнице:
— Эй! Как насчет…
Но Шэй уже сжимала в руке мачете. Запрыгнув на огромный валун, она одним взмахом остро
заточенного ножа перерезала пеньковую веревку.
Бедолага тяжело рухнул на мягкую землю и перекатился на бок. Какое‑то время он сражался с
опутавшим лодыжку силком, изрыгая поток ругательств. Наконец ему удалось распутать узлы на
веревке.
— Чертовы мартышки!
— Мандрилы, — поправила Шэй.
— Чего?
— Это мандрилы, а не мартышки. У них есть хвосты.
— Да какая разница! Я видел только большие чертовы зубы!
Когда мужчина поднялся, отряхивая колени, Шэй заметила у него на правом предплечье
вытатуированный якорь. Бывший военный моряк? Он может быть полезным. Шэй снова
посмотрела на часы.
Восемь тридцать пять.
— Что вы здесь делаете? — спросила она.
— Моя посудина пошла на дно.
Его взгляд скользил по соблазнительным формам Шэй.
Что ж, она привыкла к подобному интересу со стороны представителей мужского пола… даже
сейчас, когда была в простом камуфляжном костюме и прочных армейских ботинках. Черные
волосы до плеч были аккуратно убраны за уши и покрыты черной банданой. Кожа кофейного
цвета сверкала в знойном тропическом воздухе.
Наткнувшись на ответный изучающий взгляд, мужчина кивнул в сторону берега.
— Лодка утонула, и я добрался сюда вплавь.
— Ваша лодка затонула?
— Ну, в общем, она взорвалась.
Шэй смотрела на него, ожидая дальнейших разъяснений.
— Произошла утечка газа. Я бросил сигару…
Взмахом мачете она заставила мужчину умолкнуть на середине фразы. Шэй должны были забрать
на северном полуострове менее чем через полчаса. Согласно графику операции, ей необходимо
было успеть добраться до места, вскрыть сейф и взять ампулы с противоядием. Заметив тропинку,
она без лишних слов двинулась в джунгли. Мужчина потащился следом.
— Эй… куда мы идем?
Шэй вытащила из рюкзака свернутое пончо и протянула ему.
Продевая голову в дырку и стараясь не отстать, он представился:
— Меня зовут Ковальски.
Наконец ему удалось просунуть голову, и теперь он пытался расправить складки пончо на могучем
теле.
— У вас есть лодка? Возможность убраться с этого проклятого острова?
В тот момент у нее не было времени что‑то сочинять.
— Через двадцать три минуты бразильские военные забросают этот атолл зажигательными
бомбами.
— Что?
Ковальски машинально взглянул на запястье, однако часов там не оказалось.
— Меня должны забрать в восемь пятьдесят пять на северном полуострове, — продолжала Шэй.
— Но прежде мне нужно кое‑что здесь найти и унести с собой.
— Погодите. Что вы такое говорите? Кому надо бомбить эту вонючую дыру?
— Бразильским ВМС. Через двадцать три минуты.
— Ну конечно. — Он покачал головой. — Из всех чертовых островов мою задницу занесло именно
на тот, который вот‑вот собираются уничтожить.
Эту страстную тираду Шэй проигнорировала. Хорошо хоть новый знакомый не отставал. Надо
отдать ему должное. Он либо настолько храбр, либо настолько глуп.
— О, смотрите, манго! — воскликнул Ковальски, протягивая руку к желтому фрукту.
— Не трогайте.
— Но я не ел уже…
— Всю растительность на острове опрыскали с воздуха трансгенным рабдовирусом.[2]
Ковальски отдернул руку.
— При попадании внутрь человека вирус стимулирует сенсорные центры в мозге, усиливая
зрение, слух, обоняние, вкус и осязание.
— И что в этом плохого?
— Одновременно разрушается ретикулярный аппарат коры головного мозга, и в жертве
пробуждается необузданная ярость.
Позади этой идущей по джунглям пары эхом прокатился громкий рев. В ответ с другой стороны
раздался вой и кашляющие звуки.
— Мартышки…
— Мандрилы. Да, они определенно инфицированы. Объекты экспериментов.
— Великолепно! Остров взбесившихся гамадрилов.
Не обращая внимания на его словоблудие, Шэй протянула руку. Через брешь в густой листве на
вершине соседнего холма виднелась побеленная асьенда.[3]
— Нам нужно попасть вот туда.
Крытое терракотовой плиткой строение арендовал профессор Салазар; внутри он проводил свои
исследования, финансируемые некой организацией террористического толка. Здесь, на этом
изолированном острове, он ставил заключительные эксперименты по совершенствованию своего
биологического оружия. Два дня назад члены отряда «Сигма» — секретного подразделения
спецназовцев‑ученых, чьей задачей являлось предотвращение глобальных угроз, — захватили
Салазара в самом сердце бразильской сельвы. Но перед этим негодяй успел заразить целую
индейскую деревню в районе Манауса, в том числе и расположенный поблизости
международный детский реабилитационный центр.
Болезнь еще находилась на ранней стадии, но быстро прогрессировала, и бразильские военные
немедленно ввели в округе карантинный режим. Исправить ситуацию могло только противоядие,
хранившееся в сейфе на асьенде профессора Салазара.
По крайней мере, оно могло там храниться.
Сам профессор заявил, что уничтожил все запасы.
Основываясь на этом утверждении, бразильские власти решили свести риск к минимуму. На
рассвете ожидался шторм с ураганным ветром, и власти опасались, что он может подхватить
вирус и перенести с острова в прибрежные джунгли. Достаточно было одного листочка, чтобы
заразить все тропические леса континента. Тогда и появился план забросать остров
зажигательными бомбами и выжечь всю растительность, вплоть до голой скалы. Начало операции
назначили на девять утра. Невозможно было убедить правительство рискнуть и отложить
операцию — надежда раздобыть противоядие казалась слишком призрачной. Все и вся
надлежало стереть с лица земли. В том числе и индейскую деревню. Это были приемлемые
жертвы.
Гнев охватил Шэй, когда она мысленно представила своего напарника Мануэля Гаррисона. Он
пытался эвакуировать детей из центра, но оказался блокирован в зараженном районе, а после и
сам заразился. Вместе со всеми детьми.
В лексикон доктора Розауро словосочетание «приемлемые жертвы» не входило.
Не в этот раз.
И она решила действовать в одиночку. Уже прыгнув с парашютом и находясь в свободном
падении, она сообщила по рации о своем плане. Руководство «Сигмы» пообещало выслать
спасательный вертолет к северной оконечности острова. Он приземлится там всего на одну
минуту. Либо Шэй успеет вовремя добраться до вертолета, либо… умрет на этом острове.
У нее имелись реальные шансы на успех.
Вот только теперь она была не одна.
Здоровяк, едва не ставший жертвой обезумевших обезьян, шумно топал за ее спиной и что‑то
насвистывал. Насвистывал… Шэй обернулась.
— Мистер Ковальски, помните, я говорила, что вирус обостряет слух у зараженного?
В спокойном тоне, каким была произнесена эта фраза, проскользнули нотки раздражения.
— Извините.
Он оглянулся назад, на тропу.
— Осторожно: здесь ловушка на тигра, — предупредила Шэй, обходя прикрытую наспех яму.
— Что?..
Левой ногой Ковальски наступил прямо на крышку из сплетенного тростника, закрывающую яму;
конструкция не выдержала его веса и рухнула вниз.
Шэй успела плечом оттолкнуть мужчину в сторону и упала на него сверху. Ощущение было такое,
будто она свалилась на груду кирпичей. Вот только кирпичи и те отличаются большей
сообразительностью.
Она приподнялась на руках.
— Ну, после того как вы уже попались один раз в западню, могли бы внимательнее смотреть на
дорогу! Этот остров — одна большая ловушка!
Поднявшись, Шэй поправила рюкзак и стала аккуратно обходить утыканную острыми шипами яму.
— Держитесь меня. Ступайте по моим следам.
Рассердившись на неловкого Ковальски, она не заметила натянутой веревки.
Только тренькнуло что‑то в воздухе.
Доктор Розауро отпрыгнула в сторону, но было слишком поздно. Привязанное за веревку бревно
вылетело из кустов и ударило ее по колену. Большая берцовая кость хрустнула, и Шэй полетела
прямо в разверстую пасть ловушки.
В воздухе она попыталась увернуться и избежать острых железных шипов. Однако надежды не
оставалось…
И тут она снова врезалась в груду кирпичей.
Это Ковальски ринулся вперед и перекрыл яму могучим телом. Шэй отскочила от него и рухнула
на землю. Острая вспышка боли пронзила колено, потом бедро и прокатилась вдоль всего
позвоночника. В глазах Шэй потемнело, но не настолько, чтобы она не увидела изогнутую под
причудливым углом ногу.
Подошел Ковальски и запричитал:
— Ох, как же это… ох…
— Нога сломана, — превозмогая боль, выдавила Шэй.
— Надо наложить шину.
Она посмотрела на часы.
Восемь тридцать девять.
Осталась двадцать одна минута.
От Ковальски не укрылось ее беспокойство.
— Могу понести вас. У нас еще есть шанс успеть на место встречи.
Шэй мысленно прикинула время. Представила глуповатую ухмылку Мануэля… и множество
детских лиц. На мгновение она ощутила боль гораздо более сильную, чем в сломанной ноге. Она
не имела права на неудачу.
Поняв все по ее лицу, Ковальски заметил:
— Вы не сможете проникнуть в тот дом.
— У меня нет выбора.
— Тогда разрешите мне, — выпалил он и, кажется, удивился собственным словам не меньше, чем
Шэй. Но на попятную не пошел. — Идите потихоньку в сторону берега. А я заберу из этой
треклятой асьенды то, что вам нужно.
Она повернулась и посмотрела ему прямо в глаза. Ей отчаянно хотелось найти в себе хоть
какой‑то проблеск надежды, какие‑то скрытые резервы, которые вернут ей здоровье и силы.
Однако ничего не получалось. Иного варианта, кроме того, что предложил Ковальски, не было.
— Вам попадутся и другие ловушки.
— На этот раз буду смотреть в оба.
— В кабинете стоит сейф… Хотя прямо сейчас некогда объяснять, как его вскрыть.
— У вас есть лишняя рация?
Она кивнула.
— Тогда расскажете, когда я окажусь на месте.
Доктор Розауро секунду колебалась, но времени для сомнений просто не было. Она взяла рюкзак
и попросила:
— Нагните голову.
Из бокового кармана она вытащила два предмета, внешне напоминающие кусочки пластыря.
Приклеила один за ухом мужчины, второй — над его кадыком.
— Микроприемник и передатчик. Вслух произносить ничего не надо, достаточно просто шевелить
губами.
Шэй быстро проверила рацию, одновременно объясняя Ковальски всю серьезность ситуации, в
которой он оказался.
— Пожалуй, чересчур для отпуска под теплым солнышком, — пробурчал он.
— И еще кое‑что, — добавила Шэй, доставая из рюкзака несколько металлических деталей
какого‑то устройства. — Кинетическая винтовка со сменными зарядами.
Быстро собрав оружие, она в заключение вставила в отверстие в нижней части толстый
цилиндрический предмет. По виду это напоминало укороченную штурмовую винтовку, но с более
широким и приплюснутым стволом.
— Предохранитель вот здесь, — пояснила она, наведя винтовку на ближайший кустарник и
надавив на спусковой крючок.
Раздалось едва слышное жужжание. Заряд вырвался из ствола и прошил кустарник, срезая на лету
листья и ветки.
— Стреляет заточенными как бритва дюймовыми дисками. Можно стрелять одиночными и
очередями. — Шэй показала, как переключать режимы. — В магазине двести зарядов.
Ковальски присвистнул и взял оружие в руки.
— Может, вы оставите себе эту… газонокосилку. С вашей ногой вам придется тащиться со
скоростью улитки. — Он кивнул в сторону джунглей. — А там эти чертовы мартышки.
— Это мандрилы… И потом, у меня ведь есть карманный «крикун». А теперь идите. — Шэй снова
посмотрела на часы. (Вторые часы, синхронизированные с первыми, она отдала Ковальски.) —
Девятнадцать минут.
Ковальски кивнул.
— До скорой встречи.
Он сошел с тропинки и практически моментально исчез в густой листве.
— Куда вы? — спросила Шэй по рации. — Тропинка…
— На хрен тропинку, — отозвался Ковальски. — Попробую срезать напрямую через джунгли. Там
меньше ловушек. Кроме того, у меня теперь есть классная штуковина, которая расчистит дорогу к
дому этого психа доктора.
Шэй хотелось верить, что он прав. Ведь другой возможности вернуться и попытать счастья еще
раз, просто не будет. Она быстро сделала себе инъекцию морфия, соорудила костыль из ветки
сломанного дерева и, уже поковыляв к берегу, услышала охотничий клич оголодавших
мандрилов.
Она очень надеялась, что Ковальски удастся перехитрить обезьян.
От этой мысли она громко застонала. И дело было не в сломанной ноге.
К счастью, теперь у него был нож.
Ковальски повис вниз головой… во второй раз за день. Сложившись почти пополам, он схватил
ногу, угодившую в петлю, и перерезал веревку. Та разошлась с легким хлопком. Он полетел вниз,
успел сгруппироваться и с громким треском рухнул на лесную подстилку.
— Что это было? — послышался в приемнике голос доктора Розауро.
— Ничего, — проворчал он. — Просто споткнулся о камень.
Распрямив конечности, он лежал теперь на спине, восстанавливая сбитое при падении дыхание.
Затем мрачно покосился на свисающую над головой веревку. Ему вовсе не улыбалось сообщать
красивой докторше, что он во второй раз наступил на те же грабли. Он еще не растерял всю
гордость.
— Чертова ловушка, — пробубнил Ковальски себе под нос.
— Что?
— Ничего.
Он совершенно забыл о высокой чувствительности передатчика.
— Ловушка? Вы что, снова попались в ловушку?
Однако Ковальски хранил молчание.
Его мама однажды заявила: «Лучше держать рот на замке, и пускай люди догадываются, что ты
дурак, чем открыть его и отмести все сомнения».
— Смотрите внимательно, куда идете, — сказала Шэй.
Ковальски подавил раздражение и не ответил резко, как хотел бы. Он слышал боль в ее голосе.
Боль и страх. Тихонько поднявшись с земли, он взял в руки винтовку.
— Семнадцать минут, — напомнила доктор Розауро.
— Я уже почти на месте.
Беленькая асьенда казалась мирным островком цивилизации в буйном море дикой природы. Ее
прямые линии и стерильная чистота резко контрастировали с беспорядочными зарослями, так и
дышащими первобытной жизнью. На тщательно ухоженной территории находились три строения,
они соединялись между собой крытыми переходами и окружали небольшой внутренний дворик с
садом. В центре двора стоял трехъярусный, оставшийся еще от испанцев фонтан, отделанный
синим и красным кафелем. Фонтан был выключен.
Ковальски внимательно изучал огороженную территорию, пока у него не заныла от напряжения
спина. Ни малейшего движения, если не считать колыхания ветвей кокосовых пальм. Постепенно
поднимался ветер, предвещая приближение настоящего урагана. С юга на небе собирались
грозовые тучи.
— Кабинет на первом этаже, — раздался в ухе голос доктора Розауро, — ближе к задней части
дома. Будьте осторожнее с оградой, она может быть под напряжением.
Получив это предупреждение, Ковальски тщательно осмотрел ограду, представляющую собой
металлическую сетку почти восьми футов высотой, увенчанную свитыми кольцами колючей
проволоки. От джунглей ее отделяли примерно десять футов скошенной и выжженной травы. Ни
следа присутствия людей.
И ни намека на присутствие мартышек.
Он подобрал обломанную ветку и сделал шаг к ограде. Прищурившись, протянул ветку к
металлическим кольцам. Взглянул на босые ноги.
«Может, чтобы не шарахнуло, я должен быть в обуви?» — мелькнула мысль.
Но откуда он мог знать?
Как только ветка коснулась сетки, тишину нарушил пронзительный вой. Ковальски проворно
отскочил назад, но потом сообразил, что звук доносится не от ограды, а откуда‑то слева. Со
стороны берега.
«Крикун» доктора Розауро.
— С вами все в порядке? — спросил Ковальски.
Длительная тишина заставила его задержать дыхание. Наконец приемник ожил.
— Наверное, мандрилы чувствуют мою рану, — сообщила Шэй. — Они собираются вокруг меня.
Идите и не останавливайтесь.
Ковальски еще несколько раз ткнул веткой в ограду — так ребенок тычет палкой в дохлую крысу,
желая убедиться, что она действительно мертва. Наконец, удовлетворившись, он перерезал
колючую проволоку ножницами, выданными доктором Розауро, и быстро перелез на ту сторону,
уверенный, что ограда просто притворялась и сейчас его пронзит смертельный разряд.
Со вздохом облегчения он приземлился на аккуратно постриженную лужайку, которая составила
бы честь любому гольф‑клубу.
— У вас мало времени, — напомнила доктор, что, впрочем, было излишним. — Если все пройдет
удачно, выбирайтесь через заднюю дверь и ступайте прямо по парку. Он выведет вас на берег. А
там уже и до северного полуострова рукой подать.
Выслушав инструкцию, Ковальски поспешил к главному зданию. Переменившийся ветер принес
запах дождя и… зловонное дыхание смерти — вонь мяса, долго пролежавшего на солнце. С
дальней стороны фонтана лежало тело человека.
Ковальски обошел вокруг трупа. Лицо несчастного было обглодано до костей, одежда порвана на
мелкие лоскутки, живот искромсан, так что раздувшиеся внутренности вывалились на землю и
остались там, словно красочный серпантин. Судя по всему, после того как добрый доктор покинул
дом, здесь вволю попировали мартышки.
В одной руке мертвец крепко сжимал пистолет. Затвор был открыт, магазин пуст. В любом случае,
это недостаточно эффективное средство против чертовых плотоядных тварей. Ковальски поднял
собственное оружие и стал высматривать, не скрываются ли в темных уголках обезьяны. Но не
увидел даже тел. Либо бедолага был совершенно никудышным стрелком, либо краснозадые
твари утащили трупы сородичей, возможно намереваясь сожрать позднее — устроить себе
роскошный пир.
Затем Ковальски обошел кругом внутренний дворик. Пусто.
Тогда он направился прямиком к главному строению. Что‑то — то ли увиденное, то ли
услышанное — не давало ему покоя. Он поскреб голову, пытаясь прогнать назойливую мысль, что
что‑то не так, но безуспешно.
Поднявшись на сделанное из чистого дерева крыльцо, он подергал дверную ручку. Закрыто на
задвижку, но не заперто. Одним ударом ноги он толкнул дверь, держа винтовку наготове и
ожидая нападения целой своры мартышек.
Дверь распахнулась во всю ширь, ударилась о стену и, вернувшись в исходное положение,
захлопнулась прямо перед носом Ковальски.
Раздраженно фыркнув, он снова схватился за ручку, но та не двинулась с места. Он потянул
сильнее.
Заперто.
— Это шутка, что ли?
Вероятно, от удара засов встал на место и замок защелкнулся.
— Вы уже внутри? — осведомилась Розауро.
— Почти, — буркнул Ковальски.
— Что вас держит?
— Ну… тут случилось такое… — Он попытался придать голосу робости, но подобная манера
подходила ему, как корове седло. — Думаю, кто‑то запер дверь.
— Попробуйте окно.
Ковальски осмотрел большие окна, расположенные по обе стороны от запертой двери. Выбрал
правое и заглянул внутрь. Взору его открылась простенько обставленная кухня с дубовыми
столами, большой белой раковиной и старой эмалированной посудой. Неплохо. Может, в
холодильнике даже отыщется бутылочка пива. Помечтать, конечно, можно. Но дело прежде
всего.
Отойдя на шаг, он прицелился из винтовки и выстрелил. Серебристый диск прошил насквозь
деревянную дверь с такой же легкостью, как и пуля. Щепки полетели во все стороны.
Он ухмыльнулся. Кажется, все не так уж плохо.
Отступив еще немного и встав на краю крыльца, он перевел переключатель в режим
автоматического огня и разнес дверь в мелкую щепу.
Затем просунул голову в образовавшуюся дыру и крикнул:
— Эй, есть кто дома?
И в этот момент Ковальски увидел оголенный провод, с шипением скачущий вокруг серебристого
диска, воткнувшегося в оштукатуренную стену… и точнехонько в электропроводку. В дальней
стене торчали и другие диски… а один пробил трубу, ведущую к газовой плите.
Ковальски даже не стал чертыхаться.
Он лишь успел повернуться и отпрыгнуть, как за его спиной грохнул взрыв. Волна раскаленного
воздуха швырнула его вперед, накинув пончо на голову. Он ударился о землю и покатился по
двору, словно гигантская шаровая молния. Запутавшись в пончо и ничего не видя перед собой, он
врезался прямо в истерзанный труп. Все части тела ныли, вокруг стоял непереносимый жар,
пальцы инстинктивно пытались нащупать опору, но находили под собой лишь мертвую плоть и
противно хлюпающие кишки.
Давясь и кашляя, Ковальски наконец освободился от пончо и скинул его на землю. Поднялся,
дрожа, как мокрый пес, и с отвращением вытер окровавленные руки. Затем посмотрел на здание.
За окнами кухни плясали языки пламени. Через дыру в расстрелянной двери сочился черный дым.
— Что случилось? — прохрипел в приемнике голос доктора.
Он только покачал головой. Пожар стремительно распространялся; огонь, вырвавшись через
разбитые окна, уже весело принялся за крыльцо.
— Ковальски?
— Дурацкая ловушка. Я в порядке.
Подобрав винтовку, запутавшуюся в складках пончо, он закинул ее на плечо и решил обогнуть
здание и войти в заднюю дверь. По словам доктора Розауро, кабинет Салазара находился в той
части дома.
Если он поспешит…
Ковальски взглянул на часы.
Восемь сорок пять.
Время проявить себя.
Он шагнул к северной части асьенды. Босая нога поскользнулась на вылезших из трупа кишках,
склизких, словно банановая кожура. Ковальски потерял равновесие и упал лицом вниз, при этом
больно ударившись. Винтовка стукнулась о слежавшуюся землю, и палец непроизвольно нажал на
спусковой крючок.
Вылетевшие из ствола серебристые диски нашли цель: неуклюже передвигающегося человека,
который только что выбежал во двор. Одна рука его была охвачена пламенем. Мужчина взвыл —
но не в предсмертной агонии, а в дикой ярости. Ковальски увидел болтающиеся на нем остатки
облачения дворецкого. Глаза, наполовину прикрытые тестообразной субстанцией, яростно
сверкали. Изо рта, искривленного в жуткой ухмылке, текла пена. Вся нижняя половина лица
мужчины была в крови; кровью также насквозь пропиталась некогда белоснежная
накрахмаленная рубашка.
И тут Ковальски осенило — вообще‑то такое с ним редко случалось, — он понял, что же все это
время не давало ему покоя. Отсутствие трупов обезьян. Он предположил, что их сожрали свои же
сородичи — но в таком случае почему они оставили весьма привлекательный кусок мяса?
Ответ оказался прост: здесь и не было никаких обезьян.
Судя по всему, на этом острове заразились не одни только животные.
И не одни животные были каннибалами.
Дворецкий — рука его по‑прежнему полыхала — ринулся на Ковальски. Первая очередь
смертоносных дисков поразила нападающего в плечо и шею. Лохмотья моментально окрасились
кровью. Но целеустремленного маньяка не так‑то просто было остановить.
Прицелившись пониже, Ковальски нажал на спусковой крючок.
Веер сверкающих дисков прошил воздух на высоте колена, вспарывая сухожилия и дробя кости.
Словно подкошенный, дворецкий рухнул на землю, оказавшись почти нос к носу с Ковальски, и
железной хваткой вцепился ему в горло. Ногти глубоко вонзились в плоть. Ковальски поднял дуло
винтовки и сказал:
— Извини, приятель.
Прицелившись в раскрытый рот, он зажмурился и выстрелил.
Раздался противный вой, бульканье — и моментально все стихло. Острейший диск сделал свое
дело.
Ковальски открыл глаза: дворецкий лежал лицом вниз, раскинув руки.
Он был мертв.
Перекатившись на бок, Ковальски вскочил на ноги. Осмотрелся по сторонам — не подкрадывается
ли еще кто‑нибудь? — и припустил к дальней стороне асьенды. По дороге он заглядывал в окна:
раздевалка, лаборатория со стальными клетками для животных, бильярдная.
В задней части здания бушевал огонь, раздуваемый все усиливающимся ветром. Черный дым
взвивался в потемневшие небеса.
В следующем окне Ковальски увидел комнату с массивным деревянным письменным столом и
книжными полками, высящимися от пола до потолка.
Вероятно, тот самый кабинет профессора.
— Доктор Розауро, — прошептал Ковальски.
Тишина.
— Доктор Розауро, — повторил он чуть громче.
Опять ничего.
Тогда он схватился за горло и обнаружил, что передатчик исчез, слетел во время драки с
дворецким. Он оглянулся на двор. К небу поднимались языки пламени.
Итак, теперь он предоставлен самому себе.
Снова повернувшись, Ковальски заметил, что задняя дверь, ведущая в кабинет, приоткрыта.
Отчего же ему это не нравится?
Чувствуя, что время уходит, Ковальски осторожно двинулся вперед, готовый в любую секунду
выстрелить. Кончиком винтовки слегка подтолкнул дверь, открывая ее пошире.
Он готов был увидеть что угодно: взбесившихся обезьян, маньяков‑дворецких… но не молодую
женщину в плотно облегающем черном костюме для подводного плавания.
Она склонилась перед открытым напольным сейфом, но, услышав скрип двери, быстро
выпрямилась, демонстрируя гибкость. На одном плече у нее висела сумка. Распущенные влажные
волосы были черными, как сама ночь, кожа светилась медовым загаром. Чуть затуманенные глаза
цвета жженого сахара посмотрели прямо на Ковальски.
В руке красавица сжимала девятимиллиметровый «ЗИГ‑Зауэр».
Ковальски привалился к косяку и выставил перед собой винтовку.
— Кто вы такая, черт бы вас побрал?
— Меня зовут Кондеза Габриэлла Салазар, сеньор. Вы вторглись во владение моего мужа.
Жена профессора. Ковальски нахмурился. Ну почему все симпатичные девицы так любят разных
проходимцев? Однако он проигнорировал заявление сеньоры Салазар и задал новый вопрос:
— Что вы здесь делаете?
— Вы американец, sн?[4] Отряд «Сигма», конечно же. — Последнюю фразу она произнесла с
усмешкой. — Я пришла за препаратом мужа. Хочу предложить бартер: противоядие в обмен на
свободу моего marido.[5] Вы не остановите меня.
После этих слов она выстрелила. Пуля пробила дыру в двери, и на спину Ковальски посыпались
щепки.
Легкость, с какой чертовка обращалась с пистолетом, наводила на мысль, что для нее это
привычное занятие. Кроме того, раз она вышла замуж за профессора, значит, ее IQ на несколько
пунктов выше, чем у мужа.
Мозги и к ним в придачу такое шикарное тело…
Жизнь — несправедливая штука.
Ковальски попятился, прикрывая боковую дверь.
Над ухом разлетелось вдребезги оконное стекло. Пуля просвистела так близко, что, казалось,
задела волоски на шее. Он пригнулся и вжался в саманную стену.
Сучка вышла из кабинета и теперь медленно выжимала его на улицу.
Тело, мозги… а кроме того, она знает здесь каждый кустик.
Ничего удивительного, что ей удалось избежать встречи со всеми местными страшилищами.
С улицы послышался пока еще далекий гул. Характерное хлопанье лопастей приближающегося
вертолета. Того, который должен забрать доктора Розауро. Ковальски посмотрел на часы.
Естественно, вертушка прибыла раньше времени.
— Торопились бы к своим друзьям, — посоветовала сеньора Салазар. — Пока еще не поздно.
Ковальски уставился на тщательно ухоженную лужайку, простирающуюся до самого берега. На
ней абсолютно негде было укрыться. Эта сучка его непременно уложит, не пройдет он и
нескольких шагов.
Настало время выбора: действовать или умереть.
Удобно расставив ноги, Ковальски сосредоточился, сделал глубокий вдох и прыгнул спиной
вперед, вышибая стекла, оставшиеся в оконной раме после выстрела. Винтовку он крепко прижал
к груди. Приземление получилось не самым удачным, однако Ковальски смягчил удар,
перекатившись на бок и не обращая внимания на впившиеся в тело острые осколки.
Встал, пригнувшись, и поднял винтовку. Поводил ею из стороны в сторону.
Комната была пуста.
Сучка свалила.
Что ж, придется побегать по дому, поиграть в кошки‑мышки.
Он двинулся к двери, ведущей в глубь здания. Под потолком собирались клубы дыма. В
помещении было жарко, как в печке.
На плече у женщины висела сумка. Значит, она уже достала из сейфа содержимое и сейчас
направлялась к одному из выходов.
Соблюдая осторожность, Ковальски приблизился к следующей комнате.
Это была застекленная терраса. Окна от пола до потолка открывали вид на великолепные сады и
лужайку. Ротанговая мебель и расставленные повсюду ширмы давали прекрасную возможность
спрятаться. Необходимо было как‑то перехитрить красотку. Выманить из укрытия. Да, именно так.
Крадучись и держась задней стены, он почти миновал террасу. Никто не нападал. Вот уже впереди
и дверь в прихожую. Открытая дверь.
Ковальски про себя выругался. Когда он заходил, она наверняка выходила и сейчас уже на
полпути к Гондурасу. Он мигом выскочил на заднее крыльцо и обвел взглядом окрестности.
Никого.
«Мозгов у тебя недостаточно, чтобы ее перехитрить», — подумал Ковальски.
И тут, точно в подтверждение этой мысли, в его затылок уткнулся горячий ствол. Вероятно,
чертовка рассудила так же, как и он, — что пытаться пересечь открытое пространство слишком
рискованно, — а потому решила дождаться его появления и напасть.
Она даже не стала утруждать себя никаким остроумным замечанием — вроде того, что из него,
Ковальски, получился бы неплохой спарринг‑партнер. Одно‑единственное слово в качестве
утешения:
— Adiуs.[6]
Тут раздался внезапный вой сирены, который заглушил пистолетный выстрел. От неожиданности
оба подпрыгнули.
По счастливому стечению обстоятельств он прыгнул влево, она вправо. Пуля насквозь прошила
правое ухо Ковальски, которое взорвалось фейерверком боли. Он крутанулся на месте, нажимая
спусковой крючок винтовки. Не целясь, он просто палил очередями на уровне пояса. Ноги не
удержались на краешке крыльца, и он рухнул вниз. Следующая пуля просвистела буквально в
миллиметре от кончика его носа.
Как назло, приземлился он на тропинку, выложенную камнем, и с отчетливым стуком приложился
головой. От удара винтовка выскользнула из рук. Приподняв голову, Ковальски увидел, что к нему
приближается сеньора Салазар.
«ЗИГ‑Зауэр» был нацелен прямо на него.
Свободную руку женщина прижимала к животу, безуспешно пытаясь удержать выползающие из
распоротого нутра кишки. Темная кровь заливала гидрокостюм. Она приподняла дрожащую руку с
пистолетом; их глаза встретились. В ее взгляде читалось удивление. В следующий миг оружие
выпало из ослабевшей руки, и сеньора Салазар повалилась на Ковальски.
Он вовремя успел откатиться в сторону.
Тело с мягким шлепком приземлилось на каменную дорожку.
Ветер переменил направление, и шум летящего вертолета звучал теперь совсем близко.
Обещанный шторм накатывал с удвоенной силой. Ковальски наблюдал, как вертушка сделала
круг над пляжем — словно собака в поисках места для сна — и начала снижение над плоским
каменистым участком берега. Он наклонился над телом Габриэллы Салазар и стянул с ее плеча
сумку. Поспешил было к берегу, но остановился и вернулся подобрать винтовку. Оружие он не
оставит.
Пока он бежал, на ум пришли два вопроса.
Первый. Вой сирены из ближайших зарослей очень быстро оборвался. И второй. Он давно не
слышал ни слова от доктора Розауро. Ковальски проверил, на месте ли приемник. Он был все там
же, за ухом.
Почему же она столько времени молчит?
Вертолет — «Сикорский S‑76» — сел перед ним, поднимая в воздух тучи песка. Вооруженный
мужчина в камуфляже направил на Ковальски винтовку и проорал, заглушая рев вращающихся
лопастей:
— Стоять! Немедленно!
Ковальски послушно замер, опустил винтовку и поднял над головой сумку.
— У меня здесь это чертово противоядие! — крикнул он, оглядывая берег в поисках доктора
Розауро; однако той нигде не было. — Я Джо Ковальски! Военно‑морские силы США! Я помогаю
доктору Розауро!
Быстро переговорив с кем‑то в салоне вертушки, мужчина жестом велел Ковальски подойти. Тот,
пригнувшись под винтами, подобрался к открытой двери и протянул сумку. Смутно виднеющаяся
в салоне фигура приняла ее и проверила содержимое. Забормотала рация.
— Где доктор Розауро? — спросил незнакомец.
Очевидно, он был здесь главный. Холодные голубые глаза внимательно изучали Ковальски.
Тот покачал головой.
— Коммандер Кроу, — обратился к главному пилот, — мы должны немедленно улетать.
Бразильские военные только что отдали приказ о начале бомбежки.
— Забирайтесь, — не терпящим возражения тоном скомандовал главный.
Ковальски ступил в салон. И замер, услышав пронзительный вой сирены. Совсем коротенький. Он
донесся из джунглей, росших сразу за песчаной полосой пляжа.
Доктор Шэй Розауро намертво вцепилась в сплетение ветвей где‑то посередине ствола
широколиственного дерева какао. Обезьяны галдели внизу. Один раз ее все‑таки цапнули — за
ногу. Кроме того, Шэй потеряла рацию и рюкзак.
Несколько минут назад, после того как обезьяны загнали ее на дерево, она обнаружила, что
сверху, с ее импровизированного насеста, открывается прекрасный вид на асьенду. Как раз
достаточный, чтобы увидеть Ковальски, к затылку которого приставлен пистолет. Не в силах
оказать более действенную помощь, Шэй воспользовалась единственным доступным средством
— «крикуном».
К несчастью, рев сирены всполошил мандрилов, те кинулись врассыпную и задели ветку, на
которой сидела Шэй. Она потеряла равновесие и… уронила «крикун». Угнездившись вновь на
ветке, она услышала два выстрела.
И надежда умерла в ней.
Внизу один из мандрилов, тот самый вожак, подобрал «крикун» и нажал на кнопку включения.
Вой сирены на мгновение вспугнул стаю. Но всего лишь на мгновение. Теперь обезьяны привыкли
к сирене и не так боялись ее, она лишь пробудила в них ярость.
Плотнее обхватив ствол, Шэй посмотрела на часы и закрыла глаза. Перед мысленным взором
вновь предстали лица детей… лицо напарника…
Ее внимание привлек шум над головой. Характерные звуки вращающихся лопастей вертолета.
Ветер закачал ветви дерева. Шэй подняла руку… и опустила.
Слишком поздно.
Вертушка скрылась. Через считаные секунды бразильская авиация начнет атаку. Шэй разжала
пальцы и выпустила дубинку — последнее оставшееся оружие, но какой теперь от него прок?
Дубинка упала, не причинив обезьянам никакого вреда, только привлекла их внимание.
Мандрилы возобновили попытки запрыгнуть на нижние ветки и добраться до жертвы.
Шэй могла только беспомощно за ними наблюдать.
Вдруг снизу донесся знакомый голос.
— Сдохните, долбаные грязные мартышки!
Из джунглей появилась массивная фигура. Ковальски. В руках у него была винтовка, изрыгающая
серебристые снаряды. Обезьяны завизжали. Шерсть полетела в разные стороны. В одно
мгновение зелень джунглей окрасилась кровью.
Ковальски решительно двигался вперед. Из одежды на нем были лишь трусы. Да еще винтовка в
руках. Он поворачивался в разные стороны, ведя ураганный огонь по ненавистным «мартышкам».
Уцелевшие обезьяны удирали что есть мочи.
Все, кроме вожака. Здоровенный самец встал на задние лапы и, обнажив длинные клыки, заревел
так же громко, как Ковальски. Мужчина немедля оскалился в не менее жуткой гримасе.
— Заткнись, к чертовой матери!
Чтобы придать своим словам вес, он выпустил в вожака длинную очередь, разрезавшую тело
животного на мелкие кусочки. Покончив с этим, Ковальски закинул винтовку на плечо и подошел к
дереву. Прислонившись к стволу, посмотрел вверх.
— Готовы спуститься, доктор?
Почувствовав огромное облегчение, Шэй наполовину сползла, наполовину свалилась с дерева в
объятия Ковальски.
— Противоядие?.. — сразу спросила она.
— В надежных руках, — заверил он. — Сейчас находится на пути к материку вместе с
коммандером Кроу. Он предлагал мне полететь с ними, но я… мне кажется, я обязан вам жизнью.
Быстро, как только возможно, они ковыляли от леса к берегу. Ковальски поддерживал Шэй под
локоть.
— Но как мы выберемся?.. — вздохнула она.
— Есть тут у меня одна идея. Кажется, прелестная леди оставила нам прощальный подарок. — Он
указал на шикарный водный мотоцикл «Кавасаки джет скай», стоящий на берегу у самой воды. —
К счастью для нас, Габриэлла Салазар так любила мужа, что рискнула ради него явиться на остров.
Наконец они добрели до гидроцикла. Ковальски помог женщине сесть на заднее сиденье, а сам
устроился спереди.
Обняв его за талию, она заметила его окровавленное ухо и сочащиеся кровью порезы на спине.
Новые шрамы в дополнение к его богатой коллекции. Шэй прикрыла глаза и прижалась щекой к
обнаженной спине Ковальски. Совершенно обессиленная и благодарная.
— Да, если уж мы заговорили о любви, — произнес он, заводя двигатель и прибавляя газу, — я,
наверное, тоже влюбился…
Пораженная Шэй подняла голову, но тут же снова ее опустила. Успокоенная. Ковальски не мог
оторвать глаз от висящей через плечо винтовки.
— О да, — мечтательно добавил он, — эта детка действительно супер.
Рудазов Александр - Мой герой
(~12 мин., юмор. рассказ
о том, к чему могут привести долгие выборы жениха…)
– О, прекраснейшая из дев этого мира, один лишь взгляд – и я сражен твоей красотой наповал! Я
хочу купаться в твоем дыхании и слышать биение твоего сердца, я хочу утонуть в озерах твоих глаз
и захлебнуться в звуках твоего прекрасного голоса!…
– Хватит уже… – скучающе махнула платком Мариэла. – Языком ты ворочать умеешь, вижу. А как
насчет чего-нибудь более значимого?
– Значимого?… – нахмурился жених, прерванный на середине цветистого комплимента.
– Кто ты? Чем ты славен?
– Я?! Я Гьорджи Исталикский, третий сын великого герцога Исталикского!
– Я не спрашиваю, чей ты сын. Я спрашиваю, кто ты есть такой. Чего ты достиг? Чем прославился?
Что сделал в жизни, что считаешь себя достойным наследной принцессы королевства Леору?
– Я… Я хотел бы быть весенним дождем – я горячими лобзаниями покрыл бы твое тело…
– Я же сказала – завязывай с этой любовной дребеденью, – поморщилась Мариэла. – Если захочу
послушать что-то подобное, то позову придворного трубадура – он хотя бы в рифму трендит.
Герцогский сынок сник окончательно. Ему говорили, что королевской дочке нелегко угодить, но
он решил все же попытать счастья. Уж очень хороша собой прекрасная принцесса! Медно-рыжие
волосы, ласкающие плечи, лукаво изогнутые брови, длиннющие ресницы, глаза цвета небесной
лазури, крохотный носик, капризно надутые губки-розаны, тоненькая алебастровая шейка, плечи,
которые так и хочется расцеловать…
Ангел, не девушка!
Только очень уж придирчивый ангел. Ну вот какого дьявола ей нужно, спрашивается?!
– Чтоб тебе до старости в девках просидеть… – пробурчал себе под нос Гьорджи, выходя из
приемной залы.
А Мариэла осталась грустно рассматривать мозаичную фреску на стене. Эту картину нарисовали
еще при дедушке нынешнего короля, и принцесса любовалась ею бессчетное множество раз.
Бездыханный дракон с отрубленной головой и молодой красавец-рыцарь в сияющих доспехах,
усаживающий на коня спасенную девушку…
Как романтично! Как упоительно!
И как мало похоже на реальный мир…
– Ну что, этот тоже ушел несолоно хлебавши? – послышалось сзади.
– Ах, маменька, я никак не могу найти достойного жениха!… – всхлипнула Мариэла, жалобно
глядя на королеву. – Они все – просто надутые хлыщи, славные только голубой кровью и
сундуками с золотом! Где же, где те бравые рыцари былых эпох, что не приходили свататься без
драконьей головы под мышкой?!
– Ну, живых драконов никто не встречал уже много лет… – задумчиво произнесла королева
Фудзира. – Наверное, все ушли на свадебные подарки. Может, чуточку поумеришь требования? Я
в молодости тоже долго перебирала, но в конце концов все же умерила…
– Знаешь, мама, по-моему, ты их умерила слишком сильно… – фыркнула Мариэла.
– Ну, твой отец все же не самый плохой вариант…
Почему-то прозвучало это как-то неубедительно. Словно королева сама не верила в собственные
слова.
– Так значит, ты хочешь в женихи настоящего героя?… – поспешила сменить тему Фудзира. –
Такого, который ежедневно совершает подвиги, защищает всех слабых и обездоленных и не
боится сразиться с драконом один на один?…
Глаза принцессы моментально затянуло мечтательной поволокой. Мариэла с детства грезила
рыцарскими романами и песнями трубадуров – о самоотверженных воителях, что готовы
принести на алтарь любви не пустые слова, а самую свою жизнь…
– Конечно, эпоха легенд осталась в прошлом… – сожалеючи взглянула на фреску с рыцарем и
драконом Фудзира. – Но странствующие герои все же еще кое-где сохранились…
– А где?… Кто?… – тоскливо вздохнула Мариэла.
– Ну откуда же мне знать, доченька?… Но ты можешь узнать сама.
– Как?
– Забыла?… Через три дня тебе исполняется шестнадцать…
Мариэла встретилась взглядом с матерью. На обоих лицах расплылись понимающие улыбки…
Святилище древнего оракула, воздвигнутое на горе близ столицы. Величайшее сокровище
королевства Леору. Гранитный истукан знает все об этом мире и может ответить на любой вопрос.
Но отвечает он не каждому. Только тот, кто родился в полдень воскресенья, будет услышан
оракулом. Три вопроса. Три вопроса он может задать в день своего шестнадцатилетия и три
ответа получит – точных, правдивых и максимально полных.
– Ответь мне, оракул! – огласил исполинскую залу звонкий голосок. – Я, принцесса Мариэла,
желаю задать положенные мне три вопроса!
– Я СЛУШАЮ, – прогрохотало каменное изваяние.
– В этом мире ведь еще остались герои! Скажи, кто из них самый великий?
– ГРРРРХРРРМММ… – на миг задумался оракул. – ВНЕ ВСЯКИХ СОМНЕНИЙ, ЭТО НЕВЕРО. РЫЦАРЬ
НЕВЕРО, ПРОЗВАННЫЙ БЕССТРАШНЫМ.
– Звучит уже неплохо! – оживилась Мариэла. – А какие у него есть героические достоинства?
– ОН СОВЕРШИЛ МНОЖЕСТВО ПОДВИГОВ. ПОБЕДИЛ МНОЖЕСТВО ЧУДОВИЩ. ВСЕГДА ПРИХОДИЛ
НА ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО ПОПАЛ В БЕДУ. ОН ДОБР, ХРАБР, БЛАГОРОДЕН, СПРАВЕДЛИВ И НЕ ЗНАЕТ
СЕБЕ РАВНЫХ В СРАЖЕНИИ. ЖЕНЩИНЫ ВЛЮБЛЯЛИСЬ В НЕГО ПО УШИ ПРИ ОДНОМ ЛИШЬ
ВЗГЛЯДЕ.
– Просто замечательно! – еще сильнее оживилась принцесса. – Я должна срочно его увидеть! Как
мне с ним познакомиться?…
– ЭТО НЕСЛОЖНО.
Мрачная темная пещера. Под эти своды почти не проникает свет, а единственные звуки,
нарушающие тишину, – капанье воды и приглушенное урчание.
Мариэла поправила свечку и рассеянно перевернула страницу. Третий день уже пошел. Дракон
начинает беспокоиться, даром что ненастоящий.
Этот спектакль они придумали вместе с маменькой по совету все того же оракула. Самый лучший
способ завязать роман с героем-спасителем… позволить себя спасти, конечно.
Да и вообще – когда еще представится случай посмотреть, как совершаются настоящие подвиги?
По сценарию ее, Мариэлу, похитил и утащил к себе в пещеру ужасный дракон. И теперь она
томится в ожидании избавителя. А избавителем, разумеется, будет Неверо Бесстрашный – ему
уже отправили почтового голубя с мольбой о помощи.
Дракона сотворил придворный волшебник. Так себе дракончик получился, хиленький. Да и
заклятие нужно обновлять каждый день.
Но живого-то ящера взять неоткуда…
Ничего, так даже лучше. Выглядит этот дракон совсем как настоящий, но опасности почти никакой.
А то еще, чего доброго, повредит жениху что-нибудь важное – какой из него потом муж будет?…
– Эгей, дракон, покажись!… – донеслось из темного туннеля. – Сразись со мной достойно и честно!
Сердце романтичной девушки встрепенулось. От этого голоса повеяло цокотом копыт и звоном
мечей. Уверенность и бесстрашие, разлитые в каждом звуке.
Именно так должен звучать голос подлинного рыцаря.
– О, мой храбрый герой, я здесь, спаси меня!… – как можно жалостнее простонала принцесса,
торопливо пряча пачку книжек в мягкой обложке и принимая самую томную позу.
Из проема выступила рослая фигура, закованная в доспехи. При виде этих доспехов Мариэла чуть
не запищала от восторга – точь-в-точь как те, в которых красуется рыцарь, изображенный на
любимой фреске!
Саму битву с драконом принцесса разглядела плохо. Мешал сладкий туман, застилающий глаза.
Да и прошло все довольно быстро – герой оказался действительно героем. Несколько скупых
отточенных движений, три резких взмаха мечом – и наколдованный дракон валится бездыханной
тушей.
– Мой герой! – спрыгнула с лежанки принцесса, опрокидывая на пол блюдце для вишневых
косточек. – Ты ли рыцарь Неверо Бесстрашный?
– А мы что, знакомы?… – удивленно донеслось из-под шлема.
– Да!… то есть нет, но я уже давно мечтаю с тобой познакомиться! Ты спас меня из когтей этого
ужасного чудовища, храбрый рыцарь!…
– Ну да, вроде как спас, – согласился Неверо. – Хотя дракон какой-то странный был. Дохлый очень.
Уродец, наверное. Они вообще-то вымерли уже, драконы…
– Да кого это волнует! – отмахнулась Мариэла, повисая у рыцаря на шее. – Мой герой, я наследная
принцесса королевства Леору, а ты освободил меня! Вырвал из когтей ужасного зверя! Теперь,
согласно обещанию моего отца, ты получишь мою руку и сердце!
– Жениться, что ли? – явно заинтересовался Неверо. – Хе!… Это, пожалуй, можно… Я тут как раз
подумываю завязать со всей этой беготней и драчками, уйти на покой…
– Почему?! – заморгала принцесса.
– Да ревматизм проклятый совсем замучил… – прокряхтел рыцарь, откидывая забрало.
Из-под него высунулась длинная седая борода.
Сахновский Игорь - Быть может
(~13 мин., соврем. проза
"...этого мальчика угораздило влюбиться в кино. " А через 12 лет они встретились...)
В школе все нормально влюблялись в одноклассниц или, в крайнем случае, в учительниц. То есть
по месту учёбы. А этого мальчика угораздило влюбиться в кино. Он увидел её на экране, в
дрянном фильме про «школьные годы чудесные», – и захотел, чтобы киносеанс вообще не
кончался. Она не отличалась ничем особенным: тихая русая девочка в очках, с негустой чёлкой. И
симпатизировал ей один лишь плюгавый троечник, которому она отвечала товарищеской заботой
о его слабой успеваемости. Это по фильму. А по жизни получалось, что такое вот невзрачное
сокровище, милая серая мышка, нечаянно вскружила голову мальчику с периферии. Кстати, вовсе
не троечнику, а возможно, даже потенциальному принцу.
В городе, где он жил, имелись два кинотеатра плюс четыре дома культуры. И по высшей воле
кинопроката картина планомерно переходила из одного полупустого зала в другой, а следом за
ней плёлся влюблённый мальчик, лелея в кармане деньги на билет, сэкономленные за счёт
школьных завтраков. В общей сложности он успел посмотреть фильм двенадцать раз – но даже не
запомнил сюжета. Зато он увидел чернильную родинку возле губ и мягкую застенчивость жеста,
когда она поправляла белую вязаную шапочку, закрывая уши на морозе.
Иногда она выглядела бледнее обычного (наверно, не выспалась). Иногда приветливей, чем
нужно, обращалась к своему троечнику (прилип как банный лист)… И каждый новый просмотр
окрашивался беспокойством: «Как же она там – до сих пор без меня?»
Она убегала по свежей слепящей лыжне вместе с киношными одноклассниками, ещё не зная
своей судьбы. А снизу выползали титры с путеводной подсказкой: «В роли Насти – Лена Литаева».
Декабрьским вечером потенциальный принц дождался густых фиолетовых сумерек и покалечил
фотоафишу у кинотеатра «Мир», вырезав из неё дорогой образ, который доверил совершенно
секретной тетради в клетку.
Наконец картина отмерцала, ушла с экранов – а мальчик остался.
Новый год затевался еле-еле, как отсыревший бенгальский огонь, и было не жалко отдать хоть
десять Новых годов за возможность просто сесть в поезд, по-взрослому независимо, доехать до
столицы (где же она ещё может жить?) и поскорей отыскать эту девочку, дать ей знать о своём
существовании.
Нет, он был не настолько наивен, чтобы везти свою любовь как долгожданный гостинец, как
ценную бандероль. Но сама возможность, то есть невозможность такой поездки вдруг стала
заглавным, потрясающим событием, которое, между прочим, не обязано было случаться. Как
совсем не обязателен мираж взрослой любви посреди тошнотворной пустыни, именуемой
«школьные годы чудесные». Их предстояло ещё превозмогать невыносимо долго. И, забегая
вперёд, сразу скажем – никуда он поехать не смог, этот влюблённый семиклассник. А чувств его
хватило, безо всякой подпитки, на целых полгода.
Ведь, наверно, чувствам, если они живые, надо хоть чем-то питаться, кроме смятой картинки в
секретной тетради.
На этом, собственно, можно было бы считать историю законченной, если бы не звонок по
телефону, спустя двенадцать лет, из ледяного номера московской гостиницы, где неузнаваемо
взрослый, невменяемо трезвый персонаж избывает время служебной командировки,
затянувшейся до почти полного замерзания. Почему он вдруг вспомнил?.. Я представляю
беспризорное падение пороховой пылинки в пересушенный валежник, снайперски точный
солнечный укол, крошечную вспышку и – через час-другой – пожарную панику егерей среди
огненных лесных соборов…
Так или иначе – он вспомнил! И поразился неравенству между собой и собой. Стоило так
тосковать, погибая от желания попасть в этот недостижимый город, чтобы, начерно прожив
двенадцать минут экранного времени, очнуться в центре Москвы на жестяной простыне с
клеймом и содрогнуться от собственной трезвости.
Он снял казённую трубку и набрал 09.
– Тридцать седьмая слушает… – Да уж, такие числа не делятся ни на что. Только сами на себя.
– Будьте добры, квартирный телефон Литаевых.
– Вторая буква «Евгений»?
– Нет. Вторая буква «Игорь».
– Адрес?
Спросила бы чего полегче. Но без адреса она не скажет – не положено. И тут с внезапным азартом
он исполнил жалостную песню «Мы сами не местные», то есть прямо с Урала, замерзаем у «трёх
вокзалов», близких никого нету, кроме Литаевых. Нашего деверя семья. То есть шурина. Девушка,
дайте всех – кто есть!
Видимо, спето было неплохо. Потому что суровая тридцать седьмая, вздохнув, продиктовала ему
сразу четырнадцать номеров.
Теперь у простуженного командировочного появилось занятие, от которого он, кстати, не ждал
абсолютно никакого результата.
Первый номер по списку – короткие гудки. Перезвоним позже. По второму – трубку сняли
немедленно, словно ждали звонка. «Да», – сказал тихий прозрачный голос. Она только
произнесла «да», и уже не было никаких сомнений. Но всё же: «Вы – Лена?» Мог бы и не
спрашивать.
– Вы та Лена, которая в «Зимних каникулах» снималась?
– Да. Это я. А что вы хотели?
А действительно, чего он хотел? И что, вообще, ей сказать? Об этом он не успел подумать ни
тогда, в седьмом классе, ни тем более сейчас. И по какой-то дурацкой инерции исполнил ещё
один куплет про «не местных» – они вроде бы только ради этой встречи и прибыли сюда со своей
Камчатки.
– Я сейчас иду на работу. Может быть, вечером…
Она уже, оказывается, ходит на работу. Вечером – замечательно. Где ей будет удобно.
– Знаете кинотеатр «Мир» на Цветном бульваре?
Ещё бы он не знал кинотеатр «Мир»! Других названий, кажется, в природе не существует.
– Вы меня видели где-нибудь, кроме фильма?.. Значит, вы меня не узнаете. Я буду в пёстрой
шубке.
…К вечеру потеплело и пошёл снег. Она увидела его раньше, чем он её, – совершенно
незнакомая, симпатичная молодая женщина в меховом капоре. Незамужняя воспитательница
детсада и думать забывшая о всяких там съёмках, куда она попала девочкой случайно,
практически с улицы.
Уже на третьей минуте знакомство вошло в русло непринуждённой болтовни о чём угодно. В
озабоченной заснеженной толпе возникла праздно гуляющая парочка. Кавалер не нашёл ничего
развлекательней, чем описать вкратце историю своего школьного сумасшествия на киношной
почве. Дескать, бывают же курьёзы. Дама выслушала участливо и осторожно поинтересовалась:
жива ли ещё та бесценная реликвия, огрызок покалеченной афиши? Он признался, что жива,
умолчав о том, что фотография давно уплыла в коллекцию младшей сестрёнки, собирающей
«артистов».
Потом они угодили ненароком на индийский фильм, где было чем заняться – например, читать
угрожающим шёпотом садистские стишки, кто больше вспомнит: «Петя хотел поглядеть на
систему – теперь его можно наклеить на стену!» И прыскать, сдерживая хохот, и стукаться
горячими лбами. От неё пахло мокрым мехом и польскими духами «Быть может». Они так
неприлично ржали, что растроганные болельщики Зиты и Гиты чуть не выгнали их из зала. Да они
и без того сами вскоре ушли, потому что придумали сварить глинтвейн в гостиничных условиях
посредством кипятильника.
И в его одноместный номер они легко проникли, не замеченные сторожевой гостиничной тёткой
(отлучилась как нельзя вовремя), и то, что они обозвали глинтвейном, обжигаясь, пили из
блюдечка, дуя, как на чай, сидя на постели со скрещенными босыми ногами, по-персидски, и
сознаваясь друг другу в нежных глупостях на чистом персидском языке. И можно было беззаветно
сражаться за казённую подушку – одну на двоих, и просить воспитательницу о срочных
воспитательных мерах, и без спроса целовать чернильную родинку возле рта.
А следующей ночью где-то между Ярославлем и Галичем, разбуженный храпом соседа по купе, он
почему-то вспомнил её фразу: «Мне нужен муж старый, лет сорока пяти, и молодой любовник…»
И вдруг понял, что никогда не простит себе эту встречу, отнявшую последние права у маленького
школьника, сочинителя великой счастливой Возможности, до которого теперь уже точно никому
нет дела.
Ещё он подумал, что признак взрослости – всеядность. Матёрому пьянице не важно, чем гнать
своё похмелье: драгоценным старинным вином, огуречным лосьоном или теми же польскими
духами. Взрослый спасается чем попало от тоски и невозможности жизни.
Он вернулся из Москвы к вечеру тридцать первого декабря и сразу очутился в нарядном
предновогоднем доме, где пахло мандаринами, пирогами и хвоей. Где кухня потела над
неизбывным «оливье», на вешалке не хватало мест и разномастные шубы лежали вповалку. Где
красили губы, шептались в прихожей, готовились к неизбежному чуду, придирчиво оглядывая
себя, как перед выходом из-за кулис. Среди красивших губы была его будущая жена – самая
неяркая, но самая милая. Этот розовощёкий праздник захлёбывался в наивных клятвах и
счастливо завирался. Гости кричали – каждый своё. Потом затихали, теснясь по двое в медленном
танце.
И никого уже больше не ждали.
Сахновский Игорь - Нелегальный рассказ о любви
(~27 мин., соврем. проза
Они познакомились в чате. "Мы с тобой, не встретимся НИКОГДА", - твёрдо решила она.
Но вмешался случай...)
Через два месяца после начала их знакомства она вдруг поинтересовалась, как он выглядит.
Вместо ответа Локтев сказал: «Подожди пару минут. Курить очень хочется», – и пошёл на кухню.
Было уже за полночь. Домашние спали без задних ног. Он покурил в темноте под форточкой,
принюхиваясь к дыханию оттаявшей городской реки – нечистому, как после заспанного пьянства.
На обратном пути из кухни Локтев на всякий случай заглянул в зеркало в прихожей. Ничего
особенного там не наблюдалось – разве что некоторая элегантная помятость.
– У нас уже апрель, как ни странно, – сообщил он, вернувшись к компьютеру.
– И у нас, – отозвалась она. – А как насчёт внешности?
– Внешность имеется.
– Подробней, пожалуйста.
– Что я могу сказать? Негр преклонных годов. Лысоватый. Без одной ноги, кажется левой.
Утрачена в боях между Севером и Югом. Нос ампутирован полностью, уши – частично…
– Знаешь, Локтев, в чём весь ужас? Я теперь настолько в тебе нуждаюсь, что мне уже не важно,
как ты выглядишь. Даже твой пол роли не играет!
– Пол – совершенно точно, что не женский, – уверенно заметил он.
– Я уже без тебя не могу.
– По такому случаю скажи мне хотя бы, где ты живёшь?
– Отстань. Достаточно твоей догадки, что не в России. Сообразительный ты мой.
– Рано или поздно я приеду и тебя найду. Значит, так. Я снимаю номер в гостинице неподалёку…
– Ты вообще такие слова забудь! Хочешь моей смерти? И своей заодно… Мы с тобой, Локтев, не
встретимся НИКОГДА.
Они познакомились в компьютерном чате «Романтическая Болталка» – одной из тех виртуальных
комнат, куда беспризорные обитатели Интернета сбредаются со всего света ради так называемой
роскоши человеческого общения. Ради трёпа, флирта, взаимной рисовки, быстрорастворимых
симпатий и сложносочинённых обид, перемывания костей и многословных суррогатов секса,
окрашенных в линялые цвета плохой литературы. Ради плотного гула эфемерных голосов,
пишущих себя на экране монитора сверху вниз, как бесконечную пьесу голодных самолюбий и
грамматических ошибок, и ради одного-единственного желанного голоса, который тоже, скорее
всего, никогда вживую не будет услышан.
В «Болталке» обыкновенно бесчинствовала кислотно-зелёная молодёжь, словно бы
загипнотизированная лёгкой возможностью поговорить с целым миром, но иногда вдруг
панически осознающая, что говорить-то, собственно, нечего…
Локтев, как водилось у него перед сном, пощёлкал по цветным ссылкам круглосуточной интернетгазеты, обходя стороной поднадоевшие наживки типа «Сенсация этого часа!!!» или «Горячие
блондинки обнажаются полностью…». В тот вечер он заглянул в чат из простого любопытства, как
одинокий приезжий в незнакомом городе заглядывает в самое шумное злачное место, – и почти
сразу же заметил её. Нельзя было не заметить среди «Крутых Драконов», «Терминаторов» и
«Самураев» – просто «Ирину». На этой площадке хищного молодняка она выглядела чуть
растерянной, подраненной антилопой, которой некуда уйти от алчных бойких львят: им ещё не
под силу порвать её на сахарные кусочки, но позаигрывать и покусаться – одно удовольствие. Она
либо не успевала реагировать на подколы и прямые дерзости, либо отвечала на них с вяловатым
простодушием. От львят не отставали их ревнивые подружки («Орхидея», «Ведьмочка»,
«Мулатка»), углядевшие дефектность чужачки в её недостаточной бойкости.
Локтев понаблюдал эту сцену, выбрал себе какой-то зверский ник, вроде «Джека-Потрошителя»,
и влетел в чат, намеренно забыв поздороваться. Первым делом он порекомендовал заводиле
Терминатору срочно сменить памперс. Потом официально запретил Крутому Дракону сниматься в
мультфильмах, чтобы не засорять собой кинематограф. Голос повысил Самурай, но Джек сурово
напомнил, что священный долг самураев – харакири, так что хватит трусить, уже давно пора!..
Когда публично униженные персонажи пришли в себя и кинулись вколачивать в клавиатуры весь
свой непечатный запас, никакого Джека-Потрошителя уже не было и в помине. Зато в чат под
шумок вошёл деликатный Женя-Хирург и завёл с Ириной тихую человеческую беседу в «привате».
Она поставила ему в упрёк негуманное обращение с молодняком: всё-таки ещё дети, – на что ей
было резонно отвечено: «Детей чрезвычайно полезно иногда бить по попе» (Локтев имел
существенный педагогический опыт благодаря сыну-семикласснику – знатному испытателю
пороха в домашних условиях).
В первые же вечера их с такой силой потащило, поволокло навстречу друг другу, таким мощным и
сладким током пробивало от губ до пальцев ног, что физическая недосягаемость служила скорей
облегчением, чем пыткой. Им ничто не мешало прильнуть и совпасть счастливейшим образом –
лишь грандиозный кусок туманного пространства, о котором всерьёз и подумать-то страшно…
Впрочем, уже к двадцатой совместной полуночи Локтев всё же подумал, невзирая на запрет, и
страха не испытал. Страшно почему-то было ей. Она даже заплакала, когда Локтев признался, что
видит показания компьютерной программы, которая всегда исправно регистрирует время
вхождения собеседницы в чат – причём её местное время. Оно то приходилось на Гринвич, то
странным манером сдвигалось на час ближе… Обескураженный Локтев невпопад цитировал
подлую матушку из русской народной песни: «Дитятко моё!.. Я тебя не выдам!» И уже всерьёз
клялся, что никогда, никогда в ту сторону шагу не сделает без ведома и против её воли… Только не
рыдай, чёрт бы тебя побрал!
Именно этот «пакт» о невстрече позволил им не стесняться в словах. Словами и только словами –
жуткими, влажными, голыми – они теперь любились, ласкались, лакомились и травились. «Что ты
сейчас делаешь?» – спросил он однажды, когда после сумасшедшего, бесстыдного диалога она
смолкла на несколько минут, словно выпала в глубокий обморок. «Что ты сейчас делаешь?» –
дважды повторил он. «Ты будешь смеяться – глажу рукой клавиатуру». Иногда она грустно
шутила: «Сиротинушка мой!» И просила: «Потрогай сам себя, будто бы это мои руки!» – «Ещё
чего! – ругался Локтев. – Что за развраты в наше сложное время?..»
Напряжённость возникала, лишь когда он пытался нащупать реальные обстоятельства.
– У тебя есть муж? – справлялся Локтев как ни в чём не бывало.
– Да! Есть! Верный и любящий!! – рапортовала она, и четыре восклицательных обозначали некий
вызов, чтобы, не дай бог, ни один гад не заподозрил, что она одинока и нелюбима.
«Зато я теперь неверный муж».
– А дети?
– Детей нет. Ты бы хотел, чтобы я тебе родила?
– Хотел бы. Дочку.
Как-то раз компьютер показал просто невероятную разницу во времени – двенадцать часов.
Локтев чуть не поперхнулся горячим «Nescafe», прокашлялся и спросил между прочим:
– Ты не в курсе, как там погодка в Вашингтоне?
– В Нью-Йорке, Штирлиц. Довольно свеженькое утро.
В свои свеженькие утра – то морозные, то слякотные – доктор Локтев, пьяный от недосыпа, ездил
на трамвае в хирургическое отделение старой муниципальной больницы, где за нескончаемую
череду сложнейших, муторных операций ему более-менее регулярно платили неназываемо
стыдную зарплату. Изредка, в угоду вдохновенью, Локтев сочинял блестящий экономический
экспромт, отчего резко богател – недели на две. Жена Локтева, администратор фешенебельной
гостиницы, зарабатывала гораздо лучше и не оставляла попыток увлечь мужа «чем-то реальным».
Но в ту отчаянную весну уже более чем реальной стала его невозможная, заведомо обречённая
страсть к невидимой женщине из неизвестной страны.
…Иногда они ссорились и мучили друг друга – как старые любовники, ожесточённые взаимной
зависимостью.
Одна из ссор имела под собой опять же географическую подоплёку. Локтев подключился к Сети
минут на десять раньше условленных 23:00 и нечаянно подглядел в чате её разговор с неким
СуперБизоном. Видимо, впечатлённый своей беспримерной мужественностью, СуперБизон
говорил всем женщинам в чате «крошка» или «моя малышка», зачем-то перемежая кириллицу с
латиницей.
– tЫ оtkuda kroШka?)))) – окликнул он Ирину.
«Прямо так тебе и сообщили!» – подумал желчный Локтев.
– Из Рима, – легко ответила она. И Локтев испытал такой острый приступ бешенства, что сам себе
поразился…
«Ты просто ревнуешь», – сказала она чуть позже. Он молчал. Она попросила: «Женя, не надо. Не
делай со мной так!..» Он ничего и не делал – просто выключил компьютер и лёг спать. В соседней
комнате презрительно посапывала жена. Четыре дня Локтев не выходил на связь. Он даже не
заглядывал в электронную почту, где мариновались непрочитанные записки: «Не надо, не надо со
мной так!..»
Обалдев от счастья, локтевский сынок Дима захватил освободившийся компьютер, чтобы
сокрушать каких-то монстров. Его папаша теперь после работы, как тяжелобольной, валялся на
диване в обнимку с толстой книжкой либо утыкался лицом в стену, делая вид, что спит.
«В тот же день, – сообщал любимый локтевский автор, – он перебрался в Женеву, в гораздо более
пристойное жильё, съел на обед омара по-американски и вышел в проулок за отелем, чтобы
найти первую в своей жизни женщину…» Локтев закрыл книгу и стал сводить сложные счёты с
обойными цветочками. Но жизнь сворачивала куда-то влево, обрываясь на мёрзлом известковом
пустыре.
На пятый вечер длинно и требовательно зазвонил телефон. Изумительно свежий голос произнёс:
«Привет, мой милый», – и Локтев точно понял, что пустырь в его жизни если и случится, то не
скоро.
– Имею сильную потребность в общении с пожилыми неграми.
– Они тоже имеют… Ну и что дальше?
– Локтев, у них есть полное право, полное!
– Как ты сейчас выглядишь? Расскажи мне.
– Ну… Волосы – такой блестящий беж с темнотой. Сегодня с утра надела чёрный шелк с тонкими
цветами, на голое тело. Каблук высокий, бёдра не гуляют. Жёсткой отмашки не наблюдается.
Спина прямая, ноги длинные, поэтому кажусь выше себя… Алло-о! Что нас ещё беспокоит?
– Город Рим, в частности.
– Так… Что у нас там с городом Римом? Записывай. Абсолютно безумное, дурацкое место. Пыль,
жара, туристы ходят стадами, мотоциклы тарахтят. Колизей полуразрушен. Калигула – подлюка.
Юлия Цезаря просто убили насмерть. В ресторанах встречаются мухи. На улицах – ты не поверишь
– итальянские мужчины пристают. В общем, город так себе. Но я бы, кстати, не отказалась пожить
на Палатинском холме… Локтев, не забудь: сегодня в 23 часа!..
Автоматическая девушка вдруг предупредила по-французски: оплаченное время истекло, и он
заслушался короткими гудками.
– Откуда звонили? – спросила жена.
– Из Женевы, – ответил он тоном, отсекающим любые дальнейшие вопросы.
Глубоко за полночь, после «сеанса связи», Локтев брал на поводок свою чистокровную дворнягу
Берту и шёл погулять вокруг дома. У Берты вечно болели уши, поэтому локтевская жена связала
ей стильную косынку для гуляний. Локтев вышагивал вдоль знакомой наизусть темноты,
воображая себя ночной стражей. Берта, похожая в косынке на молодую бандершу, увлечённо
инспектировала местность. Рядом шевелилась грузная река.
Дожили до лета. В июле главврач больницы навязал ему пятидневную командировку в Москву –
формальную, никчемушную. Локтев ехать не хотел, изобретал отговорки. Потом махнул рукой.
– Я скоро в Москву поеду, – сказал он ей. – Ты смотри тут не балуйся без меня!
Она с минуту помолчала и ответила:
– Знаешь что? Я, пожалуй, тоже в Москву съезжу…
И он подпрыгнул на месте, как мальчик.
В оставшиеся до отъезда дни она позвонила ему шесть раз. Та же бесповоротная решимость,
стоявшая недавно за словом НИКОГДА, теперь звучала в доскональных инструкциях, диктуемых
Локтеву с другого конца света.
Ему надлежало, добравшись до столицы и нигде после поезда не останавливаясь, промчаться по
двум коротким отрезкам на метро, выйти к междугородной автобусной станции и сесть на
автобус, идущий в сторону Клина. «Локтев, я тебя умоляю: никаких такси и тем более частников –
только рейсовый автобус!» – «Бережёшь мои финансы?» – «При чём здесь твои финансы…
Запоминай дальше: ты едешь до Теряевска». – «Название сама небось придумала? Таких городов
вообще в природе нет». – «Ещё как есть. Это скорее посёлок… С аборигенами в контакты не
вступай, с хулиганами не связывайся. Смотри высокие дома. Их там всего два. В одном гастроном,
в другом почта. Тебя интересует первый подъезд в доме, где гастроном. Девятая квартира». –
«Меня ещё интересует, сколько у нас будет времени». – «Мало… Сутки или двое».
Последний раз она позвонила из аэропорта. От трубки тянуло мировым сквозняком.
– Пожалуйста, не выйди случайно в Клину.
– Постараюсь…
– Я тебя жду!
– …а то мы уж очень редко видимся.
Ему досталось боковое место в плацкартном вагоне, забитом до полной имитации лагерного
барака, где взаимная неприязнь страждущих тел с грехом пополам возмещалась пресловутым
российским терпеньем. Локтев почти всю дорогу прилежно спал на пыльной своей боковине,
вставая лишь изредка покурить и умыться.
Москва смотрелась огромным перевалочным пунктом на пути из провинции в захолустье.
Нужный Локтеву автобус нехотя впустил в себя пассажиров и стартовал с часовым опозданием.
При восхождении на каждый достойный ухаб допотопный «ЛиАЗ» хрипел и содрогался. Из-за
жёсткой пыли и выхлопных чихов хотелось бросить вредную привычку дышать. Когда через два с
лишним часа водитель объявил остановку «Теряевск», несбыточную до последней минуты, Локтев
готов был заподозрить сговор автобусного парка с некими секретными службами… Но травленная
дорожным смрадом зелень, и милые толстоногие тётки в шлёпанцах, торгующие клубникой и
молодой картошкой, и цветастые палисадники вокруг невзрачного жилья – всё было чересчур
настоящим.
С площади-маломерки, привстав на цыпочки, пытался взмыть жизнелюбивый Ленин. Панельная
пятиэтажка с почтой стояла чуть ближе, чем ею заслоняемый гастроном, – у Локтева оставалось
короткое время для конспиративного маневра. Прогулочным шагом (с большой дорожной сумкой
это выглядело смешновато) он стал огибать площадь по травяному периметру, не приближаясь к
домам. Достигнув удобной точки обзора, Локтев собирался повернуть влево, но никуда не
повернул. Потому что в этот момент – прямо через площадь – он увидел её.
Светлая шатенка в чёрном обтягивающем платье болтала у магазинного крыльца с какой-то
бабулей, вовсю жестикулируя голыми руками. Бабуля улыбчиво кивала и зачем-то приоткрывала
свою кошёлку, словно приглашала в ней разместиться. Незнакомка мельком взглянула на
площадь – Локтев невольно подался назад, заслоняясь ленинским подножием. Между тем
говоруньи расцеловались и пошли в разные стороны: старая в магазин, а молодая – в крайний
подъезд того же дома. Но прежде, чем уйти, она снова обернулась к площади и легко, по-птичьи
махнула рукой: иди сюда! «Кому это она?» – удивился Локтев. И снова удивился, теперь уже своей
тупости. Кроме Ленина, вокруг не было ни души. Она его ждала в тесном тамбуре подъезда.
Совершенно чужая привлекательная женщина, старше его и немного выше. Длинные светлые
глаза, будто размытые акварельной кистью, и крупные губы на тонком холёном лице. Гибкая
худоба и низкая тяжеловатая грудь. И вот эти первые секунды разглядывания стали настоящей
пыткой для Локтева. Он вдруг вообразил себя плюгавым уродом, который к тому же дурно пахнет:
вагонным туалетом, двухдневной немытостью, пылью. Потом она признается, что сама была
близка к панике: «Мне показалось, ты страшно разочарован!..» Словно в кривые зеркала, они
посмотрелись один в другого, готовые немедленно разъехаться – подальше от своей стыдной
ошибки. Но никуда они не разъехались, а пошли в девятую квартиру, где Локтев тотчас
эвакуировался в ванную и там, намывшись до младенческой чистоты, разглядывал себя голого с
последней критической строгостью военного трибунала. Она принесла ему свой махровый халат,
в котором он сидел потом на полутёмной, вечереющей кухне напротив неё, молчащей, и пил
крепкий чай с какими-то странными лимонными пирожками – их можно было есть десятками, а
всё хотелось ещё, но после шестого пирожка она встала, не очень уверенно подошла и села к
нему на колени. Поцелуй получился мокрый и лимонный. Но уже после второго и третьего
хотелось только таких. Поскольку не было ничего вкуснее в жизни, чем эти сильные бархатные
губы и голое дыхание изо рта в рот. Стройный поцелуйный сюжет то и дело отклонялся в стороны
из-за неловких вторжений под халат, вынимания тонкостей и пышностей из жаркого трикотажа,
расширения тесных прав и набега мурашек. И каким-то чудом в полупустой, нежилой квартире
среди полной тьмы была обнаружена свежая холодная постель, куда они в горячке слегли и,
можно сказать, больше не вставали.
…За тридцать часов, прожитых вместе, они не сказали друг другу почти ничего: так много слов
произросло до встречи, на пустом, казалось, месте. Больше не было слов – было истовое или,
скорей, неистовое служение одной вере, общей для всех счастливых и обречённых, –
проникновению в райский разрез на смутной, срамной поверхности бытия. Проникновению или
возврату.
«Напиши мне что-нибудь на прощанье, оставь свой почерк, я спрячу…» Он нацарапал в её
записной книжке чьи-то стихи, давным-давно случайно запомненные и дотерпевшие до своего
часа:
Чего от небес я мог бы желать
неистово и горячо?
Того, чтоб тысячу лет проспать,
уткнувшись в твоё плечо.
Обратно в Москву ехали вместе на таком же полумёртвом «ЛиАЗе», но сидели порознь – она так
настояла. На полпути двигатель закашлялся и окончательно сдох. Шофёр, тоскливо ругаясь, бегал
из кабины до пыльного капота и обратно. Потом беспомощно развёл руками и сел на своё место.
Пассажиры – в большинстве пожилые сельчане – хмуро молчали. Локтев увидел, как она достала
сотовый телефон, похожий на перламутровую пудреницу, и стала набирать длинные номера,
один за другим. В полной тишине мужики и бабы с напряжённым вниманием слушали её
телефонные разговоры то на английском, то на французском. Под конец она набрала ещё один
номер и сказала по-русски, понижая голос: «У меня всё нормально… Я недалеко от Фрязина».
Сидевший рядом с Локтевым дед выразительно хмыкнул – никакого Фрязино поблизости не было
и быть не могло. Спустя полчаса стояния в чистом поле шофёр поймал на трассе попутный
«Икарус» и уговорил о подмоге. Водитель «Икаруса» соболезнующе заглянул в погибший «ЛиАЗ»,
чтобы заявить свои условия спасения – по двадцать рублей с носа. Две трети пострадавших даже
не шевельнулись. Толстосумы, владеющие лишней двадцаткой, легко покидали автобус под
тяжёлыми взглядами остающихся…
Уже в городе они посидели за пластиковым столиком уличного кафе позади хвостатого Юрия
Долгорукого. Вокруг было так людно, что каждый в отдельности был практически невидим.
Пользуясь этим, она извлекла ноги из высоких туфель и сложила на колени Локтеву, отчего ему
стало горячо и тесно. Узкие белые ступни с маленькими луками изгибов умещались в ладонях.
Разговор шёл примерно в таком духе: «Что скажете, доктор Локтев? Какой ваш диагноз?» –
«Дайте посмотреть… На фоне полного хронического совершенства только один приличный
дефект. Вот тут». – «Вон там??» – «Вот здесь». – «Мне щекотно и не видно. Покажи!» Он нагнулся
к её левой ступне и поцеловал поперечную морщинку в нежной впадине возле пятки.
Они даже не простились. У спуска в подземный переход на Пушкинской она потребовала: «Всё.
Дальше не ходи!» Он кивнул, посчитал до десяти и с небольшим отрывом пошёл следом. Она
пересекла Тверскую почти бегом, но Локтев успел заметить, как возле «Макдоналдса» она
нырнула в длинный затемнённый автомобиль, в каких возят очень большое начальство либо
очень солидных бандитов. Двухметровый белёсый младенец в чёрном костюме захлопнул за ней
дверцу и остро оглядел местность, не отводя от уха переговорное устройство.
В поезде на обратном пути Локтеву приснились бестолковые командировочные хлопоты,
необычно весёлая жена (он её сто лет такой не видел) и его чистокровная Берта в вязаной
косынке, бегающая по берегу замусоренной реки.
Она позвонила через неделю во время сильного ливня: «Понимаешь, такая беда… Я тут себя всю
обсмотрела – и нашла этот дефект на ноге! Я нашла. И теперь просто не знаю, что делать! Уже
ведь ничего не исправишь… Локтев, ничего не исправишь. Такая беда». Он стоял с телефонной
трубкой у жаркой щеки, глядя на заплаканную реку сквозь непроходимую светлую стену дождя.
Сахновский Игорь - Непорочное зачатие
(~14 мин.
Непорочное зачатие у вдовы, давно не встречающейся с мужчинами?
Житейская история - детектив.)
Чиндяев, сколько его помню, мне всегда виделся недотёпой, такой стынущей манной кашей… Он
не умел и, кажется, боялся выбирать. Потому что любой, самый мелкий выбор – это всё же
предпочтение чего-то одного и одновременный отказ от остального. А у Чиндяева даже вопрос
«Тебе чай или кофе?» вызывал минутное замешательство. Он мямлил: «Чай, – и, ещё помолчав: –
То есть кофе».
Девушки и женщины шли рассеянными косяками даже не мимо юного Чиндяева, а сквозь него –
настолько не замечали. И почему он вдруг, при всей нерешительности, выбрал профессию врачагинеколога, какую шутку тут сыграло «мужское-женское» – судить не берусь. Пусть фрейдисты и
психоаналитики сами жуют свои ароматные булки.
Когда я гостил у Чиндяева в маленьком городе Оренбургской области, в его холостяцкой
хрущёвке, он уже был разведён – нестарая старая дева из регистратуры в чиндяевской больничкеполиклинике решила сходить замуж, чтобы родить законно. (С потомством не получалось, оба
заняли глухую оборону, а через полгода в загсе Чиндяев так сформулировал причину развода:
«Она уж больно часто спрашивает – не успеваю отвечать…»)
Я избывал два пустых дня – остаток ненужной командировки, полёживая на чиндяевском диване
с романом Генри Джеймса, а вечером хозяин угощал меня какой-то самопальной настойкой и, в
час по чайной ложке, докладывал о своей службе: «Вот… Приём веду… Тёток принимаю… А то,
бывает, по три аборта в день… Хочешь мою работу посмотреть?» Я не успел ответить «нет»,
потому что он вдруг засмеялся: «А-а-а… Боишься?» И моё запоздалое «нет» теперь означало
только, что не боюсь. Чего там бояться-то?.. А наутро получилось так, что мы с Чиндяевым в
одинаковых белых хламидах и колпаках, подначивая друг друга обращениями «коллега!», вместо
лёгкой медицинской экскурсии въехали с ходу в неопрятную трагедию семнадцатилетней дурочки
с восьмимесячным животом, пытавшейся вернуть себе стройность посредством домашней
аптечки. Плод, почти зрелый, она угробила, но выкинуть не смогла, и теперь её собственная участь
решалась в несколько десятков минут моим вчерашним собутыльником и медсестричкой
деревенского вида, взиравшей на Чиндяева из-под марлевой маски, как рабыня на
боготворимого фараона. Скажу справедливости ради, Чиндяев себя вёл безупречно. Он
действовал быстро и наверняка, извлекая по частям, можно сказать, из живой могилы этого
никому не нужного младенца, эту новорожденную гибель. Пока я бесполезно, будто в ступоре,
стерёг вскинутую до небес голую ногу пациентки с облупленным алым лаком на ногтях, Чиндяев
замещал Господа, и ему это удалось.
На обратном пути из больницы к нам пристала торговка с блошиного рынка, пожелавшая всучить
именно Чиндяеву странный свитер колбасного цвета по несъедобной цене. Уже и после
насильственной примерки (свитер был длинный и безнадёжно тесный), и после моих тонких
намёков («Спасибо, отличное платье! Вот только похудеем и накопим денег…») мой спутник
продолжал топтаться на месте, не решаясь твёрдо отказаться. Ясно было: Чиндяев неисправим.
…И вот к такому человеку пришла на приём прелестная женщина, уже не очень молодая, со
стыдной, уму непостижимой тайной, которую некому доверить.
Пока она за ширмой снимала одежду, затем взбиралась на «пыточное» кресло, Чиндяев сидел,
уставясь в бумаги. Потом мыл руки, натягивал перчатки. Это был такой служебный принцип: ноль
эмоций, ничего личного, взглядами не терзать. И всё же в его отношении к пациенткам нечто
физическое присутствовало. Чиндяев мне как-то признался: он первым делом замечает запахи, не
в силах не замечать. Можно целый справочник составить – чем они пахнут. Дынями,
простоквашей, сыром, свежей речной рыбой, водорослями, рассолом, марганцовкой,
одеколоном, прошлогодними листьями, тальком, сеном, чаем, халвой, потной синтетикой,
мылом, фруктами, бросовой кровью… Эта женщина пахла изумительной чистотой. Он вдруг
почувствовал себя слишком грубым по сравнению с её обнажённостью.
Впрочем, сложностей не наблюдалось. Два-три дежурных вопроса и короткий осмотр –
достаточно, чтобы сообщить: «Нормальная беременность, восемь недель». Он сбросил перчатки и
вернулся к своему столу. «Я и сама вижу…» – тихо сказала пациентка М.Н., полных лет 42, регулы с
11 лет, не замужем, один ребёнок, патологии не наблюдаются, абортов не было. Она уже
одевалась.
Садясь на край стула, М.Н. повторила:
– Я и сама всё знаю. Но этого не может быть!
Врач, скучая, подумал об очереди в коридоре.
– Направление на аборт выписываем? – спросил он сухо.
– Поймите!.. Я не могла забеременеть. У меня никого нет.
Он слушал с вежливым раздражением.
Без малого четыре года – вдова. Сын уже взрослый, студент. После того как не стало мужа, ни с
кем не встречалась. «Ни с кем, – на одной жалкой ноте нудила М.Н., – ни с кем… Просто никто не
нравился!»
С тем же успехом она могла излагать биографию девы Марии. Или прогноз погоды на позавчера.
– Слушайте, – не выдержал Чиндяев. – При чём здесь?.. Вы же взрослый человек… Зачем так уж
оправдываться? Никто не спрашивает о вашей личной жизни. Меня, например, это вообще не
касается!
Она закрыла руками лицо – и молча заплакала.
И вдруг он поверил ей. Он поверил. Возможно, потому что сам был одинок, и ценил свою
неухоженную свободу, и слишком хорошо знал эти бесконечные ночи на растерзанном диване,
ночи молодого мужчины без женщины. И пусть кто-нибудь – при такой-то жизни – попробует
сочинить ему отцовство!..
«Подождите!» – бросил он ей вслед, в уходящую спину. Она будто споткнулась, обернувшись. И
вот этот размытый невидящий взгляд, как у поруганной школьницы, замершей на пороге
учительской в просительной позе, кажется, и определил участь Чиндяева, и самой М.Н., и ещё как
минимум двух живых существ. Так, всякий раз окликая уходящего навсегда человека, или вставляя
ключ в замочную скважину, или просто задевая ладонью молчаливый предмет, мы будто
подключаем к высоковольтной сети столь долгую цепь обстоятельств, таинственных и простых,
приводим в действие настолько протяжённый механизм, что даже со скоростью мысли нам не
догнать, не осилить последствий.
Он попросил М.Н. прийти еще раз, в удобное время. Пообещал: «Мы что-нибудь решим!»,
абсолютно не представляя, что тут, собственно, можно решить… Напоследок (скорей, для очистки
совести) снова задал вопрос про аборт. «Как же я смогу, – недоумённо проговорила М.Н., – если я
даже не знаю – КТО это?..»
В конце дня Чиндяев позвонил давнему знакомцу Шерману и сказал максимально небрежно: «Тут
сегодня ко мне одна тётка приходила, с проблемой… Но, по-моему, это твоя клиентура». Шерман
служил в уголовном розыске. Соблазнённый со школьных лет изысканными проникающими
талантами книжных сыщиков, он теперь вынужден был проникать в трясину бытовых разборок и
прочей кухонной поножовщины. «Только знаешь… – Чиндяев спохватился, подумав, что как бы
«сдаёт» М.Н. в милицию. – Постарайся поделикатнее… Сам понимаешь, город маленький». –
«Присылай. Чего уж там! – меланхолично ответил Шерман. – В худшем случае, с тебя коньяк». –
«А в лучшем случае – с тебя».
Когда М.Н. снова явилась, он не рискнул просто отправить её по адресу и сам отвёл в контору к
Шерману – всего-то за два квартала. М.Н. тихо благоухала чистотой, глядела с надеждой. «Всё
будет хорошо», – заверил её доктор Чиндяев и ушёл.
И вот начался его телефонный роман-детектив с Шерманом – по поводу М.Н.
– Ну ты мне подложил ребус, – бурчал Шерман. – Уж так у неё вокруг всё чисто, уж так чисто…
Даже интересно, где она темнит? А главное – зачем?
– Ты что, ей не веришь?
– А ты?.. Ты вообще кто у нас? Гинеколог или Папа Римский?.. Ладно. Буду ещё проверять.
Они созванивались раза два в неделю. Октябрь уже подмораживал. В своём тесноватом синем
пальто, пополневшая, М.Н. приходила к следователю Шерману, глядела на него прозрачными
глазами – такая доверчивая коровушка, – а он всё делал компетентный строгий вид, хотя не знал,
о чём с ней говорить. Над ним уже подтрунивали коллеги: «Как там твоя беременка?»
Чиндяев ловил себя на лишних мыслях. С ним что-то делалось – из ряда вон. Так, он отважился
пофантазировать на семейную тему и был настолько дерзок в своих фантазиях, что домечтался до
совместных поездок на зимнюю рыбалку, в тулупах и валенках, и совместного же сидения
вечером на диване. Впечатлила побелевшая на морозе щека, которую он якобы растирал до
яркого румянца, а ещё тёплая нежная ступня в домашнем шлёпанце (жена безмятежно читала,
сидя рядом с ним, и это точно была М.Н.).
В их тайных консилиумах с Шерманом уже звучали абсурдные ноты. «Я где-то слышал про бани, –
подкидывал тему Чиндяев. – Вроде бы можно там подцепить, на скамейке, от другой женщины…»
– «Не принимается, – гундел осведомлённый Шерман. – Она предпочитает собственную ванну».
И всё-таки зануда Шерман дошёл до гениальной мысли, тоже, впрочем, почти абсурдной.
«Где вы питаетесь?» – спросил он как-то у М.Н. «Сама готовлю, себе и сыну». И тогда он
потребовал, чтобы она регулярно приносила ему всё – абсолютно всё, что ест и пьёт в течение
дня, по чуть-чуть: «Много не надо, я не прожорливый!» – успокоил Шерман. М.Н. взглянула на
него со снисходительным сочувствием, но приносить еду и питьё согласилась.
В тот же день, потратившись на блок дамских сигарет, Шерман обольстил эксперта-криминалиста
Зайнутдинову, склонив её к внеплановым анализам пищевых образцов.
«Изумительно готовите!» – причмокивал Шерман, принимая от М.Н. очередные банки-склянки.
М.Н. смущалась, будто и впрямь верила, что он ценит её стряпню. А в конце недели Зайнутдинова
обнаружила в курином супе сильнодействующее импортное снотворное.
«Бессонница не мучает? Или пьёте что-нибудь?» – мурлыкал воспалённый Шерман, склоняясь над
М.Н. «Вообще никогда», – был твёрдый ответ.
И вот тут начинается стремительный обвал событий, о которых Чиндяев узнает задним числом.
Обыск в квартире у пострадавшей. Ампулы с уже знакомым снотворным – у сына М.Н., в ящике
стола. Задержание подозреваемого; он сознаётся легко, без нажима, добавляя пионерским
голосом: «Я только три раза!»
Дальше хуже: М.Н. мечется, вся чёрная, безголосая, то подписывает заготовленное Шерманом
заявление, то неудачно пытается забрать его назад, снова мечется, плачет, наконец срывается в
жесточайший гипертонический криз, едва доползает до телефона – кровотечение и выкидыш
прямо в машине «скорой помощи».
Остаётся привести ноябрьский разговор в кафе, где всевидящий Шерман хмуро вещает о
будущем, и его прогнозы звучат рифмованным эхом чиндяевских предчувствий: «Его точно
посадят?» – «Точно посадят». – «Статья плохая?» – «Плохая статья». – «Когда он сможет выйти?» –
«Боюсь, живым-здоровым ему не выйти. Там у них свои моральные кодексы». – «Она этого не
переживёт». – «Надеюсь, переживёт».
Чиндяев позвонил мне перед Новым годом – пожелать «успехов в труде и личной жизни».
Я спросил о его собственных успехах, и он внезапно сообщил, что женится. «Её зовут М.Н. Она
практически самая лучшая». – «А что она говорит?» – «Насчёт чего?» – «Насчёт женитьбы». – «Я
пока не спрашивал. Всё никак не соберусь».
Силверберг Роберт - Влюбленный Измаил
(~38 мин., фантаст. рассказ
"Дельфин Измаил — мыслящее наравне с человеком существо, которому ничто извечное и
прекрасное не чуждо: и страх, и радость, и любопытство, и даже любовь. Люди научили его
говорить с помощью электронно-акустических устройств, люди научили его читать
картотеки памяти и информации.
Люди научили ценить мир.
Научили любить.
Так что же такое это прекрасное чувство для дельфина? Похожа она на человеческую
любовь?")
Перевод С. Монахова
Называйте меня Измаилом [первые слова романа американского классика Германа Мелвилла
"Моби Дик"]. Все человеческие существа, которые меня знают, называют меня так. Мой
собственный вид не прибегает к использованию единично-структурного определения, (имени)
для того, чтобы различать индивидов. Но это - имя, данное мне людьми, и я оставлю его за собой.
Оно было дано мне мисс Лизбет Колкинс, к которой я испытываю покровительственное рыцарско-
сексуальное чувство (любовь). Во время всего повествования подразумевается, что определение
"Измаил" относится ко мне и ни к кому больше.
Я принадлежу к виду разумных водных млекопитающих (не приматов и не гуманоидов) tursiops
truncatus - бутылконосых дельфинов. Мне одиннадцать лет, то есть, я, так сказать, полностью зрел
во всех отношениях. Мой вес сто семьдесят пять килограммов, полная длина два с половиной
метра. Я работаю на водоконденсационной станции Жерара Уорзела (Сент Круа, Виргинские
острова) в ремонтной бригаде с 14 августа 1994 года по вашему летоисчислению. С точки зрения
моего вида я весьма привлекателен внешне и к тому же уважаем за свои умственные
способности. У меня большой словарный запас. Я легко общаюсь с представителями хомо
сапиенс, У меня имеются некоторые технические навыки, которые подтверждаются хотя бы
моими успехами в обращении с электронно-акустическим устройством, куда я нашептываю свои
воспоминания.
Я из тех млекопитающих, которые готовы на подвиг во имя вашей расы, и самой желанной
наградой для меня могут служить только более близкие отношения (любовь) с мисс Лизбет
Колкинс. Я умоляю сострадательных представителей вида хомо сапиенс замолвить за меня слово
перед ней. Я верен, надежен, предан, интеллигентен, и мне вполне можно доверять. Я хочу лишь
составить ей приятную компанию (счастье) во всех отношениях и насколько это будет в моих
силах.
Позвольте же мне перейти к сути дела.
Категория 1. Моя работа.
Водоконденсационная станция Жерара Уорзелла находится на северном берегу острова Сент
Круа, Вест-Индия. Ее просто нельзя не заметить. Работает она, как это ясно из названия, по
принципу конденсации воды из атмосферы. Все это мне известно от мисс Колкинс (Лизбет),
описавшей мне в основных чертах ее работу. Цель нашей установки - добывать пресную воду в
количестве двухсот миллионов галлонов в день, содержащуюся в виде паров в нижних слоях
атмосферы (высотой до ста метров). Эти слои перемещаются над всей наветренной стороной
острова.
Труба диаметром 0,9 метра поднимает холодную морскую воду с глубины около девятисот
метров в двух километрах от нашей станции. Труба ежедневно поставляет в конденсатор около
тридцати миллионов галлонов воды при температуре +5°С. Здесь эта холодная вода
соприкасается с тропическим воздухом, который имеет температуру +25°С и влажность от
семидесяти до восьмидесяти. процентов. Соприкасаясь с холодной водой в конденсаторе, воздух
охлаждается до +10°С и приобретает влажность в сто процентов, что позволяет нам извлекать
примерно шестнадцать галлонов воды из кубометра воздуха. Затем вода обессоливается и
поступает в главную систему водоснабжения острова, так как Сент Круа беден собственными
водными ресурсами, необходимыми для обеспечения человеческих потребностей. Члены мэрии,
посещающие нашу установку во время различных торжеств, часто повторяют, что без нашего
завода индустриальное развитие Сент Круа было бы немыслимым.
Из соображений экономии мы сотрудничаем с акватехническим предприятием (рыбной фермой),
пускающим в работу наши отходы. После того, как морская вода прошла через конденсатор, ее
можно сбрасывать обратно; однако, поскольку она взята с морской глубины, то содержит на
тысячу пятьсот процентов больше расщепленных фосфатов и нитратов, чем у поверхности. Богатая
питательными веществами вода перекачивается из нашего конденсатора в замкнутую круглую
лагуну естественного происхождения (коралловый кораль) полную рыбы. Разведение рыбы в
такой благоприятной среде становится высокопроизводительным, и добываемого количества ее
хватает на то, чтобы окупить работу наших насосов.
(Заблуждающиеся человеческие существа часто сомневаются, этично ли использовать дельфинов
для ухода за рыбными фермами, Они уверены, что это низко, заставлять нас выращивать морские
существа, предназначенные в пищу человеку. Могу на это заметить, что, во-первых, дельфины не
видят ничего неэтичного в поедании морских существ, так как мы и сами питаемся рыбой, а вовторых, никто из нас не работает по принуждению).
Я играю важную роль в работе водоконденсационной станции. Я (Измаил) исполняю обязанности
десятника в Ремонтной Бригаде. Я руковожу девятью представителями моего вида. Наша задача следить за впускными клапанами трубы, по которой поступает морская вода; эти клапаны часто
заедает из-за засасывания в них низших организмов, таких, как морские звезды или водоросли,
что снижает пропускную способность установки. Мы должны периодически спускаться вниз и
прочищать клапаны. Это можно делать без участия манипулятивных органов (пальцев), которыми
мы, к сожалению, не обладаем.
(Определенные индивидуумы из вашего числа говорят, что вряд ли правильно использовать
дельфинов в трудовых целях, тогда как представители хомо сапиенс сидят без работы.
Разумеется, возражением на это будет то, что, во-первых, мы самой эволюцией созданы для того,
чтобы работать под водой безо всякого дыхательного оборудования, и во-вторых, что только
хорошо подготовленное человеческое существо может выполнять наши функции, а такие
человеческие существа всегда имеют работу).
Я занимаю свой пост два года и четыре месяца, и за это время ни разу не было сколь-нибудь
заметного снижения пропускной способности клапанов, которые я обслуживаю.
В качестве компенсации за свою работу (жалования) я получаю обильную пищу. Конечно, за
такого рода плату можно нанять обычную акулу. Однако помимо и сверх ежедневной рыбы я
получаю также такие мелочи, как дружба с человеческими существами и возможность
совершенствовать свои глубокие умственные способности посредством справочных кассет,
энциклопедических словарей и различных обучающих устройств. Как видите, я стараюсь
использовать каждую-возможность совершенствования.
Категория 2. Мисс Лизбет Колкинс.
Предваряю свой рассказ выдержками из ее личного дела. Мне удалось заполучить его при
помощи читающего устройства, укрепленного на краю спортивного бассейна. С помощью устных
указаний я мог найти в картотеке что угодно. Я нашел в картотеке то, что мне было нужно, и устно
приказал устройству доставить мне ее дело. Вряд ли кто из людей мог предвидеть, что дельфину
захочется почитать их личные дела.
Ей двадцать семь лет. Следовательно, она из того же поколения, что и мои генетические
предшественники (родители). Однако, я не разделяю бытующего среди хомо сапиенс табу на
отношения с женщинами старшего возраста. Кроме того, если принять во внимание межвидовые
различия, окажется, что мы ровесники. Она достигла сексуальной зрелости, когда была примерно
в два раза моложе, чем сейчас. То же самое и я.
(Я должен согласиться, что она несколько миновала оптимальный возраст, в котором самки
людей находят себе постоянного мужа. Я также беру на себя смелость предположить, что она не
вступала во временные браки, так как в ее деле нет отметок о воспроизводстве. Однако люди не
всегда производят потомство после ежегодных браков, или же браки происходят случайно,
непредсказуемо и не имеют никакого отношения к воспроизводству. Мне это кажется странным и
несколько извращенным, хотя по некоторым данным, имеющимся у меня, можно сделать вывод,
что такие случаи бывают. В доступных мне материалах слишком мало информации о брачных
обычаях людей. Надо бы узнать о них побольше).
Лизбет, как я позволю себе ее называть, имеет высоту метр восемьдесят сантиметров (люди не
измеряют себя длиной) и весит пятьдесят два килограмма. У нее длинные золотистые волосы
(блондинка). Ее кожа, хотя и потемневшая от воздействия солнца, все же довольно светла.
Радужка глаз голубая. Из разговоров с людьми я усвоил, что она считается красивой. Из слов,
которые я услышал, находясь у поверхности, я понял, что большинство мужчин станции
испытывает к ней интимное сексуальное влечение. Я тоже нахожу ее красивой, поскольку
способен разбираться в человеческой красоте (я так считаю). Я не уверен, испытываю ли я к
Лизбет настоящее сексуальное влечение. Скорее всего, то, что не дает мне покоя, сводится к
жажде ее присутствия, ее близости, которую я перевел в сексуальные термины просто для того,
чтобы сделать свое чувство понятным для себя.
Она, вне всяких сомнений, не обладает теми чертами, которые я обычно ищу в подруге (длинный
клюв, гладкие плавники). Любая наша попытка любить друг друга в физиологическом смысле
обернулась бы для нее страданием и даже травмой. Мое желание не таково. Физические
достоинства, делающие ее такой желанной для самцов ее вида (сильно развитые молочные
железы, блестящие волосы, тонкие черты лица, длинные нижние конечности - ноги - и так далее)
не имеют для меня большого значения, а в некоторых случаях даже превращаются в недостатки.
Как, например, две молочные железы в области груди, торчащие вперед таким образом, что,
конечно же, должны мешать ей в воде. Это плохая конструкция, а я никак не способен находить
плохую конструкцию красивой. Видимо, Лизбет и сама сожалеет о размерах и расположении этих
желез, поскольку всегда заботливо прикрывает их узенькой полоской материи. Остальные на
станции (мужчины, которые имеют лишь рудиментарные молочные железы, совершенно не
нарушающие контуров их тел) оставляют их открытыми...
В чем же тогда причина моей тяги к Лизбет?
Она выросла из необходимости быть в ее обществе. Я уверен, что она понимает меня, как не
понимают даже представители моего собственного вида. Следовательно, с ней я буду счастливее,
чем без нее. Это впечатление у меня сложилось уже во время первой нашей встречи, Лизбет,
специалист в области отношений между человеком и китообразными, появилась на Сент Круа
четыре месяца назад, и мне велели вывести свою бригаду на поверхностью чтобы представиться
ей. Я высоко выпрыгнул в воздух для лучшего обзора и сразу же заметил, что она гораздо лучше
тех, кого я видел до сих пор. Ее тело было более тонким, оно выглядело и хрупким, и сильным
одновременно, и ее грация приятно отличалась от неуклюжих самцов, которых я знал прежде. К
тому же ее тело не было покрыто грубыми волосяным покровом, который неприятен всем
дельфинам. (Сперва я не знал, что отличие Лизбет от всех остальных происходит из-за того, что
она самка, так как до тех пор я никогда не встречался с человеческими самками. Но я быстро
догадался об этом).
Я подплыл, включил акустический транслятор и сказал:
- Я десятник Ремонтной Бригады. Мое единично-структурное определение ТТ-66.
- Разве у тебя нет имени? - спросила она.
- Поясни термин "имя".
- Твое... твое единично-структурное определение... но не просто ТТ-66. В нем нет ничего
хорошего. Например, мое имя Лизбет Колкинс. И я... - она покачала головой и взглянула на
контролера завода. - Разве у этих рабочих нет _имен_?
Контролер не мог понять, зачем дельфинам имена. Лизбет понимала она была великолепным
специалистов - и, поскольку в ее обязанности теперь входило подружиться с нами, она с ходу дала
нам имена. Так я был наречен Измаилом. Это было, как она мне сказала, имя человека, который
ушел в море, пережил там множество удивительных приключений и записал их все на пленку,
которую прослушивал всякий исследователь китообразных. Я прослушал рассказ Измаила - того,
_другого_ Измаила и согласился, что это замечательный труд. Для человеческого существа он
довольно проницательно разгадывал повадки китов, вообще-то глупых созданий, которых я не
слишком-то уважаю. Я горд, что ношу имя Измаила.
Дав каждому из нас имя, Лизбет прыгнула в море и поплыла с нами. Должен сказать, что
большинство из нас испытывает к вам, людям, нечто вроде презрения из-за того, что вы такие
плохие пловцы. Я никогда не позволял себе насмешек, что объясняется моим выходящим за
обычные пределы уровнем развития и большим, чем у остальных, сочувствием к вам. Я
восхищаюсь тем усердием и энергией, которые вы демонстрируете при плавании. Я вижу, что вы
преуспеваете в этом, принимая во внимание все, что вам мешает. Как я всегда говорю своим, вы
достигли больших успехов в воде, чем мы достигли бы на суше. Лизбет, во всяком случае, плавала
хорошо (по человеческим меркам), и мы терпеливо соразмеряли свой ход с ее. Мы немного
порезвились в воде. Потом она схватила меня за спинной плавник и попросила:
- Покатай меня, Измаил!
Я и сейчас дрожу, вспоминая соприкосновения наших тел. Она села на меня верхом, ее ноги
крепко сжали мои бока, и я рванулся почти на полной скорости, вымахнув высоко над водой. Ее
смех был свидетельством ее радости, и я снова и снова бросал свое тело в воздух. Это была
демонстрация чисто физических возможностей, и здесь не было места моим необычным
умственным способностям. Я, если хотите, просто показывал себя - дельфина. Лизбет была в
восторге. Когда я нырнул, опуская ее в такую глубину, что она могла испугаться большого
давления, она не ослабила свою хватку и не выказала тревоги. Когда мы вылетели на поверхность,
она закричала, и засмеялась.
Даже в качестве обычного животного я сумел потрясти ее воображение. Я достаточно знаю
людей, чтобы объяснить для себя то возбужденное оживление, которое не сходило с ее лица,
пока я нес ее к берегу. Теперь я должен был продемонстрировать ей свои высшие достоинства,
показать, что по сравнению с другими дельфинами я необычайно быстро учусь и обладаю
необычными способностями к познанию окружающего мира.
Я уже влюбился в нее.
В последующие недели мы много разговаривали. Я. ничуть не польщу себе, если скажу, что она
быстро поняла мою необычность. Мой словарный запас, который был уже достаточно велик,
когда она только что появилась на станции, быстро расширялся благодаря присутствию Лизбет. Я
учился у нее; она открыла мне доступ к кассетам, которые, не придет в голову прослушивать ни
одному дельфину. Я расширил свой кругозор настолько, что это удивляло меня самого. За очень
короткий срок я достиг всего, что знаю сейчас. Я думаю, вы согласитесь, что я могу объясняться
даже более последовательно, чем многие человеческие существа. Я надеюсь, что компьютер,
делая перезапись моих воспоминаний, не исказит их, вставляя ненужные знаки препинания или
допуская неправильное написание слов, которые я произношу.
Моя любовь к Лизбет становилась все глубже и богаче. Я впервые познал ревность, увидев ее
бегущей с энергостанции по берегу с доктором Мэдисоном, рука в руке. Я познал гнев, услыхав
бесстыдные и вульгарные замечания самцов-людей вслед проходящей мимо Лизбет. Очарование
ею заставило меня изучить многие стороны человеческой жизни. Я не рискнул заговаривать с ней
о подобных вещах, но от персонала станции мне удалось узнать об определенных аспектах
феноменального человеческого понятия "любовь". Я также выяснил значения вульгарных слов,
произносимых мужчинами за ее спиной: большинство из них говорило о желании вступить с
Лизбет в брак (как правило, временный). Были здесь и восторженные описания ее молочных
желез (интересно, почему это люди постоянно помнят, что они млекопитающие?) и даже
округлой области сзади, как раз над тем местом, где ее тело разделялось на две нижних
конечности. Соглашусь, что эта область привлекала и меня. Мне кажется таким _непривычным_,
что чье-то тело может расщепляться посредине!
Я никогда в открытую не заявлял о своих чувствах к Лизбет. Я старался медленно подвести ее к
понятию того, что я люблю ее. Как только она сама обо всем догадается, думал я, мы сможем
вместе начать планировать наше будущее,
Как я был наивен!
Категория 3. Заговор.
Мужской голос произнес:
- Черт возьми, как ты собираешься подкупить дельфина?
Другой голос, более глубокий и более культурный, ответил:
- Предоставьте это мне.
- Что ты дашь ему? Десять цистерн сардин?
- Это необычный дельфин. Даже особенный. Он образован. С ним можно договориться.
Они не знали, что я слышу их. Я покачивался у поверхности бассейна, отдыхая. У меня был
перерыв, У нас, дельфинов, тонкий слух, и я не исключение. Я почувствовал, что что-то не так, но
остался на месте и притворился, что ни о чем не подозреваю.
- Измаил! - позвал первый. - Это ты, Измаил?
Я поднялся на поверхность и подплыл к краю бассейна. Там стояли трое мужчин. Один из них был
техник станции, двух других я раньше не видел. Тела их были закрыты с ног до головы, из чего
было видно, что они здесь чужие. Техника я презирал, потому что он был одним из тех, кто
отпускал вульгарные замечания относительно молочных желез Лизбет.
Он произнес:
- Поглядите на него, джентльмены. Кожа да кости! Жертва эксплуатации! - Мне же он сказал: Измаил, эти джентльмены - из Лиги Противников Жестокого Обращения с Разумными Видами.
Слыхал о такой?
- Нет, - ответил я.
- Они стараются положить конец эксплуатации дельфинов, преступному использованию рабского
труда еще одного по-настоящему разумного вида на нашей планете. Они хотят тебе помочь.
- Я не раб. Я получаю компенсацию за свою работу.
- Кучку тухлой рыбешки! - сказал застегнутый на все пуговицы человек слева от техника. - Тебя
эксплуатируют, Измаил! Тебе дали опасную, грязную работу и платят жалкие гроши!
Потом вмешался его товарищ:
- Это надо прекратить. Мы хотим заявить всему миру, что век дельфинов-рабов кончился. Помоги
нам, Измаил. Помоги нам, поможешь себе!
Нечего и говорить, что мне не понравились их намерения. Будь на моем месте более
ограниченный дельфин, он заявил бы об этом сразу и расстроил бы их планы. Но я решил схитрить
и спросил:
- Что я должен сделать?
- Вывести из строя клапаны, - быстро отозвался техник.
Я, не сдержавшись, воскликнул:
- Предать священное доверие? Разве я могу?
- Это ради тебя самого, Измаил. Послушай, что мы задумали: ты со своей бригадой забьешь
клапаны, и установка перестанет работать. Весь остров в панике. Ремонтная бригада людей
опустится посмотреть, в чем дело, но как только они очистят клапаны, вы вернетесь и забьете их
снова. На Сент Круа возникнут перебои с водой. Это сфокусирует внимание всего мира на том, что
остров зависит от труда дельфинов низкооплачиваемого и непосильного труда дельфинов! А тем
временем на сцену выходим мы, чтобы рассказать вашу историю всему миру. Мы заставим
каждого человека кричать о грубом попрании ваших прав.
Я не стал говорить им, что не чувствую, чтобы мои права попирались. Вместо этого я
рассудительно заявил:
- В этом есть опасность для меня.
- Ерунда!
- Меня спросят, почему я не очистил клапаны. Это моя обязанность. Я вижу в этом затруднения.
Некоторое время мы пререкались. Потом техник сказал:
- Понимаешь, Измаил, мы знаем, что в этом есть некоторый риск. Но мы собираемся предложить
за эту работу необычную плату
- Какую?
- Кассеты. Что ты захочешь, то мы тебе и дадим. Я знаю, у тебя интерес к литературе, Пьесы,
поэзия, романы - все, что хочешь. Если ты согласишься, через пару часов мы тебя завалим
литературой.
Я удивился их хитроумию. Они знали, чем меня взять.
- Годится, - сказал я.
- Тогда говори, что тебе надо.
- Что-нибудь, о любви.
- О _любви_?
- О любви. О мужчине и женщине. Принесите мне любовную лирику. Принесите мне знаменитые
рассказы о влюбленных. Принесите мне описания любовных ласк. Я должен это понять.
- Ему нужна "Кама Сутра", - сказал тот, что слева.
- Значит, мы принесем ему "Кама Сутру", - сказал тот, что справа.
Категория 4. Мой ответ преступникам.
Они принесли мне "Кама Сутру" и еще целую кучу других вещей, включая и кассету, на которой
был изрядный кусок из "Кама Сутры". В течение последующих нескольких недель я был
полностью погружен в изучение литературы о любви. В текстах были приводящие в бешенство
пропуски, и я так до конца и не понял большую часть из того, что происходит между мужчиной и
женщиной. Наслаждение тела телом не поставило меня в тупик; но я споткнулся на диалектике
преследования, когда мужчина должен быть хищником, а женщина должна притворяться, что
избегает его притязаний. Для меня осталась загадкой этичность временного брака как
противопоставления постоянному (женитьбе); не ухватил я и сути запутанной системы запретов и
табу в области браков, изобретенных людьми. Такие неудачи привели к тому, что к концу
изучения я понимал не намного больше как вести себя с Лизбет, чем до того времени, как
заговорщики тайно начали проигрывать мне кассеты.
Вскоре они напомнили мне о моих обязательствах.
Естественно, я не собирался выводить станцию из строя. Я знал, что эти люди на самом деле не
были противниками эксплуатации дельфинов, как они себя выдавали. По каким-то своим
соображениям они хотели вывести из строя станцию. Вот и все. Они притворялись, что
симпатизируют моему виду, чтобы завоевать мое расположение. Но я-то не чувствовал себя
эксплуатируемым.
Хорошо ли я поступил, принимая пленки, если не собирался помогать им? Сомневаюсь. Они
хотели использовать меня; вместо этого, я использовал их. Во имя просвещения высшие виды
имеют полное право эксплуатировать низшие.
Они пришли и сказали, что клапаны надо вывести из строя сегодня вечером. Я ответил:
- Я не совсем понял, что мне надо сделать. Вы не повторите мне это еще раз?
Я незаметно включил записывающее устройство, используемое Лизбет для обучения остальных
дельфинов. Им пришлось повторить, что порча клапанов вызовет панику на острове и высветит
злоупотребление трудом дельфинов, Я постоянно их переспрашивал, вытягивая из них
подробности и предоставляя каждому возможность оставить на ленте звук своего голоса. Когда
была достигнута полная ясность, я сказал:
- Очень хорошо. Во время следующего осмотра я сделаю так, как вы оказали.
- А твоя бригада?
- Я приказал им покинуть рабочее место для их же безопасности.
Люди ушли, удовлетворенно переглядываясь между собой. Когда они скрылись из виду, я нажал
кнопку вызова Лизбет. Она пришла очень быстро. Я показал на кассету в рекордере.
- Прослушай ее, - величественно сказал я. - И можешь вызывать полицию!
Категория 5. Награда за героизм.
Были произведены аресты. Этих троих совершенно не заботила эксплуатация дельфинов. Они
оказались членами подрывной группы (революционерами), намеревавшимися склонить наивного
дельфина помочь им вызвать хаос на острове. Я расстроил их планы благодарят своей
порядочности, храбрости и рассудительности.
Лизбет после всего этого пришла отдохнуть к моему бассейну и объявила:
- Ты был великолепен, Измаил. Так разыграть их, заставить записать собственные признания...
восхитительно! Ты настоящее чудо среди дельфинов, Измаил!
Я купался в волнах радости.
Вот он подходящий момент. Я сходу выпалил:
- Лизбет, я люблю тебя.
Мои слова, исторгнутые громкоговорителями, загремели, отражаясь от стенок бассейна. Эхо
усилило их и превратило в непривычный грохочущий шум, более присущий какому-нибудь
презренному недоумку-тюленю.
- Люблю тебя... тебя... тебя...
- Ну, Измаил!
- Я не могу высказать, как много ты значишь для меня. Приди ко мне и будь моей любовью.
Лизбет, Лизбет, Лизбет!
Из меня хлынули потоки поэзии. Ураганы страстных признаний рвались из моего клюва. Я молил
ее спуститься в бассейн и дать обнять себя. Она засмеялась и сказала, что не одета для купания.
Это было правдой: она только что вернулась из города сразу же после ареста. Я настаивал. Я
умолял. И она уступила. Мы были одни. Она сняла одежду и шагнула в бассейн. Лишь мгновение я
видел ее нагой. Это заставило меня содрогнуться: ужасные покачивающиеся молочные железы,
так мудро прикрытые обычно, полоски болезненно-белой кожи в тех местах, куда не могло
проникнуть солнце, неожиданное пятно волосяного покрова... Но стоило ей оказаться в воде, как
я забыл обо всех этих несовершенствах и ринулся к ней.
- Любовь! - воскликнул я. - Благословенная любовь! - я прижал к ее телу плавники, копируя
объятия. - Лизбет! Лизбет!
Мы оказались под водой. Впервые в жизни я познал истинную страсть, ту, которую воспевают
поэты, которая овладевает даже самыми холодными душами. Я прижал ее к себе, почувствовал,
что ее окончания передних конечностей ("кулаки") колотят меня в области груди и принял это
сначала за знак того, что моя страсть встретила ответное чувство. Потом до моего затуманенного
любовью сознания дошло, что ей, возможно, не хватает воздуха. Я поспешно вынырнул. Моя
дорогая задыхающаяся Лизбет жадно глотнула ртом воздух и стала отбиваться от меня. Я в
удивлении выпустил ее. Она поспешно устремилась к краю бассейна и без сил повалилась на
бортик. Ее бледное тело била дрожь.
- Прости меня, - громыхнул я. - Я люблю тебя, Лизбет! Я спас станцию во имя любви к тебе!
Она чуть приоткрыла губы в знак того, что не сердится на меня, и слабым голосом сказала:
- Ты чуть не утопил меня, Измаил!
- Я пошел на поводу у чувства. Приди ко мне. Я буду нежен.
- Измаил, ну что ты говоришь!
- Я люблю тебя! Я люблю тебя!
Я услыхал шаги. Доктор Мэдисон с энергостанции почти бежал. Лизбет торопливо прижала руки к
молочным железам и обмотала раскиданную одежду вокруг нижней половины своего туловища.
Мне было больно это видеть, ибо разве то, что она предпочитала прятать от него эти места, эти
безобразные части тела, не свидетельствовало о ее любви к нему?
- Что с тобой, Лиз? - спросил он. - Я услышал крик...
- Ничего, Джеф. Это всего лишь Измаил. Он принялся обнимать меня в воде. Он влюбился в меня.
Джеф, представляешь? _Он влюбился_ в меня!
И они оба рассмеялись над глупостью влюбленного дельфина.
***
На закате я был уже далеко в море. Я плыл там, где плавают дельфины, вдалеке от человека и его
изобретений. Смех Лизбет все еще стоял в моих ушах. Как она могла быть такой жестокой! Она,
которая знала меня лучше остальных, рассмеялась, когда я попал в неловкое положение.
Я пробыл в море несколько дней, залечивая раны, пренебрегая своими обязанностями на
станции. Только когда притупилась острая боль, уступив место боли ноющей, я решил вернуться
обратно. По дороге я встретил самку своего вида. Она только что достигла зрелости и предложила
себя мне. Я велел ей плыть следом, и она подчинилась. Время от времени мне приходилось
отгонять самцов, желающих воспользоваться ею. Я привел ее на станцию, в лагуну, отведенную
дельфинам для спортивных занятий. Один из моих рабочих подплыл к нам, снедаемый
любопытством (это был Мордред). Я велел ему вызвать Лизбет и сказать ей, что я вернулся.
Вскоре она показалась на берегу. Она помахала мне рукой; улыбнулась и позвала по имени.
А я принялся резвиться с моей самкой у нее на глазах. Мы исполняли брачный танец; мы
разрезали воду и пенили ее своими хвостами. Мы взмывали в воздух, мы парили в нем, мы
кричали.
Лизбет не спускала с нас глаз, и я молил: _пусть она испытает ревность_.
Я прижался к своей подруге и увлек ее в глубину. Я бурно взял ее и отпустил, чтобы она родила
моего ребенка не здесь. Я снова разыскал Мордреда.
- Скажи Лизбет, - велел я ему, - что я нашел новую любовь, но однажды я могу простить ее.
Мордред посмотрел на меня тусклым взглядом и поплыл к берегу.
Мой замысел провалился. Лизбет велела сказать, что меня ждет работа и что она сожалеет, если
обидела меня. В ее словах не было и намека на ревность. Моя душа превратилась в кучу гниющих
водорослей. Я снова чистил впускные клапаны, подобно дрессированному животному. Я, Измаил,
прочитавший Китса и Донна. Лизбет! Лизбет! Можешь ли ты почувствовать мою боль?
Этим вечером я дотемна рассказывал свою историю. Вы, кто слушает ее, кем бы вы ни были,
помогите одинокому существу, морскому млекопитающему, желающему более тесного контакта с
самкой другого вида. Будьте добры, поговорите обо мне с Лизбет. Восхвалите ей мой ум, мою
верность, мою преданность.
Скажите ей, что я даю ей еще один шанс. Я предлагаю уникальный и волнующий эксперимент. Я
буду ждать ее завтра ночью за рифом. Пусть она приплывет ко мне. Пусть она обнимет бедного
одинокого Измаила. Пусть она скажет мне слова любви.
Из глубины души... из глубины... Лизбет, нежнейшим голосом глубочайшей любви глупое
животное желает тебе спокойной ночи.
Соллогуб Владимир - Метель
(~38 мин. рус. класс. проза
Вынужденная непогодой задержка в пути, случайная встреча, перевернувшая чувства
молодого офицера, ночной разговор и расставание навсегда.)
Снег падал густыми хлопьями. По саратовской дороге медленно тащилась кибитка, запряженная
тремя изнуренными лошадьми. Кругом расстилалась снежная равнина, раскидывалась белая
степь. Резкий ветер гулял на просторе. Было холодно, грустно и мрачно.
В кибитке лежал закутанный в медвежью шубу молодой гвардейский офицер и думал себе от
скуки крепкую думу. Он думал о Петербурге, куда спешил на свадьбу к брату; он думал об этом
вечно взволнованном, неугомонном Петербурге, который поглотил лучшие годы его молодости и
не отдарил его взамен ни светлым покоем, ни радужным воспоминаньем. Он мысленно
перебирал свое молодое прошедшее, свои нежные похождения, свое желание любить, свою
досаду на вечно обманутые ожидания. В душе его протянулась целая вереница стройных
девушек, молодых, прекрасных и нарядных женщин. Все мимоходом кидают ему приветливый
взгляд, светскую улыбку, заманчивое слово -- и нет тут ничего мудреного: он потомок древнего
прославленного рода, он владетель обширного, доходного имения, он богат и молод, проворен и
хорош, да и вдобавок танцует с ожесточенной ловкостью -- ему почет и место; его и матушки зовут
обедать; отцы семейств бегают к нему с визитами; дочки скромно выбирают его в мазурке -- он у
всех на примете; светские красавицы приглашают его в свою ложу в театр, в свою гостиную на
приятельские вечера, где курится столько пахитосов и говорится столько вздора; иные даже
усердно заманивали его в свои сети, другие даже явно враждовали из-за него. Чего бы, кажется,
желать ему еще более? Его ли участь не завидна?
Его ли самолюбие не удовлетворено? Зачем же какое-то тяжелое, неприязненное чувство
свинцовым грузом ложится ему на сердце? Затем, что из этого вихря тревоги и тщеславия он не
вынес ни одного отрадного чувства, которое теплилось, как бы лампада, в его отуманенной
светом жизни; затем, что он хорошо понимал, что не к нему, а к его случайным отличиям
устремлялись и взгляды невест и вздохи присяжных красавиц. Он разглядывал странные
особенности светской жизни, где страсть еще подчас доступна, но где нет и не может быть приюта
той глубокой, беспредельной любви без расчета и развлечений, которая дается немногим, но зато
вечно светится, вечно греет и сопутствует до могилы.
Вдруг кибитка остановилась.
-- Что это, -- закричал офицер, -- ты, брат, так едешь, что ни на что не похоже! Ни гроша не дам на
водку.
Ямщик слез с облучка, похлопал окоченевшими руками и нагнулся к земле, как будто отыскивая
что-то.
-- Хороша водка! -- бормотал ямщик сквозь зубы. -- Вот те и водка, прости господи, с дороги никак
сбились.
-- Да что ты, слепой, что ли? -- спросил с нетерпением офицер.
-- Слепой, -- бормотал ямщик, -- слепой. Вишь, барин каков!.. Вот те и слепой... Небось, слепым не
бывал.
Вишь, погодка-то какая!.. Прости господи! Метель поднялась...
-- Так что ж, что метель?
-- Что ж, что метель!.. А вот погляди-ка, барин... Не дай, господи... Вот те и метель... Ах ты, господи,
господи! Что станешь делать? Грех какой! Гляди, какая поднялась.
Офицер выглянул из кибитки и ужаснулся.
Кто не езжал зимой по нашим степям, тот не может составить себе никакого понятия о степной
метели. Сперва валит снег, и ветер порывисто сыплет им во все стороны, не зная отпора и
преграды. Земля, как скованное море, покрытое беспредельною, хрупкою скатертью, резко
отделяется от черного неба, нависшего над ней другой сплошною, черною степью. Ни птица не
пролетит, ни заяц не промелькнет: все безлюдно, мертво, дико, беспредельно и полно суровой
таинственности. Один голос начинающейся бури раздается свободно по плоскому пространству и
плачет, и воет, и ревет страшными, одной степи известными голосами. Вдруг вся природа
содрогается. Летит метель на крыльях вихря. Начинается что-то непонятное, чудное,
невыразимое. Земля ли в судорогах рвется к небу, небо ли рушится на землю; но все вдруг
смешивается, вертится, сливается в адский хаос. Глыбы снега, как исполинские саваны,
поднимаются, шатаясь, кверху и, клубясь с страшным гулом, борются между собой, падают,
кувыркаются, рассыпаются и снова поднимаются еще больше, еще страшнее. Кругом ни дороги,
ни следа. Метель со всех сторон. Тут ее царство, тут ее разгул, тут ее дикое веселье. Беда тому, кто
попался ей в руки: она замучит его, завертит, засыплет снегом да насмеется вдоволь, а иной раз
так и живого не отпустит.
Нечего сказать, из петербургского раздушенного, разряженного, блестящего мира вдруг попасть
на такой фантастический праздник подгулявшей степной зимы -- противоположность слишком
резкая. Офицер призадумался и стал озираться с беспокойством. Бальные видения, красавицы и
мечты исчезли мгновенно. Дело становилось плохо.
-- Не остановиться ли нам? -- сказал он нерешительно.
-- Остановиться, -- шептал ямщик, -- как не остановиться? Еще бы не остановиться! Да чтоб хуже но
было.
-- Как хуже?
-- Известно, как хуже: занесет, пожалуй, совсем, а там поминай как звали. Да стужа проймет...
Ишь, грех какой! Замерзнешь совсем.
-- Ну так ступай же, -- закричал офицер, -- ступай!
-- Да куда я поеду? Вишь, буран какой, зги божьей не видать!
Метел" рее более и более усиливалась. Положение путников становилось действительно опасно.
Кибитка тащилась наудачу по сугробам. Лошади увязали в подвижных снежных лавинах и, тяжело
фыркая, едва передвигали ноги; рядом с ними шел ямщик, разговаривая сам с собою. Офицер
молчал. Так прошло часа два самых мучительных; метель не утихала. Кибитка все глубже
врезалась в навалившийся снег. Офицер уже чувствовал, что резкий мороз обхватывал члены его;
мысли его смешивались. Тихая дремота, полная какой-то особой, дикой неги, начинала клонить
его к тихому сну, только вечному, непробудному...
Вдруг вдали мелькнул огонек. Ямщик снял шапку и перекрестился.
-- Ну, счастье твое, барин: никак жилье недалеко, не то и кости могли бы здесь оставить.
Почуя близкое спасенье, лошади подняли морды, принатужились и повезли бодрее. Путники
ехали целиком по направлению спасительного маяка. О дороге и думать было нечего. Через
несколько времени они подъехали к небольшой избушке, нагнутой набок и как будто забытой в
степи откочевавшим селением. Небольшой сгнивший сарай с развалившейся крышей и страшно
занесенный снегом печально примыкал к этому бедному жилищу с двумя маленькими окнами, из
которых светился огонек.
-- Станция! -- сказал ямщик и бросил поводья.
На крыльцо выбежал смотритель, помог офицеру выкарабкаться из кибитки, ввел его в комнату и,
прочитав подорожную, застегнул сюртук на все пуговицы. В маленькой и душной комнате пар
стоял столбом, в парном тумане сверкал самовар и темно обрисовывались туловища, красные
лица и бороды трех купцов, вероятно, тоже застигнутых метелью.
Старший из них приветствовал приезжего.
-- Никак нашей семьи прибыло. С дороги, ваше благородие, и погреться бы не худо. Просим
покорнейше с нашим почтением, коли не побрезгуете с купцами. Смеем просить чайком.
Офицер с радостью принял радушное приглашение и уселся с новыми знакомыми.
Речь завязалась, разумеется, о погоде, о метелях вообще и в частности, о рыбной торговле и проч.
Офицер участвовал, сколько мог, в разговоре, но потом мало-помалу соскучился и начал
рассматривать комнатку. Слева от двери громоздилась огромная русская печь с лежанкой, за ней
стояла двухспальная кровать с периной и подушками и покрытая заслуженным одеялом, сшитым
из разных ситцевых лоскутков: между окон находился диванчик, на котором сидели купцы. С
другой стороны красовалась еще кровать, но больше, кажется, для вида, сколоченная из трех
досок и покрытая войлоком.
Рядом стоял стул. Большой сундук и кукушка с неугомонным маятником довершали убранство
жилища станционного смотрителя. На брусчатых стенах были наклеены предписания почтового
ведомства и бегали взапуски с редкой отвагой, расправляя усы, разные насекомые, много
известные русскому народу. В окна стучалась, завывая, метель. Вдруг что-то шаркнуло у крыльца.
За дверью раздался младенческий писк, женский говор и здоровый голос мужчины. Смотритель
снова засуетился.
Дверь распахнулась, и в комнату ввалился отставной капитан с супругой, старой сестрой и
маленькой дочкой.
Капитан раскланялся сперва с офицером.
-- Ну уж погодка! Вы тоже изволите ехать?
-- Как видите.
-- Издалека?
-- Издалека.
-- Откуда, коль смею спросить?
-- В Петербург.
-- А!
-- Позвольте спросить чин, имя и фамилию?
Офицер назвал себя по имени.
-- Как же это вы к нам пожаловали? По службе, конечно?..
-- Ну, а вы, господа, -- продолжал капитан более небрежным тоном и обращаясь к купцам, -- в
купечестве, должно быть. С ярмарки? Понабили карманы? Пообдули порядком нашего брата,
дворянина?
Тут капитан, довольный остротой, засмеялся во все горло.
-- А вот-с мы едем из деревни, от тещи. Вы не изволите ее знать? Здешняя помещица
Прохвиснева... добрая старушка такая. Душ шестьдесят будет. Вообразите, как нарочно, жена
говорит мне: "Не езди, Basile, что-то дурная погода". А я, знаете, военная косточка, и говорю: "К
черту, матушка! Сказали поход, так и марш!"
Что бабу слушать? Баба ведь... черт ее знает...
-- Ах, Basile! -- прервала, жеманясь, капитанша. -- Какие вы все слова говорите, точно бог знает
какой...
Тетушка княгиня Шелопаева сколько раз вам говорила, что нехорошо. Нас, право, не знаю, за кого
примут, в особенности в дороге, в таком костюме; я, как нарочно, не надела бархатного бурнуса;
матушка говорила надень, а я и забыла. Ах, кстати: ты знаешь, ma soeur [сестра - фр.], продолжала она, обращаясь к сорокалетней нахмуренной спутнице, очевидно, старой деве,
пропитанной уксусом всех возможных обманутых ожиданий, -- знаешь ты: мне из Петербурга
пишет Eudoxie, что высылает мне манто клетчатый и розовую шляпку с плюмажем? Да все, ma
chere [дорогая - фр.], зовет в Петербург. "Что же, говорит, вы обещаете, а не едете... Мы так
стосковались, и тетушка княгиня Шелопаева все об вас спрашивает". -- Капитанша обратилась к
офицеру: -- Вы, верно, тетушку мою знаете, княгиню Шелопаеву?
-- Нет, я незнаком.
-- Помилуйте, как же это? К ней вся знать ездит. У ней дом открытый, высшее общество бывает.
Вы, верно, о ней слыхали?
-- Может быть.
-- Верно. Она известная там дама.
Девочка запищала:
-- Каши хочу, хочу, хочу! Хочу каши!
-- Перестань, -- заревел капитан, -- сейчас перестань, а то высеку, право, высеку, стыдно будет, при
всех высеку.
-- Каши хочу! -- визжала девочка.
-- Перестань! -- ревел капитан.
-- Каши! -- визжала девчонка.
Дамы бросились ее унимать и между тем охорашивались, поправляли смятые чепцы,
перешпиливали платки.
Капитан уселся подле офицера и просто забросал его словами.
-- Я доложу вам, -- говорил он, -- : сам бы, могу сказать, карьеру бы мог свою сделать, ну да уж,
видно, судьба такая. Теперь, сами изволите видеть, женат, семейство, дети пошли. Ну, именьишко
небольшое. Жить, слава богу, есть чем, не по-столичному, разумеется, а так, как следует штабофицеру; соседи есть хорошие; заседатель у нас начитанный человек. Слава богу, живем себе. Ну
и доволен. Ну, а вот, знаете, встретишь этакого человека, так вот и поразберет маленько.
Поневоле подумаешь: "Эх, брат Василий Фомич, сплошал, брат! Полковником был бы теперь и вот
на шее бы имел". Ну да не повезло. Черт меня дернул в отставку подать. Случай вышел такой
партикулярный. Служил я тогда, изволите видеть, в карабинерном полку. Полковой командир
человек был хороший; он теперь бригадой командует; товарищи были тоже отличные. Кажется,
век бы не оставил. Только, вообразите себе, однажды...
Тут капитан приостановился и начал прислушиваться.
-- Кого-то еще бог дал, -- сказал он.
Действительно, на дворе послышался снова лошадиный храп, завизжали подрези, поднялась
суматоха. Смотритель снова засуетился. На крыльце раздалось несколько голосов разом,
смешанных с женским плачем.
У избушки остановились две повозки.
Офицер, соскучившись рассказом капитана, хотел было броситься к дверям, но вдруг остановился
у порога, пораженный идущею ему навстречу группой. В комнату входила старушка помещица,
дожившая, кажется, до крайних пределов жизни. Голова ее тряслась, глаза впали, лицо было
изрыто морщинами. Она охала, шептала молитву и шла, то есть едва передвигала ноги,
совершенно согнувшись и поддерживаемая с одной стороны человеком в нагольном тулупе,
перепоясанном ремнем, с другой -- молодой женщиной.
Офицер остолбенел.
Никогда с тех пор, как он начал заглядываться на женскую красоту, не встречал он подобного
лица. Оно не сверкало той разительной, неучтивой красотой, которая бросается вам в глаза и
требует безусловного удивления. Оно просто нравилось с первого взгляда, но потом, чем более в
него вглядывались, тем привлекательнее, тем миловиднее оно становилось. Черты были
изумительно тонки и правильны, головка маленькая, цвет лица бледный, волосы черные, но глаза
-- глаза были такие, что и описать нельзя: черные, большие, с длинными ресницами, с густыми
бровями; они свели бы с ума живописца. Повествователи вообще виноваты перед женскими
глазами: много вздора было написано им в честь, были сравнения и с звездами, и с алмазами, и
бог знает с чем. Можно вдохновенной кистью и даже тупым тяжелым пером кое-как передать их
цвет и образ; но как изобразить тот потаенный огонь, который светится в них душой? Как уловить
в них молнию насмешки, бурю негодования, ярый пламень страсти, бездонную глубину святого
чувства? На это нет ни красок, ни слов, да и быть не может, да и быть не должно.
Она была одета просто, но щеголевато. В ее наряде отпечатывались и достаток и вкус. Усадив
бережно старушку, она сняла салоп и шляпку. Гибкий стан ее обрисовался, и черная, как смоль,
коса распустилась роскошно до ног... Она слегка покраснела и, свернув косу, обвила ею голову.
Офицер молча ею любовался. В этой женщине все подробности были как-то аристократически
прекрасны.
Она сняла перчатку; ручка была восхитительна и, не в укор будь сказано нашим степным дамам,
редкой белизны, кроме того изобличала самую внимательную об ней заботливость. Она провела
рукой по волосам, и в этом простом, самом обыкновенном женском движении проявилось вдруг
столько природной, ленивой ловкости, столько грациозной небрежности, что все красавицы,
исключительно занимающиеся этим предметом, могли бы побледнеть от зависти и отчаяния.
Офицер не верил глазам. "Как мог, -- думал он, -- такой чистый брильянт попасть в такую глушь, и
кто она такая и откуда?" Невольно, сам не понимая, как это сделалось, он очутился подле нее и
стал прислуживать.
Церемониться было нечего. В минуту общего бедствия все сближаются и роднятся. Не прошло
полчаса, они были уж как бы давно знакомы. Он вытаскивал пожитки из повозки, поил старушку
чаем, усаживал ее как бы получше, клал ей под ноги подушки. Капитан любезничал. Старая
девушка улыбалась кисло и значительно. Племянница княгини Шелопаевой вступила с
приезжими в разговор. Купцы уступили им место на диване.
На дворе метель бушевала, с ожесточением рвала ставни и разыгрывалась во все степное
раздолье, но офицер о ней и не думал. С ним было несколько провизии: он предложил
поделиться ею с товарищами заточения. Образовали на скорую руку ужин. Капитан вытащил
замороженную индейку. Уселись около стола.
Завязался общий разговор, довольно незначительный.
Капитанша рассказывала, как будут смеяться в Петербурге у княгини Шелопаевой, когда узнают,
что она, с детства привыкшая к тонкому обращению, оставалась несколько часов в крестьянской
избе. При этих словах офицер невольно взглянул на свою соседку: легкая улыбка едва заметным
мерцаньем пробежала по ее чертам.
Они поняли друг друга.
-- А вы были в Петербурге? -- спросил он.
-- Нет.
-- И не поедете?
-- Нет.
-- Отчего же?
-- Я замужем.
Офицер потупил голову. "Как, зачем она замужем? Кто просил ее выходить замуж?" Ему стало
неловко и досадно. Он продолжал:
-- Отчего же вашего мужа нет с вами?
-- Он в деревне; он выезжать не любит.
-- Как же вы теперь?
-- Он отпустил меня с бабушкой в Воронеж, на богомолье.
"Хорош вожатый!" -- подумал офицер, глядя на старушку, которая что-то бессмысленно жевала.
-- И вы живете всегда в деревне? -- спросил он снова.
-- Всегда...
-- Безвыездно?
-- Безвыездно.
-- Помилуйте, да там скука, должно быть, страшная.
Она слегка вздохнула.
-- Что ж делать, привыкнешь.
-- Да как же вы время проводите?
-- Да так, как обыкновенно в деревне.
-- Да что ж вы делаете?
-- Да почти ничего. Занимаюсь хозяйством, вышиваю, читаю.
-- У вас детей нет?
-- Нет.
Офицеру это было не противно, а почему -- бог знает.
-- Что ж вы читаете?
-- Что случится. Французские книги, русские журналы...
Офицер поморщился.
-- Вы люди светские, -- продолжала она, улыбаясь, -- не понимаете отрады чтения. Книга -- это
товарищ, это верный друг. Попробуйте прожить в деревне, поживите, как я, тогда поймете, что
такое книга. Да без нее просто бы, кажется, можно с ума сойти. Вечера-то, знаете, длинные;
деревня наша в степи; соседей нет, а если и бывают изредка, то все такие, что лучше бы их вовсе
не было.
-- Ваш муж охотник?
-- Да, мой муж очень любит охоту. Да, впрочем, в деревне надо же иметь какое-нибудь занятие.
-- А позвольте спросить: муж ваш человек молодой?
Она невольно рассмеялась.
-- Нет, -- сказала она, -- да что о нем говорить.
Скажите-ка лучше, вы как сюда попали?
-- По делам.
-- Надолго?
-- Нет, я спешу к брату на свадьбу.
-- Вы будете шафером?
-- Разумеется. Я даже очень спешу... то есть очень спешил...
-- А теперь не спешите?
Офицер нежно на нее взглянул.
-- Теперь я вас встретил.
-- Бабушка, -- сказала молодая женщина, -- я думаю, метель утихла, можно бы ехать...
Старушка не расслышала. Присутствующие отозвались, что прежде утра и думать было нельзя о
продолжении пути, а что следовало подумать о ночном отдохновении. Наступила глухая полночь.
Всех клонило уже ко сну; все более или менее поглядывали с завистью на кровать. Но в подобные
минуты голос справедливости всегда торжествует. Общим приговором положено предоставить
кровать слабейшим членам случайной общины, то есть старушке и девочке, которая,
накричавшись вдоволь, спала уж где-то в углу. Как сказано, так и сделано. Старушку уложили. Она
поохала, пошептала, покрестилась и заснула. Купцы расположились на диванчике и на лежанке и
вскоре звучным дыханьем объявили, что уж перешли в невидимый мир сновидений.
Капитан расположился на сундуке. Капитанша, сестра ее и черноокая красавица легли поперек
дощатой кровати. Под головы положили им подушки, к ногам придвинули скамейки. Капитанша
легла с одного края, молодая женщина с другого. Между ними расположилась зрелая девушка.
Офицеру оставался стул, который как будто нарочно стоял с хорошего края. Он сел. Все это
происходило самым естественным образом, как будто вследствие какого-то безмолвного условия.
В комнате воцарилось молчание, прерываемое только стуком маятника, дыханьем спящих и воем
метели. Странное кочевье освещалось одной сальной свечкой, с которой от времени до времени
неустрашимый капитан снимал решительно пальцами. Но вскоре это занятие его утомило: он
свернулся кренделем и заснул взапуски с купцами. В комнате замелькал томный красноватый
полусвет. Все заснули, кроме офицера, который шепотом разговаривал с своей соседкой, и старой
девы, которая подслушивала их разговор с желчным любопытством.
-- Я виноват перед вами, -- говорил офицер, -- я сказал глупость. Вы, кажется, на меня
рассердились.
-- Нет, я не рассердилась. Только я женщина не светская, я не привыкла к подобным любезностям.
Оно забавно, может быть, с одной стороны, но, с другой, и не дурно, потому что мы не умеем
играть словами и говорим только то, что чувствуем.
-- Да, и я говорю то, что чувствую.
-- Перестаньте, пожалуйста. К чему это? Мы с вами встретились случайно, сейчас расстанемся,
никогда не увидимся -- нехорошо. Я знаю, вы смеетесь над уездными дамами, и Пушкин над ними
смеялся... И подлинно, есть много в них смешного, но, может быть, в то же время много и
грустного. Подумайте, -- продолжала она, как будто говоря сама с собой, -- что такое судьба
женщины молодой, знающей только по книгам, что есть хорошего в жизни? Муж ее в отъезжем
поле. Он, может быть, человек хороший... Да все не то: скучно в деревне... и не то что скучно, а
досадно, обидно как-то. Все жалеют об узнике в темниц"; никто не пожалеет о женщине, с детства
приговоренной к вечной ссылке, к вечному заточению. А вам весело в Петербурге?
-- Весело, -- сказал, вздохнув, офицер, -- да, мне там очень весело, слишком весело... Я человек
светский.
Только что странно: я от излишества, вы от недостатка -- мы оба дожили до одного, то есть до
тяжкой скуки.
Вы жалуетесь, что в вашей одинокой ссылке вам негде развернуть души и сердца; мы же, вечно
ищущие недосягаемого, мы чувствуем, что душа и сердце подавлены в нас. Вы знаете холод
одиночества, но вы, слава богу, не знаете еще холода общественной жизни. Вы знаете, что любить
надо, а мы знаем, что любить некого.
В вас кипят надежда и сила, нас давит бессилие в немощь.
-- Вы были влюблены? -- спросила она едва внятно...
-- Еще бы! Да и как! Да что в том толку... В свете идти на любовь -- значит идти на верный обман.
Вы что думаете про любовь?
-- Я!.. Так... да... нет, ничего...
-- Любовь -- душа вселенной; но этой душе куда как тесно в свете, и знаете ли почему? Потому, что
за ней выглядывает тщеславие. Я тоже иногда думал, что меня любили, а вышло что же? Любили
не меня, а бального кавалера, светского франта, и я не знал, как совладеть с своими соперниками.
-- Неужели? -- сказала она невольно. -- Да кто ж они могли быть?
-- Да мало ли их... Бальное платье, мелочная досада, глупая сплетня, завидное приглашение,
маскарадный наряд и тьма подробностей, составляющих, так сказать, всю сущность светских
женщин.
-- Так вы не верите в любовь?
-- Сохрани бог! В любовь нельзя не верить; но я говорю только, что любить-то некого. Для любви
нужно столько условий, столько счастливой случайности, столько душевной свежести и
неиспорченности. Но, слава богу, я чувствую, что я могу еще любить, но уж не светскую барыню.
Дорого они мне дались... Я бы мог любить страстно, неограниченно и свято душу не светскую и
доверчивую, которая вверила бы мне всю участь по чистому внушению, без боязни и без
расчета... Если б вы, например...
-- Пить хочу! -- застонала на кровати старуха. Девчонка проснулась и завизжала. Офицер поспешно
вскочил со стула, подал старухе стакан воды, успокоил девочку, всунул ей в рот кусок сахару и
возвратился на свое место. Но возобновить начатого разговора не было возможности. Молодая
женщина закрыла глаза, грациозно опустив ручку со спинки кровати; она или думала о чем-то, или
засыпала...
-- Вы устали? -- тихо спросил офицер.
-- Да, устала.
Он замолчал, сердце его сильно билось. Чудно хороша была эта женщина, чудно освещена
красноватым отблеском нагоревшей свечи. Матовая бледность придавала ей столько прелести!
Черты были так правильны, так тонки! В каждом ее слове выражалась такая глубокая повесть
смиренных страданий! Она была так непринужденна, так проста и так сама собой, что невольно
хотелось броситься к ногам ее, высказать ей сердце и пожертвовать ей жизнью. Ручка ее,
беленькая, маленькая, заманчиво привлекала взоры. Офицер оглянулся: кругом все покоилось
тихим сном; на дворе только ревела метель; даже старая дева, утомленная подслушиваньем,
заснула. Офицер глядел на ручку... Какая-то невидимая сила влекла, тянула его. Кровь его сильно
волновалась. Он чувствовал, что влюблен так, как никогда еще влюблен и не бывал. Разные
чувства боролись в нем: и страх, и боязнь, и желание, и любовь. Наконец он не выдержал,
оглянулся еще раз, тихо коснулся руки и прижал ее к губам.
Старая дева вздрогнула во сне от ненавистного звука.
Молодая женщина не пошевельнулась. Офицер сидел, как приговоренный к смерти.
Прошло несколько минут тяжелого молчания.
Тихо и небрежно, как бы во сне, она вдруг начала приподнимать руку свою и движеньем спящего
ребенка положила ее под голову. Очевидно, она спала. Вдруг она открыла глаза и сказала тихо:
-- Вы женаты?..
-- Я... с...
-- Ах да! Вы говорили, что будете шафером на свадьбе брата, так, разумеется, не женаты... Знаете
ли, -- продолжала она голосом, полным тихой печали, -- когда вы будете женаты... любите свою
жену...
-- Зачем же это?..
-- Так!.. Не то бог знает какие иногда могут прийти мысли... Не надо... Любите свою жену.
-- Разве можно так располагать собой?.. Ну, если б я был женат и вдруг бы встретился с вами...
-- Так что ж?
-- То, что я жену не любил бы более, а полюбил бы вас, потому, во что бы то ни стало... но это
свыше сил моих; я покажусь вам глуп, смешон, дерзок... но я люблю вас без ума.
И глаза его разгорелись, голос дрожал... Он говорил действительно что чувствовал. Она взглянула
на него с нежным, протяжным упреком и тихо покачала головой.
-- Не стыдно ли вам? -- сказала она тихо и закрыла лицо руками.
-- Нет! -- сказал он, воспламеняясь все более и более. -- Мне не стыдно, а хорошо теперь. Я
высказал вам себя. Вы сами чувствуете, что я говорю правду. Я разгадал вашу жизнь. Так не
пеняйте же на судьбу... Знайте, что был человек, который полюбил вас всеми силами своего
существования, без замыслов и видов. Их и быть не может... Мы сейчас расстанемся. Что за беда,
что знакомство наше продолжалось одну минуту, и минута -- хорошее дело. Я люблю вас, как не
думал, что могу любить. Это пройдет, может быть, завтра; но нынче я хорошо вас люблю: вы
олицетворяете для меня лучшую мечту моей молодости. Такую женщину, как вы, я всегда
надеялся встретить. Судьба нам не назначила быть вместе, но пусть же останется нам сознание,
что, когда мы сошлись случайно, мы поняли друг друга, оценили друг друга, и по. крайней мере
нам будет теплое задушевное воспоминание: вам -- в скучной вашей деревне, мне -- в скучной
моей светской жизни.
Так продолжал он говорить молодо и пламенно, и она, вперив в него свои черные глаза, слушала
его с увлечением, как бы прислушивалась к чему-то давно желанному и ожиданному. Малопомалу и она разговорилась; но что было говорено тогда -- да будет тайной.
На бумаге оно выйдет вяло и безжизненно. В подобных разговорах то и прекрасно, что
невыразимо или понятно только для двоих.
Несколько часов пролетели невидимым мгновением.
Бессознательно предалась она светлому восторгу, расточила богатую сокровищницу долго
замкнутого сердца, и, верно, никогда не была она так хороша, как в эту минуту. Он невольно взял
ее руку, и она не думала уже ее отнимать. Изба казалась им раем.
Вдруг свеча, зашипев, погасла, и бледный беловатый луч прорезался в комнату из окна.
-- Светает, -- сказала она. -- Мы скоро расстанемся!
Дайте мне что-нибудь на память от себя.
Он поспешно выдернул из бумажника листок бумаги, взял карандаш и призадумался.
-- Я не писатель, -- сказал он, -- другой написал бы вам стихи.
-- Напишите что-нибудь.
Он написал: "1849 год, ночь с 12 на 13-е января", а потом прибавил решительно: "Лучшая ночь в
моей жизни". Потом, сняв с руки кольцо, он подал ей кольцо и бумажку. Она поспешно их
спрятала.
-- Кольца я вам не могу дать, -- сказала она, нахмурившись. -- У меня одно только кольцо -венчальное; а из Воронежа я вам пришлю образ. Он принесет вам счастье; он напомнит вам о
нашей встрече и о той, которая вас будет вечно помнить и любить. Вы -- один человек, который ее
понял; вы, разумеется, рассеетесь и меня забудете, но я буду вас вечно помнить. Я помолюсь за
вас.
Она крепко пожала ему руку.
В эту минуту смотритель вошел в комнату.
-- Утихает, -- сказал он, потирая руки.
Вдруг все зашевелились. Старуха заохала, девочка завизжала, купцы бросились к повозкам. Из
сарая начали выводить лошадей; принесли самовар. Через час времени все путники были готовы
уже к дороге. Офицер посадил старуху в повозку и поцеловал руку у внучки.
На глазах ее навернулись слезы...
-- Прощайте, -- сказала она грустно, -- навсегда...
Через четверть часа лихая тройка во весь опор обогнала две степные повозки. Офицер
поклонился. Тяжко ему было. Из спущенного окна показалось бледное лицо, сверкнули черные
глаза, махнул белый платок. Ямщик приободрился, приударил и покатил еще быстрее. Офицер
обернулся и долго смотрел, как две повозки мало-помалу отдалялись, потом стали подвижными
точками, потом пропали из виду. Он горестно вздохнул и завернулся в шубу. Снег хрустел под
полозьями. Ямщик покрикивал. Во все стороны расстилалась снежная равнина, но между небом и
степью уж обозначалась резкая полоса. Ветер значительно утихал. Оловянное солнце
вырезывалось пятном на сером туманном небосклоне.
Метель кончилась.
Стаут Рекс - Гидра семиглавая
(~31 мин., недетективная история от мастера детективов.
У всех свои недостатки.
Джордж не сумел отличить гидру семиглавую от короны. А ещё он не был графом и, по мнению
некоторых дам, был на редкость бестолков.
Сесили была на редкость восхитительна, но у неё была мамаша, и какая!)
Джордж Стаффорд - верьте или не верьте - с самого детства был уникальнейшей и интереснейшей
личностью. Если вы мне все же поверили, знайте: я имел в виду совсем не то, о чем вы подумали.
Могу догадаться, к какому заключению вы придете, стоит мне сказать, что Джордж Стаффорд был
флегматиком. И напрасно. В наш век всеобщего стремления к упрощению мы несвободны даже в
выборе определений: наука у нас непременно прогрессивная, идеалы - в переносном смысле,
конечно, - высокие, а флегматичными имеют право быть только датчане. Так вот, несмотря на то
что Джордж Стаффорд родился в Плейнфилде, штат Нью-Джерси, говорил исключительно на
"американском" языке (о существовании английского он был осведомлен не больше, чем о
существовании санскрита), а папаша его сколотил себе состояние в полмиллиона долларов
чистыми благодаря любезной поддержке нью-йоркской таможни, наш герой был флегматиком.
Хуже того, он отличался полным отсутствием воображения, считал бильярд экстремальным видом
спорта и, по правде говоря, был непроходимо туп.
Для того чтобы окончательно посвятить вас в тайны ума и характера Джорджа, достаточно сказать,
что отпуск он проводил в пансионе "Тисбери", в Беркшире. После партера "Нью-Йоркского театра"
пансион "Тисбери" - самое скучное место в Америке. То есть это необычайно пристойное,
чудовищно дорогое и в высшей степени элитарное заведение. "Элитарный" - ужасное слово, а
пансион "Тисбери" - ужасная дыра.
И именно там Джордж Стаффорд проводил отпуск.
Термин "отпуск" я употребил исключительно из вежливости, ибо, полистав словарь, обнаружил,
что "отпуск" есть не что иное, как "временное освобождение от служебных обязанностей для
отдыха", а представить себе Джорджа занимающимся чем-то более вульгарным, нежели
исполнением "служебных обязанностей", просто невозможно. О нет, он не был вольным
художником и не посвящал свою жизнь духовным и эстетическим исканиям, но работа - или чтото в этом роде, - не смутив его чистой души, могла бы нанести непоправимый ущерб
изнеженному телу.
Впрочем, некоторые оправдания для использования термина "отпуск" у меня есть, ибо, проведя
тридцать лет в полнейшей и ничем не омраченной праздности, Джордж поддался на уговоры
приятеля, заявившего, что пора, мол, наконец создать хотя бы видимость жизненной активности,
и согласился украсить табличкой "Рейнайер и Стаффорд, архитектурные проекты" дверь
скромного офиса на пятьдесят восьмом этаже небоскреба в даунтауне {деловая часть города}. На
чеках, которые папаша Стаффорд ежемесячно заполнял, чтобы покрыть долю сына в расходах по
содержанию конторы, стояла на удивление мизерная сумма.
Под ревностно охраняемые от чужаков своды "Тисбери" Джордж вступил благодаря стараниям
Рейнайера, своего партнера, ибо семейство Стаффорд, хоть и пользовалось уважением на
Мерчер-стрит, было отнюдь не благородных кровей. Их час еще не настал, и праздность Джорджа
была лишена великосветского блеска. Впрочем, это одно из тех искусств, способности к которому
проявляются через поколение, и потому, вписав свое имя в регистрационную книгу пансиона
"Тисбери", Джордж тем самым вступил в новую фазу существования.
"Тисбери" был необычным пансионом. Достаточно упомянуть одну странную особенность, с
которой Джорджу пришлось столкнуться сразу после своего прибытия: он направился в
библиотеку сочинять письмо партнеру и не обнаружил там ни листа бумаги.
После небольшого расследования выяснилось, что в "Тисбери" все имели обыкновение писать на
собственной бумаге с родовыми гербами. У Джорджа не было ни того ни другого, но отправить
послание очень хотелось, и даже не одно, а несколько, как он решил по здравом размышлении.
И на третий день отпуска мечта сбылась - Джордж уселся за письменный стол. Бумагу он купил
накануне в деревенском магазинчике, находившемся в пяти милях от пансиона. Писать на ней
было немного стыдно - это и в самом деле была никуда не годная бумага, - но ничего лучшего в
магазинчике не нашлось. Та, что он все же купил, немыслимого пурпурного цвета с
ослепительным золотистым тиснением по верхнему краю, была, ко всему прочему, украшена
изображением зверя, сильно смахивавшего на корову, которой на рога насадили здоровенное
полено. Это была одна из тех ужасающих безвкусиц, что выставляются напоказ в витринах всех
привокзальных лавочек, и даже Джордж, совершенно нечувствительный к прекрасному, с трудом
воспротивился искушению купить вместо нее обычный разлинованный блокнот.
Стол красного дерева, за которым трудился молодой человек, стоял в самом центре библиотеки.
Напротив расположилась костлявая и чопорная миссис Джерард-Ли, прилежно выписывавшая
синонимы из Грейвса {Грейвс Роберт Рэнк (1895-1985) - английский писатель, переводчик и
теоретик литературы} (ибо миссис Джерард-Ли в этом деле понимала). У окна шла жаркая
дискуссия - юный мистер Эмблтуэйт и мисс Лорри Карсон увлеченно обсуждали конфигурацию
чьих-то ног. Из разговора было ясно, что их обладатель больше всего на свете любит верховую
езду. У двери на веранду расселись полдюжины престарелых особ женского пола,
олицетворявших вкупе пару тысяч фунтов живого веса и около двадцати миллионов фунтов
стерлингов.
"Мамочке здесь бы понравилось!" - подумал Джордж и написал:
"Я только что слышал от миссис Скотт-Викерсгем, что она в этом году вернулась в Америку позже
обычного, задержавшись в Англии на бал-маскарад герцогини Уимблдонской. Вот никогда бы не
подумал, что она умеет..."
В этот момент Джордж почувствовал, что кто-то стоит за его правым плечом, а повернувшись,
увидел там румяную даму средних лет и внушительных пропорций. Она беззастенчиво пялилась
сквозь лорнет на лист бумаги, лежавший перед Джорджем. Заметив, что ее присутствие
обнаружено, дама медленно перевела взгляд на растерянное лицо молодого человека.
- Сэр, - сказала она, - могу я узнать вашу фамилию?
- Чего? - оторопел Джордж. - Мою... а, ну да, фамилию... понятное дело. - И, взяв себя в руки, с
достоинством произнес: - Стаффорд моя фамилия.
Любопытная дама оглядела его с триумфом.
- Это он, - заявила она, будто разговаривала сама с собой. - Теперь, после того как он с трудом
вспомнил собственную фамилию, я в этом окончательно уверилась. - И тут она подмигнула
Джорджу.
Джордж за последние три дня успел понять, что человек, решившийся незаконно проникнуть в
пансион "Тисбери", должен быть готов к любым унижениям.
Но когда перед вами стоит странная дама, читает ваши письма, задает нескромные вопросы,
разговаривает о вашей персоне сама с собой и в третьем лице, да еще подмигивает - это уж
слишком! Он открыл рот в знак протеста и уже собирался громко возмутиться, но дама ему не
позволила.
- Мистер Стаффорд, - выпалила она, - я миссис Гордон Уилер из Ленокса, а это моя дочь. Сесили,
это мистер Стаффорд.
Чувство протеста уступило в душе Джорджа место глубочайшему изумлению, как только миссис
Уилер шагнула в сторону, выставив на обозрение свою дочь.
Впервые за добрый десяток лет он почувствовал, что в жилах у него течет не что-нибудь, а кровь.
Пока он сидел так, ошеломленный сказочной красоты видением, которое до сей поры скрывала
своими габаритами миссис Уилер, Сесили, восхитительно зарумянившаяся от смущения,
приблизилась.
- Мистер Стаффорд... - проговорила она глубоким, сладкозвучным голосом и осеклась, будто не
находя слов, чтобы выразить свои чувства.
- Деточка моя дорогая, - выдавил Джордж, поймав руку Сесили и задержав ее в своих ладонях, если вы пару минуток посидите в этом кресле, я закончу письмо и буду готов с вами побеседовать.
Могу поспорить, ваша матушка позволяет себе соснуть часок-другой после обеда, а?
- Святые небеса! - воскликнула миссис Уилер. - У меня незамужняя дочь, а этот мужчина обвиняет
меня в том, что я - соня! Драгоценный мой сэр, это невозможно: в наш век вульгарной
конкуренции нуворишей всегда нужно быть начеку... Впрочем, время от времени мне приходится
закрывать глаза.
- Не сомневаюсь! - одобрительно закивал Джордж и про себя добавил: "Понятное дело, отдыхатьто надо".
- Надеюсь, вы присоединитесь к нам за обедом? - осведомилась миссис Уилер.
- Ну разумеется! Спасибо за приглашение.
После того как миссис Уилер удалилась, Джордж битый час трудился над письмом матери.
Сесили, которой было обещано недолгое ожидание, продержалась две минуты, заскучала и
принялась развлекать себя тем, что пыталась заарканить собственные туфли ремешком от
сумочки. Джордж, не считавший возможным пялиться на чужие туфли - надо сказать, они того
стоили - просто так, нашел наконец оправдание своему интересу и посоветовал ловить их по
отдельности.
- Они такие грязные, - сообщила Сесили, - потому что я гуляла и немного запылилась.
- Деточка моя дорогая... - начал Джордж, который вдруг почувствовал себя неловко.
- Вы меня так уже называли, - перебила Сесили, - и мне это не понравилось. А сейчас, если не
возражаете, я немного почитаю, пока вы заканчиваете письмо. - Уткнувшись в книгу, она тем не
менее через каждые десять секунд поглядывала на Джорджа - убедиться, что он все еще пишет, а молодой человек прилежно заполнил кляксами четыре листа и поймал себя на том, что взялся
за пятый, положив его вверх ногами.
Ранним вечером того же дня Джордж и Сесили вдвоем сидели в лодке на озере, у самого берега,
перед фасадом пансиона. Вода была кристально чиста и спокойна, только форель и шустрые
окуни тревожили безмятежную гладь. Над головами молодой пары стыдливо, с грацией
индийских опахал покачивались ветви плакучей ивы, самые нижние слегка задевали поверхность
воды, и капли летели с листьев, услаждая слух нежной бесконечной музыкой. Джордж,
развалившись на носу лодки, смаковал сигарету - пятую за последние полчаса - и, блаженно
щурясь, пускал колечки дыма в сторону прожорливого лебедя, которому Сесили кидала хлебные
крошки.
- Не боитесь получить солнечный удар? - насмешливо поинтересовалась девушка.
- Нет, - искренне удивился вопросу Джордж. - Здесь, в тени, совершенно безопасно. Пожалуй,
даже прохладно. Я отлично себя чувствую.
Сесили подскочила на сиденье и уставилась на Джорджа с немым возмущением.
- Вы думаете, - произнесла она наконец, - что я залезла в лодку, чтобы сидеть и любоваться, как
вы курите? Только взгляните! - Она обвела рукой озеро, на другом конце которого маячила еще
одна лодка. - Они отчалили позже нас! Вам должно быть стыдно! Отвезите меня обратно в
пансион.
- А что я такого натворил? - обиделся Джордж. - В чем дело?
- В том, что это лодка, а не остров! - сердито затараторила Сесили. Она должна плыть, покачиваясь
на волнах. Когда вы возитесь на сиденье, принимая более удобное положение, она, конечно,
тоже покачивается, и это, безусловно, приятно, но я предпочитаю кресло-качалку - эффект тот же,
зато безопасно, по крайней мере, не окажусь в воде, когда...
- То есть вы хотите переплыть озеро? - перебил Джордж.
- Вот именно! - решительно заявила Сесили.
Молодой человек сел прямо и уставился на свою спутницу с бескрайним изумлением:
- Святые небеса! Зачем? Посмотрите туда! - Он указал на причал, от которого к пансиону вела
узкая тропинка. Причал был в двухстах футах от лодки. - Мы же проделали такой длинный путь!
Нас отнесло сюда ветром, но это же все равно чертовски далеко.
Чего ради нам плыть еще куда-то?
Сесили разглядывала его с нескрываемым презрением.
- Отлично, - процедила она сквозь зубы. - Передайте мне весло, я возвращаюсь в пансион. Вас,
конечно, тоже придется захватить с собой - вы такой тяжелый, что мне не удастся спихнуть вас за
борт. Весло, пожалуйста, если вас не затруднит.
На этот раз Джордж почувствовал некоторое раздражение - вернее, не Джордж, а все двести
фунтов Джорджа. Если же двести фунтов кого бы то ни было начинают чувствовать некоторое
раздражение, они могут сделать с лодкой черт знает что. Через десять секунд внезапной и
вынужденной активности молодого человека лодка плавала по озеру днищем вверх, за киль с
одного конца отчаянно цеплялась Сесили, с другого - Джордж.
- Я просила вас дать мне весло! - взвизгнула девушка.
Джордж свирепо посмотрел на нее поверх сверкающего на солнце днища.
- Да вот оно, забирайте, - сердито пропыхтел он, стараясь дотянуться до предмета обсуждения,
который дрейфовал в паре футов от него.
- Осторожно! - завопила Сесили, но было поздно:
Джордж отпустил киль и теперь барахтался, неистово молотя руками и выбрасывая фонтаны, как
молодой кит. Равновесие было нарушено - девушка вместе со своим концом лодки ушла на
несколько футов под воду. Когда она вынырнула, отплевываясь и порозовев от ярости, Джордж
уже обрел точку опоры и вновь пытался достать весло.
- Полагаю, вы умеете плавать? - пропыхтела Сесили. Если бы Джордж не был таким мокрым, она
наверняка испепелила бы его взглядом.
- Умею, - выдохнул Джордж, - но терпеть не могу.
- Я почему-то так и думала. Еще мне кажется, что вы не будете возражать, если я предложу
отбуксировать вас к причалу.
- Ну-у... мне как-то неловко... - с сомнением протянул Джордж. - Вот если бы вы сбегали в пансион
и привели кого-нибудь, кто мог бы вытащить лодку...
Сесили потеряла дар речи. Не говоря ни слова, она толкнула лодку так, что та уперлась Джорджу в
грудь.
Затем девушка поплыла, загребая одной рукой и продолжая толкать лодку другой, Джордж,
соответственно, двигался спиной вперед, с искренним одобрением наблюдая за Сесили.
Благодаря такой диспозиции он первым выбрался на отмель и вытащил из воды сначала свою
спутницу, затем лодку.
- Забавно было, правда? - вежливо поделился он впечатлениями.
Всю следующую неделю Джордж Стаффорд, впервые в жизни, был объектом воспитательного
процесса.
Сесили, даже не поблагодарившая молодого человека за то, что он так любезно помог ей выйти
на берег, проявляла к нему, однако, очевидный интерес и времени даром не теряла. После
многочисленных бесплодных попыток довести Джорджа до умственного и духовного
совершенства, она сосредоточила все внимание на его физической форме. К концу недели он
превратился в настоящего атлета и был на последнем издыхании.
В полдень пятницы Джордж, высунув язык, пытался попасть по теннисному мячу, который Сесили
упорно подавала мимо его ракетки. Фланелевые брюки новоиспеченного спортсмена были
выпачканы грязью - он постоянно падал в безуспешной погоне за мячом, - залитое потом лицо
побагровело от усилий, а в волосах торчали травинки и сухие листья. Сесили, замахнувшаяся
ракеткой перед очередной подачей, вдруг замерла в этой позе и начала хохотать.
- Что такое? - нахмурился ее партнер.
- Ничего, - выдавила Сесили, - просто... - и опять прыснула.
- Только посмотрите на нее! - заворчал Джордж. - Если ты думаешь, что...
- Я не думаю... не могу!.. - Отсмеявшись, девушка спросила: - Ты устал?
- Нет! - прорычал он.
- А я устала. К тому же мне надо с тобой поговорить.
- Ну, что случилось? - поинтересовался Джордж, когда они расположились в тени липы. Он улегся
на спину, зажав в зубах сигарету, выдохнул кудрявое облачко дыма и, подслеповато моргая,
наблюдал, как оно продирается к небу сквозь листву. Сесили сидела рядом, меланхолично
засовывая травинки в карман его поло.
- Мама нас подозревает, - тихо и торжественно сообщила она.
- В чем подозревает?
- Как это - в чем? - смутилась Сесили. - Сам не знаешь? Ну, что мы... что ты меня...
- Ага, - сказал Джордж, до которого наконец дошло. Вдруг он приподнялся на локте и возмущенно
заявил: - Терпеть не могу людей, которые всех подозревают. С ними неуютно. Они опасны и
вообще плохо себя ведут. Я вот никого ни в чем не подозреваю, а она чего?
- Может, она нас видела.
- Когда?
- Прошлым вечером. Помнишь, ты пожелал мне на веранде спокойной ночи и поцеловал, а потом
пошел за мной в холл и...
- Ладно, ладно, - буркнул Джордж, - теперь все ясно. Но если я каждый раз буду оборачиваться и
видеть у себя за спиной эту...
- Перестань, Джорджи, - нетерпеливо перебила его Сесили. - Ты же понимаешь, что мы должны ей
все рассказать.
- Деточка моя дорогая, мы ничего не должны. Это твоя забота. Ты вытащила меня на берег, ты
заставила меня играть в теннис, ты зовешь меня Джорджи, так что рассказывать тоже будешь ты.
Но я уже пробовала и не смогла. Правда не смогла.
- Вот и славно! - обрадовался Джордж. - Тогда нам ничего не остается, как расстаться. Вместо того
чтобы общаться с этой... с твоей мамашей, я уеду отсюда, и мы никогда больше не увидимся. Ты
же меня убиваешь! Сегодня я три часа скакал на солнцепеке, вместо того чтобы нежиться в
постели. Я только и делаю, что устаю, с тех пор как тебя встретил. Каждое утро я просыпаюсь в
мечтах о хорошем отдыхе, а тут на пороге появляешься ты со всякими веслами, ракетками и
удочками. Кстати, рыба-то тут при чем? Ты даже ее не можешь оставить в покое! И если ты
думаешь, что я...
- Хорошо, хорошо! - замахала руками Сесили. - Я все скажу ей сама, но ты пойдешь со мной.
Итак, в девять вечера того же дня молодой человек и девушка рука об руку ступили в холл
пансиона "Тисбери" и свернули в коридор, который вел прямиком к апартаментам миссис Гордон
Уилер. Шли они медленно, нерешительно. Заметив стоявший на этаже открытый лифт, молодой
человек собрался было шмыгнуть внутрь, но девушка крепко сжала его пальцы и ускорила шаг.
Неожиданно громкий стук захлопнувшейся двери заставил их остановиться на полдороге. Затем
послышались тяжелые шаги. Молодые люди так и стояли, переминаясь с ноги на ногу, пока в поле
зрения не нарисовались внушительные формы миссис Гордон Уилер, которая неумолимо
приближалась к ним.
- А, вот и вы! - воскликнула она с видом человека, сделавшего важное и крайне неприятное
открытие.
- Мы, кто же еще, - подтвердил Джордж, демонстрируя безусловное присутствие здравого
смысла.
Миссис Уилер молчала, сурово хмурилась и поджимала губы, разглядывая парочку, затем ткнула
пальцем в направлении своих апартаментов.
- Мы можем поговорить там... Ну-с, - продолжала она, когда все расселись в гостиной, - что
скажете?
- Миссис Уилер, - отозвался Джордж, - вы так наблюдательны, что ваш рассказ, несомненно,
окажется гораздо интереснее нашего.
- Молодой человек, у вас что, совести нет?
- Вообще-то нет. От нее одни неудобства.
- Не валяйте дурака! - рявкнула миссис Уилер. - Это вовсе не смешно. И не пытайтесь упражняться
на мне в остроумии!
- Он не будет, мамочка! - вмешалась Сесили. - Обещаю тебе.
- Молчи, детка! Ты еще не знаешь, какую ужасную ловушку тебе готовили. А вы, уважаемый... Она протянула Джорджу сложенную вдвое вырезку из газеты. - Что вы думаете об этом?
Джордж взял бумажку, развернул и пробежал глазами текст.
- А чего тут думать? - удивился он.
- Ну разумеется, вы не в состоянии этого понять! - язвительно хихикнула миссис Уилер. - Я просто
потрясена вашим бесстыдством! - И она прочитала заметку вслух: - "Граф В уд стоке кий,
проживавший до начала июля в загородном поместье "Северанс", в окрестностях Ньюпорта,
выехал в Беркшир, где проведет целый месяц в одном известном пансионе. В течение всего этого
времени он собирается сохранять строжайшее инкогнито, ибо по состоянию здоровья нуждается в
полном покое".
- Графу Вудстокскому повезло, что Сесили до него не добралась, пробормотал Джордж.
Миссис Уилер, проигнорировав это замечание, направилась к письменному столу и взяла с него
увесистый фолиант в красном кожаном переплете.
- Это, - сказала она, помахав вырезкой из газеты, - было напечатано в "Геральд" две недели назад
и натолкнуло меня на мысль, что нам с Сесили тоже не помешает наведаться в Беркшир, тем
более что я обнаружила, среди прочего, еще и такую информацию. - Миссис Уилер открыла книгу
и продекламировала: - "Граф Вудстокский, барон Дайнли из Олдинбурна, графство Оксфорд,
Англия. Родовой герб: рассеченный щит, два гонта, гидра семиглавая на пурпурном поле, кайма
внешняя золотая. Девиз: Virtus dedit, cura servabit". Ну-с? - Она захлопнула книгу и швырнула ее на
стол, Сесили при этом нервно вздрогнула. - Что вы об этом думаете?
- Здорово! - одобрил Джордж. - Очень любопытно. И что же это значит?
- Это значит, что вы самозванец! - выпалила миссис Уилер. - Но, хвала господу, я вовремя вывела
вас на чистую воду. А как все начиналось? Через неделю после появления заметки в "Геральд" я
вхожу в библиотеку этого пансиона - и кого же я там вижу? Раскормленного придурковатого
увальня, который сидит за столом и что-то пишет! Подхожу ближе и обнаруживаю, что он выводит
свои закорючки не где-нибудь, а на пурпурном поле под золотой каймой со всякими гонтами и
гидрой семиглавой!
- Ничего подобного! - пылко возразил Джордж. - Это была корова с поленом на рогах!
- Не перебивайте меня! - прошипела миссис Уилер. - Вы что думаете, я не отличу гидру
семиглавую от коровы? Итак, я прошу молодого человека назвать фамилию. Перед тем как
ответить, он глубоко задумывается. В процессе дальнейшего общения выясняется, что он полный
идиот. Вывод очевиден: передо мной был граф Вудстокский!
- И опять-таки мимо! - снова возразил Джордж, на этот раз возмущенно. - Это был я!
- Разумеется, - продолжала миссис Уилер, не обращая на него внимания, - я тут же представляю
ему свою дочь. Сесили, мой цыпленочек, играет роль гениально. Она становится вашей
постоянной спутницей, вы неразлучны, как два голубка. И вот когда я уже собралась отправиться в
Лондон осмотреть ваше родовое гнездышко и прикинуть, каким образом его можно привести в
божеский вид, с вечерней почтой приходит это! - Она выхватила газету из кучи бумаг на столе и
прочитала: - "Граф Вудстокский возвращается в поместье "Северанс" в окрестностях Ньюпорта
после целительного отдыха в пансионе "Хоупкоттедж" в Беркшире". А теперь, - продолжала
миссис Уилер, наставив на Джорджа указующий перст, - отвечайте, кто вы такой?
- Опять двадцать пять! всплеснул руками Джордж. - Вы уже спрашивали мою фамилию, и я назвал
вам ее. А если вы не верите... - Он вскочил и нахлобучил шляпу.
- Не пущу! - завопила миссис Уилер и бросилась между ним и дверью. Мы должны еще кое-что
выяснить!
- Джордж! Неужели ты меня покинешь? - всхлипнула Сесили.
Джордж, будучи неспособным стоять и говорить одновременно, уселся в кресло.
- Сесили, - сказал он, - ты требуешь от меня слишком многого. Я могу простить тебе все, кроме
того, что ты выбрала себе не ту мамашу. Это была ужасная ошибка. Но дело сделано, и мы
должны расстаться.
Я больше никогда тебя не увижу, и тот факт, что мы поженились, не имеет значения.
- Поженились?! - простонала миссис Уилер, неверным шагом добралась до дивана и рухнула на
подушки, отчаянно хватая ртом воздух.
- Да, поженились, - спокойно повторил Джордж. - Какой-то идиот пастор обвенчал нас в соседней
деревне.
Сесили меня покорила. Она потратила на это уйму времени, ей приходилось туго, а уж мне и того
хуже. Я чертовски устал и, по правде говоря, даже не понимал, что происходит, - не разобрал ни
слова из того, что там бормотал этот священник. Я был не в состоянии сопротивляться!
Миссис Уилер трагически заломила руки.
- Мистер Стаффорд, - заговорила она слабым голосом, - это уму непостижимо. Я просто не верю
своим ушам. Что касается тебя, Сесили, нам надо побеседовать, но не сейчас. Я потрясена до
глубины души, мои нервы на пределе. Завтра мы все обсудим и постараемся придумать, как
исправить твою чудовищную оплошность. Утро вечера мудренее. - Она встала, нетвердой
походкой направилась к спальне и захлопнула за собой дверь.
- Джордж... - Сесили подбежала к молодому человеку и взяла его за руки. - Ты меня любишь?
- Понятное дело, - кивнул Джордж. - Разве я это не доказал?
Сесили встала на цыпочки и чмокнула его в щеку.
- Я ни капельки не сержусь на тебя за то, что ты не граф, дорогой, нежно сказала она. - Ты такой
глупый, что вполне заслуживаешь титул!
Стаут Рекс - Еще одна маленькая любовная история
(~40 мин., соврем. проза
Не ищите здесь Ниро Вульфа или Арчи, это не детектив, а история с интригой, достойной
Макиавелли
Неклассический треугольник: скряга-сестра, бедный убогий брат и итальянский скульптор)
В то утро мистер Чидден чувствовал себя неважно.
Что это: прилив раздражения или необычайно острый приступ меланхолии, которую он приобрел
за двадцать лет прислуживания сестре в ее меблированных комнатах?
Но он не стал тратить время на то, чтобы распознать, в чем дело. Он просто ощущал, как ему
плохо.
После завтрака он в течение часа выгребал золу из печи. Потом он принес уголь, подмел крыльцо
и дорожку, вынес мусор и вытряхнул пепельницы, натер до блеска медные дверные ручки и
перила, выбил четыре ковра. Когда со всем этим было покончено, он пошел искать сестру, чтобы
попросить у нее сорок центов для покупки калильной сетки для газового фонаря.
- Она наверху, шьет, - сообщила судомойка Минни.
Мистер Чидден поднялся на второй этаж и прошел через узкий холл к полуоткрытой двери,
ведущей в комнату сестры. Перед ней он остановился. Для этого было две причины. Он всегда
останавливался, чтобы собраться с духом перед встречей с сестрой, даже когда его просьба
бывала безобидной. Но сейчас нерешительность появилась у него от удивления. Почему он не
слышит звук работающей машинки, этот монотонный стрекот?
И чей это голос - явно не голос сестры, - неразборчивое бормотание которого доносилось из-за
приоткрытой двери? По-видимому, кто-то разговаривает с сестрой.
Кто же это может быть? В течение двух минут мистер Чидден замер, прислушиваясь.
Вдруг голос затих, и раздался другой звук - звук звонкого поцелуя!
Мистер Чидден от изумления открыл рот. Он не успел сменить выражение лица, как услышал
быстрые шаги, дверь распахнулась, и из комнаты выскочил мужчина, бросившийся бежать по
лестнице вниз, перепрыгивая через две ступеньки. Но несмотря на то, что он пронесся мимо
мистера Чиддена как молния, он узнал его. Это был Комиччи, итальянский скульптор,
занимающий комнату-студию на третьем этаже.
Мистер Чидден онемел на минуту, но от стука закрываемой входной двери пришел в себя. В это
же мгновение в комнате заработала швейная машинка. На цыпочках он отошел к лестнице и стал
бесшумно спускаться. На четвертой ступеньке он остановился, затем резко повернулся и двинулся
наверх, быстро подошел к двери, открыл ее и вошел в комнату.
- Чего тебе? - спросила сестра, взглянув на него и остановив машинку.
Мисс Мария Чидден была костлявой краснощекой женщиной сорока двух лет, с тусклыми серыми
глазами и лоснящейся кожей. Как правило, ее лицо пылало, но, когда мистер Чидден остановил
на ней свой взгляд после беглого осмотра комнаты, ему показалось, что кожа на лице сестры
побагровела. Тот факт, что в комнате никого не было, наталкивал на простой и определенный
вывод. Мистер Комиччи поцеловал ее или пытался это сделать. Но для мистера Чиддена было
непостижимо, что какой-то мужчина по какой-либо причине целует его сестру Марию. Насколько
он был поражен, настолько же и озадачен.
- Чего тебе? - нетерпеливо повторила мисс Чидден.
- Дай мне сорок центов, нужно купить калильную сетку для газового фонаря, - объяснил мистер
Чидден, стоя посередине комнаты.
Не говоря ни слова, она подошла к старому грязному письменному столу и достала большой
черный бумажник. Мария взяла из него две монеты по двадцать пять центов и дала их брату. Его
изумление усилилось. Раньше она никогда не давала и цента сверх нужной суммы. Должно быть,
она ужасно взволнована. Она могла бы даже...
Он откашлялся, сунул пятьдесят центов в карман и сказал:
- Мне нужно еще три доллара.
Мисс Чидден не стала убирать бумажник и спросила:
- Зачем?
- Лично для меня.
- Для чего?
- Крайняя необходимость, - шутя ответил мистер Чидден.
- Полагаю, что это одежда.
Ее тон становился все раздраженнее. Краска отхлынула с лица, губы сжались в полоску. Эти
зловещие знаки и жгучий сарказм в ее голосе, моментально повергли мистера Чиддена в
глубокое отчаяние. Увидев ее беспокойной и смущенной, он решил захватить ее врасплох и
выпросить деньги, пока она не пришла в себя. Но как только он увидел крепко сжатые губы, то
понял, что надеяться не на что. Пускай, но все равно он будет бороться за эти деньги.
- Да, деньги мне нужны для одежды, - с неожиданной страстью ответил он. - Разве непонятно?
Мне нужно три доллара.
- Я не дам тебе деньги. - Мария убрала бумажник в стол. - Более того, ты не нуждаешься в одежде.
- Нет? Не нуждаюсь? - закричал мистер Чидден, делая шаг вперед и возмущенно указывая на свое
облачение. - Посмотри на это! Посмотри! Может быть, и есть мужчины, которые носят брюки по
три года, Мария Чидден, я же к ним не отношусь. Неприлично столько времени носить одежду.
Дай мне три доллара.
Вместо ответа, мисс Чидден заперла ящик письменного стола, вернулась на стул, положила край
простыни под лапку швейной машинки и начала строчить.
Единственным звуком, доносившимся с ее стороны, был грохот подвигаемого ближе к машинке
стула.
Мистер Чидден задохнулся бессильной яростью робкого и угнетенного существа.
- Ну и ну! - взвизгнул он. - Своей упертостью меня не сломишь. Мне нужны брюки, и ты сама
знаешь об этом. Тебе должно быть стыдно! Ты богатеешь, извлекая прибыль от сдачи жилья
внаем, а я работаю на тебя с утра до вечера и ничего не получаю. Я заработал эти деньги.
Разве не так? Неужели я их не заработал?
- Может быть, и заработал, - спокойно ответила она. - Но ты их не получишь.
- Нет? Я не получу их? Отлично! Отлично, значит, не получу!
После проигранного сражения душа мистера Чиддена жаждала мести. Ему хотелось сказать ей
что-нибудь такое, что доставило бы боль мегере. Он придумал и с презрением выпалил:
- А что здесь делал этот коротышка-даго {пренебрежительное прозвище итальянцев, испанцев,
португальцев в США}? Я видел, как он выходил отсюда.
Машинка перестала стучать. Мисс Мария встала. Ее взгляд был ужасен. В течение трех секунд
мистер Чидден храбро выдерживал этот взгляд, но затем мелкими шажками начал продвигаться к
двери. Ее окрик остановил его - любой бы остановился.
- Роберт!
- Что? - пробормотал он, поворачиваясь.
- Послушай, что я тебе скажу. Мистер Комиччи - не даго. Он джентльмен. Надо же так сказать даго! Такое ничтожество, как ты, смеет обзывать его! И еще. Ты стоишь передо мной и в глаза
оскорбляешь меня, свою собственную сестру! Да, да, оскорбляешь! И если только я... Роберт!
Роберт, вернись!
Но призыв ушел в пустоту. Раздираемый местью мистер Чидден буквально скатился с лестницы в
холл, а затем еще с трех пролетов в подвал. Здесь он остановился и уселся на старый ящик за
угольной кучей.
Но тут же вскочил, подбежал к двери и закрыл ее на щеколду. После чего вернулся на свой ящик.
Тут было его убежище, тут он отдыхал в уединении. Он достал трубку, набил ее табаком, зажег и
прислонился к побеленной стене, чтобы не спеша курить и погрузиться в размышления.
Сначала он подумал о брюках. В течение двух недель набирался он храбрости, чтобы попросить
эти три доллара - цену присмотренных им брюк с витрины "Гринберга" на Пятой авеню. Новые
брюки ему были нужны, безусловно. Он знал, что, если бы подошел к сестре в подобающей
манере - униженный и умоляющий, все было бы в порядке. Но его подвело импульсивное
желание взять реванш, и теперь, возможно, ему придется ждать целый месяц Что же вывело его
из себя? Ну конечно же даго.
Это было смешно. Наверняка он ошибся. Даже даго не польстится на его сестру - тощую, старую и
костлявую. Но ведь он явно слышал звук поцелуя. А что, если и в самом деле поцелуй был?
Мистер Чидден выпустил густую струю дыма и усмехнулся. Он бы отдал все на свете, только бы
увидеть, как этот коротышка пытается поцеловать Марию. Некоторое время он сидел, курил,
усмехаясь про себя, и придумывал забавные сцены между сестрой и даго.
Вдруг он выпрямился с коротким восклицанием и выдернул трубку изо рта. Господи! Об этом он
не подумал! Может ли быть такое? Возможно, коротышка и не такой уж дурак, в конце концов!
Он снова прислонился к стене и так серьезно задумался, что забыл о трубке. В течение получаса
он сидел молча, без движения, поглощенный своими мыслями. Потом он медленно встал, выбил
трубку и пошел наверх в столовую, чтобы узнать, который час. Было четверть двенадцатого, а
значит, Мария пятнадцать минут назад ушла на рынок, что на Восьмой авеню.
- Вот он, мой шанс! - вполголоса сказал мистер Чидден.
Он поднялся на второй этаж и прошел в конец холла.
Дверь, за которой полчаса назад он слышал звук поцелуя, была закрыта. Он постучал в дверь и, не
получив ответа, толкнул ее и вошел. Оставив дверь открытой, мистер Чидден на цыпочках
подошел к старому письменному столу. Открыв его ящик, он увидел аккуратно сложенные
рецепты, счета, другие бумаги, а также две регистрационные книги в переплетах из искусственной
кожи. Взял одну из них, положил на стол и раскрыл.
Мистер Чидден нервничал, постоянно оглядывался, его пальцы дрожали, но наконец на странице
47 он нашел, что искал: "Джакомо Комиччи, приехал 22 сентября, третий этаж, $5.00". Но начиная
с 16 марта записи об оплате прекратились, хотя даты записывались. Мистер Чидден посмотрел на
календарь, который показывал "28 июня". Затем он провел пальцем по колонке дат.
- Вот это да! - воскликнул он, понимая опасность сложившейся ситуации. - За пятнадцать недель
он не заплатил ни цента!
Все было ясно. Его подозрения подтвердились. Неудивительно, что коротышка-даго пытался
поцеловать Марию! Затем другая мысль пришла ему в голову. Никогда раньше Мария не
оставляла постояльцев более чем на три недели в случае неплатежа. А здесь - около четырех
месяцев! Постепенно и без всякой радости мистер Чидден пришел к грустному выводу: мистер
Комиччи не только поцеловал Марию, но и доставил ей этим удовольствие.
Но он-то знал свою сестру. Она была такой ханжой, каких свет не видывал. Ни один донжуан не
мог запечатлеть на ее девственной щеке поцелуй любви до того, как он заявит ей о своих
серьезных намерениях. Вот так так! Без сомнения это так! Маленький даго пытается жениться на
Марии!
Голова у мистера Чиддена соображала быстро, но только спустя какое-то время, уже в подвале,
его поразила необычная догадка. Как только эта мысль появилась у него в голове, все остальные
куда-то исчезли. Он вдруг почувствовал, что нависла неожиданная страшная опасность. Мозг
заработал в полную силу.
В самом деле, в течение двадцати лет он вел жизнь раба, хотя и не единожды предпринимал
энергичные, но бесплодные попытки вырваться из нее. Мастер на все руки в доме с
меблированными комнатами отнюдь не почетное и не беззаботное положение, и его сестра этим
пользовалась на все сто процентов. Но работа, которую он выполнял, не была тяжелой, да и
заботиться ему было не о чем. Когда надо, он получал одежду, иногда ему даже удавалось
выжать немного денег у сестры на свои собственные нужды. У Марии были хорошие сбережения десять тысяч долларов. Он совсем не хотел и не ожидал ее смерти, но главное было в том, что
существовали десять тысяч и он был единственным ее родственником.
А теперь появился этот крошка даго...
В середине дня мистер Чидден поднялся на третий этаж и постучал в дверь. Настроен он был
решительно. У него не было четкого плана действий, он просто хотел посмотреть врагу в лицо и
оценить его в полной мере. Синьор Комиччи открыл дверь.
- Я пришел проверить газовый светильник, - сказал мистер Чидден, входя в комнату.
- С ним все в порядке, - ответил итальянец.
Молча мистер Чидден взял стул из угла комнаты и перенес его на середину, под люстру. Затем он
встал на стул и начал осматривать верхнюю часть горелки, на лице появилось злобное выражение,
возможно, потому, что взгляд время от времени останавливался на итальянце, стоящем внизу и с
любопытством взирающем наверх. Его глаза выражали любопытство и больше ничего, никакой
враждебности. Но мистер Чидден усмотрел в лице итальянца злобу и готов был сказать чтонибудь дерзкое, когда вдруг вспомнил, что шпионы не должны выдавать своих истинных чувств.
- Похоже, что все в порядке, - наконец произнес он, слезая со стула.
Мистер Комиччи дружелюбно кивнул.
- Иногда доставляет беспокойство, - продолжил мистер Чидден. - Из-за калильной сетки. Слишком
сильная струя газа. Но я уверен, что здесь все в порядке.
Итак, беседа возымела начало, и, несмотря на некоторую неуверенную манеру мистера Чиддена,
мистер Комиччи живо и приветливо вступил в нее. В течение трех минут он сокрушался, что ему
пришлось отказаться от студии на Десятой улице из-за того, что там не было соответствующего
верхнего освещения. Затем он некоторое время говорил о трудностях на пути художника,
особенно художника, работающего с мрамором и бронзой.
- Такой дорогой материал! - жаловался он, в то время когда мистер Чидден качал головой,
пытаясь изобразить сочувствие. - Послушайте! Кусок мрамора стоит пять долларов!
Он указал на незаконченную скульптуру: мальчик, сидящий на коленях у мужчины. Мистер
Чидден со сдержанным интересом оглядывал скульптуру, как человек, который понимает гораздо
больше, чем показывает. За притворство ему пришлось платить. Они переходили от одной
скульптуры к другой. Комната была заполнена ими - только что начатыми, завершенными
наполовину или законченными. Итальянец доставал их отовсюду: прыгающую лягушку из-под
листов с эскизами, мальчика с флейтой из большого пакета, девушку, склоненную над книгой, из
ящика гардероба.
- Я вам что-то покажу, - вдруг сказал он, направляясь в угол, где стоял столик, на котором что-то
лежало, покрытое темной тканью. - Она была на выставке. Только вчера я получил ее обратно. Я
сделал ее очень давно, она получилась такой красивой, посмотрите!
Он осторожно снял ткань, и взору предстала скульптура женщины из белого мрамора. На ней не
было одежды. Скрещенные руки прикрывали грудь, одно колено слегка согнуто, голова чуть
повернута и опущена, будто она стыдится. Она была прекрасна.
- Ну и ну! - воскликнул мистер Чидден после внимательного изучения скульптуры. Затем
задумчиво произнес: - Голая, как общипанный цыпленок! Именно вид обнаженной натуры
натолкнул мистера Чиддена на эту мысль. Но произошло это позже, три или четыре дня спустя,
потому что существование этой скульптуры смущало его. Суть сей мысли он бормотал себе под
нос, спускаясь от мистера Комиччи. - Вот бы увидеть выражение лица Марии, когда она увидит ее!
После его визита к мистеру Комиччи подозрения несколько смягчились. Он казался таким
безвредным и дружелюбным, этот жалкий бес, что мистер Чидден допустил возможность
небольшой утечки денег сестры, получаемых за ренту. В глубине души мистер Чидден был даже
доволен. Он уже стал сомневаться, был ли поцелуй на самом деле, так как, глядя на лицо Марии,
трудно было себе представить человека, захотевшего ее поцеловать.
Но внезапно, примерно через неделю, его сомнения рассеялись окончательно. Однажды,
пересекая холл, он услышал неясный шум за закрытой дверью гостиной.
С приближением его шагов голоса затихли. Но как только он поднялся по лестнице, он снова
услышал шум. Это ему показалось подозрительным. Он остановился и задумался. Его
нерешительность была вызвана не принципом морали, он просто собирался с духом.
Затем он повернулся и медленно, неслышно спустился вниз. Из холла голоса стали различимы, но
слов разобрать было невозможно. Осторожно, на цыпочках, он миновал дверь библиотеки и
направился к портьерам, разделяющим эту комнату и гостиную. С колотящимся сердцем и крепко
сжатыми губами он стал подглядывать в щель между ними.
Он увидел, что сестра Мария сидит на диване с зеленой плюшевой обивкой, ее лицо краснее, чем
обычно, глаза с глупой нежностью, любовно устремлены на мистера Комиччи, который стоял
перед ней на коленях, держа ее руки в своих!
Голос итальянца был едва слышен.
- Поверьте! Поверьте! - страстно бормотал он.
Затем стал покрывать поцелуями ее руки. Она покачала головой.
- Я слишком стара. Вы не можете любить меня, - услышал изумленный мистер Чидден.
- О! - застонал поклонник. - О, какое значение имеет возраст, если эта женщина прекрасна? Так
прекрасна! У меня сердце разрывается!
Она все качала головой, но уже не так решительно.
Нетрудно было заметить, что она колеблется. Пылкий поклонник уже стоял на одном колене,
обнимал ее за талию и снова осыпал поцелуями ее руки.
- Так прекрасна и чиста! - Взывал он возвышенным стилем. Это было великолепно. Никто, кроме
южанина, не мог исполнить такую сцену. - Я умоляю вас... сделайте меня счастливым! Будьте
моей женой!
Тут снизу раздался голос судомойки Минни:
- Мистер Чидден! Мистер Чи-и-ден!
Ругая про себя судомойку, мистер Чидден так быстро повернулся, что чуть не сбил с подставки
лампу, тем самым едва не выдав себя. Голос Минни звучал все пронзительнее. Все так же на
цыпочках он прошел холл и спустился по лестнице, у подножия которой его ждала Минни.
- Какого черта тебе надо? - свирепо вопросил он.
- Пришел человек за бутылками, - ответила она, удивленная его непривычной грубостью.
Когда вечером он спустился к себе в подвал, то решил - совсем не важно, что его оторвали от того
занятия. Он достаточно увидел и услышал. Что скажет Мария, "да" или "нет", - естественно, ответ
будет "да".
- Развратница! - вслух сказал мистер Чидден.
Он сел и погрузился в раздумья.
Дальнейшие обстоятельства сложились для него удачно. План был придуман. Возможность
осуществить его предоставила сама Мария. Это случилось на следующее утро, когда она позвала
его наверх и велела как следует выбить ковры в гостиной и развести огонь в камине. Вся суета
была вызвана подготовкой к заседанию клуба "Помоги немного", которое состоится в четверг.
Мистер Чидден не в первый раз ожидал подобный визит. "Помоги немного" - кружок прихожанок
церкви, куда ходила Мария, которые собирались каждую неделю, шили вещи ради
благотворительности и между делом сплетничали. Выбивая ковры на заднем дворе, он всегда
ругал это сборище за то, что оно прибавляет ему работы. Ворчал он и на сей раз. Но когда он
скомкал бумагу, чтобы разжечь камин, он понял - это его удача. Он прекратил работу, встал и
нахмурился.
- Отличное подспорье! - вскрикнул он и вновь повторил: - Отличное подспорье!
Он закончил разжигать камин, на его лице играла веселая усмешка мести.
В тот день он выполнил свои нехитрые приготовления. Он сходил в художественную лавку на
Восьмой авеню, где приобрел банку с черной краской за десять центов и маленькую кисть. Он
принес свои покупки в подвал и спрятал их в старой бочке.
Наступило утро четверга. Мистера Чиддена охватила неуемная энергия. Камин был освобожден от
пепла еще до завтрака, и к девяти часам утра он выполнил всю работу, которую обычно он
завершал только к полудню. Такой промах с его стороны, к счастью, никем не был замечен.
Двадцать минут десятого спустился мистер Комиччи и отправился на свою утреннюю прогулку.
Мистер Чидден увидел это из окна столовой. Он подождал несколько минут, затем спустился в
подвал за краской и кистью. Когда он вернулся, то сразу заглянул на кухню, где Мария и Минни
готовили всевозможные деликатесы для гостей. Мистер Чидден быстро поднялся на третий этаж и
вошел в комнату мистера Комиччи.
Он прошел прямо к столику в углу комнаты и сдернул темное покрывало. Сейчас у него не было
времени смущаться при виде обнаженной фигурки женщины. Ему надо было выполнить то, что он
задумал. Он достал краску и кисть и приступил к работе. Через десять минут все было закончено.
Он накрыл скульптуру тканью, спрятал под курткой свои инструменты, вернулся в подвал и убрал
их под кучу дров.
- Ну вот! - выдохнул он. Сердце было готово выпрыгнуть из груди в результате проведенной
рискованной операции. - Только бы даго не приподнял ткань!
Но риск - благородное дело!
Делать было нечего, оставалось только ждать полудня и прибытия "Помоги немного". Но
ожидание перестало быть утомительным после возвращения с прогулки мистера Комиччи.
Мистер Чидден слонялся по холлу в ожидании того, что дверь наверху вот-вот распахнется и
тишину нарушит гневный вопль итальянца. Но никаких подобных звуков он не уловил, зато
послышался шум прибывающих гостей.
При появлении первого гостя мистер Чидден поднялся на этаж выше, как было велено Марией, чтобы не болтаться под ногами. К трем часам гостиная была полна народу, и до мистера Чиддена
доносился гул голосов.
Он мог представить себе присутствующих - старые дамы, дамы среднего возраста, толстые и
худые, симпатичные или неинтересные. Они сидят по двое и по трое, а их языки и иголки
работают с невероятной скоростью.
Он решил начать свою операцию в четыре часа, но за полчаса до ее начала он ужасно нервничал.
Он все время прислушивался к звукам наверху, опасаясь, что его замысел уже разоблачен. Со
временем терпение его лопнуло. Почему-то с неохотой он направился к двери на третьем этаже.
Он немного поколебался, прежде чем решительно постучал в дверь. Раздался голос итальянца:
- Войдите!
Как только мистер Чидден открыл дверь, он не мог удержаться, чтобы не посмотреть на столик в
дальнем углу комнаты. Вздох облегчения вырвался у него, когда он увидел, что фигурка попрежнему стоит на столе, накрытая тканью. Он повернулся к мистеру Комиччи, который застыл в
вежливой позе ожидания.
- Мария прислала меня, - сказал мистер Чидден. - К ней пришли друзья, и она просила узнать,
можно ли им посмотреть ваши работы.
Конечно, это совсем не затруднит мистера Комиччи.
Он также сказал, что будет счастлив показать дамам свои скромные произведения, вот только в
комнате не убрано. Но что можно ожидать от художника.
- Все в порядке, - согласился мистер Чидден. - Они сейчас поднимутся.
Он повернулся и спустился вниз. У двери в гостиную он не мешкал. Время было дорого.
Итальянец, возможно, захочет подготовить свои работы. Стук мистера Чиддена заставил Марию
подойти к двери.
- Что тебе надо? - нетерпеливо проговорила она, увидев брата.
- Я от мистера Комиччи, - ответил он. - Он просил привести твоих гостей посмотреть его
скульптуры.
Мне кажется, он надеется что-нибудь продать. Хитрец!
- Ну конечно, - сказала она после короткой паузы. - Конечно! Как мило с его стороны. Скажи ему,
что мы будем, примерно, через полчаса.
Мистер Чидден был готов к такому ответу.
- Мистер Комиччи сказал, - спокойно ответил он, - что ему надо уйти и он был бы вам
признателен, если бы вы пришли сейчас.
- Ну-у... я даже не знаю, - нерешительно произнесла Мария и затем добавила: - Хорошо. Скажи
ему, мы сейчас придем.
Мистер Чидден как на крыльях взлетел по лестнице. Сердце его готово было выскочить из груди.
- Ловкая интрига, - сказал он себе. - Макиавелли. Итальянская работа. Я покажу тебе, даго!
Мистер Комиччи пытался убрать комнату, бросая в шкаф одежду, подбирая с пола обрывки
бумаги и комки глины, закрывая неприглядную каминную решетку еще более неприглядным
куском ткани. Мистер Чидден тоже включился в уборку. Он принес из кладовки метлу и подмел
пол, а итальянец в это время стирал пыль со стульев. Затем они вместе расположили предметы
искусства на двух ящиках и поставили их в середине комнаты. Работ было много: статуэтки
глиняные, гипсовые, из белого и серого мрамора в разных стадиях завершенности. Они еще не
успели вынуть из нижнего ящика шкафа все произведения, как услышали за дверью шаги и
голоса.
- Они идут! - прошептал мистер Чидден, бросая метлу под кровать и поспешно направляясь в угол,
подальше от столика с накрытой скульптурой. Итальянец надел пиджак, открыл дверь и остался
около нее, пока дамы входили в комнату, во главе с мисс Марией Чидден. Нежным взглядом он
посмотрел ей в глаза.
- Вы так добры, мистер Комиччи! - сказала она, млея от восторга.
Они вошли. Что за компания! Кого здесь только не было! Миссис Рэнкин, унылая, но агрессивная,
с постоянно бегающими темными глазами; миссис Мэнгер, казалось бы застенчивая, однако с
острым язычком; три незамужние сестры Бипп, старые девы, похожие друг на друга как капли
воды; миссис Полтон, которая когда-то жила на Риверсайд-Драйв; добрая старушка миссис
Джадсон и много других дам. Мистер Чидден наблюдал из своего угла, как они толпились,
подталкивая друг друга, в дверях, а потом остановились, будто попали в грязный вагон трамвая.
Ему захотелось крикнуть: "Проходите, в комнате много места!" - но он слишком глубоко ушел в
себя.
После представления мистеру Комиччи, которое сопровождалось радостными восклицаниями и
невинными шутками, они окружили ящики. Миссис Рэнкин спросила, можно ли взять фигурки в
руки и рассмотреть их до того, как мистер Комиччи начнет свой рассказ. Другие последовали ее
примеру. Они брали скульптуры, подносили их ближе к окнам и указывали друг другу на тонкости
выполненной работы. Мистер Чидден усмехнулся про себя, так как он считал, что все эти шедевры
не заслуживают внимания, за исключением накрытого тканью.
- Посмотрите на этого тигра! - воскликнула миссис Полтон. - Какие изящные линии!
- Замечательно, - согласился кто-то, - но хвост слишком удлинен.
Все сгрудились вокруг тигра.
- Да, хвост длинноват, - вынесла решение миссис Рэнкин.
- У тигров вообще длинные хвосты, - не терпящим возражений тоном заявила мисс Чидден.
- Тем не менее хвост очень длинный!
- Довольно длинный, должна заметить.
- Хвост - длинный.
- Он действительно кажется длинным.
- Немного длинноват, - в заключение сказала миссис Полтон. И они приступили к дальнейшему
осмотру.
Время шло, и эмоции начали утихать. Мистера Чиддена охватило волнение. Неужели мистер
Комиччи не захочет показать свой шедевр? Было похоже на то. Мистер Чидден принял решение он ждет еще пять минут, а затем начинает разговор с какой-нибудь дамой о скульптуре. Он начал
считать секунды.
Его спасла маленькая женщина в светло-голубом, одна из немногих молодых дам, которая стала
бродить по комнате в поисках новых экспонатов. Вдруг раздался ее громкий возглас:
- Мистер Комиччи! Что это? Можно посмотреть?
Мистер Чидден задрожал, когда увидел, что ее рука лежит на темной ткани. Сработает или нет?
Итальянец, который возбужденно жестикулировал в попытке объяснить секреты своего искусства
мисс Чидден и миссис Джадсон, беспокойно взглянул на женщину.
- Ну... я не знаю... - произнес он. - Видите ли... вам может не понравиться...
- Почему же нет? - требовательно сказала миссис Рэнкин.
- Я не знаю... - запинаясь, проговорил он. - То есть да... почему бы нет? Конечно, вы можете
посмотреть. Нет! Подождите! Дайте я сам возьму ее, синьора.
Она очень хрупкая.
Дамы сгрудились вокруг стола, а скульптор протянул руку к куску ткани. Казалось, они ожидали
какого-то чуда. Из своего угла мистер Чидден наблюдал за ними и с удовлетворением отметил,
что Мария, миссис Рэнкин и сестры Бипп стояли в первом ряду.
- Это истинная красота, - говорил итальянец. - Линия... форма... так совершенна и прекрасна...
Ничего нет прекраснее...
Он снял ткань.
В конце концов добропорядочные дамы увидели то, что ожидали увидеть, а именно скульптуру.
Нагота изваяния буквально шокировала присутствующих. Женщина была довольно большой и
совершенно обнаженной! Абсолютно нагой! И так талантливо сделанной!
Мраморная белизна тела, рук и ног выглядела как настоящая, все линии силуэта были сглажены, а
выпуклости и углубления высечены с большим мастерством и любовью. Они стояли и смотрели на
совершенные формы скульптуры, но также от их глаз не ускользнула и надпись на постаменте из
необработанного мрамора, аккуратно выведенная черной краской:
"МИСС МАРИЯ ЧИДДЕН".
Возглас изумления и ужаса вырвался одновременно из восемнадцати ртов. Они смотрели то на
Марию Чидден, то на скульптуру, и атмосфера в комнате накалилась так, что, казалось, вот-вот
грянет взрыв. Это был яркий пример женской логики. Любому, даже неопытному, глазу было
совершенно очевидно, что пропорции тела мисс Марии Чидден и представленной скульптуры
были абсолютно разными. Скульптура могла быть воспринята лишь как идеализированный образ
упомянутой дамы, да и то для этого нужно было иметь очень богатую фантазию. Но
присутствующим подобная мысль даже не приходила в голову. Они видели только обнаженную
фигуру и надпись. Их лица приобрели цвета от мертвенно-бледного до пурпурно-красного. Все
онемели.
Эту жуткую тишину нарушила сама Мария Чидден.
- Негодяй! - взвизгнула она и сделала быстрое движение в сторону мистера Комиччи.
Итальянец, отклонившись в сторону, едва избежал протянутых к нему пальцев Марии, но при
этом ненароком толкнул двух сестер Бипп, и они приземлились на пол. Ему удалось бежать,
перепрыгнув распростертые тела. Замешательство сменилось паникой. В то время как сестры
Бипп растянулись на полу, комнату огласили крики, а самые робкие из дам бросились к двери.
Третья сестрица Бипп опустилась на стул и застонала. Мисс Мария продолжала в ярости
судорожно сжимать и разжимать пальцы и вопить: "Негодяй!" - но итальянец держался на
безопасном расстоянии и выкрикивал в ответ:
- Нет, нет, нет. Я не делал этого! Нет, нет, синьора!
Миссис Рэнкин и миссис Мэнгер помогли сестрам Бипп подняться на ноги и повели их к двери.
Остальные гостьи к этому времени уже толпились в холле.
Мисс Мария Чидден стояла в середине комнаты, ее била дрожь, она задыхалась от гнева.
- Нет, нет, нет! - кричал итальянец, прыгая вокруг нее. - Это не вы! Посмотрите! Никакого
сходства... она маленькая и пухленькая, а вы, вы... как бы это сказать... вы худая и высокая...
- Негодяй! - завизжала Мария.
Итальянец отпрыгнул. Затем на секунду замер и выдал ужасное итальянское ругательство. Он
посмотрел в угол, где недавно стоял мистер Чидден. Угол был пуст.
В комнате вообще, кроме них, никого не было. Мистера Чиддена было не слышно и не видно, а из
холла раздавались голоса спустившейся вниз обескураженной публики.
- Ведь я не делал этого! - закричал мистер Комиччи, пытаясь схватить Марию за руку. - Нет, нет и
нет!
Вы такая целомудренная и красивая!
Она бросила на него жуткий взгляд, полный презрения, и бросилась к двери.
- Жалкий даго! - проговорила она сдавленным голосом. Дверь за ней с грохотом захлопнулась.
В целом, я полагаю, это был гениальный ход, так как напомню, что мистер Чидден обратил себе
на пользу присутствие свидетелей. И себя он оградил от всего этого самым лучшим способом.
Конечно, ему прибавилось лишних забот, и в субботу он убирал комнату, из которой в пятницу
утром был выдворен мистер Комиччи. Но на сердце было так легко, и на душе царил такой
божественный покой, что во время работы он беспрерывно напевал. Также необходимо заметить,
что, когда в субботу вечером он пошел в кинотеатр на Восьмой авеню, на нем были новые брюки.
Стаут Рекс - Проклятая эмансипация
(~17 мин. соврем. проза, не детектив.
О том, как эта "проклятая эмансипация" делает общение с девушками практически
невозможным. Стоит ли впустую тратить время на поиски вымерших видов?)
Молодой Стаффорд уже целый час бился над запиской, но никак не мог добиться
удовлетворительного, с его точки зрения, результата. На девятой попытке он наконец решил, что
творение можно отсылать, сложил лист и засунул его в конверт со вздохом философа, который
понимает, насколько далеки от совершенства результаты его стараний. Записка же повествовала о
следующем:
"Дорогая мисс Блейр!
Я пробыл в Нью-Йорке два месяца - срок вполне достаточный для того, чтобы прийти к выводу,
что это место чересчур захвалили. Но вчера вечером один приятель пригласил меня посмотреть
"Успех Виноны", и в тот момент, когда на сцене появились Вы, мое мнение кардинально
изменилось.
Не стану просить прощения за отсутствие соблюдения формальностей; если Вы склонны к обидам,
то это было бы бесполезно. Скажу только, что я мечтаю иметь удовольствие встретиться с Вами и
что, внимательно понаблюдав за Вами в течение двух часов, теперь я почти уверен, что Вы будете
столь добры, чтобы, по крайней мере, благосклонно принять мое предложение и наилучшие
пожелания.
Искренне Ваш, Арнольд Стаффорд".
Тогда как вышеизложенное черным по белому свидетельствовало об обратном, Арнольд
Стаффорд был довольно благоразумным юношей. Просто в его жизни, как и в жизни любого
мужчины, настало время, когда он почувствовал сильный импульс написать записку субретке,
игравшей в увиденной им музыкальной комедии; ему не сделало бы чести, если бы он оказался
излишне труслив и излишне осторожен, чтобы не поддаться этому импульсу. А уж если этой
субреткой случилось быть Бетти Блейр - что ж, вы когда-нибудь видели ее?
В оправдание Арнольда Стаффорда можно сказать, что сочинение записок незнакомым дамам не
входило в его привычки. Записка была краткой и прямой, возможно, это говорило об
обдуманности действий молодого человека. Как бы то ни было, следует помнить, что в этой
области опыта у него не было никакого.
Важно было то, что он добился результата. На третье утро после того, как записка была
отправлена, Стаффорд обнаружил среди своей почты серый строгий конверт.
Торопливо вскрыв его, юноша прочел следующее:
"Дорогой мистер Стаффорд.
Вы можете встретиться со мной, если хотите, у служебного входа в театр после спектакля в
пятницу вечером.
С уважением, Бетти Блейр".
Если бы Стаффорд принадлежал к золотой молодежи, которая затрудняет движение по Бродвею
без особых видимых на то причин, кроме того, чтобы доказать, что животное на двух ногах - не
обязательно человек, то эта видимая покладистость со стороны мисс Блейр, должно быть,
возбудила бы в нем подозрения. Но так как он был простым подающим надежды молодым
юристом, склонным прощать ветреной Фортуне ее выходки, то он всего лишь обрадовался и
немного удивился ответу на свое послание. Но как только он попытался довести до сведения
своего портного мысль о важности обстоятельств, которые требовали качественного приведения в
порядок его костюма, осознал наконец, что получил несколько больше того, на что смел
надеяться.
Во вторник вечером он снова отправился посмотреть "Успех Виноны", а потом в среду и еще в
четверг. Правда, в среду он был вынужден пропустить дневной спектакль по причине делового
свидания, которое было слишком важным, чтобы его отложить, а уже утром в пятницу ощутил, как
в душе нарастают нетерпение и пыл. Прихоть Стаффорда была повышена до почетного звания
страсти. Безрассудная влюбленность, которая может заставить человека выдержать подряд
четыре просмотра популярного шоу на Бродвее, - это не то, что следует определить как легкое
увлечение, подразумевающее приглашение на ужин или предложение руки и сердца. Это уже
почти божественное чувство.
Как обычно бывает в таких случаях, Стаффорд не преследовал какой-то конкретной цели. Он уже
не бил совершенной святой невинностью и хорошо знал, что один ужин с актрисой можно
приравнять к обычному приему пищи с аппетитом или походу в церковь с Библией. Конечно, ему
было очень трудно совместить эту точку зрения с собственным возбуждением и пылкими
эмоциями, но он списал это на приятное волнение от новизны ощущений и переключил внимание
на свой туалет и выбор ресторана.
Новейший спектакль, который шел на Бродвее в пятницу и был принят на ура, а на самом деле
представлял собой печальную копию всех прочих постановок, показался Стаффорду довольно
свежим и очаровательным. Но только благодаря тому, что он вообще не замечал происходившего
на сцене, его мысли были целиком и полностью оккупированы очаровательной Бетти Блейр,
когда она появлялась на подмостках, и страстным нетерпением, когда ее там не было. Он
чувствовал острую жалость, смешанную с чувством превосходства над остальной публикой,
которая занимала места в пятом ряду - или в пятнадцатом, что было гораздо хуже, - и делила свое
внимание между божественной Бетти и кем-то еще, кто и гроша ломаного не стоил. Потом,
интуитивно почувствовав, что такие сантименты не подобают искушенному мужчине, роль
которого он решил исполнять, весь третий акт Стаффорд провел в вестибюле, куря сигареты и
стараясь изо всех сил выглядеть уверенным в себе и немного уставшим от жизни джентльменом.
Он старательно избегал любых проявлений поспешности и нетерпения. Когда публика покидала
театр, наш герой, прислонившись к ближайшей колонне, созерцал их, компании и одиночек,
холодным мрачным взглядом. Потом он лениво, не торопясь, обошел здание по направлению к
служебному входу, с тревогой заметив, что члены труппы уже выходят из театра. Подойдя к
охраннику, стоявшему у двери, он с беспокойством в голосе обратился к нему:
- А что, мисс Блейр уже вышла?
Мужчина в форме несколько секунд безразлично взирал на молодого человека, потом его лицо
просветлело.
- Мисс Блейр? А вас как зовут?
Стаффорд протянул охраннику визитную карточку, и тот исчез в узком коридоре. Прошла минута,
две... а потом - яркая вспышка, и впереди, осторожно ступая и мягко шурша платьем, показалась
мисс Бетти Блейр.
Как только Стаффорд сделал движение ей навстречу, со шляпой в руке, она подняла на него
испытующий взгляд, очаровательно улыбнулась и сказала звонким, словно апрельская капель,
голоском:
- Мистер Стаффорд? Мне так приятно познакомиться с вами.
Тем людям, кто склонен осуждать Стаффорда за его увлечение, не плохо было бы вспомнить, что
жертвой привлекательности актрис стал не один достойный уважения мужчина, начиная с
Людовика Четырнадцатого и заканчивая Ричардом Ле Гальенном {По всей вероятности, имеется в
виду муж американской актрисы Евы Ле Гальенн}. Единственная задача субретки - быть
очаровательной, единственная ее забота - развлекать, единственная ее страсть - доставлять
удовольствие, и все это, разумеется, ради публики. И трижды счастлив тот мужчина, которому
удалось хотя бы на один короткий час монополизировать эти нежные трогательные взгляды, этот
музыкальный тембр голоса и эти восхитительные грациозные позы! Разученные перед зеркалом
или естественные - не важно. Они есть, и они неотразимы. К тому же разве мы не слышим, как
мужчина за соседним столиком говорит своему приятелю, что "вот та самая Бетти Блейр"?
Примерно таково было направление мыслей Стаффорда, когда он шел к заказанному столику в
изысканном, но неброском зале ресторана "Вандербильт".
Он был, как и надеялся молодой человек, переполнен.
Мягкие ковры ласкали его ступни, в его ушах звучал "Венский вальс", взгляды, со всех сторон
бросаемые на Бетти Блейр, наполняли его сердце гордостью. Жестом велев официанту отойти в
сторону, он собственноручно придвинул ей стул и помог снять с плеч пелерину. Потом, сделав
заказ, уселся и выжидающе воззрился на свою спутницу, вдыхая слабый изысканный запах ее
духов, исходивший от короны золотисто-каштановых волос.
- Я не намерен спрашивать, почему вы так добры ко мне, - начал он.
Бетти Блейр сидела молча, неспешно снимая с ручек перчатки.
- К чему выяснять какие-то причины в такой чудесный вечер? - продолжал Стаффорд. - Достаточно
того, что мы здесь. Снаружи остался мир со всеми его несчастьями, со всей его болью, с его
холодной логикой и упрямыми фактами. Никто лучше меня не знает, как он переполнен
мошенничеством, ложью и лицемерием. Только сердце человека способно говорить правду.
- А ваше?
- Разве вы не слышали? Это оно говорит с вами.
Так происходит с тех пор, как я впервые увидел вас.
Если бы я только мог рассказать вам обо всем, что чувствую, - в последние несколько дней для
меня существовали на земле только вы! Я не думал ни о ком и ни о чем, меня ничто больше не
заботило, я потерял сон... - Тон его был задумчив и серьезен, глаза, устремленные на Бетти,
светились искренностью и мольбой.
- Вы же не рассчитываете на то, что я вам поверю?
- Испытайте меня, - подавшись вперед, страстно попросил Стаффорд. Могу догадаться, что вы
сейчас скажете: я вас совсем не знаю. Ах! А я? Кто смог бы смотреть в ваши глаза и не увидеть в
них доброты вашего сердца? Ничто не сделает меня счастливее, чем ваша просьба доказать вам
мои чувства. Все, что угодно, - я сделаю все, что угодно!
Улыбка, очаровательная и призывная, появилась на личике Бетти Блейр. Она протянула к
Стаффорду руки.
Ее глаза смотрели на него доверчиво и удовлетворенно.
- Я вам верю, - сказала она, - потому что хочу верить. Но я собираюсь потребовать у вас
доказательств.
- Для вас я сделаю все, что угодно, и отправлюсь куда угодно, повторил Стаффорд настолько
серьезно и убедительно, насколько позволяло ему его возбуждение. - То, что вы требуете
доказательств, - большая честь. Испытайте меня.
Бетти Блейр открыла шелковую сумочку, которая была у нее в руках, и достала из нее лист бумаги,
блокнот в кожаном переплете и авторучку. Подняв на Стаффорда ставший вдруг расчетливым и
холодным взгляд, она сняла с ручки колпачок и прочистила горло в манере бизнесмена,
собравшегося заключить сделку.
- Ваш адрес Броад-стрит, 25?
Стаффорд, лихорадочно соображавший, что бы могли значить эти приготовления, кивнул.
Бетти Блейр, открыв кожаный блокнот, записала сказанное. Потом продолжила:
- Вы республиканец, я полагаю?
- Если только вы не демократка.
- Мистер Стаффорд, я не шучу. Вы республиканец?
- Да, - серьезно ответствовал тот. - Это преступление?
Вместо ответа, Бетти Блейр подтолкнула листок бумаги по столу к Стаффорду и подала ему
авторучку:
- Распишитесь на двадцать четвертой строке, пожалуйста.
Как только Стаффорд взял листок и прочел верхний напечатанный параграф, его челюсть
немедленно отвисла, а руки безудержно затряслись. Потом он поднял на Бетти Блейр угрюмый
холодный взгляд.
- Мисс Блейр, - выдавил он, - я вас поздравляю.
Но я отказываюсь от своего обещания, обнаружив обман и искажение фактов.
- Мистер Стаффорд!
- О, все это вздор! - грубо отмахнулся разгневанный Стаффорд. - Вы ввели меня в заблуждение. Вы
разрушили мои иллюзии. Вы больше, чем просто обманщица.
Уберите от меня это. Лучшее, что вы можете сделать, - так это поставить на каминную полку
мраморный бюст Сапфо {(7-6 вв. до н. э.) греческая поэтесса, воспевавшая лесбийскую любовь},
внимательно перечитать биографию Пег Уоффингтон {(1714? -1760) - ирландская актриса,
заколовшая во время спектакля в "Ковент-Гарден" свою партнершу, с которой была в ссоре} и
повесить Сюзан Б. Энтони {(1820-1906) - американская суфражистка, лидер движения за
избирательные права женщин} на гнилой яблоне. Если вы завершили ужин, я готов идти.
- Мистер Стаффорд, - голос Бетти Блейр стал резким и неприятным, сейчас не время для ехидных
выпадов. Как вы можете отрицать то, что "Избирательное право - женщинам" сегодня
универсальный пропуск в мир интеллектуальных людей? Я не удивлена, что вы не подписали это
поручительство даже после того, что вы обещали. Это абсолютно мужская реакция.
Но я вас предупреждаю... - Она возмущенно стукнула по столу. - Я предупреждаю вас...
- Вы уже это сделали. - Стаффорд залился краской и положил на тарелку счет. Потом, уже встав,
чтобы уйти, добавил: - Час назад я благодарил Бога за то, что встретил вас. Теперь благодарю его
за то, что я вас разоблачил. Прежде чем стало слишком поздно. О, я знаю, какова - или какой
должна быть - настоящая женщина. Об этом я прочел в одном романе. Я и не представлял себе,
что эти суфражистки добрались уже и до театральной сцены.
Вот и все. Час спустя молодой человек спокойно, пусть в одиночестве, зато в безопасности, лежал
в своей уютной холостяцкой постели.
Единственный, но очень важный вывод следует из этой истории, как сформулировал его сам
Стаффорд через пару дней: искать вымершие виды пустая потеря времени.
Стаут Рекс - Санетомо
(~30 мин. Недективная история о любви и преданности.
После женитьбы хозяина, жизнь Санемото, его слуги-японца, стала невыносимой, чувство
взаимной неприязни с молодой хозяйкой неуклонно росло. Но однажды он совершил нечто
такое, что ее неприязнь переросло в чувство восхищения.)
В тот день, когда Гарри Бриллон женился, он отказался - и это была страшная жертва, конечно, - от
привычек и имущества, которые сопровождали его в прежней жизни волка-одиночки. Он сменил
свои шикарные холостяцкие апартаменты на Сорок шестой улице на еще более шикарный дом на
Риверсайд-Драйв, который обставил так, что его увесистый кошелек удачливого брокера заметно
сдулся. Кроме одежды, картин и безделушек, Гарри сохранил для себя то, что было ему особенно
дорого: лакированную деревянную коробку для хранения сигар, несколько книг и слугу - японца
Санетомо.
Лишить себя хотя бы одного пункта из этого списка он был не в состоянии.
Бедный Санетомо! Он потерялся в огромном доме.
Теперь его обязанностью было одевать своего господина, разбирать и раскладывать его белье,
брюки, рубашки, куртки, разбросанные по комнате, и все. Отныне его не позовут подать
неожиданную полуночную трапезу или изысканный завтрак после полудня, не будет больше
прелестных маленьких чаепитий, ради которых он доставал из буфета нефритовую посуду в
комнатах прежнего жилища Гарри Бриллона.
Для того чтобы следить за подобными вещами, в новом большом доме был дворецкий,
величественный мужчина, которого Санетомо не любил и даже побаивался. Санетомо больше не
был доверенным слугой и мастером своего Дела, теперь он стал обычным лакеем.
Он вспоминал тот день, когда случайно услышал, как прекрасная Нелла Соми сказала его хозяину:
"Мой дорогой мистер Бриллон, я пришла не для того, чтобы предаться любви, а для того, чтобы
вместе с вами попробовать этот великолепный жибелотт {Фрикасе из кролика в белом вине (фр.)},
приготовленный Санетомо!"
Вопрос о том, сожалели ли оба мужчины, хозяин и слуга, о своей прежней свободной жизни,
неуместен.
Впрочем, тот факт, что об этом сожалел мистер Бриллон в первые год-два супружества, можно
поставить под сомнение.
Его жена, которой стала Дора Кревел, дочь старого Мортона Кревела, была прекрасна - прекрасна,
словно небесное создание, и в ее больших карих глазах с затенявшими их густыми ресницами
Бриллон нашел счастье и умиротворение, ради которых и пожертвовал своей свободой.
Дора была молода, здорова, красива и умна, она любила мужчину, за которого вышла замуж, нет ничего удивительного, что она и только она заполняла все его м