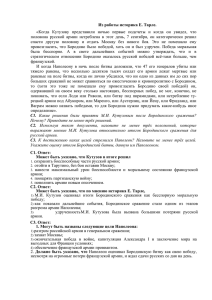Концептуальный анализ Крымской войны. II.
реклама
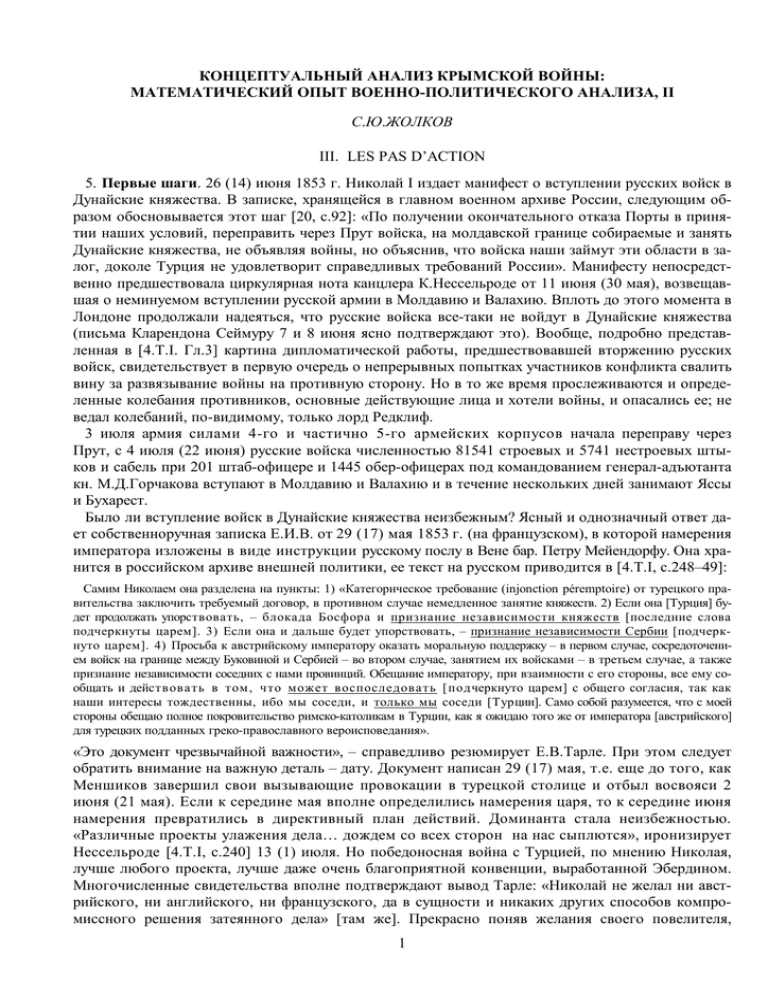
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, II C.Ю.ЖОЛКОВ III. LES PAS D’ACTION 5. Первые шаги. 26 (14) июня 1853 г. Николай I издает манифест о вступлении русских войск в Дунайские княжества. В записке, хранящейся в главном военном архиве России, следующим образом обосновывается этот шаг [20, c.92]: «По получении окончательного отказа Порты в принятии наших условий, переправить через Прут войска, на молдавской границе собираемые и занять Дунайские княжества, не объявляя войны, но объяснив, что войска наши займут эти области в залог, доколе Турция не удовлетворит справедливых требований России». Манифесту непосредственно предшествовала циркулярная нота канцлера К.Нессельроде от 11 июня (30 мая), возвещавшая о неминуемом вступлении русской армии в Молдавию и Валахию. Вплоть до этого момента в Лондоне продолжали надеяться, что русские войска все-таки не войдут в Дунайские княжества (письма Кларендона Сеймуру 7 и 8 июня ясно подтверждают это). Вообще, подробно представленная в [4.Т.I. Гл.3] картина дипломатической работы, предшествовавшей вторжению русских войск, свидетельствует в первую очередь о непрерывных попытках участников конфликта свалить вину за развязывание войны на противную сторону. Но в то же время прослеживаются и определенные колебания противников, основные действующие лица и хотели войны, и опасались ее; не ведал колебаний, по-видимому, только лорд Редклиф. 3 июля армия силами 4-го и частично 5-го армейских корпусов начала переправу через Прут, с 4 июля (22 июня) русские войска численностью 81541 строевых и 5741 нестроевых штыков и сабель при 201 штаб-офицере и 1445 обер-офицерах под командованием генерал-адъютанта кн. М.Д.Горчакова вступают в Молдавию и Валахию и в течение нескольких дней занимают Яссы и Бухарест. Было ли вступление войск в Дунайские княжества неизбежным? Ясный и однозначный ответ дает собственноручная записка Е.И.В. от 29 (17) мая 1853 г. (на французском), в которой намерения императора изложены в виде инструкции русскому послу в Вене бар. Петру Мейендорфу. Она хранится в российском архиве внешней политики, ее текст на русском приводится в [4.Т.I, с.248–49]: Самим Николаем она разделена на пункты: 1) «Категорическое требование (injonction péremptoire) от турецкого правительства заключить требуемый договор, в противном случае немедленное занятие княжеств. 2) Если она [Турция] будет продолжать упорствовать, – блокада Босфора и признание независимости княжеств [последние слова подчеркнуты царем]. 3) Если она и дальше будет упорствовать, – признание независимости Сербии [подчеркнуто царем]. 4) Просьба к австрийскому императору оказать моральную поддержку – в первом случае, сосредоточением войск на границе между Буковиной и Сербией – во втором случае, занятием их войсками – в третьем случае, а также признание независимости соседних с нами провинций. Обещание императору, при взаимности с его стороны, все ему сообщать и действова ть в том , что м ожет воспоследова ть [подчеркнуто царем] с общего согласия, так как наши интересы тождественны, ибо мы соседи, и только мы соседи [Турции]. Само собой разумеется, что с моей стороны обещаю полное покровительство римско-католикам в Турции, как я ожидаю того же от императора [австрийского] для турецких подданных греко-православного вероисповедания». «Это документ чрезвычайной важности», – справедливо резюмирует Е.В.Тарле. При этом следует обратить внимание на важную деталь – дату. Документ написан 29 (17) мая, т.е. еще до того, как Меншиков завершил свои вызывающие провокации в турецкой столице и отбыл восвояси 2 июня (21 мая). Если к середине мая вполне определились намерения царя, то к середине июня намерения превратились в директивный план действий. Доминанта стала неизбежностью. «Различные проекты улажения дела… дождем со всех сторон на нас сыплются», иронизирует Нессельроде [4.Т.I, с.240] 13 (1) июля. Но победоносная война с Турцией, по мнению Николая, лучше любого проекта, лучше даже очень благоприятной конвенции, выработанной Эбердином. Многочисленные свидетельства вполне подтверждают вывод Тарле: «Николай не желал ни австрийского, ни английского, ни французского, да в сущности и никаких других способов компромиссного решения затеянного дела» [там же]. Прекрасно поняв желания своего повелителя, 1 Бруннов «поет» хвалу силе [4.Т.I, с.223]: «Присутствие английской эскадры в Тенедосе не помешало военной оккупации нашими войсками Ясс и Бухареста. Этот факт кладет конец пререканиям, в которых Россия решительно одержала верх, несмотря на парламент, на английский кабинет и газеты. Мне нечего прибавить к этому аргументу, наилучшему и наиболее сильному из всех». Самое примечательное, что вместе с тем Николай искренне полагает и старается уверить и себя, и всех, что войны не будет, если он займет Молдавию и Валахию, разве что, возможны «столкновения с турками», если они поведут себя не так, как подобает. Согласно свидетельству кн. Васильчикова [4.Т.I, с.251], напутствуя его по случаю отъезда в действующую армию в Бухарест, царь снова повторил свою мысль, что до войны дело не дойдет; в искренности монарха не приходится сомневаться. При этом обращают на себя внимание три момента: несостоятельная аргументация императора, приказ командующему, кн. М.Д.Горчакову, не усердствовать, имея в виду «обратное движение вверенных ему сил в пределы России», и утверждение Васильчикова о противоположной убежденности всей армии – в неизбежности серьезной войны. Отметим, это общая точка зрения историков, и гражданских, и военных, и сам Тарле склоняется к мнению о неизбежности большой войны после вступления русских войск в Дунайские княжества. Так кто же прав? Полагаю, Николай Павлович. Приступим к доказательству этого утверждения. Вообще, три вопроса являются фундаментом дальнейшего анализа: 1) стала ли полномасштабная война (с участием Англии и Франции) неизбежной после занятия Дунайских княжеств; 2) когда была пройдена «точка невозврата»; 3) и существовала ли р е а л ь н а я возможность избежать войны? Проведем доказательный анализ. До середины осени будущие противники России еще не приняли окончательного решения о своих конкретных действиях. Как обоснованно отмечает Тарле, «Палмерстону, Кларендону, Джону Росселю война стала уже с осени 1853 г. казаться неизбежной… Эбердину еще некоторое время продолжало казаться, что можно обойтись без войны» [4.Т.I, с.305–306]. Франц-Иосиф, боявшийся российского императора не меньше, чем французского, только к концу года стал определенно склоняться на французскую сторону по причинам, убедительно изложенным в [4 и 9]. Наиболее решительно настроенным Тарле считает Наполеона III, хотя не приводит никаких доказательств, что к осени 1853 г. он твердо решил воевать. А воинственные заявления подконтрольной ему прессы и открытая поддержка «партии войны» в британском кабинете – действия естественные и очевидные: ему необходимо было в максимальной степени определить позицию англичан и заручиться их поддержкой наверняка. «Для Наполеона III именно война, – пишет Тарле [4.Т.I, с.306], – и только война давала все эти нужные результаты». Но – мы сейчас увидим – это не совсем так; слишком многое противоречит этому категоричному утверждению. В процессе непрекращающихся дипломатических переговоров и пререканий первое принципиальное событие после вступления войск в дунайские княжества произошло в Вене в конце июля. Сначала министр иностранных дел Австрии на встрече с российским послом Мейендорфом прямо заявил, что Австрия не может поддержать русскую политику. Затем 24 (12) июля он же инициировал совещание с участием английского, французского и прусского послов (приглашенный им Мейендорф не явился, сославшись на отсутствие инструкций из Петербурга). 28 июля после нескольких заседаний под председательством австрийца выработали ноту, которую было предложено подписать султану. 31 июля ноту послали царю, который получил ее 3 августа. Нота содержала обязательство Турции соблюдать все условия Кучук-Кайнарджийского (1774 г.) и Адрианопольского (1829) мирных договоров, также вновь подчеркивалось положение об особых правах и преимуществах православной церкви. Николай сразу объявил, что принимает ее целиком, но с тем условием, что она будет подписана султаном без всяких изменений, дополнений и комментариев. Хотя Венская нота по существу совпадала с собственным проектом турок, усилиями хитроумного Редклифа она была принята султаном только с оговорками. Царь поспешил отклонить турецкий вариант. Очередной срыв мирных переговоров характеризует общую обстановку, но, на мой взгляд, провалу венских предложений не стоит уделять большого внимания, потому что сформулированные в них предложения не затрагивают проблем, возникших в связи с последними действиями России. Принципиальным является вопрос, на каких условиях можно было добиться мир2 ного разрешения конфликта, и если, конечно, таковые существовали, то какими средствами. Август и сентябрь были последними месяцами, когда Николай мог еще избежать гибельной войны, он был близок к «тропе мира» и даже ступил на нее 6 августа, сам того не осознавая. В этот день он пригласил французского посла ген. де Кастельбажака на маневры в Царское село, во время которых состоялся «интереснейший разговор». В ходе его царь попытался прельстить французского посла возможностью дележа Турции между Россией и Францией. При этом Николай Павлович высказал замечательную мысль: «Непременно нужно, чтобы мы с императором Наполеоном закончили соглашение без промедлений и уже наперед обо всем, что может касаться Турции. Нам не следует быть застигнутыми врасплох и еще рисковать поссориться из-за недоразумений и подозрений, когда нам так важно действовать в единении». Так и случилось впоследствии. Именно в ходе тайных переговоров с представителями французского императора в октябре 1854 г. в Вене А.М.Горчакову едва не удалось остановить войну (грубейшие ошибки Нессельроде заставили Наполеона прервать переговоры). Именно тайные переговоры гр. А.Ф.Орлова с Наполеоном III в Париже в ходе мирного конгресса 1856 г. позволили добиться сносных условий мира, вопреки «наполеоновским планам» увлекшегося Палмерстона. Перед отъездом из Вены в феврале 1854 г. после неудавшихся переговоров – важного дипломатического предприятия, называемого миссией Орлова, в ходе которого он пытался заручиться поддержкой Австрии – А.Ф.Орлов предлагает царю совершить полный переворот в российской внешней политике и вместо бесплодной и мнимой близости с Германией (Австрией и Пруссией) добиваться тесного союза с Францией. В письме Николаю из Вены Орлов пишет: «Видя это бессилие и малодушие Германии и в то же время узнав про предложение о посредничестве, исходящее в этот момент от Луи Наполеона, я спрашиваю себя, не было ли бы лучше принять это посредничество, в случае, если оно содержит почетные условия, за основу для прямого соглашения, оставив в стороне тех друзей, добрые намерения которых проваливаются из-за овладевшего ими страха» [4.Т.I, с.425]. К сожалению, к 1854 г. возможность договориться с Францией уже была упущена. Предложение посредничества, о котором пишет Орлов, в реальности обернулось письмом Наполеона III, отправленным с курьером из Тюильрийского дворца в Петербург 29 января 1854 г. При этом одновременно (29 января) его текст появился в «Moniteur», французском официозе. Условий почетного мира письмо не содержало [4.Т.I, с.444–45], но главное – в другом: дипломатические проблемы и конфликты не решаются через прессу; это означало, что император французов окончательно махнул рукой на перспективы мирного соглашения с Николаем. «Мы знаем документально, что именно Наполеон III в декабре 1853 г., гораздо раньше, чем английское правительство, занял совершенно непримиримую позицию.» [4.Т.I, с.306]. Твердые свидетельства особенно ценны для анализа, но и по косвенным фактам позиция французского монарха «вычисляется» вполне определенно. Приведенная цитата ценна также обоснованным многими свидетельствами выводом о колебаниях британского кабинета – нет, не одним лишь лукавым обманом Николая I занимался Эбердин! Однако в июле-августе 1853 дело обстояло иначе. 30 июля на спектакле в Сен-Клу Наполеон III «неожиданно подошел к Киселеву и, пожав ему руку, спросил: «Ну, что же? Мы опять становимся друзьями? – «Мы никогда и не переставали быть ими, государь», – ответил Киселев (не более, чем пустым “реверансом” – Авт.). «Что касается меня, – продолжал император, – я сделаю все зависящее от меня, чтобы повести к быстрому и мирному разрешению восточного положения и очень надеюсь, что мы этого достигнем» [4.Т.I, с.315]. «В Париже летом 1853 г. с Николаем вели такую же сложную игру, как и в Лондоне», пишет Тарле там же. Игра действительно велась. Вся дипломатия – игра (в конце концов, «весь мир – театр»). И это была игра, а не обман. К несчастью, российский игрок оказался таким неловким, упрямым, охваченным такой воистину неземной гордыней, что игра была обречена на провал. У последних двух заключений имеется следующая доказательная база. Во-первых, с у щ е с т в о в а л а принципиальная основа для франко-русского соглашения. Для доказательства этого утверждения следует рассмотреть в сравнении «Четыре пункта Наполеона III (от 18 июля 1854 г.)» и основные результаты Парижского конгресса 1856 г. «Четыре пункта», сформулированные французским императором, были после уговоров и запугиваний прусского ко3 роля в окончательном варианте от имени Англии, Франции, Австрии и Пруссии направлены 8 августа 1854 г. Николаю в форме дипломатической ноты. Они состоят из следующих предложений. 1. Дунайские княжества поступают под общий протекторат Англии, Франции, Австрии, России и Пруссии, причем временно оккупируются австрийскими войсками. 2. Эти державы объявляются коллективно покровителями все христианских подданных султана. 3. Все эти пять держав получают коллективно верховный контроль и надзор над устьями Дуная. 4. Договор держав с Турцией 1841 г. о проходе судов через Босфор и Дарданеллы должен быть пересмотрен. Для ответа на вопрос, соответствовали ли эти предложения реальным стремлениям Наполеона III (или это был просто пропагандистский трюк), необходимо обратиться к основным итогам Парижского мирного конгресса (полный текст мирного трактата от 30 (18) марта 1856 г. излагается в [4.Т.II, с.604–10]). Во-первых, русский протекторат над Дунайскими княжествами отменялся, они должны были находиться под верховной властью султана, и Австрия свои войска выводила. Вовторых, покровительство над христианскими подданными Турции (до войны осуществлявшееся Россией) передавалось европейским державам; они же провозглашались гарантами внутренней автономии Сербии, остававшейся под верховой властью султана. В-третьих, судоходство по Дунаю на всем его протяжении и в его устьях объявлялось свободным. В-четвертых, была подтверждена статья Лондонского договора от 1841 г., согласно которой проливы были закрыты для военных кораблей иностранных государств, однако султану предоставлялось право пропускать легкие военные суда дружественных держав. В пятых, Россия возвращала захваченный Карс в обмен на Севастополь, Балаклаву и другие крымские города, захваченные союзными войсками. Главные (дополнительные) потери России: она лишалась устья Дуная и части Южной Бессарабии, Черное море объявлялось нейтральным, и России запрещалось иметь на нем военный флот и военноморские арсеналы. Последние из перечисленных, самые болезненные для России потери не давали никаких выгод Франции – от потери Бессарабии и устья Дуная получала выгоду Австрия, от нейтрализации Черного моря – Британия. Обязательность этих уступок Россией французский монарх объяснил во время секретной встречи с Орловым необходимостью возмещения крови и жертв, понесенных в ходе боевых действий союзниками. Что же получила Франция? Предотвратила захват большей части Турции Россией, обеспечила свои политические и экономические интересы в Турции и на всем Ближнем Востоке, но главное – Франция и лично Наполеон III выступили в роли всеевропейского арбитра, заняв позиции самой влиятельной европейской державы. Конечно, много во Франции говорилось и о славе французского оружия, но это самые сомнительные из всех славословий – слишком уж скромны достижения в сравнении с понесенными потерями. К тому же со стратегической точки зрения пребывание французской армии в Крыму было совершенно бесперспективным. И особенно незначительными эти достижения кажутся в сравнении с победами Наполеона I. Хотя, с другой стороны, взяли реванш, и желанной любви армии Наполеону III удалось добиться… Но для этого не обязательно было воевать с таким сильным противником… В общем, с военной точки зрения все весьма двойственно и поводов для фанфар не просматривается. Следовательно, сравнение с «четырьмя пунктами» показывает, что в своей основе они в самом деле отражали интересы французского императора. Причем, в августе 1853 г. можно было добиться много лучших условий (по сравнению с «четырьмя пунктами»), причем определенно без оккупации Дунайских княжеств австрийцами, что следует из условий Парижского договора, – сейчас невозможно сказать, каких, но, безусловно, почетных. Вот здесь-то «залог» в виде Дунайских княжеств и становился как бы разменной монетой (о чем неоднократно говорилось в процессе препирательств в Лондоне и Париже летом 1853), особенно весомой, если бы военные действия в Молдавии и Валахии приносили победы, а не осечки. Но для обеспечения почетного отступления (а это был лучший выход, о чем Николаю говорили и Паскевич, и – что удивительнее всего – Нессельроде) царь должен был действовать тонко, нестандартно и в то же время решительно, а он вместо этого 6 августа снова завел с Кастельбажаком свои неумные речи о разделе Турции. Возможность соглашения с Францией осложнялась тем, что при всех внешнеполитических метаниях нашего самодержца в поисках союзника от Австрии к Англии и обратно (следить за кото4 рыми весьма тягостно, кстати, они прямо подтверждают вывод Евгения Викторовича Тарле о потере царем всех дипломатических ориентиров), политика Николая неизменно оставалась антифранцузской – и в 1833, и в 1840 и 41, и в 1844, и в 1852 гг. И он сильно «насолил» французам и в 1833, и в последующие годы, не переставая при этом все время интриговать против Франции, потому что франко-русские противоречия в турецких делах носили естественный характер, хотя и не столь глубокий, как англо-русские. Поэтому непонятна та легкость, с которой Киселев объявляет при разрыве дипломатических отношений, что у России и Франции нет никаких причин воевать, а «История дипломатии» утверждает, что вступление Франции в войну против России исключительно слабо мотивировано [9, с.445]. Кроме того, у Наполеона III не было никаких оснований априори доверять царю, поскольку реальные российские действия можно однозначно охарактеризовать народной мудростью «а Васька слушает да ест». Следовательно, общих слов Николая или пустых комплиментов Киселева было недостаточно. Поэтому российский император должен был четко сформулировать устраивающие и Россию, и Францию предложения и в тайных переговорах, умных и упорных, попытаться договориться. Поскольку эта возможность не использована, не вижу смысла формулировать гипотетические условия соглашения, хотя сделать это не так уж трудно. Действуя таким образом, с помощью разумных уступок вступление в Дунайские княжества можно было обратить в прелюдию к миру, а не к войне. Так что, Николай I был в принципе прав, утверждая, что вступление в Молдавию и Валахию не делало войну неизбежной. А французский император – стал бы он вести переговоры всерьез и стремиться к соглашению? Полагаю, стал бы. Во-первых, необходимо ясно понимать, что объективные англо-французские противоречия прошлых десятилетий никуда не исчезли (и впоследствии проявились на Парижском конгрессе), просто они отходили на второй план в сравнении с русской угрозой. Во-вторых, всех своих целей (кроме, конечно, военных побед) он мог добиться и не прибегая к военным действиям: договорившись по первым трем из «четырех пунктов», Наполеон III предотвращал захват турецких владений Россией, обеспечивал французские политические и экономические интересы и в Турции, и на Ближнем Востоке и выступал в роли европейского миротворца. Так он укреплял свое внутриполитическое положение, подкреплял династические притязания и т.д. без войны. Война именно против России не была ему необходима. Хотя французский император дорожил союзом с Великобританией по причинам, уже указанным в статье, он должен был понимать, что британский кабинет стремится направить восстанавливавшую силы Францию в выгодном для Англии направлении. Наполеон III оценивал различные варианты. Возможно, именно поэтому Турция до середины октября не объявляла войны России – сделать это она могла только с санкции английского и французского послов: время, когда султан устами своего реис эфенди (министра иностранных дел) позволял отвечать великим державам «Мы знаем лучше, как нам обращаться с нашими подданными» (на представление по случаю резни греческого населения и публичной казни Константинопольского патриарха в 1822 г.), давно минули. На стр. 444 первого тома Евгений Викторович пишет, что Наполеон «уже с начала 1853 г. твердо держал курс на войну, которая и с внутренне-политической и с внешнеполитической точки зрения казалась ему и его окружению выгодной и даже необходимой». Этому утверждению не сопутствуют ни какие доказательства. То, что французский император деятельно готовился к войне, не подлежит сомнению. Но если понимать цитированное утверждение так, что уже в начале 1853 г. он окончательно решил воевать, то оно не просто спорно – оно ошибочно. При отсутствии такого полководца, как Наполеон I, война всегда непредсказуема, опасность велика, риск несомненен. Во Франции оставалось еще много политических противников императора, поэтому поражение в войне грозило ему самыми печальными последствиями. Наполеон III колебался. Но Николай I своими действиями буквально толкал его на путь войны, и к началу 1854 г. решение было принято. Должен отметить один важный момент. Исход войны решался на поле боя. Никакие союзы не могли дать победы, только превосходство французской армии. Не верю, что император французов принимал решения, как Николай, руководствуясь только общими соображениями. Во французских архивах обязательно должны быть документы, свидетельствующие о слабости русской армии (неудач на Дунае не достаточно – победы в Закавказье были весомее). 5 Подведем итоги. Полномасштабная война не была неизбежным следствием занятия Дунайских княжеств. В августе 1853 г. с у щ е с т в о в а л а принципиальная возможность избежать войны (не исключено, что какие-то шансы сохранялись и в начале осени, но в августе был упущен последний воистину благоприятный момент). Так была пройдена точка, за которой уже нет возврата. После синопского сражения переговоры стали невозможными: стало ясно, что царь планомерно реализует военный сценарий и идет напролом, не взирая ни на что; разгром турецкого флота был пощечиной «морским державам»-защитницам Турции, Турция нуждалась в защите, а дипломатия превратилась в пустые препирательства. К дипломатической «революции» наш самодержец не был способен, ясного плана не имел и неизвестно почему считал, что «все обойдется» и «дело уладится» само собой, в [4] приводятся многочисленные документальные подтверждения этого, включая записки самого царя. В довершение ко всему за последние годы Николай I окончательно отвык даже рассматривать, не то что решать некомфортные проблемы. Можно со всей определенностью заключить: р е а л ь н о й возможности избежать войны не существовало. В какой же степени лично Николай I несет ответственность за выбор гибельного для России пути и упрямое движение по нему? Говоря о дипломатии будущих противников России, в трудах российских историков принято отмечать почти исключительно ее двуличие и стремление втянуть Николая в войну. Даже Тарле придерживается этого мнения, хотя сам же приводит факты, свидетельствующие о колебаниях руководителей и Англии, и Франции, и Австрии. Эбердин неоднократно и вполне откровенно предостерегает российского монарха и даже ясно обозначает границы, которые недопустимо переходить. О Наполеоне III уже подробно говорилось. Даже «вероломный» Франц Иосиф 11 декабря (29 ноября) 1853 г. откровенно и правдиво писал царю об ужасном давлении со стороны Франции, грозящем его стране перспективой потери итальянских владений, Трансильвании и даже Венгрии. В заключение он недвусмысленно признается, что не имеет политических сил сопротивляться французскому императору и настойчиво просит Николая не противиться заключению мира. Таким образом, позиция Австрии должна была стать для царя совершенно ясной. Здесь под «миром» австрийский император имеет в виду предложения, содержавшиеся в Венском протоколе от 5 декабря, подписанном всеми европейскими «великими державами»: Англией, Францией, Австрией и Пруссией. В этой ноте России и Турции (которые уже официально находились в состоянии войны) предлагалось вступить в переговоры в нейтральном месте при посредничестве этих держав. Подписание Венского протокола всеми его участниками означало дипломатическую изоляцию России и, естественно, произвело подавляющее впечатление на российскую дипломатию. Переговоры в подобном формате – Россия против всей Европы были для России невозможны; принять это предложение значило признать унизительный дипломатический провал. А что происходило в среде российской дипломатии? Как уже говорилось, российские послы насочиняли много небылиц и совсем сбили с толку своего «августейшего повелителя», нимало способствовав его иллюзиям, что все как-нибудь обойдется и само собой устроится. Но по справедливости следует заметить, что послы дорожили своим положением и работали в режиме, которого добивался сам «главный дипломат», я бы его характеризовал так: «вы слышите только то, что хотите слышать, следовательно, мы говорим только то, что вы хотите услышать». Самыми умопомрачительными представляются заверения Н.Д.Киселева в невозможности совместного выступления Великобритании и Франции, которые прекратились только к началу 1854 г. Даже в декабре 1853 г. Киселев доволен положением и ожидает мирного исхода, 9 декабря он пишет в Петербург [4.Т.I, с.306]: «Политический и финансовый Париж весь настроен в пользу мира, предусматривая, что Россия, вместо того, чтобы воевать со всей Европой, пойдет на мирное соглашение с Турцией» (непонятно, какое!). Более того, 12 декабря в своем первом донесении после Синопа уверяет Петербург, что французская публика «с большим удовлетворением» восприняла известие о победе русского флота. Это умопомрачительное заявление одной царедворческой угодливостью не объяснишь… А кто выбирал т а к о г о посла? – наш августейший самодержец. И все же… Киселев в докладе 28 (16) мая сообщает, что ресурсы Франции огромны, а ее промышленность на подъеме, из чего царь обязан был заключить, что его намерения сбросить Францию со счетов ошибочны. А 6 в середине июня он же в весьма дельном докладе сообщает много тревожных сведений и, в частности, известие о том, что союз Франции с Британией бесспорен [4.Т.I, с.330–35]. Мейендорф, находившийся в переписке с И.Ф.Паскевичем (что без сомнений способствовало его аналитическим усилиям), беспокоился более всех послов и уже с июля ожидал и войны с Англией и Францией, и враждебных действий Австрии и при всей противоречивости своих докладов в Петербург высказывал свои опасения, в частности, мнение о беспочвенности надежд на Австрию, в той мере, в которой это было возможно без катастрофических для себя последствий. К декабрю 1853 г. его беспокойство усилилось до предела. В письме от 3 декабря коллеге, русскому послу в Берлине бар. А.Ф.Будбергу, он открыто порицает своего начальника, Нессельроде, за искажение реальной картины событий в докладах царю. Он уже явно видит, что позиция Николая I, не желающего отказываться от каких-либо требований к Турции, и ошибочна, и опасна. «Бруннов считал, как и я, что в будущем договоре мы могли бы удовольствоваться простым подтверждением прежних трактатов, но ему за это задали головомойку, что мне не помешает, – пишет он с неожиданной смелостью, – говорить так, как я должен». Сам Будберг еще в июле докладывал в Петербург об исключительной важности доверительной беседе с бар. Мантейфелем (Otto von Manteuffel), министром-президентом (премьер-министром) Пруссии. В ней Мантейфель сообщил, что Франция и Британия достигли полного согласия по восточному вопросу и что обе державы полны решимости воевать с Россией в случае, если целостность Оттоманской империи окажется под угрозой (как и предупреждал Николая Эбердин). Это, впрочем, не помешало Будбергу 10 декабря в Берлине заявить лорду Лофтусу: «Нам плевать на общественное мнение, мы пойдем своей дорогой. Мы будем воевать с вами одними» [4.Т.I, с.365]. Почему же столь безобразно противоречивы слова и оценки каждого посла? Столь безобразно, что при аналитическом разборе могут поставить под сомнение само наличие аналитических или просто логических способностей их авторов. Ответ ясен и вполне определен, дело было не в способностях – в течение многих лет послы (как и вся страна) приучались российским самодержцем в с е отдавать на суд и решение «августейшего повелителя». И каждому его подданному полагалось знать свое место! Это относилось даже к генерал-фельдмаршалу Паскевичу, князю Варшавскому, занимавшему в империи исключительное положение. Как мы сейчас убедимся, Николай Павлович в 1853 г. стратегического плана не имел, что делать не знал и волею судеб вел страну к роковой войне. Тем более не знали, что говорить и делать, послы. К тому же в последние 15 лет царствования Николай I испытывал непереносимый дискомфорт, когда кто-то не только что не высказывал приятные ему вещи, а – более того – не мог предугадать его намерения и мысли – и з н а ч а л ь н о непогрешимые истины в последней инстанции. В лучшем случае это заканчивалось «головомойкой» (Бруннов и Мейендорф). Характерен эпизод, приводимый Тарле [4.Т.I, с.78]. «Андрей Розен как-то настаивал, чтобы князь Ливен, каждый день видевший царя, открыл ему, наконец, глаза. На что Ливен отвечал: «Чтобы я сказал это императору? Да ведь я не дурак! Если бы я захотел говорить ему правду, он бы вышвырнул меня за дверь, и больше ничего бы из этого не вышло». В связи с этим исключительно интересен поистине героический поступок государственного канцлера и министра иностранных дел Карла Вильгельмовича (ставшего со временем Васильевичем) Нессельроде, регулярно обстоятельно и чрезвычайно остроумно изничтожаемого Евгением Викторовичем. Да, Нессельроде наделал множество ошибок, грубых и очень грубых, но не в силу злонамеренности, а в порыве старания угодить своему повелителю и от недостаточности ума и талантов, в чем никто из людей не повинен. Тем не менее, бессменное сорокалетнее (1816–56) пребывание на министерском посту означает, что его работа вполне устраивала и Александра I, и Николая I. Карл Васильевич отличался исполнительностью и хорошим французским слогом, изпод его пера дипломатические ноты выходили как нельзя лучше. А отменное знание французского в российском дипломатическом ведомстве считалось необходимым, а при Николае I чуть ли не достаточным для карьеры. Не надо думать, что эта интересная особенность была присуща только российскому МИД’у. Так, Бисмарк с нескрываемым раздражением в первой главе своих воспоминаний отмечает, что в прусском дипломатическом ведомстве более всего ценилось знание французского языка [1.Т.I, с.23–24]: 7 Знание языков, хотя бы в объеме знаний обер-кельнера, легко давало у нас людям повод считать себя призванным к дипломатической карьере… Из числа наших посланников старшего поколения я знавал нескольких, которые, не разбираясь в политике, достигли высших постов единственно благодаря тому, что свободно владели французским языком… посланники, которые писали и частные письма министру на этом языке, считались в силу этого одаренными особым призванием к дипломатии, хотя бы даже они были известны как неспособные к политическому суждению. Советские историки регулярно подчеркивали, сколь много лиц с иностранными фамилиями среди российских дипломатов и военных – и Бисмарк пишет о том, что в дни его молодости наиболее крупные дипломатические посты в Пруссии занимали люди, носившие иностранные фамилии. Нессельроде, как известно, иноземец, ни коим образом не принадлежавший к родовой русской аристократии, полностью зависел от милостей царя. Но в июне 1853 г. и он не выдержал: …разыгралась сцена, о которой узнаем из рассказа князя М. Д. Горчакова доверенному лицу – генералу Менькову: «Граф Нессельроде, смело и свободно высказывавший свои мнения на конгрессах Европы, совершенно терялся при докладах императору Николаю. По собственному сознанию покойного канцлера, он не выдерживал магнетического взгляда императора, а твердый, звучный, громкий голос могучего монарха весьма часто производил в тощем маленьком теле старика нервную дрожь... Вот что произошло между императором Николаем и графом Нессельроде, когда было получено известие о результатах посольства Меншикова: „Я все войска прикажу двинуть к Пруту, – сказал император канцлеру, – займу Придунайские княжества и стану там твердо, а в это время пусть дипломатическая Европа ладит, как знает, с Турцией и толкует о мире!"». Все это рассказал князь М.Д.Горчаков генералу Менькову, состоявшему при нем, и прибавил следующее: «Канцлер, приехав домой, заперся в своем кабинете. Плодом этого затворничества была замечательная обширная записка, в которой граф Нессельроде с необыкновенной ясностью и точностью изложил все последствия, которые могут и которые, по его мнению, должны произойти для России вследствие занятия Придунайских княжеств. Записка, представленная графом Нессельроде государю, в самых почтительных выражениях заключалась просьбой уволить его от звания канцлера в случае, если его величеству не благоугодно будет принять в милостивое внимание представление его, канцлера». Горчаков прибавлял, что записка Нессельроде хранится, «как историческая драгоценность», в портфеле у него, Горчакова, ибо эта записка «пророчески предсказывала все события, которые преждевременно сломили могучую волю могучего монарха и свели его в могилу». А окончилась эта единственная в жизни Нессельроде попытка предостеречь царя от опасности так: «Государь весело встретил в своем кабинете графа Нессельроде. Встав со своего кресла, император пошел навстречу канцлера, своим поцелуем благодарил за умную записку, потрепал „по брюшку" маленького седого старичка и, поцеловав его еще раз, посадил против себя и сказал: „спасибо тебе за умные речи, но я их не послушаю, а ты не выйдешь в отставку! Я уже дал повеление чтобы войска мои двинулись для занятия Придунайских княжеств!" Граф Нессельроде остался канцлером» [4.Т.I, с.264–265]. Никаких красок не нашел Евгений Викторович при оценке это примечательнейшей сцены, кроме иронии, – на мой взгляд, напрасно. Таким образом, мы видим, что все ведущие дипломаты пытались сделать хоть что-то, что бы открыть глаза «непогрешимому» монарху. Но не им было удержать царя от роковых решений. Как абсолютно справедливо пишет Тарле, «если кому под силу была подобная попытка, то только фельдмаршалу Паскевичу». Иван Федорович Паскевич (1782–1856) происходил из семьи состоятельных, но не знатных полтавских дворян. Участник русско-турецкой войны 1806–12, Отечественной войны 1812 и европейской кампании 1813–15, он стал генералом в 28 лет. Паскевич был командиром гвардейской дивизии, в которой служил, будучи великим князем, Николай Павлович, который, став императором, до конца жизни продолжал звать Паскевича «отцом-командиром». Посланный императором в 1826 на Кавказ на смену Ермолову, он победоносно закончил русско-персидскую войну 1823–28 гг., которую Николай считал уже почти проигранной. За эту победу Иван Федорович получил титул графа, ордена и награды. (Побывавший в русской армии Пушкин описал свою поездку на Кавказ в «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года»). Прекрасно провел он на кавказском ТВД кампанию против вдвое превосходящих сил турок в ходе войны 1828–29 гг., за что получил фельдмаршальский жезл. После подавление польского восстания 1831 г. он стал князем Варшавским и наместником Царства Польского, коим и оставался до начала Крымской войны. Таким образом, свои титулы и чины Иван Федорович заслужил храбростью, военными талантами, победами в боях, а не случаем (начальствованием над молодым Николаем), лестью или шарканьем по паркетам. К офицерам и солдатам он относился хорошо и по-умному, и армия его любила, он ничем не запятнал себя, при этом не было случая, чтобы он был замечен в казнокрадстве или мздоимстве – редкость для вельмож николаевского времени. И в силу всего этого он пользовался осо8 бым уважением, доверием и любовью Николая I, подтверждаемыми многими письмами царя. Так например, в ответ на похвалу Паскевичем его сына, Константина Николаевича, царь пишет: «Счастлив он [Константин], что мог удостоиться столь лестного от тебя отзыва, это ему на всю жизнь останется драгоценным памятником. Тебя же от глубины сердца благодарю за твои к нему милости» [4.Т.I, с.259]. Никто во всем свете не мог удостоиться чего-либо подобного от Николая I. Во всех важных предприятиях царь предварительно обращался с советом к Паскевичу. Прочтя следующие строки, не приходится в этом сомневаться или удивляться. Обращаясь к Паскевичу, 21 августа (2 сентября) 1851 г. в Москве накануне празднества двадцатипятилетия со дня коронации 1826 г. Николай сказал: «При грустных предзнаменованиях сел я на престол русский и должен был начать мое царствование казнями, ссылками... У меня не было людей преданных!.. Я остановился на тебе – само провидение мне указало на тебя!.. Война в Польше! Новое испытание – испытание грустное... Дела наши были плохи!.. И снова я ухватился за тебя, Иван Федорович, к а к за единственн о е спасение России!.. Иван Федорович! Ты – слава моего двадцатипятилетнего царствования, ты – история ц а р с т в о в а н и я Н и к о л а я I ! » [4.Т.I, с.263]. Я привожу эту информацию, поскольку необходимо во всем объеме показать, сколь исключительным было положение Паскевича, и чем это обусловлено. Е.В.Тарле также отмечает в числе важных качеств князя Варшавского его «безмерное самолюбие», именно им он объясняет поведение Паскевича в течение 1853 г. При этом он пишет: Николай твердо знал, что Паскевич не вор и не предатель и считал это редкостью. Он сделал Паскевича и графом, и князем, и фельдмаршалом, и наместником в Польше, и кавалером всех русских орденов, подарил ему миллион деньгами, а потом еще огромное имение побольше чем в миллион ценой. Чтобы угодить царю, австрийский император сделал Паскевича фельдмаршалом австрийской армии. Фридрих-Вильгельм сделал его фельдмаршалом прусской армии, и когда уже не оставалось ничего, чем можно было бы возвеличить Ивана Федоровича, Николай специальным приказом по армии повелел воздавать Паскевичу точно такие же без всяких изменений почести при появлении фельдмаршала перед армейскими частями по какому бы то ни было случаю, какие воздаются самому царю. Об этом приказе царь известил Паскевича рескриптом от 4 (16) августа 1849 г., подписавшись: «друг ваш Николай». В силу особого влияния на царя его «отца-командира» и искренней к нему любви Николая I, переписка и диалог по внешнеполитическим проблемам между ними представляет огромный интерес (военные аспекты рассматриваются в следующем разделе). Паскевич был не только прекрасным военачальником, но и отменным политиком (заниматься политикой его обязывало положение наместника Польши). Уже через два месяца после переворота во Франции 2 декабря 1851 г. он предвидит франко-английский союз и опасается его (письмо Мейендорфу 3 февраля (22 января) 1852), задолго до того, как подобные мысли стали посещать царя и Нессельроде. Он негативно относится и к целям посольства Меншикова, и к профессиональным качествам самого посла. Прекрасно помня по собственному опыту те сложнейшие проблемы, с которыми столкнулась Россия во время восстания 1831 г . в Польше, зная неустойчивость и конфликтность положения в Царстве Польском, он опасается за Польшу и Литву и имеет на то все основания. Именно на западных границах он находил основные опасности для спокойствия и целостности империи – потенциально мятежная Польша представлялась ему слишком серьезной проблемой, чтобы усугублять ее новым и очень опасным конфликтом. Военные историки наперебой упрекают фельдмаршала в чрезмерных опасениях и ослаблении энергии по причине преклонных лет. А полковник Н.Ф.Дубровин полагает, что «фельдмаршал видел опасность только там, где сам командовал войсками» [21.T.I, c.73], не поддерживая этой резкой оценки какими-либо обоснованиями. Тарле придерживается другой точки зрения, и мы не единожды дадим подтверждения точке зрения Евгения Викторовича. Паскевичу была известна позиция Британии: нападение с моря на Константинополь или переход русской армии на правый берег Дуная означают войну, и он (в отличие от царя) относился к этому предупреждению серьезно (письмо к Меншикову [4.T.I, c.266]). Это во многом определило все его дальнейшие действия. В сентябре 1853 г. фельдмаршал подает царю две записки о войне с Турцией [4.T.I, c.266–67]. Если в первой (от 23 (11) сентября) он предлагает вести энергичное наступление на турок, то во второй, от 6 октября (24 сентября), уже высказывает все свои опасения. А затем дает стратегическую оценку. «Мы можем быть уверены, что как бы мы не зашли далеко, 9 хотя бы заняли Варну, перешли Балканы и дошли до Адрианополя, – во всяком случае державы европейские (разве бы на западе была война), Европа не допустит воспользоваться нашими завоеваниями. Мы будем только, наверное, терять людей от болезней, понесем большие расходы… а пользы и приобретений с сей стороны, даже в случае успеха, ожидать не можем. Спросят, что мы выиграем, оставаясь в оборонительном положении? Выиграем очень многое: не поссоримся с Европою, не остановим торговли, не помешаем дипломатическим сношениям, которые в результате могут быть нам очень выгодны» [4.T.I, c.268]. Стратегическая оценка похода на Константинополь очевидна. Но прежде всего, это политическая оценка, оценка глубокая и прозорливая – вспомним войну 1877–78 гг.: положили тысячи наших солдат и офицеров, дошли до стен Константинополя (а не Адрианополя) – и что? Н и ч е г о. В самом деле, нельзя же считать победой России условия Берлинского трактата от 13 июля 1878. Но к опасениям отца-командира царь отнесся легкомысленно и предостережениям не внял. Итак, несмотря на все лукавство иностранных дипломатов и двуличие российских, осторожность Паскевича в письмах к российскому монарху и т.п., именно непреклонность и последовательные ошибки Николая I (они уже изложены), одна дополнявшая другую, сделали войну неизбежной. «Не было бы чрезмерным требовать от нашей дипломатии, чтобы она по мере надобности умела откладывать, предупреждать или навязывать войну», мудро резюмирует Бисмарк [1.T.I, c.115]. Что же мы имеем к лету 1854 г.? В марте в войну вступили Франция и Великобритания, формально война России была объявлена Англией 27 марта 1854 г., Францией – 28-го. Россия вступила в войну с беспримерной европейской коалицией, не имея ни единого союзника! К счастью, в последующих военных действиях против России никто, кроме Франции, Англии, Турции и Сардинского королевства, не принял участие, но только на границах с Австрией и Пруссией российскому командованию пришлось держать двухсоттысячные армии. Увы, наша дипломатия своей задачи не выполнила – дипломатическое поражение было полным. Английская дипломатия активно искала союзников. В результате Швеция заняла резко антироссийскую позицию и угрожала северным рубежам России. Даже военные корабли США проводили антироссийские демонстрации у тихоокеанских берегов России, а генерал Мак-Клеллан находился в ставке союзников. Это не просто дипломатическое поражение – это беспримерный провал, ответственность за который несет в разной мере весь высший дипломатический аппарат, но в первую очередь – «главный дипломат», его императорское величество. В заключение этого раздела необходимо остановиться еще на одной ошибке – убеждении в немотивированности вступления в войну Франции. О политических причинах решения французского императора уже говорилось. А сколь глубоки были экономические интересы Франции? Что касается торговли Франции с Турцией, то общий оборот выражается в таких цифрах: перед Крымской войной Франция в среднем ввозила турецких товаров на 52 млн. фр. в год, а вывозила на 20 млн. фр. Ввоз из Франции в турецкие владения, оценивавшийся еще в 1836 г. в 17 с небольшим млн. фр., увеличился ко времени окончания Крымской войны до 90 млн. фр. В еще большей степени увеличился за эти двадцать лет (с 1836 до 1856 г.) вывоз из Турции во Францию: с 19 1 / 2 млн. фр. до 132 без малого миллионов. Констатируется таким образом, что война необычайно усилила торговлю Франции со странами турецкого Леванта. А до войны вовсе не русские, а англичане постепенно вытесняли французов с торговых рынков Леванта. В среднем (например, в 1846 г., относительно которого есть более или менее полная статистика) французы ввозили в Турцию товаров на 24 989 000 фр., а вывезли из Турции товаров на 52 867 000 фр. [4.T.I, c.58]. Без сомнения, речь идет только о торговом балансе. Что касается движения капиталов, то сообщается лишь, что Оттоманская империя была в неоплатных долгах у французов, англичан, в гораздо меньшей степени у австрийских финансистов, причем кредиты брались на очень невыгодных условиях. Экономический обзор [4.T.I, c.49–61] дает некоторые представления о торговле Турции и России с другими европейскими державами, но для серьезного экономического анализа эти данные не достаточны. Не указана структура торгового обмена (отчетливо прослеживается только негодная структура экспорта из России – сплошь сырье), отрывочны и не структурированы данные по реэкспорту. Отсутствуют данные об английских и французских инвестициях в экономику Оттоманской империи – строились ли промышленные предприятия и какие, ввозились ли в Европу про10 мышленные товары из Турции и из чьих предприятий (т.е., кто их владельцы), ввозилась ли аграрная продукция с земель, принадлежащих англичанам или французам и т.п. Без этого, например, не понять, почему Англия и Франция не были заинтересованы в интенсификации турецкого земледелия, как утверждает Тарле. Ведь увеличение экспорта ценных пород зерна из Турции позволяло уменьшить зависимость от импорта зерновых из России и т.д. Вообще, числовые данные недостаточны настолько, что невозможно провести на этом поле какой-либо содержательный математический анализ. Тем не менее, сомнений нет – французские интересы в Турции были очень значительны и их защита представлялась французскому императору необходимой. Английские интересы были еще серьезнее. Так же бесспорен общий вывод [4.T.I, c.61]: Таким образом, экономические интересы прежде всего Англии и Австрии, затем в гораздо меньшей мере Франции, решительно расходились на всем Ближнем Востоке с интересами русской вывозной торговли и с устремлениями политики русского правительства в Турции. Но пока дело шло лишь о борьбе на почве признания неприкосновенности Турецкой империи, русская дипломатия могла надеяться (и эта надежда оправдывалась иногда, например в 1840 г.) с выгодой использовать те противоречия, какие существовали между интересами французской и английской торговой и промышленной буржуазии во владениях султана. Но как только Николай I серьезно поставил вопрос о политическом разрушении или хотя бы о «первом разделе Турции», сейчас же выяснилось, что и Англия, и Франция, и Австрия выступают против царя единым фронтом, хоть и не с одинаковой решительностью. Но каковы бы ни были политико-экономические промахи, исход схватки решился на полях сражений. 6. Военные действия. Оккупации Дунайских княжеств предшествовал выбор плана действий – существовал также план нападения на Константинополь с моря. Но активные действия союзных флотов перечеркнули основное условие успеха этого плана – внезапность. Против атаки Константинополя возражал также Паскевич, который со всей серьезностью отнесся к предупреждению Эбердина о неизбежности вступления в войну Британии в случае атаки турецкой столицы [4.T.I, c.266]. Таким образом, мы, к счастью, избежали хоть этой авантюры. Почему я так определенно называю этот на полном серьезе обсуждавшийся план авантюрой? Да потому что, если бы какимто чудом десант и атака турецкой столицы и увенчались успехом, ни снабжать экспедиционный корпус, ни эвакуировать его мы бы не смогли. Были бы бесцельно погублены тысячи жизней. (Кстати, начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал В.А.Корнилов предлагал высадить десант в районе Босфора и блокировать турецкий флот. Зная талант Владимира Алексеевича, можно ожидать, что как краткосрочная тактическая задача, эта операция при англо-французском бездействии оказалась успешной – но что бы это дало в стратегическом плане, коли даже плодами Синопа не было возможности воспользоваться?) До объявления войны (16 октября) турецкая армия не предпринимала активных действий. Лишь 1 ноября турки переправились из Туртукая на левый берег Дуная и заняли Ольтеницкий карантин в 50 верстах от Бухареста.. 4 ноября (23 октября) 1853 г. почти выигранное столкновение у Ольтеницы завершилось неожиданным отступлением русского отряда. Неудачным было и сражение при Четати 6 января 1854 г. (25 декабря 1853). На Кавказе боевые действия начались 26 (14) октября нападением турок на военный пост св. Николая – две пехотных роты русских войск были уничтожены, все мирные жители – зверски вырезаны. Но уже 26 (14) ноября под Ахалцихом и 29 (17) ноября под Башкадыкларом русские отряды численностью в 8 и 10 тыс. человек разгромили два корпуса противника численностью более 20 тыс. каждый. К сожалению, известия об этих победах привели к очередному приступу оптимизма Николая I. К ноябрю наш «августейший повелитель», запутавшийся и в противоречивых докладах послов, и в противоречиях стремительно развивавшихся событий приказывает Бруннову выяснить «окончательные намерения» английского правительства. Получив 3 ноября письмо от Нессельроде с этим приказом, российский посол встречается с Эбердином и докладывает 7 ноября в Петербург, что англичане «не обеспокоят» нас, пока русские войска не перейдут на правый берег Дуная или пока не последует морская атака против турецких портов (не только Константинополя). До того британское правительство «считало бы, что оно не находится в войне с Россией». Царь пишет на полях этого донесения [4.T.I, c.358]: “ainsi c’est la guerre avec nous; soit” (итак, это – война против нас; пускай). 11 30 (18) ноября на синопском рейде контр-адмиралом П.С.Нахимовым была уничтожена турецкая эскадра. В ответ 4 января 1854 г. соединенный англо-французский флот вошел в Черное море. Блистательная синопская победа не могла не иметь печальных для России последствий. К сожалению, из высших сановников лишь трое понимали размеры опасности, неизбежно грозившей стране: И.Ф.Паскевич, М.С.Воронцов и А.Ф.Орлов. Причем первые два не только в силу ума и профессиональных талантов, но и вследствие ответственности – будучи руководителями самых проблемных областей России. О позиции Паскевича мы уже говорили и будем говорить не раз. Князь Михаил Семенович Воронцов (1782–1856), генерал-фельдмаршал, герой наполеоновских войн, в 1815–18 командовал русским оккупационным корпусом во Франции. В 1832–44 был генерал-губернатором Новороссии и наместником Бессарабии. Отличился отменным администрированием и рядом мер, способствовавших бурному экономическому росту вверенных областей. В 1844 был назначен наместником Кавказа с неограниченными полномочиями; умело использовав противоречия между кавказскими феодалами, добился добровольного присоединения большей части их владений к России. 30 (18) января Воронцов пишет царю и Нессельроде откровенные письма, указывая, что все кавказское побережье находится под страшной угрозой: в случае серьезного нападения нет никаких средств спасти наши форты на побережье [4.T.I, c.37, 407]; по мнению князя, это будет таким несчастьем, «в котором не может утешить нас никакой успех на суше», и он просит предпринять все возможное для сохранения мира. Граф, а впоследствии князь, Алексей Федорович Орлов (1786–1861) (кстати, спасший своего сводного брата-декабриста ген.-м. М.Ф.Орлова от серьезного наказания) был блестящим дипломатом: возглавлял русскую делегацию при заключении Адрианопольского мирного договора 1829 г., о его действиях при заключении УнкярИскелесийского договора уже говорилось, его действия в Париже в 1856 г. при заключении мирного договора, завершившего Крымскую войну, выше всех похвал. После Синопа он не сомневался в неизбежности войны с Англией и Францией [4.T.I, c.391]; о его (запоздалой) попытке коренным образом изменить русскую внешнюю политику после Венской миссии мы уже говорили. И если Николай не внял их предостережениям, то тем более тщетными оказались попытки Мейендорфа. Был еще один человек, прекрасно понимавший, что происходит, но он не оказывал никакого влияния на внешнюю политику, им был Павел Степанович Нахимов, который после синопской победы ходил мрачный и озабоченный и говорил, что это еще «всем нам» аукнется. «Павел Степанович не любил рассказывать о синопском сражении, – писал впоследствии А.А.Ухтомский. – Во-первых, по врожденной скромности и, во-вторых, потому, что он полагал, что эта морская победа заставит англичан употребить все усилия, чтобы уничтожить боевой Черноморский флот, что он невольно сделался причиной, которая ускорила нападение союзников на Севастополь». Тем более интересно читать декабрьские доклады бар. Бруннова. В порыве дипломатического прозрения он оценивает Синоп как пощечину морским державам а их бездействие как позор, «больше отступать уже нельзя, не омрачая чести Англии неизгладимым пятном», пишет он [4.T.I, c.390–91]. Но выводы из этого делает совершенно фантастические. Как же следует действовать России? Да все так же, по мнению царя и его дипломатов (включая Меншикова): решительно продолжать агрессию, перейти через Дунай, поднять всеобщее восстание христианских народов против турок и т.п. (см. собственноручную записку Николая I [4.T.I, c.408–9]). И никаких отступлений. Когда царь несколько раз наставлял Горчакова быть готовым к выводу войск, то имел в виду эвакуацию только после удовлетворения всех его требований. Победы русского оружия – лучшее средство против вступления Англии в войну. «Англия не есть страховое общество от морских аварий», словно соревнуясь с Меншиковым в остроумии, резюмирует Бруннов [4.T.I, c.394]. А у Франции, вроде как, и вовсе нет причин воевать. Отступления Николай Павлович не видел. И перманентно ликовал вместе со своим окружением и дилетантами-от-общественности (давно следовало бы ввести в России такой чин, подобно генералу-от-кавалерии) всех мастей при каждом известии о военном успехе. Укажем лишь последний приступ ликования – по получении известия о синопской победе, после которого ликование и ослепление достигли предела [4.T.I, c.387]: В Москву, в Петербург, на Кавказ к Воронцову, на Дунай к Горчакову полетели ликующие известия о сокрушительной русской военной победе: «Вы не можете себе представить счастья, которое все испытывали в Петербурге по полу- 12 чении известия о блестящем синопском деле…», так поздравлял военный министр Василий Долгоруков кн. Меншикова, главнокомандующего флотом в Севастополе. При этом никакого стратегического плана с какими-то реальными шансами на успех у Николая не было. «Что будет, один Бог знает», «успеем взять Силистрию, а потом посмотрим, что делать», «завтра, что получим, будет любопытно. С Горчаковым простился, все будет готово; прочее решит Господь, на него, как и всегда и во всем все наши надежды», – пишет он [4.T.I, c.333, 310, 504, 334] и проч. Без сомнения, все это усиливало растерянность и среди дипломатов, и среди военных. Этот умственный и зрительный паралич прошел у российского самодержца только весной 1854, а у дилетантов-от-общественности не пройдет никогда. В какой степени бездействие союзного флота, результатом которого стал синопский разгром, следует считать ошибочным? Ни в какой! Никакого ущерба эскадры союзников не понесли. Зато общественное мнение в Англии и Франции в начале 1854 г. было готово к войне совершенно. В Англии, подогретой демонстративной семидневной отставкой Палмерстона, дело дошло до обвинений принца Альберта, мужа королевы, якобы подкупленного Николаем, в государственной измене [4.T.I, c.398]. Газеты и светские салоны неистовствовали. Даже авторитарному французскому императору важно было снять с себя ответственность за вступление в войну – еще деликатнее было положение британских лидеров в двухпартийной парламентской системе при нешуточных парламентских дебатах. Даже при коалиционном правительстве можно было запросто угодить в отставку. Предстояла непростая война. А как мы знаем, от восторгов публики до ненависти – один шаг. Полагаю, все было тонко просчитано в Париже и Лондоне, но, увы, не в Петербурге. Следует обратить внимание на странный эпизод синопской баталии. 20-пушечный пароход (флагманский корабль Нахимова «Мария» имел 120 пушек) турецкой эскадры «Таиф» (его класса Тарле, к сожалению, не указывает), которым командовал англичанин капитан Слейд (A.Slade), в турецкой службе Мушавер-паша, искусно сманеврировав, вышел из боя, прорвавшись сквозь нахимовскую эскадру. Отвлек на себя 2 русских фрегата, ушел от преследования, затем столкнулся в открытом море со всей эскадрой вице-адмирала В.А.Корнилова, шедшей на соединение с Нахимовым. В ходе артиллерийской дуэли «Таиф» сильно повредил пароход «Одессу» и на время вывел его из строя и после ловкого маневра ушел от русской эскадры, держа курс на Константинополь. Два других парохода корниловской эскадры, «Крым» и «Херсонес», с задачей преследования не справились, и Слейд благополучно прибыл в Константинополь, ничуть не опасаясь позорной казни за дезертирство. Это означает, что между английским и турецким военно-морскими командованиями наверняка существовало секретное соглашение, касавшееся этого парохода (и, наверняка, много чего еще). История с «Таифом» изложена в [4.T.I, c.383–85] туманно и неубедительно. Где был построен такой боевой корабль? – уж конечно, не в Турции. Тогда на каких условиях передан Порте? Кому подчинялся – также непонятно. Команда, вроде как, турецкая – тогда откуда такое мастерство маневрирования, а главное – искусство стрельбы. «Перестрелять» корниловских комендоров – не шуточное дело. И если столько неприятностей причинил какой-то «Таиф», то чего же ждать от всей союзной эскадры. Это не такой уж малозначащий эпизод, как кажется на первый взгляд. Франция вооружалась, призывала резервистов и готовила экспедиционный корпус – с января Киселев уже знал об этом. Ситуация стремительно прояснялась. В ответ на запрос российского правительства о цели ввода союзного флота в Черное море из Лондона и Парижа последовали ответы, что ввод эскадр направлен против русского флота, и, напротив, покровительствует турецкому. В течение февраля дипломатические отношения России с Францией и Британией были прерваны и послы покинули места назначения; «…император Николай постарел на десять лет, – докладывает Кастельбажак в Париж 11 февраля 1854 г. – Он в самом деле болен нравственно и физически». Англия 2 марта и Франция 3 марта в форме ультиматума потребовали вывести войска из Молдавии и Валахии в двухмесячный срок, угрожая в случае отрицательного ответа войной. В ответ Николай приказал ускорить подготовку к переправе на правый берег Дуная. Война России была объявлена Англией 27 марта и Францией – 28-го. Недовольный Горчаковым, император вызывает в начале 1854 г. в Петербург Паскевича и вновь спрашивает его совета. И вновь ему не внемлет. 13 «Мне отрадно вспомнить, что когда еще можно было предупредить все бедствия, постигшие впоследствии Россию, я против мнения всех в ту минуту, когда в порыве безумия мы готовились закидать всю Европу шапками, осмелился 27 февраля 1854 года представить покойному государю записку», в которой давался совет уступить, очистить Молдавию и Валахию. Фельдмаршал не сомневался, что выступит против России вся Европа, с Австрией и Пруссией включительно, и что все равно придется уступить. [4.T.I, c.459–60]. Бедствия уже нельзя было предупредить, но само мнение высказано вполне определенно. И после этого Николай назначает Паскевича главнокомандующим всеми российскими войсками на западной границе России и в Дунайских княжествах, отдав приказ о наступлении. Умом не понять… 23 (11) марта русские войска в нескольких пунктах переправляются на правый берег Дуная при 201 убитом и 510 раненых, потери обороняющихся – турок значительно больше (около 1 тысячи) против всех правил военного искусства. И вечером следующего дня русская армия ликовала «по поводу удачно совершенной переправы и из рук вон нелепого поведения турок, допустивших совершить это опаснейшее дело» [4.T.I, c.468]. 5 апреля (24 марта) началась осада Силистрии. С 13 апреля инженерными работами руководил прибывший к стенам турецкой крепости генераладъютант К.А.Шильдер; в 1829 он сыграл решающую роль во взятии Силистрии русскими войсками и как военный инженер пользовался огромным уважением. Карл Андреевич был человеком храбрым и прямолинейным, в политике и высокой стратегии не разбирался, задачу армии и свою лично видел в скорейшем взятии Силистрии, которой обещал овладеть через несколько суток после установки осадных артиллерийских батарей. Любопытно при этом мнение Шильдера о бесполезности двадцатилетних трудов турок по укреплению крепости, которое приводит ген.-лейт. М.И.Богданович, отмечая далее крайнюю горячность и вспыльчивость Карла Андреевича [20.T.II, c.60,62]. 24 апреля под Силистрию прибыл Паскевич, считавший, как мы уже знаем, дунайскую кампанию бесполезной стратегически и опасной политически. С этого момента начался прямой конфликт распоряжений Шильдера и Паскевича, пресекавшего все попытки решительных действий – конечно, никакого личного конфликта между фельдмаршалом, обладавшим не менее крутым, чем Шильдер, характером и не терпевшим неповиновения, и его подчиненным быть не могло. На самом деле князь Варшавский вступил в конфликт со всей армией и самим монархом. Окружение царя также было против планов Ивана Федоровича; даже Орлов считал, что, несмотря на трудность нашего положения, следует не отступать, а проявить решительность, и тогда «мы выйдем из дела со славой для нас и к посрамлению наших врагов» [4.T.I, c.505]. Действительно, почему не потребовать решительных действий от других, если сам не будешь нести никакой ответственности за последствия. В течение апреля Паскевич пишет Николаю две записки. В первой, 27 (15) апреля, он пишет, что в силу возрастающей враждебности Австрии и Пруссии серьезнейшая угроза нависла над всеми громадными западными рубежами империи (за безопасность которых, напомним, Паскевич нес ответственность перед страной), включая Польшу, поэтому благоразумнее всего было бы вывести войска из княжеств и занять сильные стратегические позиции. Вторая записка, 4 мая (22 апреля), именуемая автором «Всеподданнейшее письмо князя Варшавского», в которой фельдмаршал подробно и решительно объясняется с царем, и ответ Николая заслуживают серьезного обсуждения. «Княжества мы занимать не можем, если австрийцы с 60 000 появятся у нас в тылу. Мы должны будем тогда их оставить по п р и н у ж д е н и ю (подчеркнуто Паскевичем), имея на плечах сто тысяч французов и турков. На болгар надежды не много. Между Балканами и Дунаем болгары угнетенные и невооруженные; они, как негры, привыкли к рабству. В Балканах и далее, как говорят, они самостоятельнее; но между ними нет единства и мало оружия. Чтобы соединить и вооружить их, надобно время и наше там присутствие. От сербов при нынешнем князе ожидать нечего, можно набрать 2 или 3 тысячи (des corps francs) <добровольцев>, но не более: а мы раздражим Австрию. В Турции ожидали бунта вследствие нововведений, но до сих пор это не подтверждается». Вывод фельдмаршала: нужно немедленно, не дожидаясь австрийского ультиматума, очистить Дунайские княжества и уйти за реку Прут, «на фланг Галиции, и там выжидать событий. «Злость (подчеркнуто Паскевичем) Австрии так велика, что, может быть, она объявит новые к нам претензии», несмотря даже на очищение княжеств. Но тогда Пруссия и другие германские государства к Австрии не примкнут. Николай не мог не усмотреть горького упрека в письме фельдмаршала. «С фронта французы и турки, в тылу – австрийцы; окруженные со всех сторон, мы должны будем не отойти, но бежать из княжеств, пробиваться, потерять половину армии и артиллерии, госпитали, магазины. В подобном положении мы были в 1812 году и ушли от 14 французов только потому, что имели перед ними три перехода», писал фельдмаршал в приложенной к этому же письму от 22 апреля «всеподданнейшей записке» о положении дел. И даже «не французы, не англичане и не турки, а австрийцы и пруссаки нам всех опаснее», настаивал фельдмаршал. А за этими строками читались беспощадные вопросы: кто вызвал на поле битвы всех этих врагов? Кто безумной неосторожностью доверил свои планы Англии? Кто без тени смысла так долго дразнил Наполеона III и этим облегчал ему в свою очередь успех его собственной провокационной политики? И прежде всего – кто считал очевиднейшей из аксиом гранитно-твердую дружбу Австрии и Пруссии к России? Не было и не могло быть ответа на эти вопросы… [4.T.I, c.492–93]. Таково мнение Паскевича. Здесь, перед изложением ответной записки Николая I, уместно сказать, что «записки» пишут не только Николай и Паскевич, но и все прочие действующие лица: Горчаков, Меншиков, Воронцов, Нессельроде… даже большой специалист по военно-морским делам вел.кн. Константин, – и этот пишет записки [20.T.II, c.209]. В них, по идее, излагаются планы военных компаний, стратегические оценки, военные и политические, донесения (доклады) о ходе боевых действий, просьбы о подкреплениях и передислокациях и т.п. Но все это – сплошь общие слова, вдобавок написанные очень неясно и полные противоречий. Характерна в этом смысле мартовская (1854) записка Николая I, содержавшая, как, видимо, представлялось автору, план победного блицкрига на суше и море – на самом деле, одни фантазии и общие соображения [20.T.I, c.66]. Малосодержательные требования царя, к тому же не подкрепленные последовательными действиями с реальными шансами на успех, никак нельзя считать планами или диспозициями. При этом вся страна многие годы приучалась к порядку, когда все серьезные решения принимаются лично императором – стоит ли удивляться, что все идет вкривь и вкось. Что касается объективности, то, об этом мы уже говорили – вот теперь Николай пожинает плоды своих действий, а вместе с ним вся страна. К примеру, царь раздраженно пишет Горчакову, что из его записок о ходе боевых действий ничего понять не возможно, как будто он сам не приучил все свое окружение приспосабливать действительность к монаршим желаниям. Но самое ужасное заключается в том, что конкретные боевые приказы командирам пишутся или передаются с адъютантами так туманно, так двусмысленно, что командиры не понимают своих начальников – в результате бесцельно гибнут люди (о чем пойдет речь дальше). Ответная записка Николая состоит из общих рассуждений и не заслуживает объемного цитирования. В ней царь в эмоциональном тоне объявляет, что нет причин отказываться от прежнего наступательного плана самого же Паскевича (имея в виду, вероятно, его уже упомянутый план от 23 (11) сентября 1853, а возможно также и письмо от 29.12.53, в котором фельдмаршал пишет о возможности контролировать всю Болгарию и закончить кампанию в Адрианополе [17.T.II, c.596]), словно, с того времени ничего не изменилось. При этом император, без сомнения, вспоминал и оптимистический «план» Горчакова (20.09.53), сфантазировавшего наступательную кампанию за Дунаем: взятие Варны и последующее наступление на Адрианополь и Константинополь [17.T.II, c.582–83]. Все пустяки, по мнению российского монарха. Англо-французский флот обстрелял Одессу – так мы их не боимся. Нападут австрийцы – «разбей их». Осаду довершить, пойдут турки на помощь – разбить… Но вот утверждение царя, что ни французы, ни англичане не могут раньше июня соединиться с армией турецкого командующего, Омер-паши, в самом деле верно. Резюме: разбей, возьми, победи, доверши осаду, угроз не боимся… – а предложения фельдмаршала постыдны и противоречат его, царя, приказам, и он, князь Варшавский, «вероятно в пароксизме лихорадки мне написал то, что твоя твердая душа и зоркий ум не поверят, когда ты здоров». Какова цена этим указаниям, понятно. Еще одна идея владела «руководящими умами» и волновавшейся общественностью – идея организации восстания христианских подданных султана. Но Мейендорф в мартовских докладах Нессельроде предупреждает, что восстание в Эпире обречено на поражение, а попытка побудить сербов к восстанию и организовать им помощь равносильно объявлению войны между Россией и Австрией. Поэтому царь решает ограничиться призывом к вооруженному восстанию в Болгарии и в апреле собственноручно пишет революционные прокламации [4.T.I, c.461]. Николай Павлович, пишущий революционные воззвания, – да такое до 1854 могло прийти в голову только психически больному человеку! Ну, совсем российский монарх не знал, что же следует предпринять. Более того, даже в ноябре 1853 он продолжал верить в неестественность союза Англии и Франции с 15 Портой и рассчитывал, что ко времени всеобщего восстания христиан обе державы перестанут быть нам враждебными [17.T.II, c.587]. Что тут скажешь… Вот до какой степени доходило непонимание царем всего происходящего. Идею разгрома Турции «изнутри», но в другом оформлении, мы рассмотрим в заключении. В итоге «фельдмаршал был в вопросе об осаде Силистрии поставлен государем на место и принужден был исполнять его неуклонную волю», пишет Зайончковский [17.T.II, c.979]. Но, судя по дальнейшим действиям Паскевича, тормозившего все активные начинания, он твердо решил проигнорировать «неуклонную волю» и Силистрии не брать. 13 июня смертельно ранен генерал Шильдер. Того же 13 (1) июня царь получает известие, что через месяц Австрия может выступить против России, и в письме Паскевичу разрешает снять осаду [9.T.I, c.524, 522]. К середине июня в Варне уже высадились 2 французские и одна английская дивизии. 21 (9) июня русская армия снимает осаду и начинает покидать Дунайские княжества. Взятие Силистрии было вполне посильной задачей – так считала не только вся русская армия и военные историки, но и французское командование. Так например, наиболее сведущий и компетентный человек, французский командующий маршал Сент-Арно (Armand Jacques de Leroy de Saint-Arnaud), удивляется отступлению русской армии накануне взятия крепости, не находя причин военного свойства; при этом он отмечает основательность осадных работ. И вообще, все французские источники дают высочайшую оценку инженерному искусству Шильдера. И защитники крепости, и турецкое командование считало положение Силистрии отчаянным, того же мнения придерживались и союзники, «все кончено для Силистрии», писал в своих ежедневных записках полковник французской армии барон де Базанкур [4.T.I, c.509], участник войны и автор ценнейшего труда [22]. Армия и общественное мнение России винило прежде всего Паскевича в неудачной осаде и общей пассивности армии. «Паскевич перед Силистрией ничего не хотел, ничем не командовал, ничего не приказывал, он не хотел брать Силистрию, он вообще ничего не хотел», пишут наблюдатели. Дошло до того, что его ближайшее окружение ломало себе голову, каким бы способом удалить его из Дунайской армии. «Все в Петербурге знали, как обстоит дело с Паскевичем, все, кроме только одного императора Николая, ему никто не осмеливался это сказать, потому что такие истины он принимал плохо» [4.T.I, c.486–87], цитирует Тарле известного исследователя (von Bernhardi); но, как мы знаем, мнение Паскевича было царю прекрасно известно. Русские военные исследователи, а также Е.В.Тарле единодушно осуждают действия фельдмаршала, хотя никаких убедительных доводов в опровержение его стратегических оценок не приводят. Одни, подобно М.И.Богдановичу, полагают, что «преклонные лета фельдмаршала ослабили прежнюю его деятельность» [20.T.II, c.36]. Другие упрекают его в самомнении и доминирующем влиянии: «Высказанные им мнения считались непогрешимыми, от него не требовали доказательств, которых требовали от других», пишет военный аналитик Н.Ф.Дубровин [21.T.I, c.73]. Третьи полагают причиной действий Паскевича нежелание рисковать своим положением. А Зайончковский бросает совсем тяжкий упрек памяти фельдмаршала, объявив, что, поскольку тот «настоял-таки на своем желании перейти к обороне, союзники получили возможность сделать высадку в Крыму и перенести войну в наши пределы» [17.T.II, c.620]. При этом сам же указывает на совещание в Париже 28 февраля 1854 (т.е. еще до прибытия Паскевича к действующей армии), где был принят план перенесения войны на территорию России – в Крым или на побережье Кавказа [17.T.II, c.845]. Как можно позволять себе такое?! Тарле исследует проблему глубже других, рассматривая ее военную компоненту в неразрывной связи с политической. По его мнению, дело было не в преклонных летах, безволии или утрате «духа инициативы», ничего этого не было – бездеятельность Паскевича обусловлена иными причинами. Тарле называет поведение фельдмаршала двойственным и неискренним, считая, что весь год с июня 1853 по июнь 1854 он лукавил с царем «и против совести своей ему поддакивал». Мотивы: интересы личной карьеры, боязнь за свою славу и нежелание ею рисковать; позитивные мотивы – понимание реальных опасностей и осторожность. Последствия: кампания в Дунайских княжествах оказалась неудачной и бесцельной, Силистрия не была взята, дунайские неудачи и подавление Паскевичем всякой активности армии лишили ее уверенности и воли к победе; вторя военным историкам, Евгений Викторович считает, что в ночь отмены штурма Силистрии (21 июня) «фактиче16 ски была Россией проиграна первая половина Восточной войны» [4.T.I, c.255,527,412,261,263,522]. Большая часть упреков в адрес Ивана Федоровича неубедительна – аргументируем этот тезис. Обвинения Паскевича в неудачах первой половины дунайской кампании спорны – он никогда не отдавал Горчакову, Данненбергу или Анрепу распоряжения плохо руководить войсками. Напомним, 6 октября (24 сентября) он пишет Николаю, что турок следует разбить наголову, если сунутся [4.T.I, c.267], а приказ командующему, кн. М.Д.Горчакову, не усердствовать отдавал сам Николай I, отнюдь не Паскевич. Эти неудачи были следствием негодного командования непозволительно большого числа высших офицеров русской армии и общего состояния армии, которое было известно фельдмаршалу лучше, чем кому бы то ни было – это также повлияло на его действия. Заявление, что в ночь отмены штурма Силистрии (21 июня) «фактически была Россией проиграна первая половина Восточной войны», необоснованно и непонятно. Ну, взяли бы крепость – что дальше? Стратегические перспективы на Дунае отсутствовали – стратегические оценки Паскевича основательны и убедительны, его оппоненты не могут противопоставить им серьезных аргументов. Отдельного рассмотрения заслуживает ничем не обоснованной декларации, что в результате перехода дунайской армии к обороне союзники получили возможность напасть на Крым. Ее первоисточником является совсем не кто-либо из военных историков, а сам царь [4.T.I, c.525]. Но то, что естественно в положении Николая I, не понимавшего, что происходит и что следует предпринять, непозволительно для историка-исследователя. О принятом 28 февраля в Париже и утвержденном Наполеоном III решении уже говорилось, это был приказ к исполнению. Согласно Базанкуру, в начале июля командование союзников получило приказ категорически воздержаться от операций в Дунайских княжествах и сосредоточить все средства и войска для экспедиции в Крым [4.T.II, c.27]. В середине августа на совещании, которым руководил маршал Сент-Арно, было принято решение немедленно готовить десант в Крым [4.T.II, c.27–33]. Решение понятное и естественное – союзники обладали подавляющим перевесом именно на море, его и следовало использовать. А оккупация княжеств отвечала интересам Австрии, никак не Франции. Не для того французский император сформировал восточную армию, чтобы она защищала австрийские интересы! Называя поведение Паскевича неискренним, Тарле сам же пишет, что фельдмаршал все более настойчиво склонял царя к уступкам и мирному пути, «все менее и менее считаясь с тем, как посмотрит император на его противоречие» [4.T.I, c.261]. Мог ли он противоречить царю еще резче, соблюдая при этом этикет и сложившиеся правила взаимоотношений подданных с монархом, не терпевшим не то что возражений – просто некомфортной информации? Вряд ли. О боязни за какую карьеру, какую славу может идти речь при положении, которого достиг Паскевич? О таком положении можно сказать, что, сколько на него не посягай, руками не достать. Напротив, находясь в положении наместника Польши и верховного главнокомандующего и предоставив другим решать боевые задачи, он наилучшим образом сохранял свое положение и славу. Именно противореча желанию царя и всей армии, фельдмаршал поставил себя под удар. Почему же князь Варшавский принял столь непопулярное решение – отвести войска из княжеств, безусловно понимая, какие упреки на него посыплются, тем более, что он сам в письме царю 17 (5) декабря 1853 предлагал овладеть Силистрией для предотвращения англо-французского десанта в Варне [17.T.II, c.596]? Обозревая многочисленные планы кампаний 1853–54 гг., бродившие в различных руководящих головах [17.T.I, c.584–85], Зайончковский лаконично замечает: «планы менялись». Именно так, поскольку планы врагов России прояснялись, общая ситуация менялась – менялись и планы. Если в декабре можно было рассчитывать на нейтралитет Австрии, то после миссии Орлова и сосредоточении в Трансильвании 13-тысячного австрийского корпуса, стало ясно, что Австрия точно займет враждебную позицию, а возможно, и Пруссия. 20 (8) апреля 1854 был подписан оборонительный и наступательный военный союз между Австрией и Пруссией. Австрией в Галицию и Буковину были посланы два армейских корпуса и призвано 95 тыс. резервистов. Менялись планы и оценки всех действующих лиц конфликта сообразно менявшейся обстановке, так что в поведении князя Варшавского не просматривается ни двуличия, ни лукавства. Сравнить положение России с 1812 г. вопреки оптимизму и Николая, и всего офицерского корпуса! – это лукавство? Фельдмаршала упрекают еще и в том, что он не отказался от командования, считая дунайскую кампанию безнадеж17 ной. Но ведь Кутузов тоже не отказался от командования в аустерлицкой битве – и никому не приходит в голову упрекать в этом Михаила Илларионовича, кстати, так же, как наполеоновских маршалов, буквально умолявших императора не идти в Россию. Но почему же Паскевич не воспользовался предложением императора оставить командование, если оно его тяготит [4.T.I, c.495]? Мы можем лишь предполагать, поскольку фельдмаршал ни с кем не мог делиться своими замыслами, противоречившими «неуклонной воле» российского самодержца. Скорее всего, он в высшей степени опасался того, что в приступе очередного ликования после взятия Силистрии, Николай бросит армию на перевалы в соответствии со своим мартовским 1854 г. планом победного блицкрига. В реальности, мысли нашего самодержца никому не были известны и при его жизни, тем менее они известны нам после его смерти, однако Паскевич, как никто другой, знал своего царственного «друга». К 29 июля в Варне и Шумле было уже 41 тыс. французов и 19 тыс. англичан, на фланге и в тылу – австрийская армия. Пара неверных шагов – и катастрофа. Опасения фельдмаршала были вполне основательны. Если Иван Федорович все это просчитал и ради спасения армии решился поставить под удар и славу, и свое доброе имя в глазах потомков, это дорогого стоит! И все-таки решение воспрепятствовать взятию Силистрии было ошибочным. На правый берег уже перешли – следовало завершить операцию. Неудачи дунайской кампании и ее последний аккорд – отступление от стен Силистрии действительно лишили дунайскую армию уверенности и воли к победе, а также нанесли удар по военно-политическому престижу России, ободрив ее врагов. Вдобавок, солдаты и офицеры не понимали, что же от них хочет высшее командование, и перестали доверять ему. Так нельзя поступать с действующей армией – отдавать противоречивые приказы или говорить одно, а делать другое, армейские головы и сердца не приемлют подобного двуличия и лукавства (хотя не следует все это преувеличивать – не лишились же уверенности и боевого духа матросы и офицеры Черноморского флота). Если уж Иван Федорович хотел геройски противоречить царю, то «голову класть» за отступление нужно было после взятия крепости. Вышеприведенное рассматривается нами как аргументация, не доказательства. И далее мы не будем давать категорических оценок военным действиям – анализ военных действий невозможен без детального изучения военных архивов, причем архивов всех основных участников конфликта, а не только российских. Поэтому в дальнейших оценках мы будем следовать анализам военных историков, лишь по необходимости задавая надлежащие вопросы. 10 сентября высшее командование сухопутных и морских сил союзников (в отсутствие лишь больного маршала Сент-Арно) провело с моря рекогносцировку места высадки экспедиционного корпуса (военных карт побережья Крыма у союзников не было; трудно поверить, но не было их и в российском военном министерстве [4.T.II, c.33]). Лучшим местом для высадки было признано побережье Евпатории вблизи развалин бывшего форта. 13 (1) сентября весь громадный союзный флот в составе 106 вымпелов проследовал мимо севастопольских берегов и в 8 часов вечера встал якорем у Евпатории. С 7 часов следующего дня началась совершенно беспрепятственная высадка союзников. К 19 часам высадились 3 пехотных дивизии французов и вся кавалерия (150 сабель), 50 заряженных орудий, 52 зарядных ящика с зарядами для артиллерии и патронами для пехоты; англичане к вечеру высадили 2 дивизии с частью артиллерии. К вечеру 14 (2) сентября командующий крымской армией кн. А.С.Меншиков соизволил занять высоты левого берега р.Альма вблизи места высадки [21.T.I, c.183–92]. Как известно, морской десант – одна из сложнейших и опаснейших военных операций. Казалось, само небо благоприятствовало русской армии: всю ночь (с 14 на 15 сентября) лил холодный дождь, сопровождавшийся сильным ветром, союзные войска провели ее в грязи, без палаток, питьевой воды, пищи, дров; в следующие два дня положение не многим улучшилось, среди личного состава и лошадей было много заболевших [21.T.I, c.195]. Однако же «шесть дней, со 2-го по 6-е сентября лагерь наш предавался совершенной праздности, никто не был занят, войска не видали главнокомандующего» [21.T.I, c.213]. Закончив подготовку к наступлению, союзные войска атаковали русские позиции на р.Альма в полдень 20 (8) сентября, когда сочли момент для себя выгодным. Нападение союзных войск на Крым ожидалось военным министерством России уже с марта (ст.стиля) 1854 г., Меншиков ожидал нападения англо-французской эскадры с февраля [21.T.I, 18 c.64–67]. В начале мая Паскевич пишет ему, что «Европа» атакует нас в Крыму, а не на Дунае, и посылает ему бригаду из состава 17-й дивизии; более всех тревожился М.Д.Горчаков, отправивший в июле в подкрепление крымской армии 16-ю пехотную дивизию [4.T.II, c.106–107]. Письмом от 30 (18) июня Николай I предупреждает Меншикова о скорой атаке Крыма, предполагая высадку войск у Феодосии. В июле Меншиков в письме царю просил подкреплений [20.T.II, c.263] и в то же время «Меншиков не только сам не колебался, но и убеждал других, что высадка не состоится» [21.T.I, c.168], даже накануне высадки, 28 августа (ст.стиля) он пишет об этом военному министру. Командовал Крымской армией и Черноморским флотом ген.- адъютант А.С.Меншиков, назначенный на эти посты в июне 1853 г. по возвращении из Константинополя. Он еще в 1828 г. воевал на Черном море, командуя десантным отрядом, овладевшим крепостью Анапа, после чего был произведен в вице-адмиралы [21.T.I, c.205] и неожиданно назначен начальником Главного морского штаба, хотя на флоте не служил и в морских делах был дилетантом. Впоследствии на него фактически возлагаются обязанности морского министра и к тому же генерал-губернатора Финляндии, коим он продолжает пребывать и в 1853–55 гг., непостижимым образом выполняя губернаторские обязанности на расстоянии. «Он был циник и скептик, откровенно презирал своих коллег по правительству, и не давал себе никакого труда скрывать это» [4.T.I, c.101], однако сам он, как убедительно показывает Тарле, ни на одном из многочисленных постов не оставил следов созидательной деятельности, отличившись лишь в злоречии и остроумстве. Бесспорно умный и очень образованный человек, он все свои усилия и таланты направил в злословие, прославившись ядовитыми каламбурами, известными всему высшему свету и весьма забавлявшими российского самодержца. Многолетняя привычка к имитации профессиональной деятельности, приучившая князя к беспечности и безнаказанности, самым роковым образом проявилась в годы «восточного кризиса». Следующая оценка вовсе не является преувеличением. Тут Меншиков действовал так, как и всегда он действовал, приходилось ли ему выступать на поприще дипломата или в качестве полководца. Полнейшее, доходившее до странности, чувство безответственности было одной из самых характерных его черт. Не имея ни тени дипломатических дарований, он берется за самые трудные и опасные поручения, едет в 1853 г. в Константинополь и навязывает там России бедственную войну. Он прикидывается, будто его послали в Константинополь против его желания, и пишет это как раз перед тем, как тоже без колебаний, с еще более преступным легкомыслием и по исключительно личным честолюбивым мотивам, он принял пост главнокомандующего русской армией и флотом. Все несчастья, которые Меншиков навлек на Россию, ни в малейшей степени его не смущают. Небрежное высокомерие, презрительная насмешливость, всегдашнее стремление замечать в людях лишь самое худшее, совершенно неосновательное, преувеличенное представление о глубине и остроте собственной государственной мысли, – все эти свойства были воспитаны в нем пожизненным пребыванием среди придворных ничтожеств, над которыми он очень зло и часто остроумно изощрялся... При этом была у него еще одна убийственно вредная черта: его бесспорный и острый ум был каким-то вялым, недейственным, ни малейшей энергии мысли, не говоря уже об энергии волевой, у него не было. Все будет хорошо, а если выйдет нехорошо, – тоже беда небольшая, все на белом свете поправимо, особенно, если у кого есть майораты, пенсии и столько орденов, что уж не хватает места на груди, куда их вешать. Пошел искать Нахимов турок на море? Верно, не найдет. Если найдет, тем хуже для него. Корнилов просит послать скорее Нахимову подмогу? Ладно, можно и послать. Не поспеет, – что же, как-нибудь Нахимов из беды вывернется. А не вывернется и потонет, проживем и без Нахимова. Вот какого рода мысли всегда, без единого исключения, были присущи Меншикову [4.T.I, с.378–79]. «Трудами» князя Севастополь оказался неподготовленным к обороне, особенно его северная сторона, войска снабжены боеприпасами плохо, в армии, находившейся под его началом, царил беспорядок, командующий ухитрился даже штаба не завести. Как раз летом 1854 и непосредственно перед высадкой союзников Меншиковым овладел легкомысленный оптимизм, и он стал всех и самого себя уверять в невозможности высадки противника, в результате чего оказался к ней неготовым. В июле (1854) Паскевич писал, что Меншиков имеет 25 тыс. войск и 20 тыс. матросов, «атаковать которых даже десантом в 60 тыс. не так то легко» [21.T.I, c.135]. К моменту высадки союзников, получив подкрепления (и не прилагая собственных усилий), Меншиков имел не менее 30 тыс. штыков и 3600 сабель. Несмотря на упомянутые выше благоприятные для атаки погодные условия, он позволил противнику беспрепятственно высадиться и закрепиться. Н.Ф.Дубровин считает, что Меншиков обязан был атаковать противника кавалерией при поддержке конной артиллерии, имея все шансы на частный успех, но почему-то уверен в бесперспективности серьезного 19 сражения из-за огня корабельной артиллерии [21.T.I, c.195–97]. С каких это пор корабельная артиллерия стала эффективным средством борьбы с пехотой в правильном построении (не в батальонных каре, конечно)? А в местах непосредственного соприкосновения противников ее и вовсе нельзя было б использовать. Вообще, если следовать его рассуждениям, атака десанта с моря на простреливаемой с кораблей местности бесперспективна. Непонятно. Вроде как, сложнейшая операция (морской десант) оказывается простейшей. И действующие офицеры русской армии считали, что можно было «порядочно поколотить» неприятеля [4.T.II, c.111]. Я уже не говорю о том, что место высадки союзники искали визуально, без подготовки. И что сделал за 9 месяцев командующий Крымской армией, чтобы определить вероятные места десанта и приготовиться к отпору? 20 сентября 1854 г. в бою на р.Альма 35-тысячная русская армия встретила в бою 57-тысячную союзную армию (разные источники дают несколько различающиеся численности, но приведенное соотношение считается наиболее достоверным [4.T.II, c.112]). Наряду с Базанкуром, ход военных действий в Крыму излагает офицер английского штаба Кинглейк (А.Kinglake) [23], участник баталий и впоследствии военный историк, представляя «английский взгляд». Военные историки всех противоборствующих сторон в совокупности дают достаточно полную картину Крымской кампании. Сражение на Альме было проиграно Меншиковым вследствие безобразного управления войсками, грубейших ошибок высших офицеров, неподготовленности боевых позиций и убийственного превосходства стрелкового оружия противника. При этом и Базанкур, и Кинглейк отмечают стойкость и храбрость русских солдат и офицеров. Но для победы в войнах середины XIX в. этого было недостаточно. Не завершив успеха решительной победой (командовал-то армией не Наполеон I, да и армия была не наполеоновской Grande Armée), противник позволил русской армии в относительном порядке отступить к Севастополю. Численный перевес союзников обычно ставят в вину Паскевичу, не приславшему достаточных подкреплений в Крым (Тарле выдвигает и вовсе фантастическую идею о переброске всей Дунайской армии). А, собственно говоря, почему именно Паскевичу? В районе побережья Финского залива (Петербург–Кронштадт–Свеаборг–Западная Двина) было сосредоточено 200 тыс. лучших сухопутных сил и 40 тыс. моряков Балтийского флота [4.T.II, c.41–43] плюс 70 тыс. гарнизонами, плюс – прекрасные мобилизационные возможности. Герой севастопольской обороны генерал В.И.Васильчиков, считая одной из основных причин поражения в Крымской войне рассредоточение русских войск по границам империи, указывает в своих записках именно на эту армейскую группу, охранявшую балтийские рубежи, на которые никто не покушался, как на главный резерв [4.T.II, c.92–95]. Кн.Васильчиков прав, возражения военных историков, сконцентрированные там же, в указ.соч., декларирующие серьезную угрозу балтийским рубежам России, неубедительны. Решение о театре боевых действий давно было принято (на февральском совещании в Париже). Французская восточная армия направлялась на юг – в Варну и далее в Крым, и ее командующий, маршал Сент-Арно, находился на Черном море, а не на Балтийском. Все это было известно. Точка зрения командовавшего английской эскадрой вице-адмирала Непира (sir Charles Napier), полагавшего, что основной удар должен быть направлен на Петербург, для Наполеона III ничего не значила. Гипотетическая переброска 100-тысячной французской армии, выполнявшей боевые задачи в Алжире, на Балтику, о которой пишет Тарле, невероятна. Французские интересы на Балтике не просматриваются – нечего там делать и французской армии (даже французские памфлеты кричали, чтобы армия не проливала кровь за английские интересы). К тому же экспедиция на Балтику требовала серьезной и длительной подготовки, которая не укрылась бы от русской разведки – не было ничего подобного. Гипотетическая война на два фронта – чистая фантазия. А в одиночку Британия проводить сухопутные операции на Балтике не могла. И на поведение Швеции тайная и умелая переброска 40–50 тыс. войска в Крым не повлияла бы. Тарле пишет об огромном психологическом эффекте, произведенном незначительным с военной точки зрения эпизодом – взятием врагом плохо укрепленного «замка» Бомарзунд у входа в Балтийский залив, ничего не защищавшего и неизвестно, с какой целью там расположенного [4.T.II, c.93]. Эта военная мышь родила целую гору страхов у руководства страны. Мы опять сталкиваемся с той же бедой: когда необходимо анализировать и делать выбор, у Николая Павловича и его приближенных видимость, внешняя 20 форма заслоняет существо дела – ни зоркости, ни таланта, ни профессионального мастерства. Однако маловероятно, чтобы подход подкреплений привел к успеху русской армии при том негодном руководстве, которое явил нам кн. Меншиков и многие высшие командиры Крымской армии. Заметим при этом, сам командующий, по свидетельству адм. Корнилова, накануне альминского сражения пребывал «как нельзя в лучшем духе, спокоен и даже весел…войска много…» [4.T.II, c.128]. Более того, неясно, стоило ли в принципе посылать подкрепления в Крым, если и имевшиеся там войска не удавалось сколь-нибудь удовлетворительно снабжать – ни боеприпасами, ни продовольствием, ни фуражом (напр. [21.T.III, c.330]), от чего армия несла огромные, бессмысленные потери. Известие о поражении при Альме произвело ужасающее впечатление на российские правящие круги и общественность. Безудержный оптимизм сменился ожиданием всех мыслимых бед – обычная метаморфоза дилетантов, исполненных чувством собственной значимости. Но "должно быть, Бог не оставил еще России", по словам Корнилова, – имея прекрасную возможность взять Севастополь немедленной атакой Северной стороны после отвода Меншиковым армии от города 23 (11) сентября, союзное командование допускает непостижимую ошибку и начинает передислокацию армии к Южной стороне города. Совершив несколько бессмысленных маневров, русская армия отступает к Бельбеку, оставив Севастополь на произвол судьбы. 24 сентября начинается 349-дневная героическая оборона Севастополя, руководимая нашими доблестными адмиралами. В довершение к уже совершенным ошибкам, союзная армия до 17 октября не атакует город, дав ему возможность укрепиться. Вместо этого она 26 (14) сентября занимает Балаклаву. 29 сентября умирает маршал Сент-Арно, и командование принимает генерал Канробер (Canrobert), впоследствии маршал. 17 октября снарядом английской батареи смертельно ранен вицеадмирал генерал-адъютант Владимир Алексеевич Корнилов. Командование в Севастополе фактически переходит к вице-адмиралу Павлу Степановичу Нахимову. 25 (13) октября побуждаемый императором Меншиков решается атаковать английские позиции вблизи занятой союзниками Балаклавы. Здесь, наконец, русской армии сопутствует успех. Причем в этом сражении вследствие безумного приказа лорда Раглана полегла большая часть гвардейской бригады легкой кавалерии, в которой служили отпрыски знатнейших фамилий. Согласно мемуарам графа Мэмсбери (Lord Earl of Malmesbury), известного политика, бывшего министра и премьера, впечатление в Англии от этого известия было потрясающим [4.T.II, c.173]. Впоследствии этот эпизод лег в основу нескольких литературных и кинематографических произведений. Хотя этот, в целом успешный бой, нельзя назвать победой, и никаких стратегических последствий он не имел, известие о бесспорном успехе вызвало большой подъем боевого духа в русской армии. К концу октября Меншиков уже имел перевес над противником как в личном составе (более 107 тыс. чел. против 71 тыс. – 41800 французов, 24500 англичан и ок. 5000 турок), так и в артиллерии [4.T.II, c.178]. Он решается на новую атаку, и 5 ноября (24 сентября) под Инкерманом происходит серьезная баталия. В случае успеха можно было рассчитывать на снятие осады – так бы и произошло согласно опубликованной впоследствии оценке начальника штаба французской армии. Но сражение было проиграно; преступная безответственность Меншикова и бездарное руководство войсками ключевых корпусных командиров описано всеми русскими историками. Русские потери доходили до 11 тыс. (согласно Тотлебену выбыло из строя 6 генералов 256 офицеров и 10467 нижних чинов); по преуменьшенным, по мнению русских историков, данным союзников, противник потерял 4027 солдат, 271 офицера и 9 генералов [4.T.II, c.202]. Самым печальным следствием этой неудачи была полная потеря доверия армии к командованию. Наступила тяжелая для обеих противоборствующих сторон зима 1855 г. с предшествовавшим ей знаменитым ураганом и штормом 14 (2) ноября, нанесшим большой урон армии и флоту союзников. В феврале ожидалась высадка свежих французских войск под Евпаторией, и, предваряя ее, Меншиков поручает ген.-лейт. С.А.Хрулеву атаковать город. Атака 17 (5) февраля окончилась неудачей. Лишь после этого 27 (15) февраля уже тяжелобольной император, скончавшийся через 3 дня утром 30 (18) февраля 1855 г., отстраняет от командования Крымской армией «своего старого друга Меншикова и от души благодарит за его всегда усердную службу» [4.T.II, c.337]. Сложно было придумать более нелепый эпитет, чем «усердная». 21 Велика роль кн. А.С.Меншикова в поражениях русских войск, в возмущении их боевых духа и веры. Указанную ранее характеристику светлейшего князя необходимо дополнить следующим. Еще только узнав о назначении его посланником со специальной миссией в Константинополь, Паскевич в кругу своих близких знакомых поставил четкий верный диагноз: «От посольства князя Меншикова я не жду добра. Человек, который в продолжение тридцати лет занимался только каламбурами и остротами, к делу не пригоден» [4.T.II, c.247]. Его знаменитые каламбуры были не только ядовиты и умны, но и точны, таков, например, его отзыв о военном министре В.А.Долгорукове: «князь Долгоруков имеет тройное отношение к пороху: он пороху не нюхал, пороху не выдумал и пороху не посылает в Севастополь» [4.T.II, c.250]. Но неутомимый лишь в вышучивании коллег и своих генералов, привыкший всю жизнь осуждать всех, кроме себя, Меншиков не только (весьма остроумно) издевался над ничтожными сановниками и мздоимцами, составлявшими большую часть николаевской администрации, но и не раз обвинял в поражениях армии солдат и младших офицеров (что возмущало даже императора). Совсем непонятно, оставил ли светлейший место для совести, и если – да, то где она располагалась в его существе, заполненном ядом. Кн. Меншиков не обладал ни дарованиями, ни опытом полководца; он был достаточно умен, чтобы понять это, и хотел бы иметь рядом компетентного военачальника или начальника штаба, но, заранее исполненный ненавистью и завистью к такому человеку, так ничего и не предпринял в этом направлении. Об этом писал Д.А. Милютин [4.T.II, c.177], будущий генерал-фельдмаршал и военный министр в 1861–81 гг. (один из лучших). Возможно, единственное, по-настоящему большое, стратегически верное и полезное решение, Меншиков принял, поручив руководство обороной Севастополя адмиралам Корнилову и Нахимову, хотя по уставу командовать сухопутными войсками должен был армейский генерал. Полностью отдав инициативу противнику, Меншиков вел себя как жертвенное животное, влекомое авгуром, и обреченно отбывал повинность, словно стараясь лишь оградить себя от совсем ужасных упреков. Но избежать таковых не удалось – солдаты прямо называли его «князем Изменщиковым», да и сохраненные историей отзывы о его отменном руководстве адм. Корнилова или ген. Васильчикова и даже самого императора [4.T.II, c.246, 141–43; 203, 149–50, 161; 269] не многим лучше. Беспечность и безответственность Меншикова поразительны, свидетельствам тому несть числа. Хотя ни на каком посту он не оставил следов созидательной деятельности, это не мешало царю жаловать его очередным чином и соответствующим мундиром, доведя их число до одиннадцати [4.T.II, c.249], так что, Е.И.В. в полной мере разделяет со своим фаворитом ответственность за его безответственность. 27 (15) февраля (одновременно с отставкой Меншикова) царем была совершена очередная (и последняя) кадровая ошибка: командующим Крымской армией был назначен М.Д.Горчаков, которому предписывалось немедленно покинуть Дунайскую армию и направиться в Крым. Хотя Горчаков и писал Долгорукову через неделю после назначения: «если бы после Инкерманского дела было принято мое предложение, и Меншиков тогда же был заменен другим лицом, то Крым был бы очищен от неприятеля» [21.T.III, c.249], все это оказалось лишь пустыми словами. По справедливости, в отличие от холодного и безразличного к делу предшественника-мизантропа, новый командующий с приездом в действующую армию старался поправить положение и даже пытался завоевать любовь нижних чинов армии, что сделать ему было крайне затруднительно в силу невозможности изъясняться на родном языке, который он знал из рук вон плохо. К несчастью, ген.-ад. Горчаков был неспособен к самостоятельному командованию и решению трудных задач, требовавших быстроты и глубины военной мысли; его личные качества и действия на посту командующего были вполне известны современникам, они подробно описаны историками (напр. [4,14,15]). В своем знаменитом письме к кн.М.Д.Горчакову, написанном 28 (16) сентября 1855 г., незадолго до смерти, и впервые опубликованном без купюр только в 1883, почти через 30 лет [24], Паскевич искренне и горько укоряет себя за то, что не предотвратил назначения М.Д.Горчакова на пост командующего: «Признаюсь, я виноват перед отечеством, что был отчасти причиной возвышения вашего на ту ступень, на которой вы находитесь... Будучи обязан в действиях моих отдать отчет потомству, я откровенно сознаюсь в моей ошибке и прошу соотечественников моих простить мне, что я, в заблуждении моем еще в 1854 году считал ваше сиятельство способным быть самостоя22 тельным начальником» [4.T.II, c.393]. Такие командующие, как в Крымской армии, – настоящее бедствие, от которого ничто не может спасти. «Армия баранов, предводительствуемая львом, сильнее, чем армия львов, предводительствуемая бараном», считает Наполеон [25, с.90]. Отметим основные моменты дальнейших военных действий. 2 марта 1855 г. Нахимов, до того официально занимавший пост помощника начальника гарнизона (Д.Е.Остен-Сакена), был назначен (уже новым государем) командиром Севастопольского порта и военным губернатором Севастополя. 27 марта Нахимов произведен в полные адмиралы (к ликованию защитников города). 25 (13) мая союзниками взята Керчь. 19 (7) мая ген. Ф.Канробера на посту главнокомандующего сменил ген. Ж.Ж.Пелисье (Pélicier), впоследствии получивший маршальский жезл, энергичный, самостоятельно мысливший и принимавший решения (даже противоречившие воле своего монарха) профессионал. Это было очередным удачным назначением французского императора. Новый командующий решает все силы бросить на скорейшую подготовку штурма и взять город, не отвлекаясь на посторонние маневры. 26 мая пал Камчатский люнет и два редута, Волынский и Селенгинский, прикрывавшие Малахов курган. 18 (6) июня после интенсивной бомбардировки союзники предпринимают общий штурм, закончившийся полной неудачей. Пелисье поспешил, штурм был недостаточно подготовлен, в ходе сражения и французскими, и английскими командирами было допущено много ошибок. «Атака была плохо спланирована и еще хуже выполнена, – жалуется в своем дневнике на другой день после штурма генерал Уиндгэм; – ...враг оказался стойким и хорошо подготовленным; его орудия были заряжены, и они развили такой картечный обстрел, что все наше дело провалилось». Генерал в своем дневнике, увидевшем свет, конечно, много лет спустя после его смерти, подтверждает то, что мы уже знаем из других вполне достоверных источников: английские солдаты в некоторых частях отказались 18 июня итти на штурм, и отчасти это объяснялось недоверием к военному искусству лорда Раглана. «Я понимаю, что наши люди повели себя нехорошо. Но, несомненно, это произошло от дурного руководства атакой (mismanagement of the attack), – и возможно, что это будет хорошим уроком для офицерства, которое, кажется, всегда думает, что британская отвага все сделала и все может сделать. Но теперь британская отвага не абсолютно универсальна. Когда эта отвага налицо, то она столь же хороша, как и всякая иная отвага, а в некоторых отношениях даже лучше, но б е з г о л о в ы (without head – подчеркнуто в подлиннике) отвага стоит очень мало». В очень правдивых записях одного штабного офицера английской армии, не выпущенных в продажу (даже на титульном листе обозначено: for private circulation only), мы читаем такую запись под 19 июня, сделанную на другой день после штурма: «Французская неудача повлекла за собой и нашу... мы могли видеть французскую атаку на Малахов курган – и видели землю, густо покрытую трупами, когда французы отступили. Наши [английские] потери не были даже сколько-нибудь похожи на потери французов, которых выбыло из строя шесть тысяч человек, в том числе два генерала, но и у нас относительно большая пропорция убитых и раненых офицеров» [4.T.II, c.422–23]. «В чрезвычайном положении нужно решаться на чрезвычайное… Сколько, по видимому, невозможного было сделано людьми, решившимися на все, отбросившими всякие другие упования, кроме смертного исхода» [26, с.24] – эти слова Наполеона написаны словно специально о всех истинных славных защитниках Севастополя. Но война делала свое. 7 марта был убит В.И.Истомин; 20 (8) июня тяжело ранен Э.И.Тотлебен, и его увезли из Севастополя. Таким образом, из четырех главных руководителей обороны города (В.А.Корнилова, П.С.Нахимова, В.И.Истомина, Э.И.Тотлебена), сделавших, казалось, невозможное, отстоявших город, не подготовленный к обороне, бро-шенный на произвол судьбы Меншиковым, из рук вон плохо снабжаемый боеприпасами, на своем посту оставался только Нахимов. По словам очевидцев, всем было ясно, что живым Павел Степанович из Севастополя не уйдет, твердо решив погибнуть вместе с городом. Один из храбрейших сподвижников Нахимова по защите Севастополя, князь В. И. Васильчиков, давно его пристально наблюдавший, нисколько не обманывался в тайных побуждениях адмирала: «Не подлежит сомнению, что Павел Степанович пережить падения Севастополя не желал. Оставшись один из числа сподвижников прежних доблестей флота, он искал смерти и в последнее время стал более, кем когда-либо, выставлять себя на банкетах, на вышках бастионов, привлекая внимание французских и английских стрелков многочисленной своей свитой и блеском эполет»… Если кто-либо из моряков, утомленный тревожной жизнью на бастионах, заболев и выбившись из сил, просился хоть на время на отдых, Нахимов осыпал его упреками: «Как-с! Вы хотите-с уйти с вашего поста? Вы должны умирать здесь, вы часовой-с, вам смены нет-с и не будет! Мы все здесь умрем; помните, что вы черноморский моряк-с и что вы защищаете родной ваш город! Мы неприятелю отдадим одни наши трупы и развали- 23 ны, нам отсюда уходить нельзя-с! Я уже выбрал себе могилу, моя могила уже готова-с! Я лягу подле моего начальника Михаила Петровича Лазарева, а Корнилов и Истомин уже там лежат: они свой долг исполнили, надо и нам его пополнить!» Когда начальник одного из бастионов при посещении его части адмиралом доложил ему, что англичане заложили батарею, которая будет поражать бастион в тыл, Нахимов отвечал: «Ну что ж такое! Не беспокойтесь, мы все здесь останемся!» [4.T.II, c.442–43]. 28 июня (ст.стиля) был смертельно ранен адмирал Нахимов, он скончался 30 июня в 11 часов. Севастопольский гарнизон нес огромные потери от вражеских бомбардировок, даже не вступая в соприкосновение с противником. В свете этого бездействие Горчакова становилось нетерпимым. Новый государь, Александр II, пославший в Крым все свободные армейские подразделения, ожидал от командующего активных действий. И Горчаков решился на сражение, в успех которого сам не верил. 16 (4) августа по его приказу 12-я, 7-я, 5-я, 6-я и 17-я дивизии атаковали почти неприступные позиции французов вблизи Черной речки, направляя главный удар на Федюхинские высоты. К несчастью, командующий поставил перед войсками невыполнимую задачу, к тому же стратегически бесперспективную и бесполезную – даже в случае успеха закрепить его было невозможно. Как и предполагали командиры корпуса, атаковавшего высоты, которые храбро и честно исполнили свой долг и погибли в этом бою, дело закончилось катастрофой. Да и сам Горчаков не ожидал от сражения ничего хорошего – «какое право имел кн. Горчаков жертвовать жизнью тысяч людей на дело, неудача которого была ему очевидна», справедливо резюмирует Богданович [20.Т.IV, с.49]. Слова ген.-лейт. Уиндхэма (sir Charles Windham) «без головы отвага стоит очень мало» (см. пред.стр.), отнесенные им к английскому командованию, в полной мере относятся и командованию Крымской армии. «Что можно сделать одной храбростью против армии дисциплинированной и организованной», пишет Наполеон [26, с.16], – именно так! Кроме того, мы видим все тот же беспорядок, что и при кн. Меншикове. Необходимо также отметить следующее из ряда вон выходящее обстоятельство. Если раньше мы говорили о негодных планах кампании в форме «записок», то сейчас речь идет уже о деле абсолютно недопустимом – бестолковых путаных диспозициях и негодных приказах. Приказ Горчакова, переданный ген. Реаду, штурмовавшему высоты, безобразен по своей двусмысленности (зато потом можно было свалить вину за поражение на погибших генералов Н.А.Реада и П.В.Веймарна). Более того, Горчаков пытается косвенно переложить ответственность на императора Александра II. Удивительно то, что Тарле поддерживает эту безосновательную версию, объявляя, что «моральная вина Александра II за катастрофу 4 (16) августа несомненна» [4.T.II, c.469], при том, что сам через 15 страниц приводит в уже упоминавшемся письме Паскевича от 28 сентября бесспорное ее опровержение (см. также [21.Т.III, с.331]; там же анализируются профессиональные ошибки командования [с.356–57,379–81]). Оценивая это сражение, император Александр II пишет 23 (11) августа 1855 г. Горчакову: «огромная потеря наших славных войск без в с я к о г о р е з у л ь т а т а, – (а следовало бы добавить "и без всякого разумения"– Авт), – меня крайне огорчает» [20.Т.IV, с.51]. Окончательный итог сражению подводит в своем письме Горчакову И.Ф. Паскевич: «оно принято без цели, без расчета и без надобности и, что хуже всего, лишило Вас возможности предпринять что-либо впоследствии» [4.T.II, c.484]. Военная инициатива безраздельно принадлежала союзному командованию. После многодневной ожесточенной бомбардировки в полдень 8 сентября (27 августа) союзные войска начали штурм Севастополя; в ходе боев, продолжавшихся до вечера, обе стороны понесли большие потери. С заходом солнца Горчаков отдал приказ взорвать укрепления и склады и оставить Южную сторону. Армия перешла на Северную сторону города; 349-дневная оборона Севастополя завершилась. После занятия союзной армией Южной стороны никаких серьезных боевых действий противники не предпринимали. Военные действия велись также на Балтике, Белом море, Дальнем Востоке, вблизи Одессы, но ни в одном из этих пунктов союзникам не удалось добиться сколько-нибудь значительных успехов. На Кавказе российские армии одерживали победы над турецкими войсками, несмотря на то, что Палмерстон (ставший в 1855 г. премьером) очень желал, чтобы именно на Кавказе русским был нанесен решающий удар. 26 (14) ноября 1855 г. русским войскам сдалась мощная и прекрасно укрепленная крепость Карс. Эта победа подоспела как нельзя вовремя и произвела сильное впе24 чатление в Париже, и впоследствии «падение грозной твердыни, почитавшейся нашими врагами несокрушимой, имело громадное влияние на условия парижской конференции о мире» [4.T.II, c.525]. Но на главном, крымском театре военных действий русская армия потерпела поражение. Исследуя причины военного поражения России, военные историки в весьма скупых аналитических резюме отмечают в качестве основных, наиболее важных, следующие моменты. Растянутость военных сил, неумение определить главные объекты обороны и сосредоточить на них наибольшее число войск, «дабы иметь перевес над неприятелем, что и составляет всю мудрость военного дела… Мы не шли навстречу опасности, а следовали за нею и оттого всегда опаздывали» [21, с.XIV]. Неумение использовать благоприятные моменты, что М.И.Богданович считает главной причиной, указывая также на недостаточное вооружение и плохое снабжение армии; на постоянный «недостаток снарядов и пороха» неоднократно указывает и Н.Ф.Дубровин. Е.В.Тарле, не связанный ни верноподданническими чувствами, ни императорской цензурой, называет еще несколько (обоснованных многими фактами) стратегических причин неудач русской армии. Совершенно справедливо, первопричиной военного поражения русской армии он называет качественное отставание в стратегическом планировании, в военной мысли, в военной организации и управлении. Все это явилось закономерным следствием планомерного изгнания научной мысли, военной науки и созидательной теоретической работы вообще из армии. Любая мысль, любое аналитическое исследование невозможно без свободы мысли, на что (как на любой вид свободы) Николай I смотрел с недоверием («мне не нужно умных, а нужно послушных», – повторял он на все лады [4.T.I, c.63]). В армии же, может быть, за исключением Черноморского флота, далекого от «забот» «деспота Зимнего дворца», ум, свободная мысль, инициатива стали считаться и подозрительными, и опасными. Президент Военной академии, цитадели военной мысли, так поучал профессоров и учащихся (безусловно, с полного одобрения монарха): «Я, господа, собрал вас, чтобы говорить с вами о самом неприятном случае. Я замечаю, в вас нисколько нет военной дисципл и н ы . Н а ук а в в о е н н о м д е л е н е б о л е е , к а к п уг о вица к мундиру; мундир без пуговицы нельзя надеть, но пуговица не составляет всего мундира». Он всеми мерами старался отвратить офицеров Академии от ошибочной мысли, будто наука военному человеку на что-либо нужна, и в приказе его по Военной академии от 14 февраля 1847 г. мы читаем: «Не лишним считаю здесь повторить еще то, что я говорил уже несколько раз при сборе офицеров в Академии, б е з н а ук и п о б е ж д а т ь в о з м о ж н о , н о б е з д и с ц и плины – никогда» (совершенно противоположным образом относился к совершенствованию ума Нахимов: «он ворчал на наших моряков, которые выходят из морского корпуса недоучками, забрасывают книги») [4.T.I, c.65,375]. Клаузевиц, труд которого [2] опубликован задолго до этих «художеств» (1832 г.), разъясняет ясно и четко: теория для военачальника – это рожденная всей многовековой военной практикой «точка опоры в виде свода принципов и правил или даже системы», она – исследование, не руководство, ее задача «показать, как и почему действовал гений» [2.T.I, c.135,147,139]. «Мы хотим… рассеять заблуждения, будто на войне можно достигнуть выдающихся успехов без умственных способностей, одной храбростью», – утверждает Клаузевиц (стр.99). Впрочем, об этом мы уже говорили, рассматривая трагическую практику. «Бонапарт был совершенно прав, когда говорил, что многие вопросы, стоящие перед полководцем, являются математической задачей, достойной Ньютона и Эйлера», – резюмирует он (стр.100). Откуда взяться хорошим полководцам без хорошей военной академии? Так что, дефицит умов и профессиональных качеств среди высших командиров русской армии не случаен. К несчастью, все цели и задачи армии ставились самим Николаем. Изначальные стратегические цели оказались ошибочными, неудивительно поэтому, что военная инициатива была быстро потеряна. Мы опаздывали (о чем пишет Богданович), прежде всего, по этой причине и, лишь вовторых, по причине недостатка военных талантов командующих. Отметим, инициативе Наполеон придавал первостепенное значение, «Начинай поход обдуманно, но, начав, до самой последней крайности борись за то, чтобы инициатива действий осталась за тобой» [25, с.385]. Ничуть не меньшее значение имеет тактическая инициатива командиров всех уровней непосредственно в бою. «Есть в сражениях мгновение, когда малейший маневр решает дело и дает превосходство, как капля воды, переполняющая сосуд» [26, с.15]. «Инициатива в общем ведении войны, в 25 выборе места и времени битвы должна оставаться в руках главнокомандующего. Но, давая маршалам до сих пор восхищающие специалистов своей ясностью приказы перед началом боя, Наполеон никогда не стеснял их детальными мелочными указаниями. Он приказывал маршалам стремиться к выполнению такой-то задачи на таком-то участке и указывал, для какой общей стратегической цели должна служить эта реализация, а уж как маршал осуществит эту цель – это дело его разумения» [25, с.385–86]. Все не так было в николаевской армии; в довершение ко всему, развивая порочную практику кампании 1828 года, царь продолжал попытки до мелочей руководить армией из Петербурга, «в описываемую эпоху, более чем когда-либо, Николай принимал на себя лично инициативу всех военных распоряжений… которые только связывали руки начальников и затрудняли их, тем более что при тогдашних средствах связи повеления государя доходили поздно до отдаленных местностей, когда по изменившимся обстоятельствам полученные высочайшие указания оказывались уже совершенно несвоевременными», – пишет Д.А.Милютин [4.T.II, c.268]. «Война – область недостоверного», при этом в военные действия постоянно вмешивается случайность, только сплав ума, мужества и энергии (инициативы) способен решить сложнейшие задачи, стоящие перед командиром в ходе военных действий [2.T.I, c.76–79]. Инициатива, рожденная одной лишь храбростью, это – инициатива случая, преодолеть случайность без ума невозможно. Нет мысли – нет истинной инициативы. Каждый командир должен самостоятельно решать проблемы, неизбежно возникающие в ходе военных действий в границах своих обязанностей и полномочий. «Каждая ступень командования на войне образует свой собственный цикл необходимых умственных способностей, славы и чести. Громадная пропасть отделяет полководца, руководящего всей войной или действиями на отдельном театре войны, от непосредственно ему подчиненных…» [2.T.I, c.98]. Чем выше должность, тем больше ума в сравнении с доблестью она требует. Все исследователи отмечают отличные качества нижних чинов армии, сражавшейся в Крыму, – увы, слишком многие старшие офицеры составляли полную им противоположность. Даже верноподданный и богобоязненный ген. Д.Е.Остен-Сакен, занимавший должность начальника севастопольского гарнизона, писал: «Генералы наши, исключая единицы, не соответствуют офицерам и солдатам» [4.T.II, c.266]. Вот неизбежные плоды николаевской системы. Недостатки, проявившиеся уже в кампании 1828–29 гг. – слабая боевая и техническая подготовка и негодное управление войсками к 1853 г. были развиты и дополнены. О руководстве и управлении мы уже говорили. «Техническая оснащенность неприятеля значительно превосходила нашу – это сказывалось на каждом шагу» [4.T.II, c.271]. Положение с артиллерией было еще более или менее сносным. Конечно, крупных мортир было недостаточно, очень эффективных и дальнобойных зажигательных ракет у нас не было [4.T.II, c.488,271–72]. Тем не менее, артиллерия с оговорками, но справлялась со своими задачами, оказывая достойный отпор и сухопутной, и морской артиллерии противника. Неоценимую помощь в этом ей оказывало изумительное инженерное искусство Тотлебена. Ужасающей была нехватка пороха и снарядов вследствие беспорядка, плохого снабжения и воровства; запас снарядов был в 3–4 раза меньше, чем у противника (это в среднем), но неоднократно случалось, что стрелять было просто нечем. Вроде бы, Николай занимался армией и ее нуждами почти ежедневно и безусловно добросовестно, но руководил делом так, что и в технических компонентах – стрелковом вооружении и снабжении боеприпасами положение стало абсолютно нетерпимым. Положение со стрелковым оружием было особенно скверным: нарезных ружей (стандартных для союзных войск), значительно превосходящих во всем наши гладкоствольные, в русской армии было очень мало. Их закупали за границей (тульских штуцеров хватало только на 6 человек из роты)! Т.е. российская военная промышленность не производила необходимых вооружения и боеприпасов – это абсолютно недопустимо, поскольку при таком положении снабжение армии могло быть в любой момент прервано (что и происходило). Отставание в военной промышленности (о промышленности – в эпилоге) было непозволительным. Взгляду заинтересованного исследователя на военную промышленность России представляется, образно говоря, "20 фунтов пороха, копья и множество бердышей и секир времен Федора Иоанновича" [4.T.II, c.207]. Боевая подготовка – тот вид военной деятельности, в котором патологическое увлечение Николая I внешними формами в ущерб существу дела проявилось особенно ярко. Преуспев все больше 26 в блестящих парадах и смотрах «акробатства с носками и коленками солдат» (выражение Паскевича), для которых, в отличие от реальных военных маневров, не требовалось ни винтовок, ни тяжелых мортир, ни налаженного снабжения, ни военной мысли, «августейший повелитель» счел армию вполне готовой к военным действиям. А что было на самом деле? Об отношении к военной мысли уже говорилось. Результаты такого рода постановки военных наук в Военной академии сказались в Крымскую войну самым наглядным образом. Из Военной академии выпускались офицеры, не только не имевшие серьезных и сколько-нибудь точных представлений об истории военного искусства, но просто лишенные тех элементарнейших познаний в стратегии и тактике, без которых никакая мало-мальски полезная служба в штабе невозможна. Дезорганизация, невежественность и полная пассивность штабов производили прямо удручающее впечатление на всех сколько-нибудь вдумчивых наблюдателей. Качество и организация военных маневров были таковы, что положения дел не улучшали. Один из участников войны писал: «Не я один убедился в том; в последнюю войну большая часть офицеров генерального штаба были неопытны, и трудно даже поверить, что многие из них не умели вести аванпостных журналов и тем менее быть полезными при отдельных отрядах; а между тем офицеры эти получили образование в Академии и слушали курсы высшей тактики, стратегии и военной истории. У нас как-то не удаются эти специальности: их обратили в средство к достижению скорейшего повышения в чинах за поверхностные сведения» [4.T.II, c.248]. Оценка профессионала, ген.-лейт. М.И.Богдановича, безусловно лояльного человека, характеризует другие виды боевой и военной подготовки [20.T.I, c.92–93]: В 1853 году, Россия не была готова к войне, несмотря на громадные цифры воинских чинов, числившихся по спискам нашей армии. На провиантском довольствии состояло более миллиона нижних чинов и на фуражном – более двухсот тысяч лошадей; но разница между списочною и боевою силою была огромна; припомним только, что в рядах русского воинства находился многочисленный, но почти совершенно неспособный к бою, корпус внутренней стражи. Известно также, как тогда была неудовлетворительна у нас система резервов. Вооружение нашей армии было весьма недостаточно: в то время, когда значительная часть пехоты иностранных армии уже имела нарезные ружья и вся пехота их была вооружена ударным ружьем, у нас в некоторых частях войск все еще существовали кремневые ружья. Обучение пехоты ограничивалось чистотою и изяществом ружейных приемов, точностью пальбы залпами; кавалерия была парализована столь же красивою, сколько и неловкою посадкою; артиллерия отличалась более быстротою движений, нежели меткостью выстрелов. Манёвры, производимые в мирное время, были эффектны, но малопоучительны. Продовольствие нижних чинов было весьма скудно и зависело от большего или меньшего довольства местных жителей, у которых доводилось стоять войскам. Имея в изобилии главную из составных частей пороха, селитру, мы, вступив в борьбу с коалицией Европы, терпели крайний недостаток в порохе. При тогдашнем несовершенстве наших военных сил и способов, и вообще всей нашей военной системы, нам были необходимы военные люди, которые могли бы вознаградить эти невыгоды своими способностями и боевою опытностью. Но взяться им было неоткуда, за исключением отдельных гениев self-made. Итак, долг политика, избравшего военные средства, использовать «изобретения искусств и открытия наук, чтобы противостоять противнику» (Клаузевиц) Николаем I исполнен не был. О неготовности к войне пишут и участники сражений. Так например, П.Алабин в походных записках с дунайской кампании отмечает негодные: вооружение, боевую подготовку, обмундирование, снабжение порохом и провиантом и, задавая вопрос «Готовы ли мы к войне?», отвечает кратко: «По совести говоря: нет, далеко не готовы!..» [4.T.II, c.282–283]. Медицинские службы (уже традиционно, еще Суворов писал: «Берегись богадельни!» [21, c.176]) находились в ужасном состоянии, от госпитальных неустройств и безобразий гибло больше, чем от боевых действий (А если спросит кто-нибудь…// Ну, кто бы ни спросил,// Скажи им, что навылет в грудь// Я пулей ранен был,// Что умер честно, за царя,// Что плохи наши лекаря…). Лишь деятельность Н.И.Пирогова привела к серьезным улучшениям. Кстати, неудовлетворительным состояние медицинских служб было не только в русской армии. Продовольствием армия снабжалась даже хуже, чем боеприпасами. К крымскому театру боевых действий вели только две дороги, которые большую часть времени были непроходимы. Таким образом, мы de facto не могли снабжать собственную армию на собственной территории! – о чем думали государь-император и военное министерство?! Парадокс, – «кто мог прежде поверить, чтоб легче было подвозить запасы в Крым из Лондона, чем нам из-под боку?» [4.T.II, c.205]. Отметим, в 27 своем разговоре с Канробером в 1865 г. Александр II назвал бездорожье и вследствие того неудовлетворительное снабжение армии главной причиной проигрыша войны; также и он высказал эту удивительную оценку, будто союзникам было значительно легче снабжать армию. К этому добавлялось тотальное воровство. Воровали всё, не только порох, строительные материалы для фортификационных работ, ассигнования на боеприпасы… воровали миллионами. Тарле приводит множество фактов фантастического воровства, так, среди случаев, изложенных в [4.T.II, c.244–46], приводится вполне современный механизм воровства, называемый нынче «откатом». Кн. А.П.Щербатов (консерватор и монархист, отнюдь не критик-революционер) пишет, что запасы хлеба, сена, овса, рабочий скот, лошади, телеги, все, что могло дать население, было направлено на бумаге к услугам армии, а на деле было разворовано до такой степени, что армия терпела постоянный недостаток в продовольствии, кавалерия, парки не могли двигаться. «К этим результатам привела вся система тогдашнего режима» [4.T.II, c.246]. Беспорядок во всей организации военного дела, скрытый внешним беспрекословным повиновением, имитировавшим порядок, доходил до дезорганизации, хаоса. Когда через несколько лет после окончания Крымской войны уже находившийся в отставке В.А.Долгорукий был принят как частное лицо Наполеоном III в Биаррице и искренне рассказал ему обо всем, что творилось, французский император в волнении вскочил и воскликнул, что, зная это, он бы «повесил Сент-Арно» (за то, что тот не добился немедленной и решительной победы) [4.T.II, c.246]. Скрытый внешним порядком и благоустройством, беспорядок царил не только в военной сфере – «все отрасли администрации плохо организованы» (см. оценку императрицы Марии Александровны). Да и странно, если бы дело обстояло иначе, ведь военная сфера была областью наибольшего благоприятствования и внимания Николая I. Увы, подводя итог, нельзя не признать: исход войны закономерен. Война была проиграна. Литература 20. Богданович М.И. Восточная война 1853–56 гг. В 4 тт. СПб. 1877. 21. Дубровин Н.Ф. История Крымской войны и обороны Севастополя. В 3 тт. СПб. 1900. 22. Bazancourt C.L. L’expédition de Crimée. Paris. 1856–1861. 23. Kinglake A.W. The invasion of the Crimea. I–XIII. Lpz. 1863–1868–1875–1889. 24. Русская старина. Письмо кн. И.Ф.Паскевича. Ноябрь 1883. Кн.1. С.369–80. 25. Тарле Е.В. Наполеон. М. 1941. 26. Бонапарт Н. Императорские максимы. М. 2003. 27. Осипов К. Александр Васильевич Суворов. М. 1950. 28