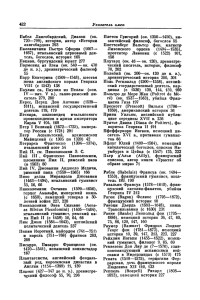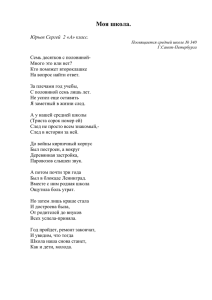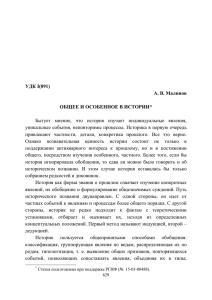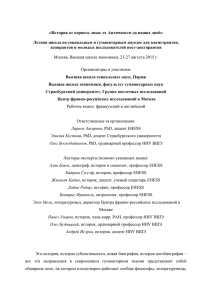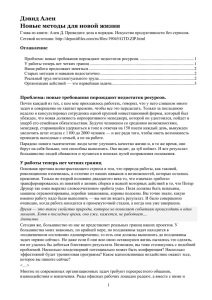МЕЖДУ ГЛОБАЛЬНОЙ ИСТОРИЕЙ И ЗАБВЕНИЕМ: ИСТОРИЯ
реклама
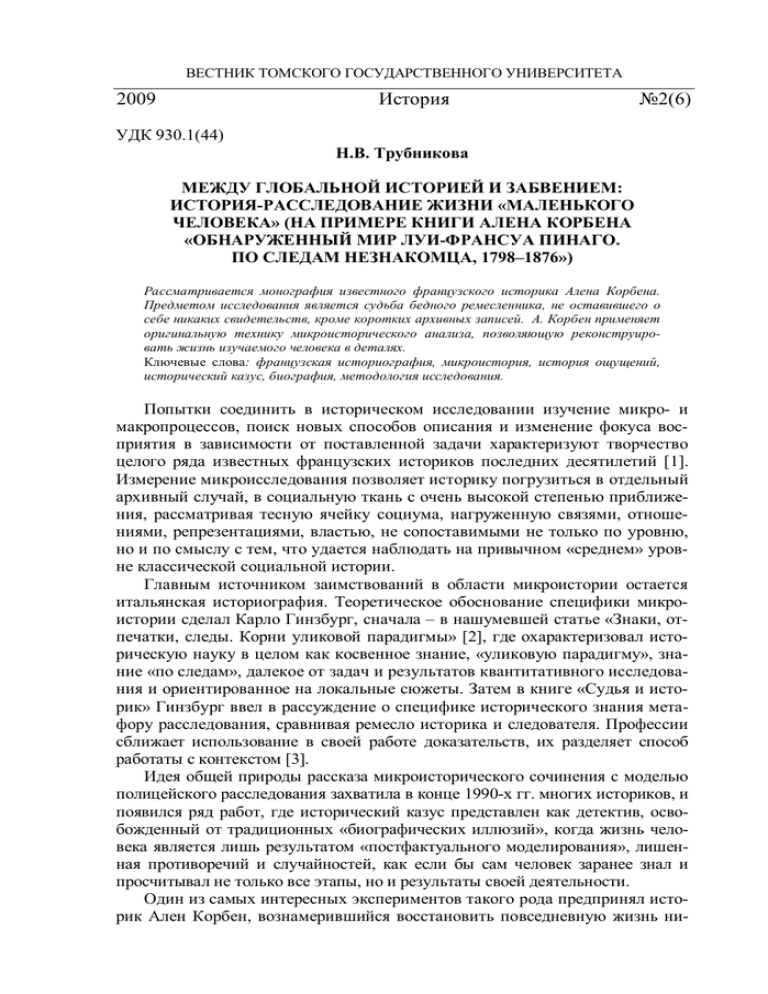
ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2009 История №2(6) УДК 930.1(44) Н.В. Трубникова МЕЖДУ ГЛОБАЛЬНОЙ ИСТОРИЕЙ И ЗАБВЕНИЕМ: ИСТОРИЯ-РАССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНИ «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА» (НА ПРИМЕРЕ КНИГИ АЛЕНА КОРБЕНА «ОБНАРУЖЕННЫЙ МИР ЛУИ-ФРАНСУА ПИНАГО. ПО СЛЕДАМ НЕЗНАКОМЦА, 1798–1876») Рассматривается монография известного французского историка Алена Корбена. Предметом исследования является судьба бедного ремесленника, не оставившего о себе никаких свидетельств, кроме коротких архивных записей. А. Корбен применяет оригинальную технику микроисторического анализа, позволяющую реконструировать жизнь изучаемого человека в деталях. Ключевые слова: французская историография, микроистория, история ощущений, исторический казус, биография, методология исследования. Попытки соединить в историческом исследовании изучение микро- и макропроцессов, поиск новых способов описания и изменение фокуса восприятия в зависимости от поставленной задачи характеризуют творчество целого ряда известных французских историков последних десятилетий [1]. Измерение микроисследования позволяет историку погрузиться в отдельный архивный случай, в социальную ткань с очень высокой степенью приближения, рассматривая тесную ячейку социума, нагруженную связями, отношениями, репрезентациями, властью, не сопоставимыми не только по уровню, но и по смыслу с тем, что удается наблюдать на привычном «среднем» уровне классической социальной истории. Главным источником заимствований в области микроистории остается итальянская историография. Теоретическое обоснование специфики микроистории сделал Карло Гинзбург, сначала – в нашумевшей статье «Знаки, отпечатки, следы. Корни уликовой парадигмы» [2], где охарактеризовал историческую науку в целом как косвенное знание, «уликовую парадигму», знание «по следам», далекое от задач и результатов квантитативного исследования и ориентированное на локальные сюжеты. Затем в книге «Судья и историк» Гинзбург ввел в рассуждение о специфике исторического знания метафору расследования, сравнивая ремесло историка и следователя. Профессии сближает использование в своей работе доказательств, их разделяет способ работаты с контекстом [3]. Идея общей природы рассказа микроисторического сочинения с моделью полицейского расследования захватила в конце 1990-х гг. многих историков, и появился ряд работ, где исторический казус представлен как детектив, освобожденный от традиционных «биографических иллюзий», когда жизнь человека является лишь результатом «постфактуального моделирования», лишенная противоречий и случайностей, как если бы сам человек заранее знал и просчитывал не только все этапы, но и результаты своей деятельности. Один из самых интересных экспериментов такого рода предпринял историк Ален Корбен, вознамерившийся восстановить повседневную жизнь ни- 64 Н.В. Трубникова чем не примечательного незнакомца, жившего в XIX в. Детективным стал сам выбор объекта исследования. Корбен отправился в архивы Орна (родина автора), где, не размышляя, взял один из томов муниципальных архивов, случайно выбрал местечко Ориньи-ле-Бутен и в таблицах актов гражданского состояния, зажмурившись, наугад выбрал два имени – Жан Курапьед и Луи-Франсуа Пинаго. Первый из них умер слишком молодым, что лишало игру всякого исторического интереса, и потому предметом исследования стал последний [4. С. 11–12]. Таким легкомысленным образом ничем не примечательный сын извозчика, бедный мастер-башмачник, родившийся 31 января 1876 г., не умевший читать, тихо проживший всю жизнь в южной кромке леса Белем, стал объектом исторического изыскания. Ален Корбен – ученый, имеющий «сорок лет практики в департаментских архивах» [4. С. 12], скрупулезно собрал о своем герое максимум возможной информации. Так, были выявлены: даты его рождения, бракосочетания и смерти, даты рождения и крещения его детей и внуков, степень образованности почти каждого из них, их браки, их последовательные места проживания, вся совокупность его многочисленной родни, его профессия, профессии его отца и тестя, их скудные ресурсы и условия жизни, и даже единственный момент везения, позволивший Пинаго избавиться от военной службы и жениться очень молодым, орудия труда и крестьянского быта, уплата налогов серебром и, главным образом, натуральными продуктами, склоки и преступления крестьянской среды и, наконец, общая ужасающая нищета. Отмеченные автором периоды этой нищеты (особенно острой – в 1828– 1832, 1839, 1846–1850 гг.) и реальная опасность голода почти каждую весну наполняют все главы книги, и историк отчасти сожалеет о сделанном им выборе: «Случай нам навязал выбор бедного мастера, делающего сабо (выполненные из цельного куска дерева деревянные башмаки. – Н.Т.), который жил всю свою жизнь в самом несчастливом регионе одного из наиболее обездоленных районов Франции. Я очень сожалею о таком выборе, так как я не прекратил разоблачать те опасности, которые связаны с воздействием представлений об аскетизме на историю XIX в.» [4. С. 225–226]. А. Корбен имеет в виду сложившееся клише историописания французского XIX в., прежде всего отмечающее, вслед за Виктором Гюго, бедственное положение большинства населения страны, что, как всякая закостеневшая схема, сковывает рамки исследования. Однако, восставая против сложившихся интерпретаций, Ален Корбен стремится воссоздать память о человеке, с одной стороны, невероятно далекого от судьбоносных событий, с другой стороны, являвшегося современником поистине эпохальных явлений и кризисов: Революции, смены политических режимов, экономических кризисов и подъемов, двух прусских вторжений 1815 и 1870–1871 гг. Луи-Франсуа Пинаго фактически был сверстником упомянутого выше великого писателя, который дал самое тонкое и детальное описание рассматриваемой эпохи. Для французской историографии характерно обращение к «великому немому» средневековой истории – неграмотному бедному человеку, живущему на задворках своего общества и не оставившего о себе никаких сообщений. Незнакомец Алена Корбена проживал в «цивилизованном» XIX в., однако и Между глобальной историей и забвением 65 в этом случае Луи-Франсуа Пинаго стал для читателя некой «мертвой точкой» картины, через которую, глазами отсутствующего на экране персонажа, подобно кинозрителю, читатель должен ощущать происходящее на исторической сцене. Корбен попытался максимально подробным образом восстановить пространственный и временный горизонт жизни своего героя, его семейные и дружеские отношения, его верования, его радости, боль, беспокойство, гнев и мечты [4. С. 12–13]. Не зная о своем герое ничего, кроме скупых строчек актов гражданского состояния, Ален Корбен стремился компенсировать его немоту теми звуками простой крестьянской жизни, которые тот не мог не слышать. Так появляется скрупулезное описание звуков сабо, шума топора дровосека и бряцанья упряжи лошадей, скрипа колес телеги, смертоносных стычек в драке, случайных приветствий на дороге или заставе, на вырубке леса или деревенских посиделках… Подобного рода исследовательские приемы в творчестве историка совершенно неслучайны. Ален Корбен стал первооткрывателем «истории ощущений», которую он блестяще иллюстрировал книгами по истории запахов и звуков, эмоций и сексуальности, существенно обновив горизонты истории ментальностей, опирающейся в основном на литературные источники. Историк постулировал оригинальную мысль, согласно которой язык человеческого тела, его чувственных и физиологических реакций, его влечений и отторжений, его привычек, его профессиональных жестов, имеет свой выход в сферу ментальностей, а значит, может послужить основой для своеобразной и неповторимой – в случае с книгами Алена Корбена – исторической интерпретации. Характеризуя Луи-Франсуа Пинаго, автор обращает, в частности, внимание на то, что этот человек профессионально владел большим количеством острых, пронизывающих, расчищающих инструментов, имеющих самые разнообразные формы – прямые, заостренные, загнутые. Учитывая постоянный и неизбежный риск порезаться, вероятно, он приобрел навык терпеливо переносить боль. Профессия дала ему мастерство целой серии жестов, которые, без сомнения, управляли его повседневной жизнью, – силу руки, точность удара, верность глаза. Деревянные башмаки сабо, дававшие Пинаго средства к существованию, были обязательным элементом крестьянского быта, и у башмачника, должна была, по мнению автора, присутствовать некая интуитивная хватка и цепкость существования в этом мире [4. С. 118– 119]. Почти на десяти страницах Ален Корбен развивает этот странный и тонкий анализ, своего рода антропологию крестьянского образа жизни, такого, каким его определяет употребление, изготовление, реализация и экономика в целом деревянного башмака. Не имея никаких дискурсивных посланий ни самого Луи-Франсуа Пинаго, ни его односельчан, Ален Корбен привлекает дневниковые записи юной аристократки Мари де Семалле, проживавшей неподалеку, которая описывает день за днем события осени и зимы 1870–1871 гг., разворачивавшиеся в нескольких километрах от интересующего автора местечка Ориньи-леБутен. Большая часть впечатлений девушки, естественно, связана с наступлением прусских войск, однако эта летопись позволяет оценить множество микрособытий, тысячу увиденных ею вещей и собранных слухов, которые, 66 Н.В. Трубникова со своей стороны, должен был ощутить или испытать уже пожилой ЛуиФрансуа Пинаго [4. С. 211]. Историк Ален Корбен постоянно провоцирует своего читателя оценивать самому, представлять и догадываться, поддерживая воображение в постоянном тонусе, слышать язык неграмотного, погружаться в его устную речь, насыщенную диалектом (до сих пор ясно звучащим) французского Запада. Историк часто опирается на метафору кинофильма, делая все для того, чтобы читатель мог живо представить его героев. Замысел автора, двигаясь по пути от внешнего мира к внутреннему, выходит на переломный момент психологического роста, произошедший в сознании его незамысловатого героя. В пору июльской монархии Пинаго, все общественные обязательства которого ранее сводились к статусу доброго прихожанина церкви, становится избирателем и в следующие десятилетия неоднократно голосует, участвуя в политических буднях своей страны. И, наконец, в петиции, помеченной в мэрии датой 5 мая 1872 г., историк находит крест на месте его подписи. «…Он сам записал на регистре единственный рукописный след и единственный индивидуальный след, который у нас есть: речь идет о простом и неловком кресте, который не походит точно на другие; то, что доказывает, что каждый из неграмотных просителей сам нарисовал свой. Я испытал волнение, когда, после месяцев исследований и интимности с неуловимым деятелем Луи-Франсуа, я обнаружил этот след и попытался восстановить жест, который его записал на бумагу; рукописный след человека в возрасте семидесяти четырех лет, который, возможно, был вынужден в первый раз взяться за ручку…» [4. С. 287]. Трудная биография Луи-Франсуа Пинаго заканчивается четырьмя годами позже, не оставив, кроме многочисленного потомства, индивидуального следа в истории Франции. По замыслу автора, судьба этого героя, восстановленная в воображении читателя, ведет от Старого режима к современности, от христианства к гражданственности, от материального неблагополучия к относительному достатку более поздней эпохи. Погружаясь в описание слепой и немой фигуры Луи-Франсуа Пинаго, историк намеревался заострить сознание современных французов на эпохальном моменте истории Франции. Ведь самые серьезные социальные сдвиги должны оставлять свой след на любом индивиде, и тем ценнее для потомков и историков становится анонимная жизнь Луи-Франсуа Пинаго, обретая новое существование и новое человеческое достоинство. Литература 1. Revel J. (dir.) Jeux d’echelles. La micro-analyse à l’expérience. P., 1996. 2. Ginzbourg C. Signes, traces, pistes: racines d’un paradime de l’indice // Ginzsbourg P. Mythes, emblèmes, traces: morphologie et histoire. P., 1989. 3. Ginzburg C. Le Juge et l’Historien. Considérations en marge du procès Sofri. P., 1997. 4. Corbin A. Le Monde retrouvé de Louis-François Pinagot. Sur les traces d’un inconnu, 1798– 1876. P., 1998.