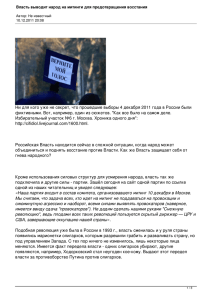Московский автомобильно-дорожный государственный
реклама

МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)
М.Г. ШТРАКС, Н.Н. ФЕДОРОВА
СТОЛПЫ ФИЛОСОФИИ
И ПОЛИТОЛОГИИ
Часть 3
МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МАДИ)
М.Г. ШТРАКС, Н.Н. ФЕДОРОВА
СТОЛПЫ ФИЛОСОФИИ
И ПОЛИТОЛОГИИ
Часть 3
Утверждено
в качестве учебного пособия
редсоветом МАДИ
МОСКВА
МАДИ
2014
УДК 1(07)
ББК 87.3Я7
Ш93
Рецензенты:
д-р политол. наук, проф., зав. кафедрой «Политология и право»
МГУП Залысин И.Ю.;
доц. кафедры «Философия», зав. секцией философии
МАДИ Зубков В.П.;
доц. кафедры «Философия» МАДИ Скоблик А.И.
Штракс, М.Г.
Ш93
Столпы философии и политологии. В 3 ч. Ч. 3: учеб. пособие / М.Г. Штракс, Н.Н. Федорова. – М.: МАДИ, 2014. – 152 с.
В пособии дана краткая характеристика различных философских
и правовых учений только в России с середины XVII века до второй
половины XX века и представлены фрагменты произведений таких
мыслителей, как Ю. Крижанич, А. Радищев, П. Чаадаев, К. Аксаков,
Н. Муравьев, П. Пестель, А. Герцен, Н.Я. Данилевский, К.П. Победоносцев, Б.Чичерин, П.И. Новгородцев, П.А. Кропоткин, В.С. Соловьев,
М.А. Бакунин, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, И.А. Ильин, позволяющие
понять их философско-политические воззрения. Изучение трудов русской политической классики позволит студентам глубже познать проблемы власти, государства, политической культуры, собственно философии и политологии в ее различных проявлениях.
Данное издание предназначено, в первую очередь, для студентов, изучающих основной курс философии и политологии, а также для
аспирантов, сдающих кандидатские экзамены по курсу «Философия»,
и магистрантов. Оно может представлять интерес для педагогов и
широкого круга читателей.
В подборе текстов, составлении библиографических справок участвовали преподаватели кафедры философии МАДИ.
УДК 1(07)
ББК 87.3Я7
© МАДИ, 2014
3
Глава VIII. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ
(КОНЕЦ XVII–НАЧАЛО ХIХ ВВ.)
Русская политическая мысль богата по своему содержанию и имеет
многолетнюю историю развития. Возникнув вместе с формированием древнерусского государства в IX в., она прошла длительную эволюцию. На процесс развития политических идей в России оказали существенное влияние
политические учения мыслителей Запада и Востока. Однако самобытность
российской политической мысли обусловлена ее исключительной ролью в
развитии православия. Именно православие сформировало политическое
мировосприятие, свойственное только российскому обществу. Так, государство рассматривалось не только как единственный гарант общего блага, но
и как высокое нравственное начало, олицетворяющее идеалы справедливости, благочестия и истины. По своей природе государство не трактовалось как общественный договор, что было свойственно западным авторам,
а понималось как государство-вотчина. Сам государь являлся «помазанником Божьим». Однако, будучи богоизбранным, царь ответственен перед
своими подданными. Он не должен допускать нарушения законов, быть милосердным к обездоленным. В связи с тем, что исторически государство на
Руси играло определенную роль в жизни индивида и общества, политическая мысль обосновывала необходимость его существования лишь в форме абсолютной монархии. Влияние идеи французского Просвещения сформулировало внутри политической мысли России три направления: радикальное (оно было представлено сторонниками революционного свержения монархии – революционерами-демократами, анархистами, большевиками), либеральное (их называли «западниками» за их стремление перенести в Россию либеральные ценности свободы, частной собственности);
консервативное (их называли «славянофилами», поскольку они отстаивали самобытный путь развития России, противодействовали проникновению
в страну западных ценностей).
КРИЖАНИЧ ЮРИЙ (1618–1683 гг.)
Юрий Крижанич родился в Хорватии. Получил блестящее богословское и светское образование. Для осуществления своей мечты о едином
славянском государстве с единой униатской1 церковью под эгидой русского
царя в 1659 г. он поступает на службу к Алексею Михайловичу. Однако
спустя два года по клеветническому доносу был сослан в Сибирь.
В Тобольске в 1663 г. он написал трактат «Политика», в котором обосновал необходимость проведения назревших политических и экономических
реформ в России. Особое внимание Ю. Крижанич уделял выявлению природы государства, его целей и функций. Он исходил из идеи божественного характера власти правителя: «Король подобен некоему Богу на земле».
Заметное влияние на политические идеи Ю. Крижанича оказала античная политическая мысль, особенно работы Платона и Аристотеля. Так, во
1
Униаты – последователи церковной унии (позднелат. unio – единство, объединение): объединение двух монархических государств под властью одного монарха.
4
главе государства он предпочитал видеть короля-философа, то есть человека, наделенного мудростью.
Править так, чтобы это было во благо тем, кем правят; осуществлять
всякие преобразования так, чтобы жизнь становилась «непременно счастливее», а народ богаче; искать свой путь и верить в счастливую звезду России, которую Господь не оставит без своих милостей, – вот к чему призывал
Юрий Крижанич российских правителей в этой удивительной книге, написанной более 300 лет тому назад.
Книга Крижанича – незаменимый источник сведений по истории нашей
Родины и по истории русской экономической мысли. К многочисленным советам Крижанича полезно прислушаться и современным политикам, чиновникам, руководителям предприятий, всем тем, от чьих решений зависят
судьбы русских людей, которые, конечно же, заслужили, чтобы ими правили
достойные люди.
ПОЛИТИКА42
ЧАСТЬ III. О МУДРОСТИ
1. Из всех мирских наук самая благородная наука и всем госпожа – это
политика или королевская мудрость. И из всех наук она наиболее пристойна королям и их советникам. Ибо подобно тому, как в теле человеческом
сила содержится в руках, быстрота в ногах, а разум в голове, так и в духовном теле всего народа разные свойства разделены между разными частями. Сила – у воинов, богатство – у торговцев, а государственная мудрость
пребывает более всего у короля и у его советников.
Раздел 3. О политической мудрости
2. Началом и основанием политической мудрости являются следующие две пословицы или духовные заповеди: «Познай самого себя» и «Не
верь чужестранцам...».
3. Первая помеха общему народному благу – это незнание самого себя: когда люди слишком любят самих себя и свои поступки и обычаи и считают себя сильными, богатыми (и) мудрыми, не будучи таковыми...
Познание истины и политическая мудрость с начала и до конца в том и
состоят, чтобы познать самих себя, то есть природу и нрав, и состояние народа и страны нашей.
4. Как политик познает самого себя.
Итак, королевский советник должен, прежде всего, познать природные
качества своего народа, то есть (его) природный нрав, таланты и недостатки, достоинства и пороки и все, к чему наши люди от рождения способны и
неспособны. Он должен оценить и сравнить, и сопоставить обличие, склад,
одежду, прав и богатство иных народов и нашего народа.
Во-вторых, познать природные условия нашей страны или богатства и
бедность наших людей: чем земля обильна, чем (она) бедна и чего лишена,
что могла бы и чего не может уродить.
В-третьих, познать наше житие: чем оно бедно, чем славно, а сравнив
его с житием других пародов и установив, в чем наше житие может считаться беднее, а в чем славнее жития соседних народов.
В-четвертых, познать силу и слабость нашу: в чем мы сильнее и чем
слабее того или иного народа.
5
В-пятых, познать отечественное правление или отечественные законы
и обычаи и древнее и нынешнее состояние народа: что в законах, в обычаях и стародавних государевых указах установлено хорошо и что – плохо.
<...> В-седьмых, познать способ использования своего богатства или
знать, как пользоваться своим добром, которое от природы дано богом народу и земле нашей и уметь сохранять его. То есть надо направлять умы и
руки подданных ко всему тому, на что они пригодны и способны и что может
быть полезным для народного блага. А землю возделывать так, чтобы мы
взяли от нее все плоды, какие она только может уродить.
Раздел 24. О различных сословиях людей
Сословия и разряды людей различны и складываются в соответствии с
различными обязанностями людей. Ведь никто не живет для себя, как говорит апостол, то есть никто не рожден для того, чтобы жить только для себя
и заботиться только о своих удовольствиях. Но каждый человек должен делать какое-нибудь дело, которое будет полезным также и для всех людей, и
зарабатывать себе на хлеб. А дело, которое кто-либо делает для блага и с
помощью которого зарабатывает или заслуживает свой хлеб, называется
«обязанностью».
Итак, с точки зрения различных обязанностей людей существуют три
сословия, а именно: церковники, благородное сословие, простой народ.
Обязанность церковников: молиться богу и заботиться о спасении душ.
Обязанность благородного сословия: объяснять волю царя остальным
сословиям и вершить правление.
Обязанность простого народа: выполнять трудную работу и прислуживать.
3. Духовное сословие разделяется на три разряда: епископы, священники, монахи. Благородное сословие разделяется на три разряда: князья,
должностные лица, военачальники.
Простонародное сословие разделяется на четыре разряда: люди на
жаловании, торговцы, ремесленники, земледельцы...
А глава над всеми разрядами – царь, и он же – божий наместник.
4. По поводу разделения благородного сословия следует знать, что к
разряду князей относят тех, кто помогает царю (участвуя) в совете и во
всем правлении. Должностными лицами считают тех, кто начальствует в
мирных делах и на мирных должностях. В разряд военачальников входят
те, кои начальствуют в ратных делах.
Во всех этих (разрядах) есть некоторые более высокие должности, которые не должны быть постоянными так, чтобы эту должность не занимал
кто-нибудь в течение всей жизни, то следует чаще менять таких высоких
начальников и верховных вождей или полковников. Ибо, когда они обладают постоянной властью, им легче бывает предпринимать дела, противоречащие благим законам и древним обычаям.
<...> До сих пор мы рассматривали членов общества такими, какими они
должны быть, то есть благими и без изъянов: теперь рассмотрим их такими,
какими они обычно бывают, то есть когда хорошее смешано с дурным.
1. Как человеческое тело складывается из своих членов – головы, рук;
ног и прочего, так же и духовное или воображаемое тело государства имеет
6
свои члены, которые можно разделить на три вида, а именно: члены охраняющие, охраняемые и больные или нездоровые.
Охраняющие члены – те, кои добывают и оберегают все вещи, потребные для житья. Охраняемые члены – те, кои по разным причинам нужны
охраняющим. Больные или вредные члены – те, кои заражают государство
своими пороками и поедают его добро. А голова всему – король.
2. Крестьяне, ремесленники и торговцы (для общего блага) добывают
все то, чем пользуются и чем кормятся и живут все подданные. И зовутся
они «чернью» или «черняками» и тяглыми людьми.
А властители, бояре и воины вершат суд, ведут войны, берегут общий
покой, здоровье, жизнь и всякое благоприобретенное добро всех подданных
от домашних разбойников, воров, насильников и злодеев и защищают от
внешних врагов. Поэтому-то эти сословия являются сохраняющими членами.
Охраняемые члены нужны по необходимости, ибо без них люди не могут жить. Церковники, епископы и попы дают людям духовную пищу, свет и
учение. Иноки и инокини молят бога за грехи всего народа. Убогих людей,
то есть слепых, хромых, нищих, мы должны беречь из любви и по божьей
заповеди.
Мастерами ученых дел называют тех, кто занимается мудреными делами, кои для жизни того или иного человека в отдельности не кажутся
очень полезными, но для всего народа в целом очень нужны. Таковы ликописцы, кои пишут образа, литейщики, кои отливают колокола и пушки, инженеры – создают мудреные ратные орудия, грамматики – учат языку и
письму (и) составляют словари, историки – пишут летописи, математики –
обучают искусству счета, астрономы – вычисляют течение звезд и времени,
философы – рассуждают о нравственном учении и о политике или о государственных делах.
<...> Больные члены – это, во-первых, те, кои причиняют народу зло,
как-то еретики, волхвы, чужеземцы, воры, разбойники; во-вторых, те, кои не
приносят народу пользы, как-то бездельники – игроки или голодранцы,
праздные дворяне, как у немцев, лихоимцы, перекупщики и всякие торговцы, заботящиеся лишь о торговле. Того, кто не служит общенародному благу земледелием, ремеслом, в войске, в должности, следует считать бездельником и полезным (лишь) одному себе. Поэтому надо отнять у бездельников право заниматься торговлей и дать его только тем, кто полезен
обществу, чтобы они могли получать доход и владеть (им). А когда торговцы будут торговать, то пусть начинают, что торгуют лишь по чистой милости
и снисхождению короля, и все, что добудут, (должны) добывать для короля
и парода.
Черные люди (то есть земледельцы, ремесленники и торговцы) доставляют вещи, потребные для жизни. И поэтому, где больше развивается
земледелие, ремесло и торговля, там больше умножается население.
Раздел 26. О призвании короля, о королевской власти и о тирании
<...> 11. Королевская честь выше всякой иной чести под небесами. Поэтому король должен больше всех людей любить свою честь и дорожить
ею, и опасаться прослыть тираном. Ибо тиранство – это наибольший и наихудший позор для королей.
7
Причина в том, что самым позорным для каждого сословия и чина людей бывает тот грех, который больше всего противоречит обязанностям
этого сословия. То есть для воина самое позорное – трусливо укрываться
от битвы, для благородного боярина – солгать, для богача украсть, для
мужней жены – согрешить. Так же и для короля особый порок, приносящий
(ему) наибольший позор, это – тиранство, ибо оно равным образом противоречит его королевской обязанности: пасти народ и охранять (его) от волков. А тиран сам – волк. Долг короля – отводить от народа всякую беду, а
тот, кто поступает по-тирански, сам обижает народ.
12. Король не подвластен никаким людским законам, и никто не может
его ни судить, ни наказывать. Однако божьему закону и людскому суждению
(или общему мнению) он подвластен. Две узды, кои связывают короля и напоминают о его долге, это – правда и уважение или заповедь божья и стыд
перед людьми.
Тот же, кто не думает ни о страхе божьем, ни о стыде перед людьми,
ни о славе грядущих времен, – тот истинный и подлинный тиран. Суд и
казнь божья, людские проклятья и порицания и дурные слова в будущих веках всегда должны быть у короля перед глазами.
Раздел 27. Объяснение общего заблуждения богатых людей и
многих правителей относительно принадлежности вещей (и) безграничной власти
<...> 6. Некоторые короли и князья мнят себя окончательными и полновластными хозяевами своих владений и считают себя вправе взимать с
подданных бесконечные дани, возлагать на них всякие повинности и делать
с ними все, что им угодно. Но это величайшее заблуждение, и король должен рассуждать так:
Во-первых, не королевства созданы для королей, а короли для королевства. Бог даровал мне этих людей не для того, чтобы я их притеснял и
мучил, и давил, и делал с ними все по своей воле, а бог дал меня им в пастыри, чтобы я правил ими во благо.
Во-вторых, <...> по сравнению с прочими смертными людьми король –
истинный хозяин своего королевства, но по сравнению с богом король не
хозяин, а слуга божий. Бог – подлинный (и) истинный хозяин, а король – наместник и слуга его, поставленный над людьми, чтобы править и руководить ими, а не притеснять их жестоко.
В-третьих, раз бог требует от каждого человека ответа о его мнении и
владении и наказывает человека, если он тратил свое добро не разумно, а
в угоду своим прихотям <...>, то несомненно, что и у королей бог потребует
отчета (о том), как они правили народом.
<...> Король может наказать по заслугам лишением всего имущества и
даже смертью, если этого требует справедливость и ради острастки, лишь
тех людей, кои были защитниками преступления и виноваты больше всех.
Но он не может притеснять все королевство вечным тиранством.
Безграничная тиранская власть противна и природному закону, ибо
природа учит нас, что не королевства созданы для королей, а короли для
королевства. И мне нетрудно повторять эти слова множество раз, чтобы короли почаще об этом вспоминали.
8
РАДИЩЕВ А.Н. (1749–1802 гг.)
Радищев Александр Николаевич – русский писатель, родоначальник
революционной мысли в России, материалист. На формирование его
взглядов существенное влияние оказали политические и социологические
идеи Руссо, Гельвеция, Мабли, Дидро, Г. Рейналя, Т. Пейна. – В примечании к своему переводу книги Мабли «Размышления о греческой истории»
(1773) Радищев осуждал самодержавие как «наипротивнейшее человеческому естеству состояние». В «Письме к другу, жительствующему в Тобольске» (1782), утверждал, что цари никогда не поступались и не поступятся
своей властью ради «вольности» народа. Ода Радищева «Вольность»
(1783) прославляла «великий пример» английской и американской революции – казнь Кромвелем короля и вооруженную борьбу американских колонистов за свободу. В соч. «Житие Ф.В. Ушакова» (1789) Радищев объявлял
залогом освобождения «страждущего общества» восстание доведенного до
«крайности» народа и проклинал тех, кто пытается «снять покров с очей
власти», т.е. облегчить участь народа путем обращения к монархам. Разработанная в этих произведении концепция получила всестороннее обоснование на материале русской жизни в главном сочинении Радищева – «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790). Здесь показана бесплодность
попыток помочь народу на путях либерального реформаторства, и выдвинута задача революционного просвещения народа как условия грядущей
народной революции. В основе политических идей Радищева – обобщение
важнейших событий XVII–XVIII вв.: победоносных буржуазных революций
Запада и краха политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II, показавшего (особенно наглядно после событий крестьянской войны 1773–75)
бесплодность надежд на «верхи». За издание «Путешествия» Радищев был
осужден на смертную казнь, замененную ссылкой в Сибирь (до 1797).
В конце жизни Радищев пережил разочарование в результатах французской революции. Разделяя идею круговорота «вольности» и «рабства»,
он истолковал якобинскую диктатуру как новый пример вырождения свободы в самовластье. Оказавшись свидетелем крушения того «корабля надежды», который нес народам «счастье и добродетель и вольность», и, видя
повторение показного либерализма Екатерины II в правлении Александра I,
покончил с собой. В целом эволюция общественно-политических взглядов
Радищева четко отразила характерный для последнего поколения просветителей и вождей французской революции стремительный взлет буржуазно-демократического радикализма и его последующий спад, связанный с
углублением классовых противоречий в ходе революции.
ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ43
<...> Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества
уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою – и узрел, что
бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он
взирает непрямо на окружающие его предметы.
СОФИЯ
Повсюду молчание. Погруженный в размышлениях, не приметил я, что
кибитка моя давно уже без лошадей стояла. Привезший меня извозчик извлек меня из задумчивости:
9
– Барин-батюшка, на водку! – Сбор сей, хотя не законный, но охотно
всякий его платит, дабы не ехать по указу. Двадцать копеек послужили мне
в пользу. Кто езжал на почте, тот знает, что подорожная есть сберегательное письмо, без которого всякому кошельку, генеральский, может быть, исключая, будет накладно. Вынув ее из кармана, я шел с нею, как ходят иногда для защиты своей со крестом.
Почтового комиссара нашел я храпящего; легонько взял его за плечо.
– <...> Что за манер выезжать из города ночью. Лошадей нет; очень
еще рано; взойди, пожалуй, в трактир, выпей чаю или усни. – Сказав сие,
г. комиссар отворотился к стене и паки захрапел.
<...> «Если лошади все в разгоне, – размышлял я, – то несправедливо,
что я мешаю комиссару спать. А если лошади в конюшне...» Я вознамерился узнать, правду ли г. комиссар говорил. Вышел на двор, сыскал конюшню
и нашел в оной лошадей до двадцати; хотя, правду сказать, кости у них были видны, но меня бы дотащили до следующего стана. Из конюшни я опять
возвратился к комиссару; потряс его гораздо покрепче.
<...> Лошади меня мчат; извозчик мой затянул песню, по обыкновению
заунывную.
Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в
них нечто, скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен
суть тону мягкого. На сем музыкальном расположении народного уха умей
учреждать бразды правления. В них найдешь образование души нашего
народа. Посмотри на русского человека; найдешь его задумчива. Если захочет разогнать скуку или, как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак.
ЛЮБАНИ
Зимою ли я ехал или летом, для вас, думаю, равно. Может быть, и зимою и летом. Нередко то бывает с путешественниками: поедут на санях, а
возвращаются на телегах. <...> Бревешками вымощенная дорога замучила
мои бока; я вылез из кибитки и пошел пешком.
В нескольких шагах от дороги увидел я пашущего ниву крестьянина.
Время было жаркое. <...> Сегодня праздник. Пашущий крестьянин принадлежит, конечно, помещику, который оброку с него не берет. Крестьянин пашет с великим тщанием. Нива, конечно, не господская. Соху поворачивает с
удивительною легкостию.
– Бог в помощь, – сказал я, подошед к пахарю, который, не останавливаясь, доканчивал зачатую борозду.
– Бог в помощь, – повторил я.
– Спасибо, барин, – говорил мне пахарь, отряхая сошник и перенося
соху на новую борозду.
– Ты, конечно, раскольник, что пашешь по воскресеньям?
– Нет, барин, я прямым крестом крещусь, – сказал он, показывая мне
сложенные три перста. – А бог милостив, с голоду умирать не велит, когда
есть силы и семья.
– Разве тебе во всю неделю нет времени работать, что ты и воскресенью не спускаешь, да еще и в самый жар?
10
– В неделе-то, барин, шесть дней, а мы шесть раз в неделю ходим на
барщину; да под вечером возим вставшее в лесу сено на господский двор,
коли погода хороша; а бабы и девки для прогулки ходят по праздникам в
лес по грибы да по ягоды. Дай бог, – крестяся, – чтоб под вечер сегодня дождик пошел. Барин, коли есть у тебя свои мужички, так они того же у господа молят.
– У меня, мой друг, мужиков нет, и для того никто меня не клянет. Велика ли у тебя семья?
– Три сына и три дочки. Первинькому-то десятый годок.
– Как же ты успеваешь доставать хлеб, коли только праздник имеешь
свободным?
– Не одни праздники, и ночь наша. Не ленись наш брат, то с голоду не
умрет. Видишь ли, одна лошадь отдыхает; а как эта устанет, возьмусь за
другую; дело-то и споро.
– Так ли ты работаешь на господина своего?
– Нет, барин, грешно бы было так же работать. У него на пашне сто рук
для одного рта, а у меня две для семи ртов, сам ты счет знаешь. Да хотя
растянись на барской работе, то спасибо не скажут. Барин подушных не заплатит; ни барана, ни холста, ни курицы, ни масла не уступит. То ли житье
нашему брату, как где барин оброк берет с крестьянина, да еще без приказчика. Правда, что иногда и добрые господа берут более трех рублей с души; но все лучше барщины. Ныне еще поверье заводится отдавать деревни, как то называется, на аренду. А мы называем это отдавать головой. Голый наемник дерет с мужиков кожу; даже лучшей поры нам не оставляет.
Зимою не пускает в извоз, ни в работу в город; все работай на него, для того, что он подушные платит за нас. Самая дьявольская выдумка отдавать
крестьян своих чужому в работу. На дурного приказчика хотя можно пожаловаться, а на наемника кому?
<...> Разговор сего земледельца возбудил во мне множество мыслей.
Первое представилось мне неравенство крестьянского состояния. Сравнил
я крестьян казенных с крестьянами помещичьими. Те и другие живут в деревнях; но одни платят известное, а другие должны быть готовы платить то,
что господин хочет. Одни судятся своими равными; а другие в законе мертвы, разве по делам уголовным. Член общества становится только тогда известен правительству, его охраняющему, когда нарушает союз общественный, когда становится злодей! Сия мысль всю кровь во мне воспалила.
– Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение.
Углубленный в сих размышлениях, я нечаянно обратил взор мой на
моего слугу, который, сидя на кибитке передо мной, качался из стороны в
сторону. Вдруг почувствовал я быстрый мраз, протекающий кровь мою, и,
прогоняя жар к вершинам, нудил его распростираться по лицу. Мне так стало во внутренности моей стыдно, что едва я не заплакал.
– Ты во гневе твоем, – говорил я сам себе, – устремляешься на гордого
господина, изнуряющего крестьянина своего на ниве своей; а сам не то же
ли или еще хуже того делаешь? Какое преступление сделал бедный твой
Петрушка, что ты ему воспрещаешь пользоваться усладителем наших бед-
11
ствий, величайшим даром природы несчастному – сном? Он получает плату, сыт, одет, никогда я его не секу ни плетьми, ни батожьем (о умеренный
человек!) – и ты думаешь, что кусок хлеба и лоскут сукна тебе дают право
поступать с подобным тебе существом как с кубарем, и тем ты только хвастаешь, что не часто подсекаешь его в его вертении. Ведаешь ли, что в
первенственном уложении, в сердце каждого написано? Если я кого ударю,
тот и меня ударить может. Вспомни тот день, когда Петрушка пьян был и не
поспел тебя одеть. Вспомни о его пощечине. О, если бы он тогда, хотя пьяный, опомнился и тебе отвечал бы соразмерно твоему вопросу!
– А кто тебе дал власть над ним?
– Закон.
– Закон? И ты смеешь поносить сие священное имя? Несчастный!.. –
Слезы потекли из глаз моих; и в таковом положении почтовые клячи дотащили меня до следующего стана.
СПАССКАЯ ПОЛЕСТЬ
<...> Лошади были уже впряжены; я уже ногу занес, чтобы влезть в кибитку; как вдруг дождь пошел. <...> С погодою не сладишь; по пословице:
тише едешь, дале будешь – вылез я из кибитки и убежал в первую избу. Хозяин уже ложился спать, и в избе было темно. Но я и в потемках выпросил
позволение обсушиться. Снял с себя мокрое платье и, что было посуше положив под голову, на лавке скоро заснул. Но постеля моя была не пуховая,
долго нежиться не позволила. Проснувшись, услышал я шепот. Два голоса
различить я мог, которые между собою разговаривали.
– Ну, муж, расскажи-тка, – говорил женский голос.
– Слушай, жена. Жил-был...
– И подлинно на сказку похоже; да как же сказке верить? – сказала жена вполголоса, зевая ото сна. – Поверю ли я, что были Полкан, Бова или
Соловей Разбойник.
– Да кто тебя толкает в шею, верь, коли хочешь. Но то правда, что в
старину силы телесные были в уважении и что силачи оные употребляли во
зло. Вот тебе Полкан. А о Соловье Разбойнике читай, мать моя, истолкователей русских древностей. Они тебе скажут, что он Соловьем назван красноречия своего ради. Не перебивай же моей речи. Итак, жил-был где-то государев наместник. В молодости своей таскался по чужим землям, выучился есть устерсы и был до них великий охотник. Пока деньжонок своих мало
было, то он от охоты своей воздерживался, едал по десятку, и то когда бывал в Петербурге. Как скоро полез в чины, то и число устерсов на столе его
начало прибавляться. А как попал в наместники и когда много стало у него
денег своих, много и казенных в распоряжении, тогда стал он как брюхатая
баба. Спит и видит, чтобы устерсы кушать. Как пора их приходит, то нет никому покою. Все подчиненные становятся учениками. Но во что бы то ни
стало, а устерсы есть будет.
В правление посылает приказ, чтобы наряжен был немедленно курьер,
которого он имеет в Петербург отправить с важными донесениями. Все
знают, что курьер поскачет за устерсами, но куда ни вертись, а прогоны выдавай. На казенные денежки дыр много.
Гонец, снабженный подорожною, прогонами, совсем готов, в куртке и
чикчерах явился пред его высокопревосходительство.
12
«Поспешай, мой друг, – вещает ему унизанный орденами, – поспешай,
возьми сей пакет, отдай его в Большой Морской».
«Добро пожаловать. Куды какой его высокопревосходительство затейник, из-за тысячи верст шлет за какою дрянью. Только барин добрый. Рад
ему служить. Вот устерсы, теперь лишь с биржи. Скажи, не меньше ста пятидесяти бочка, уступить нельзя, самим пришли дороги. Да мы с его милостию сочтемся».
Бочку взвалили в кибитку; поворотя оглобли, курьер уже опять скачет;
успел лишь зайти в кабак и выпить два крючка сивухи.
Тинь-тинь... Едва у городских ворот услышали звон почтового колокольчика, караульный офицер бежит уже к наместнику (то ли дело, как где
все в порядке) и рапортует ему, что вдали видна кибитка и слышен звон колокольчика. Не успел выговорить, как шасть курьер в двери.
«Привез, ваше высокопревосходительство».
«Очень кстати; (оборотясь к предстоящим): право, человек достойный,
исправен и не пьяница. Сколько уже лет по два раза в год ездит в Петербург; а в Москву сколько раз, упомнить не могу. Секретарь, пиши представление. – За многочисленные его в посылках труды и за точнейшее оных исправление удостоиваю его к повышению чином».
В расходной книге у казначея записано: по предложению его высокопревосходительства дано курьеру Н.Н., отправленному в С.-П. с наинужнейшими донесениями, прогонных денег в оба пути на три лошади из экстраординарной суммы... Книга казначейская пошла на ревизию, но устерсами не пахнет. – По представлению господина генерала и прочих приказали:
быть сержанту Н.Н. прапорщиком.
– Вот, жена, – говорил мужской голос, – как добиваются в чины, а что
мне прибыли, что я служу беспорочно, не подамся вперед ни на палец. По
указам велено за добропорядочную службу награждать. Но царь жалует, а
псарь не жалует. Так-то наш г. казначей; уже другой раз по его представлению меня отсылают в уголовную палату. Когда бы я с ним был заодно, то
бы было не житье, а масленица.
– И... полно, Клементьич, пустяки-то молоть. Знаешь ли, за что он тебя
не любит? За то, что ты промен берешь со всех, а с ним не делишься.
– Потише, Кузминична, потише; неравно кто подслушает. – Оба голоса
умолкли, и я опять заснул.
Поутру узнал я, что в одной избе со мною ночевал присяжный с женою,
которые до света отправились в Новгород.
Между тем как в моей повозке запрягали лошадей, приехала еще кибитка, тройкою запряженная. Из нее вышел человек, закутанный в большую
япанчу, и шляпа с распущенными полями, глубоко надетая, препятствовала
мне видеть его лицо. Он требовал лошадей без подорожной; и как многие
повозчики, окружив его, с ним торговались, то он, не дожидаясь конца их
торга, сказал одному из них с нетерпением:
– Запрягай поскорей, я дам по четыре копейки на версту.
Ямщик побежал за лошадьми. Другие, видя, что договариваться уже
было не о чем, все от него отошли.
Я находился от него не далее как в пяти саженях. Он, подошед ко мне
и, не снимая шляпы, сказал:
13
– Милостивый государь, снабдите чем ни есть человека несчастного.
Меня сие удивило чрезмерно, и я не мог вытерпеть, чтоб ему не сказать,
что я удивляюсь просьбе его о вспоможении, когда он не хотел торговаться
о прогонах и давал против других вдвое.
– Я вижу, – сказал он мне, – что в жизнь вашу поперечного вам ничего
не встречалося.
Столь твердый ответ мне понравился.
– Не осудите, – сказал, – более теперь вам служить не могу, но если
доедем до места, то, может быть, сделаю что-нибудь больше.
– Я вижу, – сказал он мне, – что вы имеете еще чувствительность, что
обращение света и снискание собственной пользы не затворили вход ее в
ваше сердце. Позвольте мне сесть на вашей повозке, а служителю вашему
прикажите сесть на моей.
Между тем лошади наши были впряжены, я исполнил его желание – и
мы едем.
– <...> Не более недели тому назад я был весел, в удовольствии, недостатка не чувствовал, был любим, или так казалося; ибо дом мой всякий
день был полон людьми <...> У меня был обед, и множество так называемых друзей, собравшись, насыщали праздный свой голод на мой счет.
Один из бывших тут, который внутренне меня не любил, начал говорить с
сидевшим подле него, хотя вполголоса, но довольно громко, чтобы говоренное жене моей и многим другим слышно было: «Неужели вы не знаете,
что дело нашего хозяина в уголовной палате уже решено».
– Вам покажется мудрено, – говорил сопутник мой, обращая ко мне
свое слово, – чтобы человек неслужащий и в положении, мною описанном,
мог подвергнуть себя суду уголовному. И я так думал долго, да и тогда, когда мое дело, прошед нижние суды, достигло до высшего. Вот в чем оно состояло: я был в купечестве записан; пуская капитал мой в обращение, стал
участником в частном откупу. Неосновательность моя причиною была, что я
доверил лживому человеку, который, лично попавшись в преступлении, был
от откупу отрешен, и по свидетельству будто его книг, сделался, повидимому, на нем большой начет. Он скрылся, я остался в лицах, и начет
положено взыскать с меня. Я, сделав выправки, сколько мог, нашел, что начету на мне или совсем бы не было, или бы был очень малый, и для того
просил, чтобы сделали расчет со мною, ибо я по нем был порукою. Но вместо того, чтобы сделать должное по моему прошению удовлетворение, велено недоимку взыскать с меня. Первое неправосудие. Но к сему присовокупили и другое. В то время как я сделался в откупу порукою, имения за
мною никакого не было, но по обыкновению послано было запрещение на
имение мое в гражданскую палату. Странная вещь – запрещать продавать
то, чего не существует в имении! После того купил я дом и другие сделал
приобретения. В то же самое время случай допустил меня перейти из купеческого звания в звание дворянское, получа чин. Наблюдая свою пользу, я
нашел случай продать дом на выгодных кондициях, совершив купчую в самой той же палате, где существовало запрещение. Сие поставлено мне в
преступление; ибо были люди, которых удовольствие помрачалось блаженством моего жития. Стряпчий казенных дел сделал на меня донос, что я,
14
избегая платежа казенной недоимки, дом продал, обманул гражданскую палату, назвавшись тем званием, в коем я был, а не тем, в котором находился
при покупке дома. Тщетно я говорил, что запрещение не может существовать на то, чего нет в имении, тщетно я говорил, что, по крайней мере, надлежало бы сперва продать оставшееся имение и выручить недоимку сей
продажею, а потом предпринимать другие средства; что я звания своего не
утаивал, ибо в дворянском уже купил дом. Все сие было отринуто, продажа
дому уничтожена, меня осудили за ложный мой поступок лишить чинов и
требуют теперь, – говорил повествователь, – хозяина здешнего в суд, дабы
посадить под стражу до окончания дела. – Сие последнее повествуя, рассказывающий возвысил свой голос. – Жена моя, едва сие услышала, обняв
меня, вскричала: «Нет, мой друг, и я с тобою». Более выговорить не могла.
Члены ее все ослабели, и она упала бесчувственна в мои объятия. Я, подняв ее со стула, вынес в спальную комнату и не ведаю, как обед скончался.
Пришед чрез несколько времени в себя, она почувствовала муки, близкое рождение плода горячности нашей возвещающие. Но сколь ни жестоки
они были, воображение, что я буду под стражею, столь ее тревожило, что
она только и твердила: и я пойду с тобою. Сие несчастное приключение ускорило рождение младенца целым месяцем, и все способы бабки и доктора, для пособия призванных, были тщетны и не могли воспретить, чтобы
жена моя не родила чрез сутки. Движения ее души не токмо с рождением
младенца не успокоились, но, усилившись гораздо, сделали ей горячку.
Почто распространяться мне в повествовании? Жена моя на третий
день после родов своих умерла. Видя ее страдание, можете поверить, что я
ее не оставлял ни на минуту. Дело мое и осуждение в горести позабыл совершенно. За день до кончины моей любезной недозрелый плод нашея горячности также умер. Болезнь матери его занимала меня совсем, и потеря
сия была для меня тогда невелика. <...> Но окончу мою повесть. В толико
жестоком отчаянии, лежащу мне над бездыханным телом моей возлюбленной, один из искренних моих друзей, прибежав ко мне, сказал:
«Тебя пришли взять под стражу, команда на дворе. Беги отсель, кибитка у задних ворот готова, ступай в Москву или куда хочешь и живи там, доколе можно будет облегчить твою судьбу».
Я не внимал его речам, но он, усилясь надо мною и взяв меня с помощию своих людей, вынес и положил в кибитку; но, вспомня, что надобны
мне деньги, дал мне кошелек, в котором было только пятьдесят рублей.
Сам пошел в мой кабинет, чтобы найти там денег и мне вынести; но, нашед
уже офицера в моей спальне, успел только прислать ко мне сказать, чтобы
я ехал. Не помню, как меня везли первую станцию. Слуга приятеля моего,
рассказав все происшедшее, простился со мною, а я теперь еду, по пословице – куда глаза глядят.
Повесть сопутника моего тронула меня несказанно. Возможно ли, говорил я сам себе, чтобы в столь мягкосердое правление, каково ныне у нас,
толикие производилися жестокости? Возможно ли, чтобы были столь безумные судии, что для насыщения казны отнимали у людей имение, честь,
жизнь? Я размышлял, каким бы образом могло сие происшествие достигнуть до слуха верховный власти. Ибо справедливо думал, что в самодер-
15
жавном правлении она одна в отношении других может быть беспристрастна. – Но не могу ли я принять на себя его защиту? Я напишу жалобницу в
высшее правительство. Уподроблю все происшествие и представлю неправосудие судивших и невинность страждущего. – Но жалобницы от меня не
примут. Спросят, какое я на то имею право; потребуют от меня верющего
письма.
– Какое имею право? – <...> человек: вот мое право, вот верющее
письмо.
– О богочеловек! Почто писал ты закон твой для варваров? Они, крестяся во имя твое, кровавые приносят жертвы злобе. Почто ты для них мягкосерд был? Вместо обещания будущия казни, усугубил бы казнь настоящую и, совесть возжигая по мере злодеяния, не дал бы им покоя денноночно, доколь страданием своим не загладят все злое, еже сотворили. Таковые размышления толико утомили мое тело, что я уснул весьма крепко и
не просыпался долго.
Возмущенные соки мыслию стремилися, мне спящу, к голове и, тревожа нежный состав моего мозга, возбудили в нем воображение. <...> Мне
представилось, что я царь, шах, хан, король, бей, набоб, султан или какоето сих названий нечто, седящее во власти на престоле. <...> С робким подобострастием и взоры мои ловящи, стояли вокруг престола моего чины государственные. В некотором отдалении от престола моего толпилося бесчисленное множество народа, коего разные одежды, черты лица, осанка,
вид и стан различие их племени возвещали. Трепетное их молчание уверяло меня, что они все воле моей подвластны.
– Да здравствует наш великий государь, да здравствует навеки.
– Подобно тихому полуденному ветру, помавающему листвия дерев. И
любострастное производящему в дубраве шумление, тако во всем собрании радостное шептание раздавалось. Иной вполголоса говорил:
– Он усмирил внешних и внутренних врагов, расширил пределы отечества, покорил тысячи разных народов своей державе.
Другой восклицал:
– Он обогатил государство, расширил внутреннюю и внешнюю торговлю, он любит науки и художества, поощряет земледелие и рукоделие.
Женщины с нежностию вещали:
– Он не дал погибнуть тысячам полезных сограждан, избавя их до сосца еще гибельныя кончины. Иной с важным видом возглашал:
– Он умножил государственные доходы, народ облегчил от податей,
доставил ему надежное пропитание.
Юношество, с восторгом руки на небо простирая, рекло:
– Он милосерд, правдив, закон его для всех равен, он почитает себя
первым его служителем. Он законодатель мудрый, судия правдивый, исполнитель ревностный, он паче всех царей велик, он вольность дарует
всем.
Речи таковые, ударяя в тимпан моего уха, громко раздавалися в душе
моей. Похвалы сии истинными в разуме моем изображалися, ибо сопутствуемы были искренности наружными чертами. Таковыми их приемля, душа
моя возвышалася над обыкновенным зрения кругом; в существе своем
16
расширялась и, вся объемля, касалася степеней божественной премудрости. Но ничто не сравнилося с удовольствием самоодобрения при раздавании моих приказаний. Первому военачальнику повелевал я идти с многочисленным войском на завоевание земли, целым небесным поясом от меня
отделенной.
– Государь, – ответствовал он мне, – слава единая имени твоего победит народы, оную землю населяющие. Страх предшествовать будет оружию твоему, и возвращуся, принося дань царей сильных.
Учредителю плавания я рек:
– Да корабли мои рассеются по всем морям, да узрят их неведомые
народы; флаг мой да известен будет на Севере, Востоке, Юге и Западе.
– Исполню, государь. – И полетел на исполнение, яко ветр, определенный надувать ветрила корабельные.
– Возвести до дальнейших пределов моея области, – рек я хранителю
законов, – се день рождения моего, да ознаменится он в летописях навеки
отпущением повсеместным. Да отверзутся темницы, да изыдут преступники
и да возвратятся в домы свои, яко заблудшие от истинного пути.
– Милосердие твое, государь есть образ всещедрого существа. Богу
возвестити радость скорбящим отцам по чадех их, супругам по супругах их.
– Да воздвигнутся, – рек я первому зодчию, – великолепнейшие здания
для убежища муз, да украсятся подражаниями природы разновидными; и да
будут они ненарушимы, яко небесные жительницы, для них же они уготовляются.
– О премудрый, – отвечал он мне, – егда велениям твоего гласа стихии
повиновалися и, совокупя силы свои, учреждали в пустынях и на дебрях
обширные грады, превосходящие великолепием славнейшие в древности;
колико маловажен будет сей труд для ревностных исполнителей твоих велений.
– Да отверзется ныне, – рек я, – рука щедроты, да излиются остатки
избытка на немощствующих, сокровища ненужные да возвратятся к их источнику.
– О всещедрый владыко, всевышним нам дарованный, отец своих чад,
обогатитель нищего, да будет твоя воля.
При всяком моем изречении все предстоящие восклицали радостно, и
плескание рук не токмо сопровождало мое слово, но даже предупреждало
мысль. Единая из всего собрания жена, облегшаяся твердо о столп, испускала вздохи скорби и являла вид презрения и негодования. Черты лица ее
были суровы и платье простое. Голова ее покрыта была шляпою, когда все
другие обнаженными стояли главами.
– Кто сия? – вопрошал я близ стоящего меня.
– Сия есть странница, нам неизвестная, именует себя Прямовзорой и
глазным врачом. Но есть волхв опаснейший, носяй яд и отраву, радуется
скорби и сокрушению; всегда нахмуренна, всех презирает и поносит; даже
не щадит в ругании своем священныя твоея главы.
– Почто же злодейка сия терпима в моей области? Но о ней завтра.
Сей день есть день милости и веселия.
17
– Постой, – вещала мне странница от своего места, – постой и подойди
ко мне. Я – врач, присланный к тебе и тебе подобным, да очищу зрение
твое. Какие бельма! – сказала она с восклицанием.
Некая невидимая сила нудила меня идти пред нее, хотя все меня окружавшие мне в том препятствовали, делая даже мне насилие.
– На обоих глазах бельма, – сказала странница, – а ты столь решительно судил о всем. – Потом коснулася обоих моих глаз и сняла с них толстую плену, подобну роговому раствору. – Ты видишь, – сказала она мне, –
что ты был слеп, и слеп всесовершенно. Я есмь Истина. Всевышний, подвигнутый на жалость стенанием тебе подвластного народа, ниспослал меня
с небесных кругов, да отжену темноту, проницанию взора твоего препятствующую. Я сие исполнила. Все вещи представятся днесь в естественном их
виде взорам твоим. Ты проникнешь во внутренность сердец. Не утаится более от тебя змия, крыющаяся в излучинах душевных. Ты познаешь верных
своих подданных, которые вдали от тебя не тебя любят, но любят отечество; которые готовы всегда на твое поражение, если оно отметит порабощение человека. Но не возмутят они гражданского покоя безвременно и без
пользы. Их призови себе в друзей. Изжени сию гордую чернь, тебе предстоящую и прикрывшую срамоту души своей позлащенными одеждами.
Они-то истинные твои злодеи, затмевающие очи твои и вход мне в твои
чертоги воспрещающие. Един раз являюся я царям во все время их царствования, да познают меня в истинном моем виде; но я никогда не оставляю
жилища смертных. Пребывание мое не есть в чертогах царских. Стража,
обсевшая их вокруг и бдящая денно-ночно стоглазно, воспрещает мне вход
в оные. Если когда проникну сию сплоченную толпу, то, подняв бич гонения,
все тебя окружающие тщатся меня изгнать из обиталища твоего; бди убо,
да паки не удалюся от тебя. Тогда словеса ласкательства, ядовитые пары
издыхающие, бельма твои паки возродят, и кора, светом непроницаемая,
покрыет твои очи. Тогда ослепление твое будет сугубо; едва на шаг один
взоры твои досязать будут. Все в веселом являться тебе будет виде. Уши
твои не возмутятся стенанием, но усладится слух сладкопением ежечасно.
Жертвенные курения обыдут на лесть отверстую душу. Осязанию твоему
подлежать будет всегда гладкость.
Никогда не раздерет благотворная шероховатость в тебе нервов осязательности. Вострепещи теперь за таковое состояние. Туча вознесется
над главой твоей, и стрелы карающего грома готовы будут на твое поражение. Но я, вещаю тебе, поживу в пределах твоего обладания. Егда восхощешь меня видети, егда, осажденная кознями ласкательства, душа твоя
взалкает моего взора, воззови меня из твоея отдаленности; где слышен будет твердый мой глас, там меня и обрящешь. Не убойся гласа моего николи. Если из среды народный возникнет муж, порицающий дела твоя, ведай,
что той есть твой друг искренний. Чуждый надежды мзды, чуждый рабского
трепета, он твердым гласом возвестит меня тебе. Блюдись и не дерзай его
казнити, яко общего возмутителя. Призови его, угости его, яко странника.
Ибо всяк, порицающий царя в самовластии его, есть странник земли, где
все пред ним трепещет.
18
Теперь ясно я видел, что знаки почестей, мною раздаваемые, всегда
доставалися в удел недостойным. <...> Видя во всем толикую превратность,
от слабости моей и коварства министров моих проистекшую, видя, что нежность моя обращалася на жену, ищущую в любви моей удовлетворения
своего только тщеславия и внешность только свою на услаждение мое устрояющую, когда сердце ее ощущало ко мне отвращение, – возревел я яростию гнева.
– Недостойные преступники, злодеи! Вещайте, почто во зло употребили доверенность господа вашего? Предстаньте ныне пред судию вашего.
Вострепещите в окаменелости злодеяния вашего. Чем можете оправдать
дела ваши?
Изрекши сие, обратил я взор мой на мой сан, познал обширность моея
обязанности, познал, откуду проистекает мое право и власть. Вострепетал
во внутренности моей, убоялся служения моего. Кровь моя пришла в жестокое волнение, и я пробудился. Еще не опомнившись, схватил я себя за палец, но тернового кольца на нем не было. О, если бы оно пребывало хотя
на мизинце царей!
Властитель мира, если, читая сон мой, ты улыбнешься с насмешкою
или нахмуришь чело, ведай, что виденная мною странница отлетела от тебя далеко и чертогов твоих гнушается.
ПОДБЕРЕЗЬЕ
Насилу очнуться я мог от богатырского сна, в котором столько сгрезил.
Голова моя была свинцовой тяжелее, хуже, нежели бывает с похмелья у
пьяниц, которые по неделе пьют запоем. Не в состоянии я был продолжать
пути и трястися на деревянных дрогах (пружин у кибитки моей не было). Я
вынул домашний лечебник; искал, нет ли в нем рецепта от головной дурноты, происходящей от бреду во сне и наяву. Лекарство со мною хотя всегда
ездило в запасе, но, по пословице: на всякого мудреца довольно простоты –
против бреду я себя не предостерег, и оттого голова моя, приехав на почтовый стан, была хуже болвана.
Вспомнил я, что некогда блаженной памяти нянюшка моя Клементьевна, по имени Прасковья, нареченная Пятница, охотница была до кофею и
говаривала, что помогает он от головной боли. Как чашек пять выпью, говаривала она, так и свет вижу, а без того умерла бы в три дня.
Я взялся за нянюшкино лекарство, но, не привыкнув пить вдруг по пяти
чашек, попотчевал излишне для меня сваренным молодого человека, который сидел на одной со мной лавке, но в другом углу, у окна.
– Благодарю усердно, – сказал он, взяв чашку с кофеем.
<...> Слово за слово, я с новым моим знакомцем поладил. Узнал, что
он был из новогородской семинарии и шел пешком в Петербург повидаться
с дядею, который был секретарем в губернском штате. Но главное его намерение было, чтоб сыскать случай для приобретения науки.
– Сколь великий недостаток еще у нас в пособиях просвещения, – говорил он мне. – Одно сведение латинского языка не может удовлетворить
разума, алчущего науки. Виргилия, Горация, Тита Ливия, даже Тацита почти
знаю наизусть, но когда сравню знания семинаристов с тем, что я имел случай, по счастию моему, узнать, то почитаю училище наше принадлежащим
19
к прошедшим столетиям. Классические авторы нам все известны, но мы
лучше знаем критические объяснения текстов, нежели то, что их доднесь
делает приятными, что вечность для них уготовало. Нас учат философии,
проходим мы логику, метафизику, ифику, богословию, но, по словам Кутейкина в «Недоросле», дойдем до конца философского учения и возвратимся
вспять. Чему дивиться: Аристотель и схоластика доныне царствуют в семинариях. Я, по счастию моему, знаком стал в доме одного из губернских членов в Новегороде, имел случай приобрести в оном малое знание во французском и немецком языках и пользовался книгами хозяина того дома. Какая разница в просвещении времен, когда один латинский язык был в училищах употребителен, с нынешним временем! Какое пособие к учению, когда науки не суть таинства, для сведущих латинский язык токмо отверстые,
но преподаются на языке народном!
– Но для чего, – прервав, он свою речь продолжал, – для чего не заведут у нас вышних училищ, в которых бы преподавалися науки на языке общественном, на языке российском? Учение всем бы было внятнее; просвещение доходило бы до всех поспешнее, и одним поколением позже за одного латинщика нашлось бы двести человек просвещенных; по крайней мере в каждом суде был бы хотя один член, понимающий, что есть юриспруденция или законоучение.
– Боже мой! – продолжал он с восклицанием, – если бы привести примеры из размышлений и разглагольствований судей наших о делах! Что бы
сказали Гроций, Монтескью, Блекстон!
– Ты читал Блекстона?
– Читал первые две части, на российский язык переведенные. Не худо
бы было заставлять судей наших иметь сию книгу вместо святцев, заставлять их чаще в нее заглядывать, нежели в календарь. Как не потужить, –
повторил он, – что у нас нет училищ, где бы науки преподавалися на языке
народном.
НОВГОРОД
Гордитеся, тщеславные созидатели градов, гордитесь, основатели государств; мечтайте, что слава имени вашего будет вечна; столпите камень
на камень до самых облаков; иссекайте изображения ваших подвигов и
надписи, дела ваши возвещающие. Полагайте твердые основания правления законом непременным. Время с острым рядом зубов смеется вашему
кичению. Где мудрые Соломоновы и Ликурговы законы, вольность Афин и
Спарты утверждавшие? – В книгах. А на месте их пребывания пасутся рабы
жезлом самовластия. – Где пышная Троя, где Карфага? Едва ли видно место, где гордо они стояли. – Курится ли таинственно единому существу нетленная жертва во славных храмах древнего Египта? Великолепные оных
остатки служат убежищем блеющему скоту во время средиденного зноя. Не
радостными слезами благодарения всевышнему отцу они орошаемы, но
смрадными извержениями скотского тела. О! гордость, о! надменность человеческая, воззри на сие и познай, колико ты ползуща!
В таковых размышлениях подъезжал я к Новугороду, смотря на множество монастырей, вокруг оного лежащих. Сказывают, что все сии монастыри, даже и на пятнадцать верст расстоянием от города находящиеся,
20
заключалися в оном, что из стен его могло выходить до ста тысяч войска.
Известно по летописям, что Новгород имел народное правление. Хотя у их
были князья, но мало имели власти. Вся сила правления заключалася в посадниках и тысяцких. Народ в собрании своем на вече был истинный государь. Область Новгородская простиралася на севере даже за Волгу. Сие
вольное государство стояло в Ганзейском союзе. Старинная речь: кто может стать против бога и великого Новагорода – служить может доказательством его могущества. Торговля была причиною его возвышения. Внутренние несогласия и хищный сосед совершили его падение.
На мосту вышел я из кибитки моей, дабы насладиться зрелищем течения Волхова. Не можно было, чтобы не пришел мне на память поступок царя Ивана Васильевича по взятии Новагорода. Уязвленный сопротивлением
сея республики, сей гордый, зверский, но умный властитель хотел ее разорить до основания. Мне зрится он с долбнею на мосту стоящ, так иные повествуют, приносяй на жертву ярости своей старейших и начальников новогородских. Но какое он имел право свирепствовать против них; какое он
имел право присвоять Новгород? То ли, что первые, великие князья российские жили в сем городе? Или что он писался царем всея Русии? Или что
новогородцы были славенского племени? Но на что право, когда действует
сила? Может ли оно существовать, когда решение запечатлеется кровию
народов? Может ли существовать право, когда нет силы на приведение его
в действительность? Много было писано о праве народов; нередко имеют
на него ссылку; но законоучители не помышляли, может ли быть между народами судия. Когда возникают между ими вражды, когда ненависть или корысть устремляет их друг на друга, судия их есть меч. Кто пал мертв или
обезоружен, тот и виновен; повинуется непрекословно сему решению, и
апелляции на оное нет. Вот почему Новгород принадлежал царю Ивану Васильевичу. Вот для чего он его разорил и дымящиеся его остатки себе присвоил. Нужда, желание безопасности и сохранности созидают царства; разрушают их несогласие, ухищрение и сила.
Что ж есть право народное? – Народы, говорят законоучители, находятся один в рассуждении другого в таком же положении, как человек находится в отношении другого в естественном состоянии.
Вопрос: в естественном состоянии человека какие суть его права?
Ответ: взгляни на него. Он наг, алчущ, жаждущ. Все, что взять может
на удовлетворение своих нужд, все присвояет. Если бы что тому воспрепятствовать захотело, он препятствие удалит, разрушит и приобретет желаемое.
Вопрос: если на пути удовлетворения нуждам своим он обрящет подобного себе, если, например, двое, чувствуя голод, восхотят насытиться
одним куском, – кто из двух большее к приобретению имеет право?
Ответ: тот, кто кусок возьмет.
Вопрос: кто же возьмет кусок?
Ответ: кто сильнее.
Неужели сие есть право естественное, неужели се основание права
народного?
Примеры всех времен свидетельствуют, что право без силы было всегда в исполнении почитаемо пустым словом.
21
Вопрос: что есть право гражданское?
Ответ: кто едет на почте, тот пустяками не занимается и думает, как бы
лошадей поскорее промыслить.
<...> Но не все думать о старине, не все думать о завтрашнем дне. Если беспрестанно буду глядеть на небо, не смотря на то, что под ногами, то
скоро споткнусь и упаду в грязь... размышлял я. Как ни тужи, а Новагорода
по-прежнему не населишь. Что бог даст вперед. Теперь пора ужинать. Пойду к Карпу Дементьичу.
– Ба! ба! ба! Добро пожаловать, откуды бог принес, – говорил мне приятель мой Карп Дементьич, прежде сего купец третьей гильдии, а ныне
именитый гражданин. – По пословице, счастливый к обеду. Милости просим
садиться.
– Да что за пир у тебя?
– Благодетель мой, я женил вчера парня своего.
Благодетель твой, подумал я, не без причины он меня так величает. Я
ему, как и другие, пособил записаться в именитые граждане. Дед мой будто
должен был по векселю 1000 рублей, кому, того не знаю, с 1737 году. Карп
Дементьич в 1780 вексель где-то купил и какой-то приладил к нему протест.
Явился он ко мне с искусным стряпчим, и в то время взяли они с меня милостиво одни только проценты за 50 лет, а занятый капитал мне весь подарили. Карп Дементьич человек признательный.
– Невестка, водки нечаянному гостю.
– Я водки не пью.
– Да хотя прикушай. Здоровья молодых... – И сели ужинать.
По одну сторону меня сел сын хозяйский, а по другую посадил Карп
Дементьич свою молодую невестку.
<...> Карп Дементьич – седая борода, в восемь вершков от нижней губы. Нос кляпом, глаза ввалились, брови как смоль, кланяется об руку, бороду гладит, всех величает: благодетель мой.
Аксинья Парфентьевна, любезная его супруга. В шестьдесят лет бела
как снег и красна как маков цвет, губки всегда сжимает кольцом; ренского не
пьет, перед обедом полчарочки при гостях да в чулане стаканчик водки.
Алексей Карпович, сосед мой застольный. Ни уса, ни бороды, а нос
уже багровый, бровями моргает, в кружок острижен, кланяется гусем, отряхая голову и поправляя волосы. В Петербурге был сидельцем. На аршин
когда меряет, то спускает на вершок; за то его отец любит, как сам себя; на
пятнадцатом году матери дал оплеуху.
Парасковья Денисовна, его новобрачная супруга, бела и румяна. Зубы
как уголь. Брови в нитку, чернее сажи. В компании сидит потупя глаза, но во
весь день от окошка не отходит и пялит глаза на всякого мужчину. Под вечерок стоит у калитки. Глаз один подбит. Подарок ее любезного муженька
для первого дни; – а у кого догадка есть, тот знает за что.
Но, любезный читатель, ты уже зеваешь. Полно, видно, мне снимать
силуэты. Твоя правда; другого не будет, как нос да нос, губы да губы. Я и
того не понимаю, как ты на силуэте белилы и румяна распознаешь.
– Карп Дементьич, чем ты ныне торгуешь? В Петербург не ездишь,
льну не привозишь, ни сахару, ни кофе, ни красок не покупаешь. Мне кажется, что торг твой тебе был не в убыток.
22
– От него-то было я и разорился. Но насилу бог спас. Получив одним
годом изрядный барышок, я построил здесь дом. На следующий год был
льну неурожай, и я не мог поставить, что законтрактовал. Вот отчего я торговать перестал.
– Помню, Карп Дементьич, что за тридцать тысяч рублей, забранных
вперед, ты тысячу пуд льну прислал должникам на раздел.
– Ей, больше не можно было, поверь моей совести.
– Конечно, и на заморские товары был в том году неурожай. Ты забрал
тысяч на двадцать... Да, помню; на них пришла головная боль.
– Подлинно, благодетель, у меня голова так болела, что чуть не треснула. Да чем могут заимодавцы мои на меня жаловаться? Я им отдал все
мое имение.
– По три копейки на рубль.
– Никак нет-ста, по пятнадцати.
– А женин дом?
– Как мне до него коснуться; он не мой.
– Скажи же, чем ты торгуешь?
– Ничем, ей, ничем. С тех пор как я пришел в несостояние, парень мой
торгует. Нынешним летом, слава богу, поставил льну на двадцать тысяч.
– На будущее, конечно, законтрактует на пятьдесят, возьмет половину
денег вперед и молодой жене построит дом...
Алексей Карпович только что улыбается:
– Старинный шутник, благодетель мой. Полно молоть пустяки; возьмемся за дело.
– Я не пью, ты знаешь.
– Да хоть прикушай.
Прикушай, прикушай, – я почувствовал, что у меня щеки начали рдеть,
и под конец пира я бы, как и другие, напился пьян. Но, по счастию, век за
столом сидеть нельзя, так как всегда быть умным невозможно. И по той самой причине, по которой я иногда дурачусь и брежу, на свадебном пиру я
был трезв.
Вышед от приятеля моего Карпа Дементьича, я впал в размышление.
Введенное повсюду вексельное право, то есть строгое и скорое по торговым обязательствам взыскание, почитал я доселе охраняющим доверие законоположением; почитал счастливым новых времен изобретением для
усугубления быстрого в торговле обращения; чего древним народам на ум
не приходило. Но отчего же, буде нет честности в дающем вексельное обязательство, отчего оно тщетная только бумажка? Если бы строгого взыскания по векселям не существовало, ужели бы торговля исчезла? Не заимодавец ли должен знать, кому он доверяет? О ком законоположение более
пещися долженствует, о заимодавце ли или о должнике? Кто более в глазах
человечества заслуживает уважения, заимодавец ли, теряющий свой капитал, для того, что не знал, кому доверил, или должник в оковах и в темнице.
С одной стороны – легковерность, с другой – почти воровство. Тот поверил,
надеяся на строгое законоположение. А если бы взыскание по векселям не
было столь строгое? Не было бы места легковерию, не было бы, может
быть, плутовства в вексельных делах.
23
ЗАЙЦОВО
В Зайцове на почтовом дворе нашел я давнышнего моего приятеля
г. Крестьянкина. Я с ним знаком был с ребячества. Редко мы бывали в одном городе; но беседы наши, хотя не часты, были, однако же, откровенны.
Г. Крестьянкин долго находился в военной службе и, наскучив жестокостями
оной, а особливо во время войны, где великие насилия именем права войны прикрываются, перешел в статскую. По несчастию его, и в статской
службе не избегнул того, от чего, оставляя военную, удалиться хотел. Душу
он имел очень чувствительную и сердце человеколюбивое. Догнанные его
столь превосходные качества доставили ему место председателя уголовной палаты. Сперва не хотел он на себя принять сего звания, но, помыслив
несколько, сказал он мне:
– Мой друг, какое обширное поле отверзается мне на удовлетворение
любезнейшей склонности моея души!
Какое упражнение для мягкосердия! Сокрушим скипетр жестокости, который столь часто тягчит рамена невинности; да опустеют темницы и да не
узрит их оплошливая слабость, нерадивая неопытность, и случай во злодеяние да не вменится николи. О мой друг! Исполнением моея должности
источу слезы родителей о чадах, воздыхания супругов; но слезы сии будут
слезы обновления во благо; но иссякнут слезы страждущей невинности и
простодушия. Колике мысль сия меня восхищает. Пойдем, ускорим отъезд
мой. Может быть, скорое прибытие мое там нужно. Замедля, могу быть
убийцею, не предупреждая заключения или обвинения прошением или разрешением от уз.
С таковыми мыслями поехал приятель мой к своему месту. Сколь же
много удивился я, узнав от него, что он оставил службу и намерен жить всегда в отставке.
– Я думал, мой друг, – говорил мне г. Крестьянкин, – что услаждающую
рассудок и обильную найду жатву в исполнении моея должности. Но вместо
того нашел я в оной желчь и терние. Теперь, наскучив оною, не в силах будучи делать добро, оставил место истинному хищному зверю. В короткое
время он заслужил похвалу скорым решением залежавшихся дел; а я прослыл копотким. Иные почитали меня иногда мздоимцем за то, что не спешил отягчить жребия несчастных, впадающих в преступление нередко поневоле. До вступления моего в статскую службу приобрел я лестное для
меня название человеколюбивого начальника. Теперь самое то же качество, коим сердце мое толико гордилося, теперь почитают послаблением или
непозволительною поноровкою. – Видел я решения мои осмеянными в том
самом, что их изящными делало; видел их оставляемыми без действия. С
презрением взирал, что для освобождения действительного злодея и вредного обществу члена или дабы наказать мнимые преступления лишением
имения, чести, жизни начальник мой, будучи не в силах меня преклонить на
беззаконное очищение злодейства или обвинение невинности, преклонял к
тому моих сочленов, и нередко я видел благие мои расположения исчезавшими, яко дым в пространстве воздуха. Они же, во мзду своего гнусного послушания, получили почести, кои в глазах моих столь же были тусклы,
сколь их прельщали своим блеском.
24
Нередко в затруднительных случаях, когда уверение в невинности названного преступником меня побуждало на мягкосердие, я прибегал к закону, дабы искати в нем подпору моей нерешимости; но часто в нем находил
вместо человеколюбия жестокость, которая начало свое имела не в самом
законе, но в его обветшалости. Несоразмерность наказания преступлению
часто извлекала у меня слезы. Я видел (да и может ли быть иначе), что закон судит о деяниях, не касался причин, оные производивших. И последний
случай, к таковым деяниям относящийся, понудил меня оставить службу.
Ибо, не возмогши спасти невинных, мощною судьбы рукою в преступление вовлеченных, я не хотел быть участником в их казни. Не возмогши
облегчить их жребия, омыл руки мои в моей невинности и удалился жестокосердия.
В губернии нашей жил один дворянин, который за несколько уже лет
оставил службу. Вот его послужной список. Начал службу свою при дворе
истопником, произведен лакеем, камер-лакеем, потом мундшенком, какие
достоинства надобны для прехождения сих степеней придворныя службы,
мне неизвестно. Но знаю то, что он вино любил до последнего издыхания.
Пробыв в мундшенках лет 15, отослан был в герольдию для определения
по его чину. Но он, чувствуя свою неспособность к делам, выпросился в отставку и награжден чином коллежского асессора, с которым он приехал в то
место, где родился, то есть в нашу губернию, лет шесть тому назад. Отличная привязанность к своей отчизне нередко основание имеет в тщеславии.
Человек низкого состояния, добившийся в знатность, или бедняк, приобретший богатство, сотрясши всю стыдливости застенчивость, последний и
слабейший корень добродетели, предпочитает место своего рождения на
распростертие своея пышности и гордыни. Там скоро асессор нашел случай купить деревню, в которой поселился с немалою своею семьею. Если
бы у нас родился Гогард Уильям, то бы обильное нашел поле на карикатуры в семействе г. асессора. Но я худой живописец; или если бы я мог в чертах лица читать внутренности человека с Лаватеровою проницательностию,
то бы и тогда картина асессоровой семьи была примечания достойна. Не
имея сих свойств, заставлю вещать их деяния, кои всегда истинные суть
черты душевного образования. Г. асессор произошел из самого низкого состояния, зрел себя повелителем нескольких сотен себе подобных. Сие
вскружило ему голову. Не один он жаловаться может, что употребление
власти вскружает голову. Он себя почел высшего чина, крестьян почитал
скотами, данными ему (едва не думал ли он, что власть его над ними от бога проистекает), да употребляет их в работу по произволению. Он был корыстолюбив, копил деньги, жесток от природы, вспыльчив, подл, а потому
над слабейшими его надменен. Из сего судить можешь, как он обходился с
крестьянами. Они у прежнего помещика были на оброке, он их посадил на
пашню; отнял у них всю землю, скотину всю у них купил по цене, какую сам
определил, заставил работать всю неделю на себя, а дабы они не умирали
с голоду, то кормил их на господском дворе, и то по одному разу в день, а
иным давал из милости месячину. Если который казался ему ленив, то сек
розгами, плетьми, батожьем или кошками, смотря по мере лености; за действительные преступления, как то – кражу не у него, но у посторонних, не
25
говорил ни слова. Казалося, будто хотел в деревне своей возобновить нравы древнего Лакедемона или Запорожской сечи. Случилось, что мужики его
для пропитания на дороге ограбили проезжего, другого потом убили. Он их
в суд за то не отдал, но скрыл их у себя, объявя правительству, что они бежали; говоря, что ему прибыли не будет, если крестьянина его высекут кнутом и сошлют в работу за злодеяние. Если кто из крестьян что-нибудь украл
у него, того он сек как за леность или за дерзкий или остроумный ответ, но
сверх того надевал на ноги колодки, кандалы, а на шею рогатку. Много бы
мог я тебе рассказать его мудрых распоряжений; но сего довольно для познания моего ироя. Сожительница его полную власть имела над бабами.
Помощниками в исполнении ее велений были ее сыновья и дочери, как
то и у ее мужа. Ибо сделали они себе правилом, чтобы ни для какой нужды
крестьян от работы не отвлекать. Во дворе людей было один мальчик, купленный им в Москве, парикмахер дочернин да повариха-старуха. Кучера у
них не было, ни лошадей; разъезжал всегда на пахотных лошадях. Плетьми
или кошками секли крестьян сами сыновья. По щекам били или за волосы
таскали баб и девок дочери. Сыновья в свободное время ходили по деревне или в поле играть и бесчинничать с девками и бабами, и никакая не избегала их насилия. Дочери, не имея женихов, вымещали свою скуку над
прядильницами, из которых они многих изувечили. Суди сам, мой друг, какой конец мог быть таковым поступкам. Я приметил из многочисленных
примеров, что русский народ очень терпелив и терпит до самой крайности;
но когда конец положит своему терпению, то ничто не может его удержать,
чтобы не преклонился на жестокость. Сие самое и случилось с асессором.
Случай к тому подал неистовый и беспутный или, лучше сказать, зверский
поступок одного из его сыновей.
В деревне его была крестьянская девка, недурна собою, сговоренная
за молодого крестьянина той же деревни. Она понравилась середнему сыну
асессора, который употребил все возможное, чтобы ее привлечь к себе в
любовь; но крестьянка верна пребывала в данном жениху ее обещании, что
хотя редко в крестьянстве случается, но возможно. В воскресенье должно
было быть свадьбе. Отец жениха, по введенному у многих помещиков обычаю, пошел с сыном на господский двор и понес повенечные два пуда меду
к своему господину. Сию-то последнюю минуту дворянчик и хотел употребить на удовлетворение своея страсти. Взял с собой обоих своих братьев и,
вызвав, невесту чрез постороннего мальчика на двор, потащил ее в клеть,
зажав ей рот. Не будучи в силах кричать, она сопротивлялася всеми силами
зверскому намерению своего молодого господина. Наконец, превозможенная всеми тремя, принуждена была уступить силе; и уже сие скаредное чудовище начинал исполнением умышленное, как жених, возвратившись из
господского дома, вошел на двор и, увидя одного из господчиков у клети,
усумнился о их злом намерении. Кликнув отца своего к себе на помощь, он
быстрее молнии полетел ко клети. Какое зрелище представилося ему. При
его приближении затворилась клеть; но совокупные силы двух братьев немощны были удержать стремления разъяренного жениха. Он схватил близлежащий кол и, вскоча в клеть, ударил вдоль спины хищника своея невесты. Они было хотели его схватить, но, видя отца женихова, бегущего с ко-
26
лом же на помощь, оставили свою добычу, выскочили из клети и побежали.
Но жених, догнав одного из них, ударил его колом по голове и ее проломил.
Сии злодеи, желая отмстить свою обиду, пошли прямо к отцу и сказали
ему, что, ходя по деревне, они встретились с невестою, с ней пошутили;
что, увидя, жених ее начал их бить, будучи вспомогаем своим отцом. В доказательство показывали проломленную у одного из братьев голову. Раздраженный до внутренности сердца болезнию своего рождения, отец воскипел гневом ярости. Немедля велел привести пред себя всех трех злодеев
– так он называл жениха, невесту и отца женихова. Представшим им пред
него первый вопрос его был о том, кто проломил голову его сыну. Жених в
сделанном не отперся, рассказав все происшествие.
«Как ты дерзнул, – говорил старый асессор, – поднять руку на твоего
господина? А хотя бы он с твоею невестою и ночь переспал накануне твоея
свадьбы, то ты ему за это должен быть благодарен. Ты на ней не женишься; она у меня останется в доме, а вы будете наказаны».
По таковом решении жениха велел он сечь кошками немилосердо, отдав его в волю своих сыновей. Побои вытерпел он мужественно; неробким
духом смотрел, как начали над отцом его то же производить истязание. Но
не мог вытерпеть, как он увидел, что невесту господские дети хотели вести
в дом. Наказание происходило на дворе. В одно мгновение выхватил он ее
из рук ее похищающих, и освобожденные побежали оба со двора. Сие видя,
барские сыновья перестали сечь старика и побежали за ними в погоню.
Жених, видя, что они его настигать начали, выхватил заборину и стал защищаться. Между тем шум привлек других крестьян ко двору господскому.
Они, соболезнуя о участи молодого крестьянина и имея сердце озлобленное против своих господ, его заступили. Видя сие, асессор, подбежав сам,
начал их бранить и первого, кто встретился, ударил своею тростию столь
сильно, что упал бесчувствен на землю. Сие было сигналом к общему наступлению. Они окружили всех четверых господ и, коротко сказать, убили их
до смерти на том же месте. Толико ненавидели они их, что ни один не хотел
миновать, чтобы не быть участником в сем убийстве, как то они сами после
призналися.
В самое то время случилось ехать тут исправнику той округи с командою. Он был частию очевидным свидетелем сему происшествию. Взяв виновных под стражу, а виновных было половина деревни, произвел следствие, которое постепенно дошло до уголовной палаты. Дело было выведено
очень ясно, и виновные во всем призналися, в оправдание свое приводя
только мучительские поступки своих господ, о которых уже вся губерния
была известна. Таковому делу я обязан был по долгу моего звания положить окончательное решение, приговорить виновных к смерти и вместо
оной к торговой казни и вечной работе.
Рассматривая сие дело, я не находил достаточной и убедительной
причины к обвинению преступников. Крестьяне, убившие господина своего,
были смертоубийцы. Но смертоубийство сие не было ли принужденно? Не
причиною ли оного сам убитый асессор? <...> Можешь сам вообразить терзание души моей при рассмотрении сего дела.
С обыкновенною откровенностью сообщил я мои мысли моим сочленам. Все возопили против меня единым гласом. Мягкосердие и человеко-
27
любие почитали они виновным защищением злодеяний; называли меня поощрителем убийства; называли меня сообщником убийцы. По их мнению,
при распространении моих вредных мнений исчезнет домашняя сохранность. Может ли дворянин, говорили они, отныне жить в деревне покоен?
Может ли он видеть веления его исполняемы? Если ослушники воли господина своего, а паче его убийцы невинными признаваемы будут, то повиновение прервется, связь домашняя рушится, будет паки хаос, в начальных
обществах обитающий. Земледелие умрет, орудия его сокрушатся, нива
запустеет и бесплодным порастет злаком; поселяне, не имея над собою
власти, скитаться будут в лености, тунеядстве и разъидутся. Города почувствуют властнодержавную десницу разрушения. Чуждо будет гражданам
ремесло, рукоделие скончает свое прилежание и рачительность, торговля
иссякнет в источнике своем, богатство уступит место скаредной нищете,
великолепнейшие здания обветшают, законы затмятся и порастут недействительностию. Тогда огромное сложение общества начнет валиться на части и издыхати в отдаленности от целого; тогда престол царский, где ныне
опора, крепость и сопряжение общества зиждутся, обветшает и сокрушится;
тогда владыка народов почтется простым гражданином, и общество узрит
свою кончину. Сию достойную адския кисти картину тщилися мои сотоварищи предлагать взорам всех, до кого слух о сем деле доходил.
«Председателю нашему, – вещали они, – сродно защищать убийство
крестьян. Спросите, какого он происхождения? Если не ошибаемся, он сам
в молодости своей изволил ходить за сохою. Всегда новостатейные сии
дворянчики странные имеют понятия о природном над крестьянами дворянском праве. Если бы от него зависело, он бы, думаем, всех нас поверстал в однодворцы, дабы тем уравнять с нами свое происхождение».
Такими-то словами мнили сотоварищи мои оскорбить меня и ненавистным сделать всему обществу. Но сим не удовольствовались. Говорили,
что я принял мзду от жены убитого асессора, да не лишится она крестьян
своих отсылкою их в работу, и что сия-то истинная была причина странным
и вредным моим мнениям, право всего дворянства вообще оскорбляющим.
Несмысленные думали, что посмеяние их меня уязвит, что клевета поругает, что лживое представление доброго намерения от оного меня отвлечет!
Сердце мое им было неизвестно. Не знали они, что нетрепетен всегда
предстою собственному моему суду, что ланиты мои не рдели багровым
румянцем совести.
Мздоимство мое основали они на том, что асессорша за мужнину
смерть мстить не желала, а, сопровождаема своею корыстию и следуя правилам своего мужа, желала крестьян избавить от наказания, дабы не лишиться своего имения, как то она говорила. С таковою просьбою она приезжала и ко мне. На прощение за убиение ее мужа я с ней был согласен; но
разнствовали мы в побуждениях. Она уверяла меня, что сама довольно их
накажет; а я уверял ее, что, оправдывая убийцев ее мужа, не надлежало их
подвергать более той же крайности, дабы паки не были злодеями.
Скоро наместник известен стал о моем по сему делу мнении, известен,
что я старался преклонить сотоварищей моих на мои мысли и что они начинали колебаться в своих рассуждениях, к чему, однако же, не твердость и
28
убедительность моих доводов способствовали, но деньги асессорши. Будучи сам воспитан в правилах неоспоримой над крестьянами власти, с моими
рассуждениями он не мог быть согласен и вознегодовал, усмотрев, что они
начинали в суждении сего дела преимуществовать, хотя ради различных
причин. Посылает он за моими сочленами, увещевает их, представляет
гнусность таких мнений, что они оскорбительны для дворянского общества,
что оскорбительны для верховной власти, нарушая ее законоположения;
обещает награждение исполняющим закон, претя мщением не повинующимся оному; и скоро сих слабых судей, не имеющих ни правил в размышлениях, ни крепости духа, преклоняет на прежние их мнения. Не удивился я,
увидев в них перемену, ибо не дивился и прежде в них воспоследовавшей.
Сродно хвилым, робким и подлым душам содрогаться от угрозы власти и
радоваться ее приветствию.
Наместник наш, превратив мнения моих сотоварищей, вознамерился и
ласкал себя, может быть, превратить и мое. Для сего намерения позвал
меня к себе поутру в случившийся тогда праздник. Он принужден был меня
позвать, ибо я не хаживал никогда на сии безрассудные поклонения, которые гордость почитает в подчиненных должностию лесть нужными, а мудрец мерзительными и человечеству поносными. Он избрал нарочно день
торжественный, когда у него много людей было в собрании; избрал нарочно
для слова своего публичное собрание, надеяся, что тем разительнее убедит меня. Он надеялся найти во мне или боязнь души, или слабость мыслей. Против того и другого устремил он свое слово. Но я за нужное не нахожу пересказывать тебе все то, чем надменность, ощущение власти и
предубеждение к своему проницанию и учености одушевляло его витийство. Надменности его ответствовал я равнодушием и спокойствием, власти
непоколебимостию, доводам доводами и долго говорил хладнокровно. Но,
наконец, содрогшееся сердце разлияло свое избыточество. Чем больше
видел я угождения в предстоящих, тем порывистее становился мой язык.
Незыблемым гласом и звонким произношением возопил я, наконец, сице:
«Человек родится в мир равен во всем другому. Все одинаковые имеем члены, все имеем разум и волю. Следственно, человек без отношения к
обществу есть существо, ни от кого не зависящее в своих деяниях. Но он
кладет оным преграду, согласуется не во всем своей единой повиноваться
воле, становится послушен велениям себе подобного, словом, становится
гражданином. Какия же ради вины обуздывает он свои хотения? Почто поставляет над собою власть? Почто, беспределен в исполнении своея воли,
послушания чертою оную ограничивает? Для своея пользы, скажет рассудок; для своея пользы, скажет внутреннее чувствование; для своея пользы,
скажет мудрое законоположение. Следственно, где нет его пользы быть
гражданином, там он и не гражданин. Следственно, тот, кто восхощет его
лишить пользы гражданского звания, есть его враг. Против врага своего он
защиты и мщения ищет в законе. Если закон или не в силах его заступить,
или того не хочет, или власть его не может мгновенное в предстоящей беде
дать вспомоществование, тогда пользуется гражданин природным правом
защищения, сохранности, благосостояния. Ибо гражданин, становяся гражданином, не перестает быть человеком, коего первая обязанность, из сло-
29
жения его происходящая, есть собственная сохранность, защита, благосостояние. Убиенный крестьянами асессор нарушил в них право гражданина
своим зверством. В то мгновение, когда он потакал насилию своих сыновей,
когда он к болезни сердечной супругов присовокуплял поругание, когда на
казнь подвигался, видя сопротивление своему адскому властвованию, – тогда закон, стрегущий гражданина, был в отдаленности, и власть его тогда
была неощутительна; тогда возрождался закон природы, и власть обиженного гражданина, не отъемлемая законом положительным в обиде его, приходила в действительность; и крестьяне, убившие зверского асессора, в законе обвинения не имеют. Сердце мое их оправдает, опираяся на доводах
рассудка, и смерть асессора, хотя насильственная, есть правильна. Да не
возмнит кто-либо искать в благоразумии политики, в общественной тишине
довода к осуждению на казнь убиицев в злобе дух испустившего асессора.
Гражданин, в каком бы состоянии небо родиться ему ни судило, есть и пребудет всегда человек; а доколе он человек, право природы, яко обильный
источник благ, в нем не иссякнет никогда; и тот, кто дерзнет его уязвить в
его природной и ненарушимой собственности, тот есть преступник. Горе
ему, если закон гражданский его не накажет. Он замечен будет чертою мерзения в своих согражданах, и всяк, имеяй довольно сил, да отметит на нем
обиду, им соделанную».
Умолк. Наместник не говорил мне ни слова; изредка подымал на меня
поникшие взоры, где господствовала ярость бессилия и мести злоба. Все
молчали в ожидании, что, оскорбитель всех прав, я взят буду под стражу.
Изредка из уст раболепия слышалося журчание негодования. Все отвращали от меня свои очи. Казалося, что близстоящих меня объял ужас. Неприметно удалилися они, как от зараженного смертоносною язвою. Наскучив
зрелищем толикого смешения гордыни с нижайшею подлостию, я удалился
из сего собрания льстецов.
Не нашед способов спасти невинных убийц, в сердце моем оправданных, я не хотел быть ни сообщником в их казни, ниже оной свидетелем; подал прошение об отставке и, получив ее, еду теперь оплакивать плачевную
судьбу крестьянского состояния и услаждать мою скуку обхождением с
друзьями.
КРЕСТЬЦЫ
В Крестьцах я был свидетелем расставания отца с детьми, которое
меня тем чувствительнее тронуло, что я сам отец и скоро, может быть, с
детьми расставаться буду. – Несчастный предрассудок дворянского звания
велит им идти в службу. Одно название сие приводит всю кровь в необычайное движение! Тысячу против одного держать можно, что из ста дворянчиков, вступающих в службу, 98 становятся повесами, а два под старость
или, правильнее сказать, два в дряхлые их, хотя нестарые лета, становятся
добрыми людьми. Прочие происходят в чины, расточают или наживают
имение и проч. ... Смотря иногда на большого моего сына и размышляя, что
он скоро войдет в службу или, другими сказать словами, что птичка вылетит
из клетки, у меня волосы дыбом становятся. Не для того, чтобы служба сама по себе развращала нравы; но для того, чтобы то зрелыми нравами
надлежало начинать службу.
30
Иной скажет: а кто таких молокососов толкает в шею? – Кто? Пример
общий. Штаб-офицер семнадцати лет; полковник двадцатилетний; генерал
двадцатилетний; камергер, сенатор, наместник, начальник войск. И какому
отцу не захочется, чтобы дети его, хотя в малолетстве, были в знатных чинах, за которыми идут вслед богатство, честь и разум. Смотря на сына моего, представляется мне: он начал служить, познакомился с вертопрахами,
распутными, игроками, щеголями. Выучился чистенько наряжаться, играть в
карты, картами доставать прокормление, говорить обо всем, ничего не
мысля, таскаться по девкам или врать чепуху барыням. Каким-то образом
фортуна, вертясь на курей ножке, приголубила его; и сынок мой, не брея
еще бороды, стал знатным боярином. Возмечтал он о себе, что умнее всех
на свете. Чего доброго ожидать от такого полководца или градоначальника?
Крестицкий дворянин, казалося мне, был лет пятидесяти. Редкие седины едва пробивались сквозь светло-русые власы главы его. Правильные
черты лица его знаменовали души его спокойствие, страстям неприступное.
Нежная улыбка безмятежного удовольствия, незлобием рождаемого, изрыла ланиты его ямками, в женщинах столь прельщающими; взоры его, когда
я вошел в ту комнату, где он сидел, были устремлены на двух его сыновей.
– Друзья мои, – сказал отец, – сегодня мы расстанемся, – и, обняв их,
прижал возрыдавших к перси своей.
Я уже несколько минут был свидетелем сего зрелища, стоя у дверей
неподвижен, как отец, обратясь ко мне:
– Будь свидетелем, чувствительный путешественник, будь свидетелем
мне перед светом, сколь тяжко сердцу моему исполнять державную волю
обычая. Я, отлучая детей моих от бдящего родительского ока, единственное к тому имею побуждение, да приобретут опытности, да познают человека из его деяний и, наскучив гремлением мирского жития, да оставят его с
радостию <...> Еще повторю вам, сегодня мы разлучимся. С неизреченным
услаждением зрю слезы ваши, орошающие ланиты вашего лица. Да отнесет сие души вашей зыбление совет мой во святая ее, да восколеблется
она при моем воспоминовении и да буду отсутствен оградою вам от зол и
печалей. <...> Не должны вы мне ни за воскормление, ни за наставление, а
меньше всего за рождение. За рождение? – Участники были ли вы в нем?
Прельщенный душевною паче добротою матери вашея, нежели лепотою лица, я употребил способ верный на взаимную горячность, любовь искренную. Я получил мать вашу себе в супруги. Но какое было побуждение
нашея любви? Взаимное услаждение; услаждение плоти и духа. Вкушая веселие, природой повеленное, о вас мы не мыслили. Рождение ваше нам
было приятно, но не для вас. Произведение самого себя льстило тщеславию; рождение ваше было новый и чувственный, так сказать, союз, союз
сердец подтверждающий. Он есть источник начальной горячности родителей к сынам своим; подкрепляется он привычкою, ощущением своея власти, отражением похвал сыновних к отцу.
Мать ваша равного со мною была мнения о ничтожности должностей
ваших, от рождения проистекающих. Не гордилася она пред вами, что носила вас во чреве своем, не требовала признательности, питая вас своею
кровию; не хотела почтения за болезни рождения, ни за скуку воскормления
31
сосцами своими. Она тщилася благую вам дать душу, яко же и сама имела,
и в ней хотела насадить дружбу, но не обязанность, не должность или рабское повиновение. Не допустил ее рок зрети плодов ее насаждений. Она
нас оставила с твердостию духа <...>. Уподоблялся ей, мы совсем ее не потеряем. Она поживет с нами, доколе к ней не отыдем. Ведаете, что любезнейшая моя с вами беседа есть беседовати о родшей вас. Тогда, мнится,
душа ее беседует с нами, тогда становится она нам присутственна, тогда в
нас она является, тогда она еще жива. – И отирал вещающий капли задержанных в душе слез.
Сколь мало обязаны вы мне за рождение, толико же обязаны и за воскормление. Когда я угощаю пришельца, когда питаю птенцов пернатых, когда даю пищу псу, лижущему мою десницу, – их ли ради сие делаю? Отраду, увеселение или пользу в том нахожу мою собственную. С таковым же
побуждением производят воскормление детей. Родившиеся в свет, вы стали граждане общества, в коем живете. Мой был долг вас воскормить; ибо
если бы допустил до вас кончину безвременную, был бы убийца.
<...> Хваля вас, меня хвалят. Что успел бы я, если бы вы вдалися пороку, чужды были учения, тупы в рассуждениях, злобны, подлы, чувствительности не имея? Не только сострадатель был бы я в вашем косвенном
хождении, но жертва, может быть, вашего неистовства. Но ныне спокоен
остаюся, отлучая вас от себя; разум прям, сердце ваше крепко, и я живу в
нем. О друзья мои, сыны моего сердца! Родив вас, многие имел я должности в отношении к вам, но вы мне ничем не должны; я ищу вашей дружбы и
любви; если вы мне ее дадите, блажен отыду к началу жизни и не возмущуся при кончине, оставляя вас навеки, ибо поживу на памяти вашей. Но если
я исполнил должность мою в воспитании вашем, обязан сказати ныне вам
вину, почто вас так, а не иначе воспитывал и для чего сему, а не другому
вас научили и для того услышите повесть о воспитании вашем и познайте
вину всех моих над вами деяний.
Со младенчества вашего принуждения вы не чувствовали. Хотя в деяниях ваших вождаемы были рукою моею, не ощущали, однако же, николи
ее направления. Деяния ваши были предузнаты и предваряемы; не хотел я,
чтобы робость или послушание повиновения малейшею чертою ознаменовала на вас тяжесть своего перста. И для того дух ваш, не терпящ веления
безрассудного, кроток к совету дружества. Но если, младенцам вам сущим,
находил я, что уклонился он пути, мною назначенного, устремляемы случайным ударением, тогда остановлял я ваше шествие или, лучше сказать,
неприметно вводил в прежний путь, яко поток, оплоты прорывающий, искусною рукою обращается в свои берега.
<...> Не ропщите на меня, если будете иногда осмеяны, что не имеете
казистого восшествия, что стоите, как телу вашему покойнее, а не как обычай или мода велит; что одеваетеся не со вкусом, что волосы ваши кудрятся рукою природы, а не чесателя. Не ропщите, если будете небрежены в
собраниях, а особливо от женщин, для того что не умеете хвалить их красоту; но вспомните, что вы бегаете быстро, что плаваете не утомляяся, что
подымаете тяжести без натуги, что умеете водить соху, вскопать ряду, владеете косою и топором, стругом и долотом; умеете ездить верхом, стре-
32
лять. Не опечальтеся, что вы скакать не умеете как скоморохи. Ведайте, что
лучшее плясание ничего не представляет величественного; и если некогда
тронуты будете зрением оного, то любострастие будет тому корень, все же
другое оному постороннее. Но вы умеете изображать животных и неодушевленных, изображать черты царя природы, человека. В живописи найдете вы истинное услаждение не токмо чувств, но и разума. Я вас научил музыке, дабы дрожащая струна согласно вашим нервам возбуждала дремлющее сердце; ибо музыка, приводя внутренность в движение, делает мягкосердие в нас привычкою. Научил я вас и варварскому искусству сражаться мечом. Но сие искусство да пребудет в вас мертво, доколе собственная
сохранность того не востребует. Оно, уповаю, не сделает вас наглыми; ибо
вы твердый имеете дух и обидою не сочтете, если осел вас улягнет или
свинья смрадным до вас коснется рылом. Не бойтесь сказать никому, что
вы корову доить умеете, что шти и кашу сварите или зажаренный вами кусок мяса будет вкусен. Тот, кто сам умеет что сделать, умеет заставить
сделать и будет на погрешности снисходителен, зная все в исполнении
трудности.
Преподавая вам сведения о науках, не оставил я ознакомить вас с
различными народами, изучив вас языкам иностранным. Но, прежде всего,
попечение мое было, да познаете ваш собственный, да умеете на оном
изъяснять ваши мысли словесно и письменно, чтобы изъяснение сие было
в вас непринужденно и поту на лице не производило. Английский язык, а
потом латинский старался я вам известнее сделать других. Ибо упругость
духа вольности, перехода в изображение речи, приучит и разум к твердым
понятиям, столь во всяких правлениях нужным. Но если рассудку вашему
предоставлял я направлять стопы ваши в стезях науки, тем бдительнее
тщился быть во нравственности вашей. Старался умерять в вас гнев мгновения, подвергая рассудку гнев продолжительный, мщение производящий.
Мщение!.. Душа ваша мерзит его.
Ныне будете сами себе вожди. Будьте опрятны в одежде вашей; тело
содержите в чистоте; ибо чистота служит ко здравию, а неопрятность и
смрадность тела нередко отверзает неприметную стезю к гнусным порокам.
Но не будьте и в сем неумеренны. Не гнушайтесь пособить, поднимая погрязшую во рве телегу, и тем облегчить упадшего; вымараете руки, ноги и
тело, но просветите сердце. Ходите в хижины уничижения; утешайте томящегося нищетою; вкусите его брашна, и сердце ваше усладится, дав отраду
скорбящему.
Итак, умеренность во страсти есть благо <...>. Чрезвычайность во
страсти есть гибель; бесстрастие есть нравственная смерть.
Если желаете о супружестве иметь понятие, воспомяните о родшей
вас. Представьте меня с нею и с вами, возобновите слуху вашему глаголы
наши и взаимные лобызания и приложите картину сию к сердцу вашему.
Приступим ныне вкратце к правилам общежития. <...> Правила общежития относятся ко исполнению обычаев и нравов народных, или ко исполнению закона, или ко исполнению добродетели. Если в обществе нравы и
обычаи не противны закону, если закон не полагает добродетели преткновений в ее шествии, то исполнение правил общежития есть легко. Но где
33
таковое общество существует? Все известные нам многими наполнены во
нравах и обычаях, законах и добродетелях противоречиями. И оттого трудно становится исполнение должности человека и гражданина, ибо нередко
они находятся в совершенной противуположности.
Понеже добродетель есть вершина деяний человеческих, то исполнение ее ничем не долженствует быть препинаемо. Небреги обычаев и нравов, небреги закона гражданского и священного, столь святыя в обществе
вещи, буде исполнение оных отлучает тебя от добродетели. Не дерзай николи нарушения ее прикрывати робостию благоразумия. Благоденствен без
нее будешь во внешности, но блажен николи.
Последуя тому, что налагают на нас обычаи и нравы, мы приобретаем
благоприятство тех, с кем живем. Исполняя предписание закона, можем приобрести название честного человека. Исполняя же добродетель, приобретем
общую доверенность, почтение и удивление, даже и в тех, кто бы не желал
их ощущать в душе своей. Коварный афинский сенат, подавая чашу с отравою Сократу, трепетал во внутренности своей пред его добродетелию.
Не дерзай никогда исполнять обычая в предосуждение закона. Закон,
каков ни худ, есть связь общества. И если бы сам государь велел тебе нарушить закон, не повинуйся ему, ибо он заблуждает себе и обществу во
вред. Да уничтожит закон, яко же нарушение оного повелевает, тогда повинуйся, ибо в России государь есть источник законов.
Но если бы закон, или государь, или бы какая-либо на земли власть
подвизала тебя на неправду и нарушение добродетели, пребудь в оной неколебим. Не бойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения, ниже самой смерти. Пребудь незыблем в душе твоей, яко камень среди бунтующих, но немощных валов. Ярость мучителей твоих раздробится о
твердь твою; и если предадут тебя смерти, осмеяны будут, а ты поживешь
на памяти благородных душ до скончания веков. Убойся заранее именовать
благоразумием слабость в деяниях, сего первого добродетели врага. Сегодня нарушишь ее уважения ради какового, завтра нарушение ее казаться
будет самою добродетелию; и так порок воцарится в сердце твоем и исказит черты непорочности в душе и на лице твоем.
Добродетели суть или частные, или общественные. Побуждения к первым суть всегда мягкосердие, кротость, соболезнование и корень всегда их
благ. Побуждения к добродетелям общественным нередко имеют начало
свое в тщеславии и любочестии. Но для того не надлежит остановляться в
исполнении их. Предлог, над ним же вращаются, придает им важности. В
спасшем Курции отечество свое от пагубоносныя язвы никто не зрит ни
тщеславного, ни отчаянного или наскучившего жизнию, но ироя. Если же
побуждения наши к общественным добродетелям начало свое имеют в человеколюбивой твердости души, тогда блеск их будет гораздо больший.
Упражняйтеся всегда в частных добродетелях, дабы могли удостоиться исполнения общественных.
<...> Если случится, что смерть пресечет дни мои прежде, нежели в
благом пути отвердеете, и, юны еще, восхитят вас страсти из стези рассудка, – то не отчаивайтеся, соглядая иногда превратное ваше шествие. В заблуждении вашем, в забвении самих себя возлюбите добро.
34
ВАЛДАЙ
<...> Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок? Всякого проезжающего наглые валдайские
и стыд сотрясшие девки останавливают и стараются возжигать в путешественнике любострастие, воспользоваться его щедростью на счет своего целомудрия. Сравнивая нравы жителей сея в города произведенныя деревни
со нравами других российских городов, подумаешь, что она есть наидревнейшая и что развратные нравы суть единые токмо остатки ее древнего построения. Но как немного более ста лет, как она населена, то можно судить,
сколь развратны были и первые его жители.
Бани бывали и ныне бывают местом любовных торжествований. Путешественник, условясь о пребывании своем с услужливою старушкою или
парнем, становится на двор, где намерен приносить жертву всеобожаемой
Ладе. Настала ночь. Баня для него уже готова. Путешественник раздевается, идет в баню, где его встречает или хозяйка, если молода, или ее дочь,
или свойственницы ее, или соседки. Отирают его утомленные члены; омывают его грязь. Сие производят, совлекши с себя одежды, возжигают в нем
любострастный огнь, и он препровождает тут ночь, теряя деньги, здравие и
драгоценное на утешествие время. Бывало, сказывают, что оплошного и
отягченного любовными подвигами и вином путешественника сии любострастные чудовища предавали смерти, дабы воспользоваться его имением.
Не ведаю, правда ли сие, но то правда, что наглость валдайских девок
сократилася. И хотя они не откажутся и ныне удовлетворить желаниям путешественника, но прежней наглости в них не видно. <...> Любовная летопись
гласит, что валдайские красавицы от любви не умирали, разве в больнице.
Нравы валдайские переселилися и в близлежащий почтовый стан,
Зимногорье. Тут для путешественника такая же бывает встреча, как и в
Валдаях. Прежде всего представятся взорам разрумяненные девки с баранками. Но как молодые мои лета уже прошли, то я поспешно расстался с
мазаными валдайскими и зимногорскими сиренами.
ЕДРОВО
Доехав до жилья, я вышел из кибитки. Неподалеку от дороги над водою стояло много баб и девок. Страсть, господствовавшая во всю жизнь
надо мною, но уже угасшая, по обыкшему ее стремлению направила стопы
мои к толпе сельских сих красавиц. Толпа сия состояла более нежели из
тридцати женщин. Все они были в праздничной одежде, шеи голые, ногие
босые, локти наруже, платье заткнутое спереди за пояс, рубахи белые, взоры веселые, здоровье на щеках начертанное. Приятности, загрубевшие хотя от зноя и холода, но прелестны без покрова хитрости; красота юности в
полном блеске, в устах улыбка или смех сердечный; а от него виден становился ряд зубов белее чистейшей слоновой кости. Зубы, которые бы щеголих с ума свели. Приезжайте сюда, любезные наши боярыньки московские
и петербургские, посмотрите на их зубы, учитесь у них, как их содержать в
чистоте. Зубного врача у них нет. Не сдирают они каждый день лоску с зубов своих ни щетками, ни порошками. Станьте, с которою из них вы хотите,
рот со ртом; дыхание ни одной из них не заразит вашего легкого. А ваше,
ваше, может быть, положит в них начало... болезни... боюсь сказать какой;
35
хотя не закраснеетесь, но рассердитесь. Разве я говорю неправду? Муж
одной из вас таскается по всем скверным девкам; получив болезнь, пьет,
ест и спит с тобою же, другая же сама изволит иметь годовых, месячных,
недельных или, чего боже спаси, ежедневных любовников. Познакомясь сегодня и совершив свое желание, завтра его не знает; да и того иногда не
знает, что уже она одним его поцелуем заразилася. А ты, голубушка моя,
пятнадцатилетняя девушка, ты еще непорочна, может быть; но на лбу твоем я вижу, что кровь твоя вся отравлена. Блаженной памяти твой батюшка
из докторских рук не выхаживал; а государыня матушка твоя, направляя тебя на свой благочестивый путь, нашла уже тебе женишка, заслуженного
старика генерала, и спешит тебя выдать замуж для того только, чтобы не
сделать с тобой визита воспитательному дому. А за стариком-то жить нехудо, своя воля; только бы быть замужем, дети все его. Ревнив он будет, тем
лучше: более удовольствия в украденных утехах; с первой ночи приучить
его можно не следовать глупой старой моде с женою спать вместе.
<...> Покуда я глядел на моющих платье деревенских нимф, кибитка
моя от меня уехала. Я намерялся идти за нею вслед, как одна девка, по виду лет двадцати, а, конечно, не более семнадцати, положа мокрое свое
платье в коромысло, пошла одною со мной дорогою. Поравнявшись, начал
я с нею разговор.
– Не трудно ли тебе нести такую тяжелую ношу, любезная моя, как назвать, не знаю?
– Меня зовут Анною, а ноша моя не тяжела.
– <...> Я люблю женщин <...>; а более люблю сельских женщин или
крестьянок для того, что они не знают еще притворства, не налагают на себя личины притворной любви, а когда любят, то любят от всего сердца и искренно...
Девка в сие время смотрела на меня, выпяля глаза с удивлением. <...>
Они в глазах дворян старых и малых суть твари, созданные на их угождение. Так они и поступают; а особливо с несчастными, подвластными их велениям. В бывшее пугачевское возмущение, когда все служители вооружились на своих господ, некакие крестьяне (повесть сия нелжива), связав своего господина, везли его на неизбежную казнь. Какая тому была причина?
Он во всем был господин добрый и человеколюбивый, но муж не был безопасен в своей жене, отец в дочери. Каждую ночь посланные его приводили
к нему на жертву бесчестия ту, которую он того дня назначил. Известно в
деревне было, что он омерзил 60 девиц, лишив их непорочности. Наехавшая команда выручила сего варвара из рук на него злобствовавших. Глупые крестьяне, вы искали правосудия в самозванце! Но почто не поведали
вы сего законным судиям вашим? Они бы предали его гражданской смерти,
и вы бы невинны осталися. А теперь злодей сей спасен. Блажен, если близкий взор смерти образ мыслей его переменил и дал жизненным его сокам
другое течение. Но крестьянин в законе мертв, сказали мы... Нет, нет, он
жив, он жив будет, если того восхочет...
– Если, барин, ты не шутишь, – сказала мне Анюта, – то вот что я тебе
скажу; у меня отца нет, он умер уже года с два, есть матушка да маленькая
сестра. Батюшка нам оставил пять лошадей и три коровы. Есть и мелкого
36
скота и птиц довольно; но нет в дому работника. Меня было сватали в богатый дом за парня десятилетнего; но я не захотела. Что мне в таком ребенке; я его любить не буду. А как он придет в пору, то я состареюсь, и он будет
таскаться с чужими. Да сказывают, что свекор сам с молодыми невестками
спит, покуда сыновья вырастают. Мне для того-то не захотелось идти к нему в семью. Я хочу себе ровню. Мужа буду любить, да и он меня любить
будет, в том не сомневаюсь. Гулять с молодцами не люблю, а замуж, барин, хочется.
– Да знаешь ли для чего? – говорила Анюта, потупя глаза.
– Скажи, душа моя Анютушка, не стыдись; все слова в устах невинности непорочны.
– Вот что я тебе скажу. Прошлым летом, год тому назад, у соседа нашего женился сын на моей подруге, с которой я хаживала всегда в посиделки. Муж ее любит, а она его столько любит, что на десятом месяце, после
венчанья родила ему сынка. Всякий вечер она выходит пестовать его за ворота. Она на него не наглядится. Кажется, будто и паренек-то матушку свою
уж любит. Как она скажет ему: агу, агу, он и засмеется. Мне-то до слез каждый день; мне бы уж хотелось самой иметь такого же паренька...
Я не мог тут вытерпеть и, обняв Анюту, поцеловал ее от всего моего
сердца.
– Смотри, барин, какой ты обманщик, ты уж играешь со мною. Поди,
сударь, прочь от меня, оставь бедную сироту, – сказала Анюта, заплакав. –
Кабы батюшка жив был и это видел, то бы, даром, что ты господин, нагрел
бы тебе шею.
– Не оскорбляйся, моя любезная Анютушка, не оскорбляйся, поцелуй
мой не осквернит твоей непорочности. Она в глазах моих священна. Поцелуй мой есть знак моего к тебе почтения, и был исторгнут восхищением
глубоко тронутыя души. Не бойся меня, любезная Анюта, не подобен я
хищному зверю, как наши молодые господчики, которые отъятие непорочности ни во что вменяют. Если бы я знал, что поцелуй мой тебя оскорбит, то
клянусь тебе богом, что не дерзнул на него.
– Рассуди сам, барин, как не сердиться за поцелуй, когда все они уже
посулены другому. Они заранее все уж отданы, и я в них не властна.
– Ты меня восхищаешь. Ты уже любить умеешь.
– Ах, барин, для того, что его не отдают к нам в дом. Просят ста рублей. А матушка меня не отдает; я у ней одна работница.
– Да любит ли он тебя?
– Как же не так. Он приходит по вечерам к нашему дому, и мы вместе
смотрим на паренька моей подруги... Ему хочется такого же паренька. Грустно мне будет; но быть терпеть. Ванюха мой хочет идти на барках в Питер в
работу и не воротится, покуда не выработает ста рублей для своего выкупа.
– Не пускай его, любезная Анютушка, не пускай его; он идет на свою
гибель. Там он научится пьянствовать, мотать, лакомиться, не любить пашню, а больше всего он и тебя любить перестанет.
– Ах, барин, не стращай меня, – сказала Анюта, почти заплакав.
– А тем скорее, Анюта, если ему случится служить в дворянском доме.
Господский пример заражает верхних служителей, нижние заражаются от
37
верхних, а от них язва разврата достигает и до деревень. Пример есть истинная чума; кто что видит, тот то и делает.
– Да как же быть? Так мне и век за ним не бывать замужем. Ему пора
уже жениться; по чужим он не гуляет; меня не отдают к нему в дом; то высватают за него другую, а я, бедная, умру с горя...
– Нет, моя любезная Анютушка, ты завтра же будешь за ним. Поведи
меня к своей матери.
– Да вот наш двор, – сказала она, остановясь. – Проходи мимо, матушка меня увидит и худое подумает. А хотя она меня и не бьет, но одно ее
слово мне тяжелее всяких побоев.
<...> В избе я нашел Анютину мать, которая квашню месила; подле нее
на лавке сидел будущий ее зять. Я без дальних околичностей ей сказал, что
я желаю, чтобы дочь ее была замужем за Иваном, и для того принес ей то,
что надобно для отвлечения препятствия в сем деле.
– Спасибо, барин, – сказала старуха, – в этом теперь уж нет нужды.
Ванюха теперь пришед сказывал, что отец уж отпускает его ко мне в дом. И
у нас в воскресенье будет свадьба.
– Пускай же посуленное от меня будет Анюте в приданое.
– И на том спасибо. Приданого бояре девкам даром не дают. Если ты
над моей Анютой что сделал и за то даешь ей приданое, то бог тебя накажет за твое беспутство; а денег я не возьму. Если же ты добрый человек и
не ругаешься над бедными, то, взяв я от тебя деньги, лихие люди мало ли
что подумают.
Я не мог надивиться, нашед толико благородства в образе мыслей у
сельских жителей. Анюта между тем вошла в избу и матери своей меня
расхвалила. Я было еще попытался дать им денег, отдавая их Ивану на заведение дому; но он мне сказал:
– У меня, барин, есть две руки, я ими дом и заведу.
Приметив, что им мое присутствие было не очень приятно, я их оставил и возвратился к моей кибитке.
Едущу мне из Едрова, Анюта из мысли моей не выходила. Невинная
ее откровенность мне нравилась безмерно. Благородный поступок ее матери меня пленил. Я сию почтенную мать с засученными рукавами за квашнею или с подойником подле коровы сравнивал с городскими матерями.
Крестьянка не хотела у меня взять непорочных, благоумышленных ста рублей, которые в соразмерности состояний долженствуют быть для полковницы, советницы, майорши, генеральши пять, десять, пятнадцать тысяч или
более.
Анюта, Анюта, ты мне голову скружила!
Но что такое за обыкновение, о котором мне Анюта сказывала? Ее хотели отдать за десятилетнего ребенка. Кто мог такой союз дозволить? Почто не ополчится рука, законы хранящая, на искоренение толикого злоупотребления? В христианском законе брак есть таинство, в гражданском – соглашение или договор. Какой священнослужитель может неравный брак
благословить или какой судия <...> Неравенством лет нарушается единый
из первейших законов природы; то может ли положительный закон быть
тверд, если основания не имеет в естественности?
38
ХОТИЛОВ
ПРОЕКТЫ В БУДУЩЕМ
{«Проекты в будущем» в главах «Хотилов», «Выдропуск» и картина
торга крепостными в главе «Медное» написаны от лица друга путешественника, мысль которого наглядно эволюционирует от либерализма к революционности.}
<...> Но кто между нами оковы носит, кто ощущает тяготу неволи?
Земледелец! Кормилец <...> тот, кто дает нам здравие, кто житие наше
продолжает, не имея права распоряжати ни тем, что обработывает, ни тем,
что производит. <...> Но колико удалилися мы от первоначального общественного положения относительно владения. У нас тот, кто естественное
имеет к оному право, не токмо от того исключен совершенно но, работая
ниву чуждую, зрит пропитание свое, зависящее от власти другого! Просвещенным вашим разумам истины сии не могут быть не понятны, но деяния
ваши в исполнении сих истин препинаемы <...> Может ли государство, где
две трети граждан лишены гражданского звания и частию в законе мертвы,
назваться блаженным? Можно ли назвать блаженным гражданское положение крестьянина в России?
<...> Но если принужденная работа дает меньше плода, то не достигающие своея цели земные произведения толико же препятствуют размножению народа. Где есть нечего, там хотя бы и было кому есть, не будет;
умрут от истощения. Тако нива рабства, неполный давая плод, мертвит
граждан, им же определены были природою избытки ее. Но сим ли одним
препятствуется в рабстве многоплодие? К недостатку прокормления и
одежд присовокупили работу до изнеможения. Умножь оскорбления надменности и уязвления силы, даже в любезнейших человека чувствованиях;
тогда со ужасом узришь возникшее губительство неволи, которое тем только различествует от побед и завоеваний, что не дает тому родиться, что победа посекает. Но от нее вреда больше. Легко всяк усмотрит, что одна
опустошает случайно, мгновенно; другая губит долговременно и всегда; одна, когда прейдет полет ее, скончаевает свое свирепство; другая там только
начнется, где сия кончится, и примениться не может, разве опасным всегда
потрясением всея внутренности.
Но нет ничего вреднее, как всегдашнее на предметы рабства воззрение. С одной стороны родится надменность, а с другой робость. Тут никакой
не можно быть связи, разве насилие. И сие, собирался в малую среду, властнодержавное свое действие простирает всюду тяжко. Но поборники неволи, власть и острие в руках имеющих, сами ключимые во узах, наияростнейшие оныя бывают проповедники. Кажется, что дух свободы толико в рабах иссякает, что не токмо не желают скончать своего страдания, но тягостно им зрети, что другие свободствуют. Оковы свои возлюбляют, если возможно человеку любити свою пагубу <...> Не ведаете ли, любезные наши
сограждане, коликая нам предстоит гибель, в коликой мы вращаемся опасности. <...> Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в разлитии его противиться ему не возможет. Таковы суть братия
наша, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И
39
се пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и
отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем
стремительнее они будут во мщении своем. <...> Идите, возлюбленные
мои, идите в жилища братии вашей, возвестите о перемене их жребия.
<...> Вот что я прочел в замаранной грязию бумаге, которую поднял
перед почтовою избою, вылезая из кибитки моей.
Вошед в избу, я спрашивал, кто были проезжие незадолго передо
мною.
– Последний из проезжающих, – говорил мне почталион, – был человек
лет пятидесяти; едет по подорожной в Петербург. Он у нас забыл связку
бумаг, которую я теперь за ним вслед посылаю.
Я попросил почталиона, чтобы он дал мне сии бумаги посмотреть, и,
развернув их, узнал, что найденная мною к ним же принадлежала. Уговорил
я его, чтобы он бумаги сии отдал мне, дав ему за то награждение. Рассматривая их, узнал, что они принадлежали искреннему моему другу, а потому
не почел я их приобретение кражею. Он их от меня доселе не требовал, а
оставил мне на волю, что я из них сделать захочу.
Между тем как лошадей моих перепрягали, я любопытствовал, рассматривая доставшиеся мне бумаги. Множество нашел я подобных той, которую читал. Везде я обретал расположения человеколюбивого сердца,
везде видел гражданина будущих времен. Более всего видно было, что
друг мой поражен был несоразмерностию гражданских чиносостояний. Целая связка бумаг и начертаний законоположений относилася к уничтожению
рабства в России. Но друг мой, ведая, что высшая власть недостаточна в
силах своих на претворение мнений мгновенно, начертал путь по временным законоположениям к постепенному освобождению земледельцев в
России. Я здесь покажу шествие его мыслей. Первое положение относится
к разделению сельского рабства и рабства домашнего. Сие последнее
уничтожается прежде всего, и запрещается поселян и всех, по деревням в
ревизии написанных, брать в домы. Буде помещик возьмет земледельца в
дом свой для услуг или работы, то земледелец становится свободен. Дозволить крестьянам вступать в супружество, не требуя на то согласия своего
господина. Запретить брать выводные деньги. Второе положение относится
к собственности и защите земледельцев. Удел в земле, ими обработываемый, должны они иметь собственностию; ибо платят сами подушную подать. Приобретенное крестьянином имение ему принадлежать долженствует; никто его оного да не лишит самопроизвольно. Восстановление земледельца во звание гражданина. Надлежит ему судиму быть ему равными, то
есть в расправах, в кои выбирать и из помещичьих крестьян. Дозволить
крестьянину приобретать недвижимое имение, то есть покупать землю.
Дозволить невозбранное приобретение вольности, платя господину за отпускную известную сумму. Запретить произвольное наказание без суда.<...>
За сим следует совершенное уничтожение рабства.
ВЫШНИЙ ВОЛОЧОК
Никогда не проезжал я сего нового города, чтобы не посмотреть здешних шлюзов. Первый, которому на мысль пришло уподобиться природе в ее
40
благодеяниях и сделать реку рукодельною, дабы все концы единый области
в вящее привести сообщение, достоин памятника для дальнейшего потомства. Когда нынешние державы от естественных и нравственных причин
распадутся, позлащенные нивы их порастут тернием и в развалинах великолепных чертогов гордых их правителей скрываться будут ужи, змеи и жабы, – любопытный путешественник обрящет глаголющие остатки величия
их в торговле. Римляне строили большие дороги, водоводы, коих прочности
и ныне по справедливости удивляются; но о водяных сообщениях, каковые
есть в Европе, они не имели понятия. Дороги, каковые у римлян бывали,
наши не будут никогда; препятствует тому наша долгая зима и сильные морозы, а каналы и без обделки не скоро заровняются.
Немало увеселительным было для меня зрелище вышневолоцкий канал, наполненный барками, хлебом и другим товаром нагруженными и приуготовляющимися к прохождению сквозь шлюз для дальнейшего плавания
до Петербурга. Тут видно было истинное земли изобилие и избытки земледелателя; тут явен был во всем своем блеске мощный побудитель человеческих деяний – корыстолюбие. Но если при первом взгляде разум мой усладился видом благосостояния, при раздроблении мыслей скоро увяло мое
радование. Ибо воспомянул, что в России многие земледелатели не для
себя работают.
Повествование о некотором помещике докажет, что человек корысти
ради своей забывает человечество в подобных ему и что за примером жестокосердия не имеем нужды ходить в дальные страны, ни чудес искать за
тридевять земель; в нашем царстве они в очью совершаются.
Некто <...> из столицы приобрел небольшую деревню во сто или в двести душ, определил себя искать прибытка в земледелии. Не сам он себя
определял к сохе, но <...> своих крестьян. <...> Для достижения своея цели
он отнял у них малый удел пашни и сенных покосов, которые им на необходимое пропитание дают обыкновенно дворяне, яко в воздаяние за все принужденные работы, которые они от крестьян требуют. Словом, сей дворянин некто всех крестьян, жен их и детей заставил во все дни года работать
на себя. А дабы они не умирали с голоду, то выдавал он им определенное
количество хлеба, под именем месячины известное. Те, которые не имели
семейств, месячины не получали, а по обыкновению лакедемонян пировали
вместе на господском дворе, употребляя, для соблюдения желудка, в мясоед пустые шти, а в посты и постные дни хлеб с квасом. Истинные розговины
бывали разве на святой неделе. Обувь для зимы, то есть лапти, делали они
сами; онучи получали от господина своего; а летом ходили босы. Следственно, у таковых узников не было ни коровы, ни лошади, ни овцы, ни барана. Дозволение держать их господин у них не отымал, но способы к тому.
Кто был позажиточнее, кто был умереннее в пище, тот держал несколько
птиц, которых господин иногда бирал себе, платя за них цену по своей воле.
При таковом заведении неудивительно, что земледелие в деревне
г. некто было в цветущем состоянии. Когда у всех худой был урожай, у него
родился хлеб сам-четверт; когда у других хороший был урожай, то у него
приходил хлеб сам-десят и более. В недолгом времени к двумстам душам
он еще купил двести жертв своему корыстолюбию; и, поступая с ними рав-
41
но, как и с первыми, год от году умножал свое имение, усугубляя число стенящих на его нивах. Теперь он считает их уже тысячами и славится как знаменитый земледелец.
Варвар! Не достоин ты носить имя гражданина.
ВЫДРОПУСК
Здесь я опять принялся за бумаги моего друга. В руки мне попалося
начертание положения о уничтожении придворных чинов.
ПРОЕКТЫ В БУДУЩЕМ
Вводя нарушенное в обществе естественное и гражданское равенство
постепенно паки, предки наши не последним способом почли к тому умаление прав дворянства. Полезно государству в начале своем личными своими
заслугами, ослабело оно в подвигах своих наследственностию, и, сладкий
при насаждении, его корень произнес, наконец, плод горький. На месте мужества водворилася надменность и самолюбие, на месте благородства души и щедроты посеялися раболепие и самонедоверение, истинные скряги
на великое. Жительствуя среди столь тесных душ и подвигаемых на малости ласкательством наследственных достоинств и заслуг, многие государи
возмнили, что они боги <...>. В таковой дремоте величания власти возмечтали цари, что рабы их и прислужники, ежечасно предстоя взорам их, заимствуют их светозарности; что блеск царский, преломлялся, так сказать, в
сих новых отсветках, многочисленнее является и с сильнейшим отражением. На таковой блуждения мысли воздвигли цари придворных истуканов,
кои, истинные, феатральные божки, повинуются свистку или трещотке.
Сложив с сердца нашего столь несносное бремя, долговременно нас
теснившее, мы явим вам наши побуждения на уничтожение столь оскорбительных для заслуги и достоинства чинов. Вещают вам, и предки наши тех
же были мыслей, что царский престол, коего сила во мнении граждан коренится, отличествовати долженствует внешним блеском, дабы мнение о его
величестве было всегда всецело и нерушимо. Оттуда пышная внешность
властителей народов, оттуда стадо рабов, их окружающих. Согласиться
всяк должен, что тесные умы и малые души внешность поражать может. Но
чем народ просвещеннее, то есть чем более особенников в просвещении,
тем внешность менее действовать может. Нума мог грубых еще римлян
уверить, что нимфа Эгерия наставляла его в его законоположениях. Слабые перуанцы охотно верили Манко Капаку, что он сын солнца и что закон
его с небеси истекает. Магомет мог прельстить скитающихся аравитян
своими бреднями. Все они употребляли внешность, даже Моисей принял
скрыжали заповедей на горе среди блеску молний. Но ныне, буде кто
прельстити восхощет, не блистательная нужна ему внешность, но внешность доводов, если так сказать можно, внешность убеждений.
ТОРЖОК
Здесь, на почтовом дворе, встречен я был человеком, отправляющимся в Петербург на скитание прошения. Сие состояло в снискании дозволения завести в сем городе свободное книгопечатание. Я ему говорил, что на
сие дозволения не нужно; ибо свобода на то дана всем. Но он хотел свободы в ценсуре; и вот его о том размышления.
– Типографии у нас всем иметь дозволено, и время то прошло, в которое боялися поступаться оным дозволением частным людям; и для того,
42
что в вольных типографиях ложные могут печатаны быть пропуски, удерживались от общего добра и полезного установления. Теперь свободно иметь
всякому орудия печатания, но то, что печатать можно, состоит под опекою.
Ценсура сделана нянькою рассудка, остроумия, воображения, всего великого и изящного.
Но где есть няньки, то следует, что есть ребята, ходят на помочах, от
чего нередко бывают кривые ноги; где есть опекуны, следует, что есть малолетные, незрелые разумы, которые собою править не могут. Если же всегда пребудут няньки и опекуны, то ребенок долго ходить будет на помочах и
совершенный на возрасте будет каляка. Недоросль будет всегда Митрофанушка, без дядьки не ступит, без опекуна не может править своим наследием. Таковы бывают везде следствия обыкновенной ценсуры, и чем она
строже, тем следствия ее пагубнее.
Правительство, дознав полезность книгопечатания, оное дозволило
всем; но, паче еще дознав, что запрещение в мыслях утщетит благое намерение вольности книгопечатания, поручило ценсуру, или присмотр за изданиями, управе благочиния. Долг же ее в отношении сего может быть только
тот, чтобы воспрещать продажу язвительных сочинений. Но и сия ценсура
есть лишняя. Один несмысленный урядник благочиния может величайший
в просвещении сделать вред и на многие лета остановку в шествии разума;
запретит полезное изобретение, новую мысль и всех лишит великого. Пример в малости. В управу благочиния принесен для утверждения перевод
романа. Переводчик, следуя автору, говоря о любви, назвал ее: лукавым
богом. Мундирный ценсор, исполненный духа благоговения, сие выражение
почернил, говоря: «неприлично божество называть лукавым». <...>Такого
же роду ценсор не дозволял, сказывают, печатать те сочинения, где упоминалося о боге, говоря: я с ним дела никакого не имею. Если в каком-либо
сочинении порочили народные нравы того или другого государства, он недозволенным сие почитал, говоря: Россия имеет тракт дружбы с ним. Если
упоминалося где о князе или графе, того не дозволял он печатать, говоря:
сие есть личность, ибо у нас есть князья и графы между знатными особами.
<...> Обыкновенные правила ценсуры суть: почеркивать, марать, не
дозволять, драть, жечь все то, что противно естественной религии и откровению, все то, что противно правлению, всякая личность, противное благонравию, устройству и тишине общей.
Заключу сим: ценсура печатаемого принадлежит обществу, оно дает
сочинителю венец или употребит листы на обвертки. Равно как ободрение
феатральному сочинителю дает публика, а не директор феатра, так и выпускаемому в мир сочинению ценсор ни славы не даст, ни бесславия. Завеса поднялась, взоры всех устремились к действованию; нравится – плещут;
не нравится – стучат и свищут. Оставь глупое на волю суждения общего;
оно тысячу найдет ценсоров. Наистрожайшая полиция не возможет так запретить дряни мыслей, как негодующая на нее публика. Один раз им воньмут, потом умрут они и не воскреснут вовеки. Но если мы признали бесполезность ценсуры или паче ее вред в царстве науки, то познаем обширную
и пользу вольности печатания.
43
МЕДНОЕ
«Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла, ой люли, люли, люли, люди...» Хоровод молодых баб и девок; пляшут; подойдем поближе, –
говорил я сам себе, развертывая найденные бумаги моего приятеля. Но я
читал следующее. Не мог дойти до хоровода. Уши мои задернулись печалию, и радостный глас нехитростного веселия до сердца моего не проник. О
мой друг! Где бы ты ни был, внемли и суди.
Каждую неделю два раза вся Российская империя извещается, что
Н.Н. или Б.Б. в несостоянии или не хочет платить того, что занял, или взял,
или чего от него требуют. Занятое либо проиграно, проезжено, прожито,
проедено, пропито, про... или раздарено, потеряно в огне или воде, или Н.Н.
или Б.Б. другими какими-либо случаями вошел в долг или под взыскание.
То и другое наравне в ведомостях приемлется. Публикуется: «Сего... дня
полуночи в 10 часов, по определению уездного суда или городового магистрата, продаваться будет с публичного торга отставного капитана Г... недвижимое имение, дом, состоящий в... части, под э.., и при нем шесть душ
мужеского и женского полу; продажа будет при оном доме. Желающие могут осмотреть заблаговременно».
На дешевое охотников всегда много. Наступил день и час продажи.
Покупщики съезжаются. В зале, где оная производится, стоят неподвижны
на продажу осужденные.
Старик лет в 75, опершись на вязовой дубинке, жаждет угадать, кому
судьба его отдаст в руки, кто закроет его глаза. С отцом господина своего
он был в Крымском походе, при фельдмаршале Минихе; в Франкфуртскую
баталию он раненого своего господина унес на плечах из строю. Возвратясь
домой, был дядькою своего молодого барина. Во младенчестве он спас его
от утопления, бросаясь за ним в реку, куда сей упал, переезжая на пароме,
и с опасностию своей жизни спас его. В юношестве выкупил его из тюрьмы,
куда посажен был за долги в бытность свою в гвардии унтер-офицером.
Старуха 80 лет, жена его, была кормилицею матери своего молодого
барина; его была нянькою и имела надзирание за домом до самого того часа, как выведена на сие торжище. Во все время службы своея ничего у господ своих не утратила, ничем не покорыстовалась, никогда не лгала, а если
иногда им досадила, то разве своим праводушием.
Женщина лет в 40, вдова, кормилица молодого своего барина. И доднесь чувствует она еще к нему некоторую нежность. В жилах его льется ее
кровь. Она ему вторая мать, и ей он более животом своим обязан, нежели
своей природной матери. Сия зачала его в веселии, о младенчестве его не
радела. Кормилица и нянька его были воспитанницы. Они с ним расстаются, как с сыном.
Молодица 18 лет, дочь ее и внучка стариков. Зверь лютый, чудовище,
изверг! Посмотри на нее, посмотри на румяные ее ланиты, на слезы, лиющиеся из ее прелестных очей. Не ты ли, не возмогши прельщением и обещаниями уловить ее невинности, ни устрашить ее непоколебимости угрозами и казнию, наконец, употребил обман, обвенчав ее за спутника твоих
мерзостей, и в виде его насладился веселием, которого она делить с тобой
гнушалася. Она узнала обман твой. Венчанный с нею не коснулся более ее
44
ложа, и ты, лишен став твоея утехи, употребил насилие. Четыре злодея, исполнители твоея воли, держа руки ее и ноги... но сего не окончаем. На челе
ее скорбь, в глазах отчаяние. Она держит младенца, плачевный плод обмана или насилия, но живой слепок прелюбодейного его отца. Родив его, позабыла отцово зверство, и сердце начало чувствовать к нему нежность.
Она боится, чтобы не попасть в руки ему подобного.
Младенец... Твой сын, варвар, твоя кровь. Иль думаешь, что где не
было обряда церковного, тут нет и обязанности? Иль думаешь, что данное
по приказанию твоему благословение наемным извещателем слова божия
сочетование их утвердило, иль думаешь, что насильственное венчание во
храме божием может назваться союзом? Всесильный мерзит принуждением, он услаждается желаниями сердечными. Они одни непорочны. О! колико между нами прелюбодейств и растления совершается во имя отца радостей и утешителя скорбей, при его свидетелях, недостойных своего сана.
<...> Едва ужасоносный молот испустил тупой свой звук и четверо несчастных узнали свою участь, – слезы, рыдание, стон пронзили уши всего
собрания. Наитвердейшие были тронуты.
ГОРОДНЯ
Въезжая в сию деревню, не стихотворческим пением слух мой был
ударяем, но пронзающим сердца воплем жен, детей и старцев. Встав из
моей кибитки, отпустил я ее к почтовому двору, любопытствуя узнать причину приметного на улице смятения.
Подошед к одной куче, узнал я, что рекрутский набор был причиною
рыдания и слез многих толпящихся. Из многих селений казенных и помещичьих сошлися отправляемые на отдачу рекруты.
В одной толпе старуха лет пятидесяти, держа за голову двадцатилетнего парня, вопила:
– Любезное мое дитятко, на кого ты меня покидаешь? Кому ты поручаешь дом родительский? Поля наши порастут травою, мохом – наша хижина.
Я, бедная престарелая мать твоя, скитаться должна по миру. Кто согреет
мою дряхлость от холода, кто укроет ее от зноя? Кто напоит меня и накормит? Да все то не столь сердцу тягостно; кто закроет мои очи при издыхании? Кто примет мое родительское благословение? Кто тело предаст общей нашей матери, сырой земле? Кто придет воспомянуть меня над могилою? Не капнет на нее твоя горячая слеза; не будет мне отрады той.
Подле старухи стояла девка уже взрослая. Она также вопила:
– Прости, мой друг сердечный, прости, мое красное солнушко. Мне,
твоей невесте нареченной, не будет больше ни утехи, ни веселья.
Не позавидуют мне подруги мои. Не взойдет надо мною солнце для радости. Горевать ты меня покидаешь ни вдовою, ни мужнею женою. Хотя бы
бесчеловечные наши старосты хоть дали бы нам обвенчатися; хотя бы ты,
мой милый друг, хотя бы одну уснул ноченьку, уснул бы на белой моей груди.
Авось ли бы бог меня помиловал и дал бы мне паренька на утешение.
Парень им говорил:
– Перестаньте плакать, перестаньте рвать мое сердце.
Зовет нас государь на службу. На меня пал жеребей. Воля божия. Кому
не умирать, тот жив будет. Авось либо я с полком к вам приду. Авось либо
45
дослужуся до чина. Не крушися, моя матушка родимая. Береги для меня
Прасковьюшку.
Совсем другого рода слова внял слух мой в близстоящей толпе. Среди
оной я увидел человека лет тридцати, посредственного роста, стоящего
бодро и весело на окрест стоящих взирающего.
– Услышал господь молитву мою, – вещал он. – Достигли слезы несчастного до утешителя всех. Теперь буду хотя знать, что жребий мой зависеть
может от доброго или худого моего поведения. Доселе зависел он от своенравия женского. Одна мысль утешает, что без суда батожьем наказан не
буду!
Узнав из речей его, что он господский был человек, любопытствовал от
него узнать причину необыкновенного удовольствия. На вопрос мой о сем
он ответствовал:
– Если бы, государь мой, с одной стороны поставлена была виселица,
а с другой глубокая река и, стоя между двух гибелей, неминуемо бы должно
было идти направо или налево, в петлю или в воду, что избрали бы вы, чего
бы заставил желать рассудок и чувствительность? Я думаю, да и всякий
другой избрал бы броситься в реку, в надежде, что, преплыв на другой брег,
опасность уже минется. Никто не согласился бы испытать, тверда ли петля,
своею шеею. Таков мой был случай. Трудна солдатская жизнь, но лучше
петли. Хорошо бы и то, когда бы тем и конец был, но умирать томною смертию, под батожьем, под кошками, в кандалах, в погребе, нагу, босу, алчущу,
жаждущу, при всегдашнем поругании; государь мой, хотя холопей считаете
вы своим имением, нередко хуже скотов, но, к несчастию их горчайшему,
они чувствительности не лишены. Вам удивительно, вижу я, слышать таковые слова в устах крестьянина; но, слышав их, для чего не удивляетесь
жестокосердию своей собратий, дворян?
И поистине не ожидал я сказанного от одетого в смурый кафтан, со
бритым лбом. Но, желая удовлетворить моему любопытству, я просил его,
чтобы он уведомил меня, как, будучи толь низкого состояния, он достиг понятий, недостающих нередко в людях, несвойственно называемых благородными.
– Если вы не поскучаете слышать моей повести, то я вам скажу, что я
родился в рабстве; сын дядьки моего бывшего господина. Сколь восхищаюсь я, что не назовут уже меня Ванькою, ни поносительным именованием,
ни позыва не сделают свистом. Старый мой барин, человек добросердечный, разумный и добродетельный, нередко рыдавший над участию своих
рабов, хотел за долговременные заслуги отца моего отличить и меня, дав
мне воспитание наравне с своим сыном. Различия между нами почти не
было <...>.Чему учили молодого боярина, тому учили и меня, наставления
нам во всем были одинаковы, и без хвастовства скажу, что во многом я
лучше успел своего молодого господина.
«Ванюша, – говорил мне старый барин, – счастие твое зависит совсем
от тебя. Ты более к учености и нравственности имеешь побуждений, нежели сын мой. Он по мне будет богат и нужды не узнает, а ты с рождения с
нею познакомился. Итак, старайся быть достоин моего о тебе попечения».
46
На семнадцатом году возраста молодого моего барина отправлен был
он и я в чужие края с надзирателем, коему предписано было меня почитать
сопутником, а не слугою. Отправляя меня, старый мой барин сказал мне:
«Надеюся, что ты возвратишься к утешению моему и своих родителей.
Раб ты в пределах сего государства, но вне оных ты свободен. Возвратясь
же в оное, уз, рождением твоим на тебя наложенных, ты не обрящешь».
Мы отсутственны были пять лет и возвращалися в Россию: молодой
мой барин в радости видеть своего родителя, а я, признаюсь, ласкаяся
пользоваться сделанным мне обещанием. Сердце трепетало, вступая опять
в пределы моего отечества. И поистине предчувствие его было не ложно. В
Риге молодой мой господин получил известие о смерти своего отца. Он был
оною тронут, я приведен в отчаяние.
Ибо все мои старания приобрести дружбу и доверенность молодого
моего барина всегда были тщетны. Он не только меня не любил, из зависти, может быть, тесным душам свойственной, но ненавидел.
Приметив мое смятение, известием о смерти его отца произведенное,
он мне сказал, что сделанное мне обещание не позабудет, если я того буду
достоин. В первый раз он осмелился мне сие сказать, ибо, получив свободу
смертию своего отца, он в Риге же отпустил своего надзирателя, заплатив
ему за труды его щедро. Справедливость надлежит отдать бывшему моему
господину, что он много имеет хороших качеств, но робость духа и легкомыслие оные помрачают.
Чрез неделю после нашего в Москву приезда бывший мой господин
влюбился в изрядную лицом девицу, но которая с красотой телесною соединяла скареднейшую душу и сердце жестокое и суровое. Воспитанная в
надменности своего происхождения, отличностию почитала только внешность, знатность, богатство. Чрез два месяца она стала супруга моего барина и моя повелительница. До того времени я не чувствовал перемены в
моем состоянии, жил в доме господина моего как его сотоварищ. Хотя он
мне ничего не приказывал, но я предупреждал его иногда желания, чувствуя его власть и мою участь. Едва молодая госпожа переступила порог дому, в котором она определялася начальствовать, как я почувствовал тягость моего жребия. Первый вечер по свадьбе и следующий день, в который я ей представлен был супругом ее как его сотоварищ, она занята была
обыкновенными заботами супружества; но ввечеру, когда при довольно
многолюдном собрании пришли все к столу и сели за первый ужин у новобрачных и я, по обыкновению моему, сел на моем месте на нижнем конце,
то новая госпожа сказала довольно громко своему мужу: если он хочет,
чтоб она сидела за столом с гостями, то бы холопей за оный не сажал. Он,
взглянув на меня и движим уже ею, прислал ко мне сказать, чтобы я из-за
стола вышел и ужинал бы в своей горнице.
Скоро мне земляки мои нашли учительское место за сто пятьдесят
рублей, пуд сахару, пуд кофе, десять фунтов чаю в год, стол, слуга и карета. Но жить надлежало в деревне. Тем лучше. Там целый год не знали, что
я писать не умею. Но какой-то сват того господина, у которого я жил, открыл
ему мою тайну, и меня свезли в Москву обратно.
Не нашед другого подобного сему дурака, не могши отправлять мое
ремесло с изломанными пальцами и боясь умереть с голоду, я продал себя
47
за двести рублей. Меня записали в крестьяне и отдают в рекруты. Надеюсь,
– говорил он с важным видом, – что сколь скоро будет война, то дослужуся
до генеральского чина; а не будет войны, то набью карман (коли можно) и,
увенчан лаврами, отъеду на покой в мое отечество.
Пожал я плечами не один раз, слушав сего бродягу, и с уязвленным
сердцем лег в кибитку, отправился в путь.
ЗАВИДОВО
Лошади уже были впряжены в кибитку, и я приготовлялся к отъезду,
как вдруг сделался на улице великий шум. Люди начали бегать из краю в
край по деревне. На улице видел я воина в гранодерской шапке, гордо расхаживающего и, держа поднятую плеть, кричащего:
– Лошадей скорее; где староста? Его превосходительство будет здесь
чрез минуту; подай мне старосту... – Сняв шляпу за сто шагов, староста бежал во всю прыть на сделанный ему позыв.
– Лошадей скорее!
– Тотчас, батюшка; пожалуйте подорожную.
– На. Да скорее же, а то я тебя... – говорил он, подняв плеть над головою дрожащего старосты. <...> Возвращая новому полкану подорожную,
староста говорил:
– Его превосходительству с честною его фамилией потребно пятьдесят
лошадей, а у нас только тридцать налицо, другие в разгоне.
– Роди, старый черт. А не будет лошадей, то тебя изуродую.
– Да где же их взять, коли взять негде?
– Разговорился еще... А вот лошади у меня будут... – И, схватя старика
за бороду, начал его бить по плечам плетью нещадно. – Полно ли с тебя?
Да вот три свежие, – говорил строгий судья ямского стана, указывая на
впряженных в мою повозку. – Выпряги их для нас.
– Коли барин-та их отдаст.
– Как бы он не отдал! У меня и ему то же достанется. Да кто он таков?
– Невесть какой-то... – Как он меня величал, того не знаю.
Между тем я, вышед на улицу, воспретил храброму предтече его превосходительства исполнить его намерение и, выпрягая из повозки моей
лошадей, меня заставить ночевать в почтовой избе.
Спор мой с гвардейским полканом прерван был приездом его превосходительства. Еще издали слышен был крик повозчиков и топот лошадей,
скачущих во всю мочь. Частое биение копыт и зрению уже неприметное обращение колес подымающеюся пылью толико сгустили воздух, что колесница его превосходительства закрыта была непроницаемым облаком от
взоров ожидающих его, аки громовой тучи, ямщиков. Дон-Кишот, конечно,
нечто чудесное бы тут увидел; ибо несущееся пыльное облако под знатною
его превосходительства особою, вдруг остановясь, разверзлося, и он предстал нам от пыли серовиден, отродию черных подобным.
От приезду моего на почтовый стан до того времени, как лошади вновь
впряжены были в мою повозку, прошло по крайней мере целый час. Но повозки его превосходительства запряжены были не более как в четверть часа... и поскакали они на крылех ветра. А мои клячи хотя лучше казалися тех,
кои удостоилися везти превосходительную особу, но, не бояся гранодерского кнута, бежали посредственною рысью.
48
Блаженны в единовластных правлениях вельможи. Блаженны украшенные чинами и лентами. Вся природа им повинуется. Даже несмысленные скоты угождают их желаниям, и, дабы им в путешествии зевая не наскучилось, скачут они, не жалея ни ног, ни легкого, и нередко от натуги околевают. Блаженны, повторю я, имеющие внешность, к благоговению всех
влекущую. Кто ведает из трепещущих от плети, им грозящей, что тот, во
имя коего ему грозят, безгласным в придворной грамматике называется;
что ему ни А..., ни О... во всю жизнь свою сказать не удалося {См. рукописную «Придворную грамматику» Фон-Визина {В «Придворной грамматике»
Д.И. Фонвизин писал: «Чрез гласных разумею тех сильных вельмож, кои по
большей части самым простым звуком, чрез одно отверстие рта, производят уже в безгласных то действие, какое им угодно. Например, если большой барин при докладе ему... нахмурясь, скажет: о! – того дела вечно сделать не посмеют, разве как-нибудь перетолкуют ему об оном другим образом, и он, получа о деле другие мысли, скажет тоном, изъявляющим свою
ошибку: а! – тогда дело обыкновенно в тот же час и решено». Эта сатира на
двор Екатерины была опубликована лишь в 1829 г. (Прим. автора.)}; что он
одолжен, и сказать стыдно кому, своим возвышением; что в душе своей он
скареднейшее есть существо; что обман, вероломство, предательство,
блуд, отравление, татьство, грабеж, убивство не больше ему стоят, как выпить стакан воды; что ланиты его никогда от стыда не краснели, разве от
гнева или пощечины; что он друг всякого придворного истопника и раб едваедва при дворе нечто значащего. Но властелин и презирающ неведающих
его низкости и ползущества. Знатность без истинного достоинства подобна
колдунам в наших деревнях. Все крестьяне их почитают и боятся, думая,
что они чрезъестественные повелители. Над ними сии обманщики властвуют по своей воле. А сколь скоро в толпу, их боготворящую, завернется
мало кто, грубейшего невежества отчуждившийся, то обман их обнаруживается, и таковых дальновидцев они не терпят в том месте, где они творят
чудеса. Равно берегись и тот, кто посмеет обнаружить колдовство вельмож.
Но где мне гнаться за его превосходительством! Он поднял пыль столбом,
которая по пролете его исчезла, и я, приехав в Клин, нашел даже память
его, погибшую с шумом.
КЛИН
– «Как было во городе во Риме, там жил да был Евфимиам князь...» –
Поющий сию народную песнь, называемую «Алексеем божиим человеком»,
был слепой старик, седящий у ворот почтового двора, окруженный толпою
по большей части ребят и юношей. Сребровидная его глава, замкнутые очи,
вид спокойствия, в лице его зримого, заставляли взирающих на певца –
предстоять ему со благоговением. Неискусный хотя его напев, но нежностию изречения сопровождаемый, проницал в сердца его слушателей, лучше природе внемлющих, нежели взращенные во благогласии уши жителей
Москвы и Петербурга внемлют кудрявому напеву Габриелли, Маркези или
Тоди. Никто из предстоящих не остался без зыбления внутрь глубокого, когда клинский певец, дошед до разлуки своего ироя, едва прерывающимся
ежемгновенно гласом изрекал свое повествование. Место, на коем были
его очи, исполнилося исступающих из чувствительной от бед души слез, и
49
потоки оных пролилися по ланитам воспевающего. О природа, колико ты
властительна! Взирая на плачущего старца, жены возрыдали; со уст юности
отлетела сопутница ее, улыбка; на лице отрочества явилась робость, неложный знак болезненного, но неизвестного чувствования; даже мужественный возраст, к жестокости толико привыкший, вид восприял важности.
О! природа, – возопил я паки...
Сколь сладко неязвительное чувствование скорби! Колико сердце оно
обновляет и оного чувствительность. Я рыдал вслед за ямским собранием,
и слезы мои были столь же для меня сладостны, как исторгнутые из сердца
Вертером... О мой друг, мой друг! Почто и ты не зрел сея картины? Ты бы
прослезился со мною, и сладость взаимного чувствования была бы гораздо
усладительнее.
По окончании песнословия все предстоящие давали старику как будто
бы награду за его труд. Он принимал все денежки и полушки, все куски и
краюхи хлеба довольно равнодушно, но всегда сопровождая благодарность
свою поклоном, крестяся и говоря к подающему:
«Дай бог тебе здоровья». Я не хотел отъехать, не быв сопровождаем
молитвою сего, конечно, приятного небу старца. Желал его благословения
на совершение пути и желания моего. Казалося мне, да и всегда сие мечтаю, как будто соблагословение чувствительных душ облегчает стезю в шествии и отъемлет терние сомнительности. Подошед к нему, я в дрожащую
его руку толико же дрожащею от боязни, не тщеславия ли ради то делаю,
положил ему рубль. Перекрестясь, не успел он изрещи обыкновенного своего благословения подающему, отвлечен от того необыкновенностию ощущения лежащего в его горсти. И сие уязвило мое сердце. Колико приятнее
ему, – вещал я сам себе, – подаваемая ему полушка! Он чувствует в ней
обыкновенное к бедствиям соболезнование человечества, в моем рубле
ощущает, может быть, мою гордость. Он не сопровождает его своим благословением. О! колико мал я сам себе тогда казался, колико завидовал давшим полушку и краюшку хлеба певшему старцу!
– Не пятак ли? – сказал он, обращая речь свою неопределенно, как и
всякое свое слово.
– Нет, дедушка, рублевик, – сказал близстоящий его мальчик.
– Почто такая милостыня? – сказал слепой, опуская места своих очей и
ища, казалося, мысленно вообразити себе то, что в горсти его лежало. –
Почто она не могущему ею пользоваться? Если бы я не лишен был зрения,
сколь бы велика моя была за него благодарность.
Не имея в нем нужды, я мог бы снабдить им неимущего. Ах! если бы он
был у меня после бывшего здесь пожара, умолк бы хотя на одни сутки
вопль алчущих птенцов моего соседа. Но на что он мне теперь? Не вижу,
куда его и положить; подаст он, может быть, случай к преступлению. Полушку не много прибыли украсть, но за рублем охотно многие протянут руку. Возьми его назад, добрый господин, и ты, и я с твоим рублем можем
сделать вора.
<...> Возвратил он мне мой рубль и сел опять на место свое покойно.
– Прими свой праздничный пирог, дедушка, – говорила слепому подошедшая женщина лет пятидесяти. С каким восторгом он принял его обеими
руками!
50
– Вот истинное благодеяние, вот истинная милостыня. Тридцать лет
сряду ем я сей пирог по праздникам и по воскресеньям. Не забыла ты своего обещания, что ты сделала во младенчестве своем. И стоит ли то, что я
сделал для покойного твоего отца, чтобы ты до гроба моего меня не забывала? Я, друзья мои, избавил отца ее от обыкновенных нередко побоев
крестьянам от проходящих солдат. Солдаты хотели что-то у него отнять; он
с ними заспорил. Дело было за гумнами. Солдаты начали мужика бить; я
был сержантом той роты, которой были солдаты, прилучился тут; прибежал
на крик мужика и его избавил от побоев; может быть, чего и больше, но
вперед отгадывать нельзя. Вот что вспомнила кормилица моя нынешняя,
когда увидела меня здесь в нищенском состоянии. Вот чего не позабывает
она каждый день и каждый праздник. Дело мое было невеликое, но доброе.
А доброе приятно господу; за ним никогда ничего не пропадает.
ПЕШКИ
<...> Я обозрел в первый раз внимательно всю утварь крестьянския избы. Первый раз обратил сердце к тому, что доселе на нем скользило. – Четыре стены, до половины покрытые так, как и весь потолок, сажею; пол в
щелях, на вершок, по крайней мере, поросший грязью; печь без трубы, но
лучшая защита от холода, и дым, всякое утро зимою и летом наполняющий
избу; окончины, в коих натянутый пузырь смеркающийся в полдень пропускал свет; горшка два или три (счастливая изба, коли в одном из них всякий
день есть пустые шти!). Деревянная чашка и кружки, тарелками называемые; стол, топором срубленный, который скоблят скребком по праздникам.
Корыто кормить свиней или телят, буде есть, спать с ними вместе, глотая
воздух, в коем горящая свеча как будто в тумане или за завесою кажется. К
счастию, кадка с квасом, на уксус похожим, и на дворе баня, в коей коли не
парятся, то спит скотина. Посконная рубаха, обувь, данная природою, онучки с лаптями для выхода. – Вот в чем почитается по справедливости источник государственного избытка, силы, могущества; но тут же видны слабость,
недостатки и злоупотребления законов и их шероховатая, так сказать, сторона. Тут видна алчность дворянства, грабеж, мучительство наше и беззащитное нищеты состояние. – Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? То, чего отнять не можем, – воздух. Да, один воздух. Отъемлем нередко у него не токмо дар земли, хлеб и воду, но и самый
свет. Закон запрещает отъяти у него жизнь. Но разве мгновенно. Сколько
способов отъяти ее у него постепенно! С одной стороны – почти всесилие; с
другой – немощь беззащитная. Ибо помещик в отношении крестьянина есть
законодатель, судия, исполнитель своего решения и, по желанию своему,
истец, против которого ответчик ничего сказать не смеет. Се жребий заклепанного во узы, се жребий заключенного в смрадной темнице, се жребий
вола во ярме... Жестокосердый помещик! Посмотри на детей крестьян, тебе
подвластных. Они почти наги. Отчего? Не ты ли родших их в болезни и горести обложил сверх всех полевых работ оброком? Не ты ли не сотканное
еще полотно определяешь себе в пользу? На что тебе смрадное рубище,
которое к неге привыкшая твоя рука подъяти гнушается? Едва послужит оно
на отирание служащего тебе скота. Ты собираешь и то, что тебе не надобно, несмотря на то, что неприкрытая нагота твоих крестьян тебе в обвине-
51
ние будет. Если здесь нет на тебя суда, – но пред судиею, не ведающим
лицеприятия, давшим некогда и тебе путеводителя благого, совесть, но
коего развратный твой рассудок давно изгнал из своего жилища, из сердца
твоего. Но не ласкайся безвозмездием.
ЧЕРНАЯ ГРЯЗЬ
– Здесь я видел также изрядный опыт самовластия дворянского над
крестьянами. Проезжала тут свадьба. Но вместо радостного поезда и слез
боязливой невесты, скоро в радость претвориться определенных, зрелись
на челе определенных вступать в супружество печаль и уныние. Они друг
друга ненавидят и властию господина своего влекутся на казнь, к алтарю
<...> И служитель <...> утвердит брак!
И сие назовется союзом божественным! И богохуление сие останется
на пример другим! И неустройство сие в законе останется ненаказанным!..
Почто удивляться сему? Благословляет брак наемник; градодержатель, для
охранения закона определенный, – дворянин. Тот и другой имеют в сем
свою пользу. Первый ради получения мзды; другой, дабы, истребляя поносительное человечеству насилие, не лишиться самому лестного преимущества управлять себе подобным самовластно. – О! горестная участь многих
миллионов! Конец твой сокрыт еще от взора и внучат моих...
<...> Но, любезный читатель, я с тобою закалякался...
Вот уже Всесвятское... Если я тебе не наскучил, то подожди меня у
околицы, мы повидаемся на возвратном пути. Теперь прости. – Ямщик, погоняй.
МОСКВА! МОСКВА!!!
ЧААДАЕВ П.Я. (1794–1856 гг.)
Чаадаев Петр Яковлевич – русский мыслитель и общественно-политический деятель. Участвовал в войне 1812–1814 гг. По возвращении в Россию вступил в «Союз благоденствия» (1819 г.), затем в «Северное общество» (1821 г.). В 1828–1830 гг. пишет серию знаменитых «Философических
писем», первое из которых было опубликовано в 1836 в журнале «Телескоп». Оно, по словам Герцена, потрясло мыслящую Россию, вызвало возмущение монархических кругов. «Телескоп» был закрыт, его редактор Надеждин сослан, а Чаадаев объявлен сумасшедшим. В 1837 Чаадаев написал «Апологию сумасшедшего», а в 40-е гг. вместе с Герценом и Грановским участвовал в борьбе западников против славянофилов. Ряд статей
Чаадаева распространялся в списках. Публикация первого «Философического письма» имела большое значение для задавленной гнетом страны,
как первый после 25 декабря 1825 г. открытый протест против самодержавия и крепостничества.
ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА44
Письмо первое
Да приидет Царствие Твое. (Евангелие от Матфея, VI, 10).
Сударыня,
Именно ваше чистосердечие и ваша искренность нравятся мне всего
более, именно их я всего более ценю в вас. Судите же, как должно было
удивить меня ваше письмо.
52
Во-первых, откуда эта смута в ваших мыслях, которая вас так волнует
и так изнуряет, что, по вашим словам, отразилась даже на вашем здоровье? Ужели она – печальное следствие наших бесед? Вместо мира и успокоения, которое должно было бы принести вам новое чувство, пробужденное в вашем сердце, – оно причинило вам тоску, беспокойство, почти угрызение совести. И, однако, должен ли я этому удивляться? Это – естественное следствие того печального порядка вещей, во власти которого находятся у нас все сердца и все умы. Вы только поддались влиянию сил, господствующих здесь надо всеми, от высших вершин общества до раба, живущего лишь для утехи своего господина.
Да и как могли бы вы устоять против этих условий? Самые качества,
отличающие вас от толпы, должны делать вас особенно доступной вредному влиянию воздуха, которым вы дышите. То немногое, что я позволил себе
сказать вам, могло ли дать прочность вашим мыслям среди всего, что вас
окружает? Мог ли я очистить атмосферу, в которой мы живем? Я должен
был предвидеть последствия, и я их действительно предвидел. Отсюда те
частые умолчания, которые, конечно, всего менее могли внести уверенность в вашу душу и естественно должны были привести вас в смятение. И
не будь я уверен, что, как бы сильны ни были страдания, которые может
причинить не вполне пробудившееся в сердце религиозное чувство, подобное состояние все же лучше полной летаргии, – мне оставалось бы только
раскаяться в моем решении. Но я надеюсь, что облака, застилающие сейчас ваше небо, претворятся со временем в благодатную росу, которая оплодотворит семя, брошенное в ваше сердце, а действие, произведенное на
вас несколькими незначительными словами, служат мне верным залогом
тех еще более важных последствий, которые без сомнения повлечет за собою работа вашего собственного ума. Отдавайтесь безбоязненно душевным движениям, которые будет пробуждать в вас религиозная идея: из этого чистого источника могут вытекать лишь чистые чувства.
Что касается внешних условий, то довольствуйтесь пока сознанием,
что учение, основанное на верховном принципе единства и прямой передачи истины в непрерывном ряду его служителей, конечно, всего более отвечает истинному духу религии; ибо он всецело сводится к идее слияния всех
существующих на свете нравственных сил в одну мысль, в одно чувство, и к
постепенному установлению такой социальной системы или церкви, которая должна водворить царство истины среди людей. Всякое другое учение
уже самым фактором своего отпадения от первоначальной доктрины заранее отвергает действие высокого завета Спасителя: Отче святый, соблюди
их, да будут едины, якоже и мы, и не стремится к водворению Царства Божия на земле. Из этого, однако, не следует, чтобы вы были обязаны исповедовать эту истину перед лицом света: не в этом, конечно, ваше призвание. Наоборот, самый принцип, из которого эта истина исходит, обязывает
вас, ввиду вашего положения в обществе, признавать в ней только внутренний светоч вашей веры, и ничего более. Я счастлив, что способствовал
обращению ваших мыслей к религии; но я был бы весьма несчастлив, если
бы вместе с тем поверг вашу совесть в смущение, которое с течением времени неминуемо охладило бы вашу веру.
53
Я, кажется, говорил вам однажды, что лучший способ сохранить религиозное чувство – это соблюдать все обряды, предписываемые церковью. Это
упражнение в покорности, которое заключает в себе больше, чем обыкновенно думают, и которое величайшие умы возлагали на себя сознательно и
обдуманно, есть настоящее служение Богу. Ничто так не укрепляет дух в его
верованиях, как строгое исполнение всех относящихся к ним обязанностей.
Притом большинство обрядов христианской религии, внушенных высшим
разумом, обладают настоящей животворной силой для всякого, кто умеет
проникнуться заключенными в них истинами. Существует только одно исключение из этого правила, имеющего, в общем, безусловный характер, –
именно когда человек ощущает в себе верования высшего порядка сравнительно с теми, которые исповедует масса, – верования, возносящие дух к
самому источнику всякой достоверности и в то же время нисколько не противоречащие народным верованиям, а, наоборот, их подкрепляющие; тогда, и
только тогда, позволительно пренебрегать внешнею обрядностью, чтобы
свободнее отдаваться более важным трудам. Но горе тому, кто иллюзии
своего тщеславия или заблуждения своего ума принял бы за высшее просветление, которое будто бы освобождает его от общего закона! Вы же, сударыня, что вы можете сделать лучшего, как не облечься в одежду смирения, которая так к лицу вашему полу? Поверьте, это всего скорее умиротворит ваш взволнованный дух и прольет тихую отраду в ваше существование.
Да и мыслим ли, скажите, даже с точки зрения светских понятий, более
естественный образ жизни для женщины, развитой ум которой умеет находить прелесть в познании и в величавых эмоциях созерцания, нежели
жизнь сосредоточенная и посвященная в значительной мере размышлению
и делам религии. Вы говорите, что при чтении ничто не возбуждает так
сильно вашего воображения, как картины мирной и серьезной жизни, которые, подобно виду прекрасной сельской местности на закате дня, вливают в
душу мир и на минуту уносят нас от горькой или пошлой действительности.
Но эти картины – не создание фантазии; от вас одной зависит осуществить
любой из этих пленительных вымыслов; и для этого у вас есть все необходимое. Вы видите, я проповедую не слишком суровую мораль: в ваших
склонностях, в самых привлекательных грезах вашего воображения я стараюсь найти то, что способно дать мир вашей душе.
В жизни есть известная сторона, касающаяся не физического, а духовного бытия человека. Не следует ею пренебрегать; для души точно так же
существует известный режим, как и для тела; надо уметь ему подчиняться.
Это – старая истина, я знаю; но мне думается, что в нашем отечестве она
еще очень часто имеет свою ценность новизны. Одна из наиболее печальных черт нашей своеобразной цивилизации заключается в том, что мы еще
только открываем истины, давно уже ставшие избитыми в других местах и
даже среди народов, во многом далеко отставших от нас. Это происходит
оттого, что мы никогда не шли об руку с прочими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода; мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого.
Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием
человеческого рода.
54
Эта дивная связь человеческих идей на протяжении веков, эта история
человеческого духа, – вознесшие его до той высоты, на которой он стоит
теперь во всем остальном мире, – не оказали на нас никакого влияния. То,
что в других странах уже давно составляет самую основу общежития, для
нас – только теория и умозрение. И вот пример: вы, обладающая столь счастливой организацией для восприятия всего, что есть истинного и доброго в
мире, вы, кому самой природой предназначено узнать все, что дает самые
сладкие и самые чистые радости душе, – говоря откровенно, чего вы достигли при всех этих преимуществах? Вам приходится думать даже не о том,
чем наполнить жизнь, а чем наполнить день. Самые условия, составляющие в других странах необходимую рамку жизни, в которой так естественно
размещаются все события дня и без чего так же невозможно здоровое
нравственное существование, как здоровая физическая жизнь без свежего
воздуха, – у вас их нет и в помине. Вы понимаете, что речь идет еще вовсе
не о моральных принципах и не о философских истинах, а просто о благоустроенной жизни, о тех привычках и навыках сознания, которые сообщают
непринужденность уму и вносят правильность в душевную жизнь человека.
Взгляните вокруг себя. Не кажется ли, что всем нам не сидится на месте. Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для
чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязывало
бы, что пробуждало бы в вас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни
внутри вас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками, и даже больше, нежели те кочевники, которые пасут свои стада в наших степях, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням, чем мы к нашим городам. И не думайте, пожалуйста, что предмет, о котором идет речь, не важен. Мы и без того обижены
судьбою, – не станем же прибавлять к прочим нашим бедам ложного представления о самих себе, не будем притязать на чисто духовную жизнь; научимся жить разумно в эмпирической действительности. Но сперва поговорим еще немного о нашей стране; мы не выйдем из рамок нашей темы. Без
этого вступления вы не поняли бы того, что я имею вам сказать.
У каждого народа бывает период бурного волнения, страстного беспокойства, деятельности необдуманной и бесцельной. В это время люди становятся скитальцами в мире, физически и духовно. Это – эпоха сильных
ощущений, широких замыслов, великих страстей народных. Народы мечутся тогда возбужденно, без видимой причины, но не без пользы для грядущих поколений. Через такой период прошли все общества. Ему обязаны
они самыми яркими своими воспоминаниями, героическим элементом своей истории, своей поэзией, всеми наиболее сильными и плодотворными
своими идеями; это – необходимая основа всякого общества. Иначе в памяти народов не было бы ничего, чем они могли бы дорожить, что могли бы
любить; они были бы привязаны лишь к праху земли, на которой живут.
Этот увлекательный фазис в истории народов есть их юность, эпоха, в которую их способности развиваются всего сильнее и память, о которой составляет радость и поучение их зрелого возраста. У нас ничего этого нет.
55
Сначала – дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и
унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, – такова печальная история нашей юности.
Этого периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных,
у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая
этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании.
Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство, – вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни
одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом,
который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живем одним
настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя. И если мы иногда волнуемся, то отнюдь не в надежде
или расчете на какое-нибудь общее благо, а из детского легкомыслия, с каким ребенок силится встать и протягивает руки к погремушке, которую показывает ему няня.
Истинное развитие человека в обществе еще не началось для народа,
если жизнь его не сделалась более благоустроенной, более легкой и приятной, чем в неустойчивых условиях первобытной эпохи. Как вы хотите, чтобы
семена добра созревали в каком-нибудь обществе, пока оно еще колеблется без убеждений и правил даже в отношении повседневных дел и жизнь
еще совершенно не упорядочена? Это – хаотическое брожение в мире духовном, подобное тем переворотам в истории земли, которые предшествовали современному состоянию нашей планеты. Мы до сих пор находимся в
этой стадии.
Годы ранней юности, проведенные нами в тупой неподвижности, не оставили никакого следа в нашей душе, и у нас нет ничего индивидуального,
на что могла бы опереться наша мысль; но, обособленные странной судьбой от всемирного движения человечества, мы также ничего не восприняли
и из преемственных идей человеческого рода. Между тем именно на этих
идеях основывается жизнь народов; из этих идей вытекает их будущее, исходит их нравственное развитие. Если мы хотим занять положение, подобное положению других цивилизованных народов, мы должны некоторым
образом повторить у себя все воспитание человеческого рода. Для этого к
нашим услугам история народов и перед нами плоды движения веков. Конечно, эта задача трудна и, быть может, в пределах одной человеческой
жизни не исчерпать этот обширный предмет; но, прежде всего, надо узнать,
в чем дело, что представляет собою это воспитание человеческого рода и
каково место, которое мы занимаем в общем строе.
Народы живут лишь могучими впечатлениями, которые оставляют в их
душе протекшие века, да общением с другими народами. Вот почему каждый отдельный человек проникнут сознанием своей связи со всем человечеством.
Что такое жизнь человека, говорит Цицерон, если память о прошлых
событиях не связывает настоящего с прошедшим! Мы же, придя в мир, по-
56
добно незаконным детям, без наследства, без связи с людьми, жившими на
земле раньше нас, мы не храним в наших сердцах ничего из тех уроков, которые предшествовали нашему собственному существованию. Каждому из
нас приходится самому связывать порванную нить родства. Что у других
народов обратилось в привычку, в инстинкт, то нам приходится вбивать в
головы ударами молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего
дня; мы, так сказать, чужды самим себе. Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас
безвозвратно. Это – естественный результат культуры, всецело основанной
на заимствовании и подражании. У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса; каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является к нам Бог весть откуда.
Так как мы воспринимаем всегда лишь готовые идеи, то в нашем мозгу не
образуются те неизгладимые борозды, которые последовательное развитие проводит в умах и которые составляют их силу. Мы растем, но не созреваем; движемся вперед, но по кривой линии, то есть по такой, которая не
ведет к цели. Мы подобны тем детям, которых не приучили мыслить самостоятельно; в период зрелости у них не оказывается ничего своего; все их
знание – в их внешнем быте, вся их душа – вне их. Именно таковы мы.
Народы – в такой же мере существа нравственные, как и отдельные
личности. Их воспитывают века, как отдельных людей воспитывают годы.
Но мы, можно сказать, некоторым образом – народ исключительный. Мы
принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный
урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обретем себя среди человечества и
сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение?
Все народы Европы имеют общую физиономию, некоторое семейное
сходство. Вопреки огульному разделению их на латинскую и тевтонскую расы, на южан и северян – все же есть общая связь, соединяющая их всех в
одно целое и хорошо видимая всякому, кто поглубже вник в их общую историю. Вы знаете, что еще сравнительно недавно вся Европа называлась христианским миром, и это выражение употреблялось в публичном праве. Кроме общего характера, у каждого из этих народов есть еще свой частный характер, но и тот, и другой всецело сотканы из истории и традиции. Они составляют преемственное идейное наследие этих народов. Каждый отдельный человек пользуется там своею долей этого наследства, без труда и
чрезмерных усилий он набирает себе в жизни запас этих знаний и навыков и
извлекает из них свою пользу. Сравните сами и скажите, много ли мы находим у себя в повседневном обиходе элементарных идей, которыми могли бы
с грехом пополам руководствоваться в жизни? И заметьте, здесь идет речь
не о приобретении знаний и не о чтении, не о чем-либо касающемся литературы или науки, а просто о взаимном общении умов, о тех идеях, которые
овладевают ребенком в колыбели, окружают его среди детских игр и передаются ему с ласкою матери, которые в виде различных чувств проникают до
мозга его костей вместе с воздухом, которым дышит, и создают его нравст-
57
венное существо еще раньше, чем он вступает в свет и общество. Хотите ли
знать, что это за идеи? Это – идеи долга, справедливости, права, порядка.
Они родились из самых событий, образовавших там общество, они входят
необходимым элементом в социальный уклад этих стран.
Это и составляет атмосферу Запада; это – больше, нежели история,
больше чем психология; это – физиология европейского человека. Чем вы
замените это у нас? Не знаю, можно ли из сказанного сейчас вывести чтонибудь вполне безусловное и извлечь отсюда какой-либо непреложный
принцип; но нельзя не видеть, что такое странное положение народа,
мысль которого не примыкает ни к какому ряду идей, постепенно развивавшихся в обществе и медленно выраставших одна из другой, и участие которого в общем поступательном движении человеческого разума ограничивалось лишь слепым, поверхностным и часто неискусным подражанием другим нациям, должно могущественно влиять на дух каждого отдельного человека в этом народе.
Вследствие этого вы найдете, что всем нам недостает известной уверенности, умственной методичности, логики. Западный силлогизм нам незнаком. Наши лучшие умы страдают чем-то большим, нежели простая неосновательность. Лучшие идеи, за отсутствием связи или последовательности, замирают в нашем мозгу и превращаются в бесплодные призраки.
Человеку свойственно теряться, когда он не находит способа привести себя
в связь с тем, что ему предшествует, и с тем, что за ним следует. Он лишается тогда всякой твердости, всякой уверенности. Не руководимый чувством непрерывности, он видит себя заблудившимся в мире. Такие растерянные люди встречаются во всех странах; у нас же это общая черта. Это вовсе не то легкомыслие, в котором когда-то упрекали французов и которое, в
сущности, представляло собою не что иное, как способность легко усваивать вещи, не исключавшую ни глубины, ни широты ума и вносившую в обращение необыкновенную прелесть и изящество; это – беспечность жизни,
лишенной опыта и предвидения, не принимающей в расчет ничего, кроме
мимолетного существования особи, оторванной от рода, жизни, не дорожащей ни честью, ни успехами какой-либо системы идей и интересов, ни
даже тем родовым наследием и теми бесчисленными предписаниями и
перспективами, которые в условиях быта, основанного на памяти прошлого
и предусмотрении будущего, составляют и общественную, и частную жизнь.
В наших головах нет решительно ничего общего; все в них индивидуально и
все шатко и неполно. Мне кажется даже, что в нашем взгляде есть какая-то
странная неопределенность, что-то холодное и неуверенное, напоминающее отчасти физиономию тех народов, которые стоят на низших ступенях
социальной лестницы. В чужих странах, особенно на юге, где физиономии
так выразительны и так оживленны, не раз, сравнивая лица моих соотечественников с лицами туземцев, я поражался этой немотой наших лиц.
Иностранцы ставят нам в достоинство своего рода бесшабашную отвагу, встречаемую особенно в низших слоях народа; но, имея возможность
наблюдать лишь отдельные проявления национального характера, они не в
состоянии судить о целом. Они не видят, что то же самое начало, благодаря которому мы иногда бываем так отважны, делает нас всегда неспособ-
58
ными к углублению и настойчивости; они не видят, что этому равнодушию к
житейским опасностям соответствует в нас такое же полное равнодушие к
добру и злу, к истине и ко лжи и что именно это лишает нас всех могущественных стимулов, которые толкают людей по пути совершенствования; они
не видят, что именно благодаря этой беспечной отваге даже высшие классы у нас, к прискорбию, не свободны от тех пороков, которые в других странах свойственны лишь самым низшим слоям общества; они не видят, наконец, что, если нам присущи кое-какие добродетели молодых и малоразвитых народов, мы уже не обладаем зато ни одним из достоинств, отличающих народы зрелые и высококультурные.
Я не хочу сказать, конечно, что у нас одни пороки, а у европейских народов одни добродетели; избави Бог! Но я говорю, что для правильного суждения о народах следует изучать общий дух, составляющий их жизненное
начало, ибо только он, а не та или иная черта их характера, может вывести
их на путь нравственного совершенства и бесконечного развития.
Народные массы подчинены известным силам, стоящим вверху общества. Они не думают сами; среди них есть известное число мыслителей, которые думают за них, сообщают импульс коллективному разуму народа и
двигают его вперед. Между тем как небольшая группа людей мыслит, остальные чувствуют, и в итоге совершается общее движение. За исключением некоторых отупелых племен, сохранивших лишь внешний облик человека, сказанное справедливо в отношении всех народов, населяющих землю.
Первобытные народы Европы – кельты, скандинавы, германцы – имели
своих друидов, скальдов и бардов, которые были по-своему сильными мыслителями. Взгляните на племена Северной Америки, которые так усердно
старается истребить материальная культура Соединенных Штатов: среди
них встречаются люди удивительной глубины.
И вот я спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши мыслители? Кто когдалибо мыслил за нас, кто теперь за нас мыслит? А ведь, стоя между двумя
главными частями мира, Востоком и Западом, упираясь одним локтем в Китай, другим в Германию, мы должны были бы соединить в себе оба великих
начала духовной природы: воображение и рассудок, и совмещать в нашей
цивилизации историю всего земного шара. Но не такова роль, определенная
нам провидением. Больше того: оно как бы совсем не было озабочено нашей
судьбой. Исключив нас из своего благодетельного действия на человеческий
разум, оно всецело предоставило нас самим себе, отказалось как бы то ни
было вмешиваться в наши дела, не пожелало ничему нас научить. Исторический опыт для нас не существует; поколения и века протекли без пользы
для нас. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру,
ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что
нам досталось от этого прогресса, мы исказили. С первой минуты нашего
общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей; ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали
только обманчивую внешность и бесполезную роскошь.
59
Странное дело: даже в мире науки, обнимающем все, наша история ни
к чему не примыкает, ничего не уясняет, ничего не доказывает. Если бы дикие орды, возмутившие мир, не прошли по стране, в которой мы живем,
прежде чем устремиться на Запад, нам едва ли была бы отведена страница
во всемирной истории. Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива
до Одера, нас и не заметили бы.
Некогда великий человек захотел просветить нас, и для того, чтобы
приохотить нас к образованию, он кинул нам плащ цивилизации: мы подняли плащ, но не дотронулись до просвещения. В другой раз, другой великий
государь, приобщая нас к своему славному предназначению, провел нас
победоносно с одного конца Европы на другой; вернувшись из этого триумфального шествия чрез просвещеннейшие страны мира, мы принесли с собою лишь идеи и стремления, плодом которых было громадное несчастие,
отбросившее нас на полвека назад. В нашей крови есть нечто, враждебное
всякому истинному прогрессу. И, в общем, мы жили и продолжаем жить
лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных
поколений, которые сумеют его понять; ныне же мы, во всяком случае, составляем пробел в нравственном миропорядке. Я не могу вдоволь надивиться этой необычайной пустоте и обособленности нашего социального
существования. Разумеется, в этом повинен отчасти неисповедимый рок,
но, как и во всем, что совершается в нравственном мире, здесь виноват отчасти и сам человек. Обратимся еще раз к истории: она – ключ к пониманию
народов.
Что мы делали о ту пору, когда в борьбе энергического варварства северных народов с высокою мыслью христианства складывалась храмина
современной цивилизации? Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились
к жалкой, глубоко презираемой этими народами Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания.
Волею одного честолюбца эта семья народов только что была отторгнута
от всемирного братства, и мы восприняли, следовательно, идею, искаженную человеческою страстью. В Европе все одушевлял тогда животворный
принцип единства. Все исходило из него и все сводилось к нему. Все умственное Движение той эпохи было направлено на объединение человеческого мышления; все побуждения коренились в той властной потребности
отыскать всемирную идею, которая является гением-вдохновителем нового
времени. Непричастные этому чудотворному началу, мы сделались жертвою завоевания. Когда же мы свергли чужеземное иго и только наша оторванность от общей семьи мешала нам воспользоваться идеями, возникшими за это время у наших западных братьев, мы подпали еще более жестокому рабству, освященному притом фактом нашего освобождения.
Сколько ярких лучей уже озаряло тогда Европу, на вид окутанную мраком! Большая часть знаний, которыми теперь гордится человек, уже была
предугадана отдельными умами; характер общества уже определился, а,
приобщившись к миру языческой древности, христианские народы обрели и
те формы прекрасного, которых им еще недоставало. Мы же замкнулись в
нашем религиозном обособлении, и ничто из происходившего в Европе не
достигало до нас. Нам не было никакого дела до великой мировой работы.
60
Высокие качества, которые религия принесла в дар новым народам и которые в глазах здравого разума настолько же возвышают их над древними
народами, насколько последние стояли выше готтентотов и лапландцев;
эти новые силы, которыми она обогатила человеческий ум; эти нравы, которые, вследствие подчинения безоружной власти, сделались столь же
мягкими, как раньше были грубы, – все это нас совершенно миновало. В то
время, как христианский мир величественно шествовал по пути, предначертанному его божественным основателем, увлекая за собою поколения, –
мы, хотя и носили имя христиан, не двигались с места. Весь мир перестраивался заново, а у нас ничего не созидалось; мы по-прежнему прозябали, забившись в свои лачуги, сложенные из бревен и соломы. Словом, новые судьбы человеческого рода совершались помимо нас. Хотя мы и назывались христианами, плод христианства для нас не созревал.
Спрашиваю вас, не наивно ли предполагать, как это обыкновенно делают у нас, что этот прогресс европейских народов, совершившийся столь
медленно и под прямым и очевидным воздействием единой нравственной
силы, мы можем усвоить сразу, не дав себе даже труда узнать, каким образом он осуществлялся?
Совершенно не понимает христианства тот, кто не видит, что в нем
есть чисто историческая сторона, которая является одним из самых существенных элементов догмата и которая заключает в себе, можно сказать,
всю философию христианства, так как показывает, что оно дало людям и
что даст им в будущем. С этой точки зрения христианская религия является
не только нравственной системою, заключенной в преходящие формы человеческого ума, но вечной божественной силой, действующей универсально в духовном мире и чье явственное обнаружение должно служить
нам постоянным уроком. Именно таков подлинный смысл догмата о вере в
единую Церковь, включенного в символ веры. В христианском мире все необходимо должно способствовать – и действительно способствует – установлению совершенного строя на земле; иначе не оправдалось бы слово
Господа, что он пребудет в церкви своей до скончания века. Тогда новый
строй, – Царство Божие, – который должен явиться плодом искупления, ничем не отличался бы от старого строя – от царства зла, – который искуплением должен быть уничтожен, и нам опять-таки оставалась бы лишь та призрачная мечта о совершенстве, которую лелеют философы и которую опровергает каждая страница истории, – пустая игра ума, способная удовлетворять только материальные потребности человека и поднимающая его на
известную высоту лишь затем, чтобы тотчас низвергнуть в еще более глубокие бездны.
Однако, скажете вы, разве мы не христиане? и разве не мыслима иная
цивилизация, кроме европейской? Без сомнения, мы христиане; но не христиане ли и абиссинцы? Конечно, возможна и образованность, отличная от
европейской; разве Япония не образованна, притом, если верить одному из
наших соотечественников, даже в большей степени, чем Россия? Но неужто
вы думаете, что тот порядок вещей, о котором я только что говорил и который является конечным предназначением человечества, может быть осуществлен абиссинским христианством и японской культурой? Неужто вы
61
думаете, что небо сведут на землю эти нелепые уклонения от божеских и
человеческих истин?
В христианстве надо различать две совершенно разные вещи: его действие на отдельного человека и его влияние на всеобщий разум. То и другое естественно сливается в высшем разуме и неизбежно ведет к одной и
той же цели. Но срок, в который осуществляются вечные предначертания
божественной мудрости, не может быть охвачен нашим ограниченным
взглядом. И потому мы должны отличать божественное действие, проявляющееся в какое-нибудь определенное время в человеческой жизни, от
того, которое совершается в бесконечности. В тот день, когда окончательно
исполнится дело искупления, все сердца и умы сольются в одно чувство, в
одну мысль, и тогда падут все стены, разъединяющие народы и исповедания. Но теперь каждому важно знать, какое место отведено ему в общем
призвании христиан, то есть какие средства он может найти в самом себе и
вокруг себя, чтобы содействовать достижению цели, поставленной всему
человечеству.
Отсюда необходимо возникает особый круг идей, в котором и вращаются умы того общества, где эта цель должна осуществиться, то есть идея,
которую Бог открыл людям, должна созреть и достигнуть всей своей полноты. Этот круг идей, эта нравственная сфера, в свою очередь, естественно
обусловливают определенный строй жизни и определенное мировоззрение,
которые, не будучи тождественными для всех, тем не менее создают у нас,
как и у всех не европейских народов, одинаковый бытовой уклад, являющийся плодом той огромной 18-вековой духовной работы, в которой участвовали все страсти, все интересы, все страдания, все мечты, все усилия
разума.
Все европейские народы шли вперед в веках рука об руку; как бы ни
старались они теперь разойтись каждый своей дорогой, – они беспрестанно
сходятся на одном и том же пути. Чтобы убедиться в том, как родственно
развитие этих народов, нет надобности изучать историю; прочтите только
Тасса, и вы увидите их все простертыми ниц у подножья Иерусалимских
стен. Вспомните, что в течение пятнадцати веков у них был один язык для
обращения к Богу, одна духовная власть и одно убеждение. Подумайте, что
в течение пятнадцати веков, каждый год в один и тот же день, в один и тот
же час, они в одних и тех словах возносили свой голос к верховному существу, прославляя его за величайшее из его благодеяний. Дивное созвучие, в
тысячу крат более величественное, чем все гармонии физического мира!
Итак, если эта сфера, в которой живут европейцы и в которой в одной человеческий род может исполнить свое конечное предназначение, есть результат влияния религии и если, с другой стороны, слабость нашей веры или
несовершенство наших догматов до сих пор держали нас в стороне от этого
общего движения, где развилась и формулировалась социальная идея христианства, и низвели нас в сонм народов, коим суждено лишь косвенно и
поздно воспользоваться всеми плодами христианства, то ясно, что нам
следует, прежде всего, оживить свою веру всеми возможными способами и
дать себе истинно христианский импульс, так как на Западе все создано
христианством. Вот что я подразумевал, говоря, что мы должны от начала
повторить на себе все воспитание человеческого рода.
62
Вся история новейшего общества совершается на почве мнений; таким
образом, она представляет собою настоящее воспитание. Утвержденное
изначала на этой основе, общество шло вперед лишь силою мысли. Интересы всегда следовали там за идеями, а не предшествовали им; убеждения
никогда не возникали там из интересов, а всегда интересы рождались из
убеждений. Все политические революции были там, в сущности, духовными
революциями: люди искали истину и попутно нашли свободу и благосостояние. Этим объясняется характер современного общества и его цивилизации; иначе его совершенно нельзя было бы понять.
Религиозные гонения, мученичество за веру, проповедь христианства,
ереси, соборы – вот события, наполняющие первые века. Все движение
этой эпохи, не исключая и нашествия варваров, связано с этими первыми,
младенческими усилиями нового мышления. Следующая затем эпоха занята образованием иерархии, централизацией духовной власти и непрерывным распространением христианства среди северных народов. Далее следует высочайший подъем религиозного чувства и упрочение религиозной
власти. Философское и литературное развитие ума и улучшение нравов
под державой религии довершает эту историю новых народов, которую с
таким же правом можно назвать священной, как и историю древнего избранного народа. Наконец, новый религиозный поворот, новый размах, сообщенный религией человеческому духу, определил и теперешний уклад
общества. Таким образом, главный и, можно сказать, единственный интерес новых народов всегда заключается в идее. Все положительные, материальные, личные интересы поглощались ею.
Я знаю – вместо того, чтобы восхищаться этим дивным порывом человеческой природы к возможному для нее совершенству, в нем видели только фанатизм и суеверие; но что бы ни говорили о нем, судите сами, какой
глубокий след в характере этих народов должно было оставить такое социальное развитие, всецело вытекавшее из одного чувства, безразлично – в
добре и во зле.
Пусть поверхностная философия вопиет, сколько хочет, по поводу религиозных войн и костров, зажженных нетерпимостью, – мы можем только
завидовать доле народов, создавших себе в борьбе мнений, в кровавых
битвах за дело истины целый мир идей, которого мы даже представить себе не можем, не говоря уже о том, чтобы перенестись в него телом и душой,
как у нас об этом мечтают.
Еще раз говорю: конечно, не все в европейских странах проникнуто разумом, добродетелью и религией, – далеко нет. Но все в них таинственно
повинуется той силе, которая властно царит там уже столько веков, все порождено той долгой последовательностью фактов и идей, которая обусловила современное состояние общества. Вот один из примеров, доказывающих это. Народ, физиономия которого всего резче выражена и учреждения всего более проникнуты духом нового времени, – англичане, – собственно говоря, не имеют иной истории, кроме религиозной. Их последняя
революция, которой они обязаны своей свободою и своим благосостоянием, так же как и весь ряд событий, приведших к этой революции, начиная с
эпохи Генриха VIII, – не что иное, как фазис религиозного развития. Во всю
63
эпоху интерес собственно политический является лишь второстепенным
двигателем и временами исчезает вовсе или приносится в жертву идее. И в
ту минуту, когда я пишу эти строки, все тот же религиозный интерес волнует
эту избранную страну. Да и вообще, какой из европейских народов не нашел бы в своем национальном сознании, если бы дал себе труд разобраться в нем, того особенного элемента, который в форме религиозной мысли
неизменно являлся животворным началом, душою его социального тела на
всем протяжении его бытия?
Действие христианства отнюдь не ограничивается его прямым и непосредственным влиянием на дух человека. Огромная задача, которую оно
призвано исполнить, может быть осуществлена лишь путем бесчисленных
нравственных, умственных и общественных комбинаций, где должна найти
себе полный простор безусловная победа человеческого духа. Отсюда ясно,
что все совершившееся с первого дня нашей эры, или, вернее, с той минуты,
когда Спаситель сказал своим ученикам: Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари (прим. 1), – включая и все нападки на христианство,
– без остатка покрывается этой общей идеей его влияния. Стоит лишь обратить внимание на то, как власть Христа непреложно осуществляется во всех
сердцах, – с сознанием или бессознательно, по доброй воле или принуждению, – чтобы убедиться в исполнении его пророчеств. Поэтому, несмотря на
всю неполноту, несовершенство и порочность, присущие европейскому миру
в его современной форме, нельзя отрицать, что Царство Божие до известной
степени осуществлено в нем, ибо он содержит в себе начало бесконечного
развития и обладает в зародышах и элементах всем, что необходимо для его
окончательного водворения на земле.
Прежде чем закончить эти размышления о роли, которую играла религия в истории общества, я хочу привести здесь то, что говорил об этом когда-то в сочинении, вам неизвестном.
Несомненно, писал я, что, пока мы не научимся узнавать действие
христианства повсюду, где человеческая мысль каким бы то ни было образом соприкасается с ним, хотя бы с целью ему противоборствовать, – мы не
имеем о нем ясного понятия. Едва произнесено имя Христа, одно это имя
увлекает людей, что бы они ни делали. Ничто не обнаруживает так ясно
божественного происхождения христианской религии, как эта ее безусловная универсальность, сказывающаяся в том, что она проникает в души всевозможными путями, овладевает умом без его ведома, и даже в тех случаях, когда он, по-видимому, всего более ей противится, подчиняет его себе и
властвует над ним, внося при этом в сознание истины, которых там раньше
не было, пробуждая ощущения в сердцах, дотоле им чуждые, и внушая нам
чувства, которые без нашего ведома вводят нас в общий строй. Так определяет она роль каждой личности в общей работе и заставляет все содействовать одной цели. При таком понимании христианства всякое пророчество Христа получит характер осязательной истины. Тогда начинаешь ясно
различать движение всех рычагов, которые его всемогущая десница пускает в ход, дабы привести человека к его конечной цели, не посягая на его
свободу, не умерщвляя ни одной из его природных способностей, а, наоборот, удесятеряя их силу и доводя до безмерного напряжения ту долю мощи,
64
которая заложена в нем самом. Тогда видишь, что ни один нравственный
элемент не остается бездейственным в новом строе, что самые энергичные
усилия ума, как и горячий порыв чувства, героизм твердого духа, как и покорность кроткой души, – все находит в нем место и применение. Доступная
всякому разумному существу, сочетаясь с каждым биением нашего сердца,
о чем бы оно ни билось, христианская идея все увлекает за собою, и самые
препятствия, встречаемые ею, помогают ей расти и крепнуть. С гением она
поднимается на высоту, недосягаемую для остальных людей; с робким духом она движется ощупью и идет вперед мерным шагом; в созерцательном
уме она безусловна и глубока; в душе, подвластной воображению, она воздушна и богата образами; в нежном любящем сердце она разрешается в
милосердие и любовь; – и каждое сознание, отдавшееся ей, она властно
ведет вперед, наполняя его жаром, ясностью и силой. Взгляните, как разнообразны характеры, как множественны силы, приводимые ею в движение,
какие несходные элементы служат одной и той же цели, сколько разнообразных сердец бьется для одной идеи! Но еще более удивительно влияние
христианства на общество в целом. Разверните вполне картину эволюции
нового общества, и вы увидите, как христианство претворяет все интересы
людей в свои собственные, заменяя всюду материальную потребность потребностью нравственной и возбуждая в области мысли те великие споры,
каких до него не знало ни одно время, ни одно общество, те страшные
столкновения мнений, когда вся жизнь народов превращалась в одну великую идею, одно безграничное чувство; вы увидите, как все становится им, и
только им, – частная жизнь и общественная, семья и родина, наука и поэзия, разум и воображение, воспоминания и надежды, радости и печали.
Счастливы те, кто носит в сердце своем ясное сознание части, им творимой, в этом великом движении, которое сообщил миру сам Бог. Но не все
суть деятельные орудия, не все трудятся сознательно; необходимые массы
движутся слепо, не зная сил, которые приводят их движения, и не провидя
цели, к которой они влекутся, – бездушные атомы, косные громады.
Но пора вернуться к вам, сударыня. Признаюсь, мне трудно оторваться
от этих широких перспектив. В картине, открывающейся моим глазам с этой
высоты, – все мое утешение, и сладкая вера в будущее счастье человечества одна служит мне убежищем, когда, удрученный жалкой действительностью, которая меня окружает, я чувствую потребность подышать более
чистым воздухом, взглянуть на более ясное небо. Однако я не думаю, что
злоупотребил вашим временем. Мне надо было показать вам ту точку зрения, с которой следует смотреть на христианский мир и на нашу роль в нем.
То, что я говорил о нашей стране, должно было показаться вам исполненным горечи; между тем я высказал одну только правду, и даже не всю. Притом христианское сознание не терпит никакой слепоты, а национальный
предрассудок является худшим видом ее, так как он всего более разъединяет людей.
Мое письмо растянулось, и, думаю, нам обоим нужен отдых. Начиная
его, я полагал, что сумею в немногих словах изложить то, что хотел вам сказать; но, вдумываясь глубже, я вижу, что об этом можно написать целый том.
По сердцу ли это вам? Буду ждать вашего ответа. Но, во всяком случае, вы
65
не можете избегнуть еще одного письма от меня, потому что мы едва лишь
приступили к рассмотрению нашей темы. А пока я был бы чрезвычайно признателен вам, если бы вы соблаговолили пространностью этого первого
письма извинить то, что я так долго заставил вас ждать его. Я сел писать вам
в тот же день, когда получил ваше письмо; но грустные и тягостные заботы
поглотили меня тогда всецело, и мне надо было избавиться от них, прежде
чем начать с вами разговор о столь важных предметах; затем нужно было
переписать мое маранье, которое было совершенно неразборчиво. На этот
раз вам не придется долго ждать: завтра же снова берусь за перо.
АКСАКОВ К.С. (1817–1860 гг.)
Константин Сергеевич Аксаков – сын писателя С. Т. Аксакова, разрабатывал главным образом проблемы социальной философии и историософии.
Основной вклад Аксакова в развитие славянофильского учения связан
с созданной им историософской концепцией «земли и государства», сформулированной в конце 40-х – начале 50-х гг. («Голос из Москвы», «Родовое
или общественное явление был изгой?», «О древнем быте у славян вообще
и у русских в особенности» и др.). Центральное место в ней занимает
мысль о негосударственности русского народа, а ключевой идеей является
противопоставление государственности и векового уклада народной жизни.
О ТОМ ЖЕ45
Россия – земля совершенно самобытная, вовсе не похожая на европейские государства и страны. Очень ошибутся те, которые вздумают прилагать к ней европейские воззрения и на основании их судить о ней. Но так
мало знает Россию наше просвещенное общество, что такого рода суждения слышишь часто. Помилуйте, говорят многие, неужели вы думаете, что
Россия идет каким-то своим путем? На это ответ простой: нельзя не думать
того, что знаешь, что таково на самом деле.
Как занимателен и важен самобытный путь России до совращения ее
(хотя отчасти) на путь Западный и до подражания Западу! Как любопытны
обстоятельства и последствия этого совращения и, наконец, как занимательно и важно современное состояние России вследствие предыдущего
переворота и современное ее отношение к Западу.
История нашей родной земли так самобытна, что разнится с самой
первой своей минуты. Здесь-то, в самом начале, разделяются эти пути,
Русский и Западно-Европейский, до той минуты, когда странно и насильственно встречаются они, когда Россия дает страшный крюк, кидает родную
дорогу и примыкает к Западной. На это начало, прежде всего, обратим свое
внимание.
Все Европейские государства основаны завоеванием. Вражда есть начало их. Власть явилась там неприязненною и вооруженною и насильственно утвердилась у покоренных народов. Один народ или лучше одна
дружина, завоевывает другой народ, и образуется государство, в основе которого лежит вражда, не покидающая его во все течение истории. (Если там
и была тишина как явление – в основе лежала вражда).
Русское государство, напротив, было основано не завоеванием, а добровольным призванием власти. Поэтому не вражда, а мир и согласие есть
66
его начало. Власть явилась у нас желанною, не враждебною, но защитною,
и утвердилась с согласия народного. На Западе власть явилась как грубая
сила, одолела и утвердилась без воли и убеждения покоренного народа. В
России народ сознал и понял необходимость государственной власти на
земле, и власть явилась, как званый гость, по воле и убеждению народа.
Таким образом, рабское чувство покоренного легло в основании Западного государства; свободное чувство разумно и добровольно призвавшего власть легло в основании государства Русского. Раб бунтует против
власти, им непонимаемой, без воли его на него наложенной и его непонимающей. Человек свободный не бунтует против власти, им понятой и добровольно призванной.
Итак, в основании государства Западного: насилие, рабство и вражда.
В основании государства Российского: добровольность, свобода и мир. Эти
начала составляют важное и решительное различие между Русью и Западной Европою и определяют историю той и другой.
Пути совершенно разные, разные до такой степени, что никогда не могут сойтись между собою, и народы, идущие ими, никогда не согласятся в
своих воззрениях. 3апад, из состояния рабства переходя в состояние бунта,
принимает бунт за свободу, хвалится ею и видит рабство России. Россия же
постоянно хранит у себя признанную ею самою власть, хранит ее добровольно, свободно и поэтому в бунтовщике видит только раба с другой стороны, который также унижается перед идолом бунта, как перед старым
идолом власти, ибо бунтовать может только раб, а свободный человек не
бунтует.
Но пути эти стали еще различнее, когда важнейший вопрос для человечества присоединился к ним: вопрос Веры. Благодать сошла на Русь.
Православная Вера была принята ею. Запад пошел по дороге католицизма.
Страшно в таком деле говорить свое мнение; но если мы не ошибаемся, то
скажем, что по заслугам дался и истинный, дался и ложный путь Веры, первый – Руси, второй – Западу.
Ясно стало для Русского народа, что истинная свобода только там, где
Дух Господен.
Обратимся, собственно, к судьбам России, оставим в стороне Запад.
Мы, к сожалению, встретимся с ним еще и у себя.
При таких началах согласия, которые легли в основу Русского Государства, Народ и Власть должны были стать в совершенно особые отношения,
не похожие на Западные. При такой основе как должен смотреть народ на
власть? Так, как на власть, которая не покорила, но призвана им добровольно, которую потому он обязан хранить и чтить, ибо он сам пожелал ее:
народ в таком случае есть первым страж власти. Как должна власть смотреть на народ? Как на народ, который не покорен ею, но который сам призвал ее, почувствовав ее необходимость, который, следовательно, не есть
ее униженный раб, втайне мечтающий о бунте, но свободный подданный,
благодарный за ее труды, и друг неизменный. С обеих же сторон, так как не
было принуждения, а было свободное соглашение, – должна быть полная
доверенность.
Но нет никакого обеспечения, скажут нам: или народ, или власть, могут
изменить друг другу. Гарантия нужна! Гарантия не нужна! Гарантия есть
67
зло. Где нужна она, там нет добра; пусть лучше разрушится жизнь, в которой нет доброго, чем стоять с помощью зла. Вся сила в идеале! Да и что
значат условия и договоры, как скоро нет силы внутренней? Никакой договор не удержит людей, как скоро нет внутреннего на это желания. Вся сила
в нравственном убеждении. Это сокровище есть в России, потому что она
всегда в него верила и не прибегала к договорам.
Поняв с принятием Христианской Веры, что свобода только в духе,
Россия постоянно стояла за свою душу, за свою Веру. С другой стороны,
зная, что совершенство на земле невозможно, она не искала земного совершенства, и поэтому, выбрав лучшую (т.е. меньшее из зол) из правительственных форм, она держалась ее постоянно, не считая ее совершенною.
Признавая свободно власть, она не восставала против нее и не унижалась
перед нею.
Теперь обратимся к самой Истории Русской; проследим отношение
власти к народу и народа к власти и посмотрим: была ли с какой-нибудь
стороны измена.
Народ призывает власть добровольно, призывает ее в лице князямонарха, как в лучшем ее выражении, и становится с нею в приязненные
отношения. Это – союз народа с властью. Употребим здесь слова, которые
так часто, постоянно и с такой ясной определенностью встречаются в наших исторических свидетельствах, – слова, которые выражают народ и
власть, т.е. Земля и Государство.
Земля, как выражает это слово, – неопределенное и мирное состояние
народа. Земля призвала себе Государство на защиту, ограждение, прежде
всего, от врагов внешних, потом и от врагов внутренних. Отношение Земли
и Государства легло в основание Русской Истории. В первые времена Россия управлялась целым родом, совокупностью князей в отдельных княжествах, и в каждом княжестве повторялись те же самые отношения. Князей
стало много, они сами спорили между собою, между князьями возможен
был выбор, поэтому они часто перемещались <...>. Таким образом, в России не было ни одного человека, пользующегося даром своими выгодами
(тем менее по праву). Когда созывалась вся Россия, и служилая и земская,
на совет к государю, то такой совет назывался уже Земским, и государь являлся тогда главою Земли.
<…> Аристократии Запад ной не было вовсе. Не было вовсе и Западной демократии. Вся Россия была под двумя властями – Земли и Государства, разделялась на два отдела – на людей земских и людей служилых.
Что же соединяло эти два отдела, что составляло неразрывную связь
между ними? Мы говорили прежде о добровольном призвании Землею власти: это относится, собственно, к правительству, к государю; но здесь мы
говорим уже о проявлении этих начал, о двух классах: служилом и земском.
Что соединяло эти два отдела России? Вера и жизнь; вот почему всякий чиновник, начиная от боярина, был свой человек народу; вот почему, переходя из земских людей в служилые, он не становился чуждым Земле. Выше
всех этих разделений было единство веры и единство жизни, быта, соединявшее Россию в одно целое. Верою и жизнью само Государство становилось земским.
68
Люди служилые, все, начиная от бояр, писались холопами, что собственно значило слуга и более ничего, точно так же, как и люди служилые бояр и других лиц. Люди земские к государю писались сиротами, что на Русском языке не имеет значения orphelin, Waise, а значит просто беспомощный, беззащитный или нуждающийся в защите. Это название глубоко обозначает и утверждает отношение Земли к Государству, Земли, призвавшей
Государство на помощь. Повторяем: когда же созывалась вся, и служилая и
земская, Россия в своих выборных, к государю на совет, то такой совет назывался Земским. На таком совете было и духовенство, соединявшее Государство с Землею, постоянно роднившее его с ней. Государство как бы исчезало на ту минуту, и государь являлся тогда главою земли. Но это было
только в исключительные минуты; невозможно было народу долго хранить
этот напряженный образ собранной Земли, продолжение которого мешало
бы самой жизни Земли. Совет оканчивался, народ уходил к своим полям и
работам, и Государство вновь, одно, бодрствовало над Землею.
Нам скажут: неужто же было полное блаженство? Конечно, на земле
нельзя найти совершенного положения, но можно найти совершенные начала. <...> В основу Русской жизни легли истинные начала. Эти начала составляют постоянный камертон в жизни, сейчас дающий чувствовать, указующий уклонения и в то же время истинный путь. В этих началах лежит и
осуждение лжи, и исцеление от лжи; идучи по истинному пути, можно
упасть, можно и встать, но сила в том, чтобы не изменять пути.
МУРАВЬЕВ Н.М. (1795–1843 гг.)
Муравьев Никита Михайлович родился в старинной дворянской семье.
Образование получил дома и в Московском университете. Участник заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. Вернувшись в Москву, в 1816 г.
был одним из основателей «Союза спасения», в 1818–1821 гг. – одним из руководителей «Союза благоденствия». Был идеологом и главным руководителем Северного общества декабристов. В 1821–1825 гг. составил проект
будущего государственного устройства России, т.н. Конституцию Муравьева, которую предполагалось представить Народному Собору. Муравьев
предлагал установление конституционной монархии, равенство граждан перед законом, ликвидацию сословий, свободу слова, печати, вероисповеданий, отмену крепостного права и наделение крестьян двумя десятинами
земли на двор при сохранении помещичьей собственности на землю, высокий имущественный ценз для занятия государственных должностей. Этим
документом Муравьев положил начало традиции русского либерализма. В
1823–1824 гг., во время переговоров о соединении Южного и Северного обществ, Муравьев не соглашался с П.И. Пестелем в необходимости истребления императорской фамилии, полагая, что «люди, обагренные кровию, будут посрамлены в общем мнении». В восстании 14 декабря 1825 г. участия
не принимал и в Петербурге в это время не был. В 1826 г. был приговорен к
смертной казни, замененной каторжными работами в Нерчинских рудниках.
С 1835 г. жил на поселении в Иркутской губернии, занимаясь историкоэкономическими изысканиями. М.С. Лунин, узнав о смерти Муравьева, писал:
«Этот человек один стоил целой академии».
69
ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ46 Второй вариант
Глава I. О народе русском и правлении
Русский народ, свободный и независимый, не есть и не может быть
принадлежностью никакого лица и никакого семейства.
Источник Верховной власти есть народ, которому принадлежит исключительное право делать основные постановления для самого себя.
Глава II. О гражданах
Гражданство есть право определенным в сем Уставе порядком участвовать в общественном управлении: посредственно, т.е. выбором чиновников или избирателей; непосредственно, т.е. быть самому избираемым в какое-либо общественное звание по законодательной, исполнительной или
судебной власти.
Граждане суть те жители Российской империи, которые пользуются
правами, выше определенными.
Чтоб быть Гражданином, необходимы следующие условия:
Не менее 21 года возраста.
Известное и постоянное жительство.
Здравие ума.
Личная независимость.
Исправность платежа общественных повинностей.
Непорочность пред лицом закона.
6. Иностранец, не родившийся в России, но жительствующий 7 лет
сряду в оной, имеет право просить себе Гражданства Российского у судебной власти, отказавшись наперед клятвенно от правительства, под властью которого прежде находился.
7. Иностранец, не получивший Гражданства, не может исполнять никакой общественной, ни военной должности в России – не имеет права служить рядовым в войске Российском и не может приобрести земель.
8. Через 20 лет по приведении в исполнение сего Устава Российской
империи никто, не обучившийся Русской грамоте, не может быть признан
Гражданином.
9. Права Гражданства теряются на время:
1) Судебным объявлением о расслаблении ума.
2) Нахождением под судом.
3) Судебным объявлением о временном лишении прав.
4) Объявленным банкротством.
5) Общественною недоимкою.
6) Нахождением в услужении при ком-либо.
7) Неизвестностью местопребывания, занятий и средств к пропитанию.
Навсегда:
Вступлением в подданство иностранного государства.
Принятием службы или должности в чужой земле без согласия своего
правительства.
3) Приговором суда к бесчестному наказанию, влекущему за собою
лишение Гражданских прав.
4) Если Гражданин без согласия Веча примет подарок, пенсию, знак
отличия, титло или звание почетное или приносящее прибыль от иностранного правления, государя или народа.
70
Глава III. О состоянии, личных правах и обязанностях русских
Все Русские равны перед Законом.
Русскими почитаются все коренные жители России и дети иностранцев, родившиеся в России, достигшие совершеннолетия, доколе они не
объявят, что не хотят пользоваться сим преимуществом.
12. Каждый обязан носить общественные повинности, повиноваться
законам и властям Отечества и явиться на защиту Родины, когда востребует того Закон.
13. Крепостное состояние и рабство отменяются; раб, прикоснувшийся
земли Русской, становится свободным. Разделение между благородными и
простолюдинами не принимается, поелику противно вере, по которой все
люди братья, все рождены благо по воле божией, все рождены для блага и
все просто люди: ибо все слабы и несовершенны.
14. Всякий имеет право излагать свои мысли и чувства невозбранно и
сообщать оные посредством печати своим соотечественникам. Книги, подобно всем прочим действиям, подвержены обвинению Граждан пред судом и подлежат присяжным.
15. Существующие ныне гильдии и цехи в купечестве, ремеслах уничтожаются.
Всякий имеет право заниматься тем промыслом, который покажется
выгоднейшим: земледелием, скотоводством, охотою рыбною ловлею, рукоделиями, заводами, торговлею и так далее.
Всякая тяжба, в которой дело идет о ценности, превышающей фунт
чистого серебра (25 рублей серебр [ом]), поступает на суд присяжных.
Всякое уголовное дело производится с присяжными.
Подозреваемый в злоумышлении может быть взят под стражу постановленными Уставом властями и учрежденным порядком, но в 24 часа (под
ответственностью тех, которые его задержали) должно ему объявить письменно о причине его задержания, в противном случае он немедленно освобождается.
Заключенный, если он не обвинен по уголовному делу, немедленно
освобождается, если найдется за него порука.
Никто не может быть наказан, как в силу закона, обнародованного до
преступления и правильно и законным образом приведенного в исполнение.
Устав сей определит, каким чиновникам и в каких обстоятельствах
представляется право давать письменные приказания задержать кого-либо
из Граждан, сделать домовой обыск, забрать его бумаги и распечатать
письма его. Равным образом определит оный ответственность за таковые
поступки.
Право собственности, заключающее в себе одни вещи, священно и неприкосновенно.
24. Земли помещиков остаются за ними. Дома поселян с огородами
оных признаются их собственностью со всеми земледельческими орудиями
и скотом, им принадлежащим.
25. Крестьяне экономические и удельные будут называться общими
владельцами, равно как и ныне называются вольными хлебопашцами, поелику земля, на которой они живут, предоставляется им в общественное
71
владение и признается их собственностью. Удельное правление уничтожается.
26. Последующие законы определят, каким образом сии земли поступят из общественного в частное владение каждого из поселян и на каких
правилах будет основан сей раздел общественной земли между ими.
27. Поселяне, живущие в арендных имениях, равно делаются вольными, но земли остаются за теми, кому они были даны, и по то время, по которое были даны.
28. Военные поселения немедленно уничтожаются. Поселенные батальоны и эскадроны с родственниками рядовых вступают в звание общих
владельцев.
Разделение людей на 14 классов отменяется. Гражданские чины, заимствованные у немцев и ничем не отличающиеся между собою, уничтожаются сходственно с древними постановлениями народа Русского. Названия и сословия однодворцев, мещан, дворян, именитых граждан заменяются все названием Гражданина или Русского.
Жалованье священнослужителям будет производиться и впредь. Равным образом они освобождаются от постоя и подвод.
Кочующие племена не имеют прав Гражданских. Право участвовать в
выборе волостного старшины предоставляется однакож и оным.
Граждане имеют право составить всякого рода общества и товарищества, не испрашивая о том ни у кого позволения, ни утверждения, лишь
только б действия оных не были противузаконными.
Каждое таковое общество имеет право делать себе постановления,
лишь бы оные не были противны сему Уставу и законам общественным.
Никакое иностранное общество не может иметь в России подведомственных себе обществ или сотовариществ.
Никакое нарушение Закона не может быть оправдано повелением начальства. Сперва наказывается нарушитель Закона; потом подписавшие
противузаконное повеление.
40. Нынешние полицейские чиновники отрешаются и заменяются по
выборам жителей.
41. Всякий Гражданин, который бы насилием или подкупом нарушил
свободный выбор народных представителей, предается суду.
42. Никто не может быть беспокоиваем в отправлении своего богослужения по совести и чувствам своим, лишь бы только не нарушал законов
природы и нравственности.
ПЕСТЕЛЬ П.И. (1793–1826 гг.)
Павел Иванович Пестель – один из руководителей декабристского
движения. В 1805–1809 учился в Дрездене. По возвращении на родину блестяще окончил Пажеский корпус в Петербурге, получил чин прапорщика и
был направлен в лейб-гвардии Литовский полк. Во время Отечественной
войны 1812 г. отличился в сражении под Бородино, где был тяжело ранен;
награжден золотой шпагой «За храбрость», которую ему вручил лично
М.И. Кутузов.
Ужесточение политического режима во второй половине 1810-х (аракчеевщина) способствовало усилению его оппозиционных настроений. В
72
1817 г. Пестель по рекомендации одного из учредителей Союза спасения
М.Н. Новикова был принят в эту первую тайную организацию декабристов.
Будучи широко образованным, обладая сильной волей, железной логикой
и ораторским даром, быстро выдвинулся среди своих единомышленников.
Разработал устав Союза («Статут»), главными пунктами которого стали
уничтожение крепостного права, введение конституционной монархии и
ликвидация засилья иностранцев в России. После создания в 1818 г. на
базе Союза спасения Союза Благоденствия стал лидером его радикального крыла.
С декабря 1819 г. – подполковник Мариупольского гусарского полка.
Продолжил революционную деятельность, возглавив Тульчинскую управу
Союза Благоденствия. На Петербургском совещании членов общества в
январе 1820 г. выступил с докладом о преимуществах республиканской
формы правления и поддержал выдвинутую Н.М. Муравьевым идею цареубийства; внес предложение передать после устранения самодержавия всю
полноту власти временному правительству с диктаторскими полномочиями,
которое было отвергнуто большинством. В марте 1821 г. по его инициативе
Тульчинская управа приняла решение о создании Южного общества и
одобрила идею установления республиканского строя путем военного переворота и цареубийства. Избран председателем и одним из трех директоров Южного Общества. Установил строгую дисциплину среди его членов.
Стремился ограничить состав заговорщиков исключительно военными. В
отличие от С.И. Муравьева-Апостола, не считал возможным самостоятельное антиправительственное выступление на юге, возлагая главную надежду
на успех восстания в столице.
Составил Русскую правду, конституционный проект, единогласно
одобренный на Киевском съезде Южного общества в 1823 г., в котором
своеобразно сочетались демократизм и унитаризм. Проект Пестеля провозглашал Россию единым и неделимым государством с общими для всех его
частей политическим строем и законами; все населяющие ее этносы должны слиться в один народ. Предполагалось установить республиканский
строй и представительное правление на основе всеобщего равного избирательного права.
Пестель прилагал значительные усилия для объединения Южного и
Северного обществ, которые, однако, не увенчались успехом: большинство
северян решительно отвергало идею временной диктатуры и раздела земли; в марте 1824 г. Северное общество отказалось одобрить Русскую правду. В то же время Пестель добился присоединения к Южному обществу
тайного офицерского Общества объединенных славян. Вел переговоры о
совместных действиях с тайной организацией польских офицеров.
За день до выступления декабристов в Петербурге, по доносу был
арестован в Тульчине. В течение двух недель содержался под домашним
арестом на квартире дежурного генерала; сохранял связь с членами Южного общества, однако не отдал приказа о начале восстания на юге, осознавая всю его безнадежность после подавления мятежа на Сенатской площади. 26 декабря 1825 г. (7 января 1826 г.) отправлен в Петербург и заключен
в Петропавловскую крепость. Верховным уголовным судом признан вождем
73
и главной пружиной декабристского заговора; осужден на смертную казнь
через четвертование, которую Николай I заменил повешением. Казнен
13 (25) июля 1826 на кронверке Петропавловской крепости.
РУССКАЯ ПРАВДА47
§ 1. Всякое общество имеет свою цель и избирает средства для
достижения оной
Всякое соединение нескольких человек для достижения какой-либо
цели называется обществом. Побуждением к сему соединению или целью
оного бывает удовлетворение общим нуждам, которые происходят от общих и одинаковых свойств природы человека, бывают для всех людей одинаковы. Из сего следует, что члены всякого общества могут единодушно согласиться в цели. Но когда они обратятся к действию или средствам, коими
цель должна быть достигнута, тогда должны возродиться между ими сильные споры и бесконечные несогласия, потому что избрание средств не
столько зависит от общих свойств природы человеческой, сколько от особенного нрава и личных качеств каждого человека в особенности. Нрав и
личные качества людей бывают столь различны, что ежели каждый пребудет непреклонен в своем мнении, не внимая мнения других, то никакой не
будет возможности избрать средства для достижения предназначенной цели, а тем еще менее устроить оные и к действию приступить. В таком случае ничего не останется делать, как разрушить общество прежде всякого
действия. А ежели члены не хотят общества уничтожить, то каждый из них
должен уступить часть своего мнения и собственных мыслей, дабы составить только одно мнение, по которому могли бы средства для сего действия
быть избраны.
§ 2. Разделение членов общества на повелевающих и повинующихся
Но кто представит такое окончательное мнение, кто изберет средства,
кто определит способы, кто расположит действие? Все сии затруднения
разрешаются двояким образом. В первом случае нравственное превосходство одного или нескольких членов соглашает все сии различные затруднения и увлекает за собою прочих силою сего превосходства, коему содействуют иногда и другие посторонние обстоятельства. Во втором случае возлагают члены общества на одного или нескольких из них обязанность избирать средства, предоставляя им право распоряжаться общим действием. В
том и другом случае разделяются члены общества на повелевающих и повинующихся. Сие разделение неизбежно потому, что происходит от природы человеческой, а следовательно, везде существует и существовать
должно. На естественном сем разделении основано различие в обязанностях и в правах тех и других.
§ 3. Разделение государства на правительство и народ
Все здесь сказанное об обществах вообще относится равным образом
и до гражданских обществ, которые, будучи устроены и в порядок приведены, получают название государства. Гражданское общество, как и всякое
другое, имеет свою цель и должно избирать средства для достижения оной.
Цель состоит в благоденствии всего общества вообще и каждого из членов
74
оного в особенности. В сей цели все согласны. Для достижения оной нужны
средства или действия. Действия сии разделяются на общие и частные.
Общим действием называется то, которое касается всего общества, а следовательно, и производится от лица всего общества. Частным – то, которое
составляет занятия и упражнения каждого члена в особенности. Избрание
средств для достижения сказанной цели и действие, сообразное с сим избранием, ведет к разделению членов гражданского общества на повелевающих и повинующихся. Действие от лица всего общества составляет
обязанность первых; действие от лица частных членов предоставляется
вторым. Когда гражданское общество получает название государства, тогда
повелевающие получают название правительства, а повинующиеся – название народа. Из сего явствует, что главные или первоначальные составные части каждого государства суть: правительство и народ.
§ 4. Взаимные отношения правительства и народа
Правительство имеет обязанность распоряжаться общим действием и
избирать лучшие средства для доставления в государстве благоденствия
всем и каждому. А посему имеет оно право требовать от народа, чтобы
оный ему повиновался. Народ же имеет обязанность правительству повиноваться; но зато имеет право требовать от правительства, чтобы оно непременно стремилось к общественному и частному благоденствию и только
бы то повелевало, что истинно к сей цели ведет и без чего не могла бы
оная быть достигнута. На сем единственно равновесии взаимных обязанностей и взаимных прав может существование какого бы то ни было государства быть основано, а посему и переходит государство при потере сего
равновесия из природного и здорового своего положения в состояние насильственное и болезненное. Установление сего равновесия на твердых
основах есть главная цель сея «Русской Правды» и коренная обязанность
каждого законодателя.
§ 5. Каждое право основано быть должно на предшествующей
обязанности
Об обязанностях было упомянуто здесь прежде, нежели о правах потому, что право есть одно только последствие обязанности и существовать
иначе не может, как основываясь на обязанности, ему предшествовавшей.
Первоначальная обязанность человека, которая всем прочим обязанностям
служит источником и порождением, состоит в сохранении своего бытия.
Кроме естественного разума сие доказывается словами евангельскими, заключающими весь закон христианский: люби бога и люби ближнего, как самого себя, – словами, вмещающими и любовь к самому себе как необходимое условие природы человеческой, и закон естественный, следственно,
обязанность нашу. От сей обязанности происходит право пользоваться для
пищи плодами и прочими произведениями природы. Человек имеет сие последнее право только потому, что он обязан сохранять свое бытие. Точно
так и во всяком случае может право, какое бы оно ни было, только тогда
существовать и признаваемо быть действительным, когда оно бывает необходимо для выполнения той обязанности, которая оному праву предшествует и на которой оно опирается или основывается. Право же без предварительной обязанности есть ничто, не значит ничего и признаваемо
должно быть одним только насилием или зловластием.
75
§ 6. Основное понятие о государственном благоденствии и сопряженных с ним обязанностях
Главное дело в государстве есть посему понятие об обязанностях, коих каждая имеет соответствующее ей право. Обязанности в государстве истекают из цели государства. Цель же государственного устройства должна
быть – возможное благоденствие всех и каждого. А посему все, ведущее к
благоденствию, есть обязанность. Но поелику понятия о благоденствии бывают весьма различны и разнообразны, то нужно сему положить некоторые
основные или коренные правила. Обязанности, на человека от бога посредством веры наложенные, суть первейшие и непременнейшие. Они связывают духовный мир с естественным, жизнь бренную с жизнию вечною, и
потому все постановления государственные должны быть в связи и согласии с обязанностями человека в отношении к вере и всевышнему создателю миров. Сей первый род обязанностей касается мира духовного. Они нам
известны из священного писания. Второй род обязанностей касается мира
естественного. Они нам известны из законов природы и нужд естественных.
Бог, творец вселенной, есть и творец законов природы, нужд естественных.
Сии законы глубоко впечатлены в сердцах наших. Каждый человек им подвластен, никто не в силах их низвергнуть, и потому постановления государственные должны быть в таком же согласии с неизменными законами природы, как и со святыми законами веры. Наконец, третий род обязанностей
порождается составлением гражданских обществ или государств. Первое
правило в сем деле состоит в том, что всякое стремление в государстве к
доставлению оному благоденствия должно быть согласно с законами духовными и законами естественными. Второе правило: что все государственные постановления должны стремиться единственно к благоденствию
гражданского общества, причем всякое действие, сему благоденствию противное или ему вредящее, признаваемо быть должно преступлением.
Третье правило, что благоденствие общественное должно считаться важнее благоденствия частного, и ежели оные находятся в противуборстве, то
первое должно получать перевес. Четвертое правило, что благоденствием
общественным признаваемо быть должно благоденствие совокупности народа, из чего следует, что истинная цель государственного устройства
должна непременно быть – возможно большее благоденствие многочисленнейшего числа людей в государстве, почему и должны всегда выгоды
части или иного нераздельного уступать выгодам целого, признавая целым
совокупность или массу народа. Пятое, наконец, правило состоит в том, что
частный человек, делая усилия к доставлению себе благоденствия, не должен выступать из круга своего действия и входить в круг действия другого,
т.е. что благоденствие одного человека не должно наносить вреда, а тем
еще менее гибели другому. Коль скоро все деяния как правительства, так и
частных людей на сих правилах основаны будут, то государство, несомненно, пользоваться будет возможным благоденствием. Все же законы и постановления государственные должны непременно с сими правилами в
полной мере совершенно согласоваться.
§ 7. Основное понятие о народе и его значении
Выше пояснено, что государство состоит из правительства и народа.
76
Народ есть совокупность тех людей, которые, принадлежа к одному и
тому же государству, составляют гражданское общество, имеющее целью
своего существования возможное благоденствие всех и каждого.
Непреложный закон гражданских обществ заключается в том, что каждое государство состоит из народа и правительства, следовательно, народ
не есть правительство, и каждое из оных имеет свои особенные обязанности и права; однако же правительство существует для блага народа и не
имеет другого основания своему бытию и образованию, как только благо
народное, между тем как народ существует для собственного своего блага
и для выполнения воли всевышнего, призвавшего людей на сей земле прославлять его имя, быть добродетельными и счастливыми. Сей закон божий
поставлен для всех людей в ровной мере, и, следовательно, все имеют
право на его исполнение. А посему народ российский не есть принадлежность или собственность какого-либо лица или семейства. Напротив того,
правительство есть принадлежность народа, и оно учреждено для блага
народного, а не народ существует для блага правительства.
§ 8. Основное понятие о правительстве и разделении оного на
верховную власть и государственное правление
Правительство есть совокупность всех лиц, занимающихся отправлением дел общественных. Оно поставлено в обязанность доставлять народу
благоденствие и потому имеет право государством управлять для достижения сей предназначенной цели. Обладая сим правом, оно должно иметь и
соразмерную власть, дабы обязанность могла быть выполнена и право было бы действительным. Сия власть, посредством которой правительство
исполняет свою обязанность, употребляет свое право и достигает предназначенной цели, есть Верховная власть. Из общего предмета или состава
благоденствия государства истекают особенные предметы сей общей цели
и, как общей цели благоденствия соответствует Верховная власть, так
должны соответствовать каждому особенному предмету: особенная обязанность, особенное право и особенная власть. Сии особенные власти истекают из верховной, которая объемлет всю цель учреждения правительства; почему и должны особенные власти совершенно зависеть от верховной
и действовать по направлению, от нее исходящему. Совокупность всех сих
особенных или частных властей составляет государственное правление,
которое также названо быть может чиноначальством. Из сего явствует, что
правительство не может выполнить своей обязанности и государству доставить благоденствие, если не будет иметь власти, соразмерной важности
и обширности цели гражданского общества, и что сия власть распространяет свое действие по всем предметам на целое государство, имея притом
много подчиненных властей, кои уже действуют на отдельные только предметы или на отдельные только части оного. Общая власть именуется Верховной властью, а совокупность частных – государственное правление или
чиноначальство.
§ 12. Определение, цель и действие Русской Правды
Русская Правда есть посему верховная Всероссийская грамота, определяющая все перемены, в государстве последовать имеющие, все предметы и статьи, уничтожению и ниспровержению подлежащие, и, наконец,
77
коренные правила и начальные основы, долженствующие служить неизменным руководством при сооружении нового государственного порядка и
составлении нового государственного уложения. Она содержит определение некоторых важнейших положительных законов и постановлений будущего порядка вещей, исчисление главных предполагаемых переводных мероприятий и вместе с тем пояснение коренных отображений, начальных
причин и основных доводов, утверждающих предполагаемое для России
государственное устройство. Итак, Русская Правда есть наказ или наставление временному Верховном правлению для его действий, а вместе с тем
и объявление народу, от чего он освобожден будет и чего вновь ожидать
может. Она содержит обязанности, на временное Верховное правление
возлагаемые, и служит для России ручательством, что временное Верховное правление единственно ко благу отечества действовать будет. Недостаток в таковой грамоте ввергнул многие государства в ужаснейшие бездействия и междоусобия, потому что в оных правительство действовать
всегда могло по своему произволу, по личным страстям и частным видам,
не имея перед собою ясного и полного наставления, коим бы обязано было
руководствоваться, и что народ между тем никогда не знал, что для него
предпринимают, никогда не видел ясным образом, к какой цели стремятся
действия правительства, и, волнуемый разными страхами, а потом и разными страстями, часто предпринимал беспокойные действия и, наконец,
междоусобия производил. Русская Правда отвращает своим существованием все сие зло и приводит государственное преобразование и положительные ход и действие тем, что все определяет и на все предметы коронные правила издает. Посему обязаны с нею в полной мере сообразоваться
как временное Верховное правление со всеми частями, отраслями и степенями правительства, так равно и весь народ со всеми оного членами или
гражданами. Временное Верховное правление обязано новый государственный порядок, Русской Правдою определенный, постепенными мероприятиями ввести и устроить, а народ обязан сему введению не только не
противиться, но, напротив того, временному Верховному правлению усердно всеми силами содействовать и неуместным нетерпением не вредить
преуспеванию народного возрождения и государственного преобразования.
ГЕРЦЕН А.И. (1812–1870 гг.)
Атмосфера философских дискуссий 30–40-х гг. XIX в. породила многих
замечательных мыслителей. Среди них выдающееся место принадлежит
Александру Ивановичу Герцену – основоположнику теории «русского социализма». 1847 год делит его жизнь на два периода – русский и зарубежный. После выезда за рубеж он жил и работал во Франции, Швейцарии,
Италии, Англии. В основанной им совместно с Н.П. Огаревым в Лондоне
Вольной русской типографии издавались альманах «Полярная звезда», газета «Колокол», произведения, запрещенные на родине цензурой.
Выпускник Московского университета, Герцен был близко знаком с
В.Г. Белинским, М.А. Бакуниным, Т.Н. Грановским и А.С. Хомяковым. С молодых лет он относил себя к числу людей, горячо любящих Россию, тех, кто
«раскрыт многому европейскому, не закрыт многому отечественному». Осно-
78
вательно изучив историю естествознания и пережив увлечение гегелевской
философией и французским социализмом, Герцен в цикле статей «Дилетантизм в науке» (1843) высказал мысль о том, что России, возможно, предстоит
«бросить нашу северную гривну в хранилищницу человеческого разумения»
и явить миру «действительное единство науки и жизни, слова и дела».
Герцен до 1847 г. формировался как мыслитель, примыкавший к западническому направлению. Круг его чтения составляли сочинения СенСимона, Фурье, Спинозы, Гегеля, Лейбница, Декарта, Гердера, Руссо и многих других авторов. Одной из основных идей, усвоенных им еще в ранний
период творчества, является утверждение необходимости свободы личности. Свобода приобщения к европейской культуре в полном ее объеме,
свобода от произвола властей, бесцензурное творчество – вот те недоступные в России ценности, к которым стремился Герцен.
Впечатления о первой встрече Герцена с Европой, представленные в
«Письмах из Франции и Италии» (1847–1852) и в работе «С того берега»
(1850), свидетельствуют о радикальных изменениях в его оценках европейской цивилизации. Позднее он вспоминал: «Начавши с крика радости при
переезде через границу, я окончил моим духовным возвращением на родину». Герцен отмечает «величайшие противоречия» западной цивилизации,
сделанной «не по нашей мерке», пишет о том, что в Европе «не по себе
нашему брату».
Герцен был живым посредником между русской и западноевропейской
общественной мыслью и немало способствовал распространению истинных, неискаженных сведений о России в среде европейской интеллигенции.
Так, французский историк Ж. Мишле, отрицательно отзывавшийся одно
время о русском народе, под влиянием опубликованного на французском
языке очерка Герцена «Русский народ и социализм» (1852) переменил свои
взгляды на Россию и даже стал постоянным корреспондентом и почитателем русского мыслителя. Убежденный противник самодержавия и деспотизма, Герцен вместе с тем решительно выступал против того, чтобы видеть «лишь отрицательную сторону России».
РУССКИЙ НАРОД И СОЦИАЛИЗМ48
Письмо к [французскому историку] Ж. Мишле (1851)
Милостивый государь,
Вы стоите слишком высоко в мнении всех мыслящих людей, каждое
слово, вытекающее из вашего благородного пера, принимается европейскою демократиею с слишком полным и заслуженным доверием, чтобы в
деле, касающемся самых глубоких моих убеждений, мне было возможно
молчать и оставить без ответа характеристику русского народа, помещенную вами в вашей легенде о Костюшке.
Этот ответ необходим и по другой причине; пора показать Европе, что,
говоря о России, говорят не о безответном, не об отсутствующем, не о глухонемом.
Мы, оставившие Россию только для того, чтобы свободное русское
слово раздалось, наконец, в Европе, – мы тут налицо и считаем долгом подать свой голос, когда человек, вооруженный огромным и заслуженным ав-
79
торитетом, утверждает, что «Россия не существует, что русские не люди,
что они лишены нравственного смысла».
Если вы разумеете Россию официальную, царство-фасад, византийско-немецкое правительство, то вам и книги в руки. Мы соглашаемся вперед со всем, что вы нам скажете. Не нам тут играть роль заступника. У русского правительства так много агентов в прессе, что в красноречивых апологиях его действий никогда не будет недостатка.
Но не об одном официальном обществе идет речь в вашем труде; вы
затрагиваете вопрос более глубокий; вы говорите о самом народе.
Бедный русский народ! Некому возвысить голос в его защиту! Посудите сами, могу ли я, по совести, молчать.
Русский народ, милостивый государь, жив, здоров и даже не стар, –
напротив того, очень молод. Умирают люди и в молодости, это бывает, но
это ненормально.
Прошлое русского народа темно; его настоящее ужасно, но у него есть
права на будущее. Он не верит в свое настоящее положение, он имеет дерзость тем более ожидать от времени, чем менее оно дало ему до сих пор.
Самый трудный для русского народа период приближается к концу. Его
ожидает страшная борьба; к ней готовятся его враги. Великий вопрос: to be
or not to be – скоро будет решен для России. Но грешно перед борьбою отчаиваться в успехе.
Русский вопрос принимает огромные, страшные размеры; он сильно
озабочивает все партии; но мне кажется, что слишком много занимаются
Россиею императорскою, Россиею официальной и слишком мало Россиею
народной, Россиею безгласной.
Община спасла русский народ от монгольского варварства и от имперской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хоть и сильно потрясенная, устояла против вмешательства власти; она благополучно дожила до развития
социализма в Европе.
Это обстоятельство бесконечно важно для России.
Русское самодержавие вступает в новую фазу. Выросшее из антинациональной революции [Герцен имеет в виду реформаторскую деятельность Петра I], оно исполнило свое назначение; оно осуществило громадную империю, грозное войско, правительственную централизацию. Лишенное действительных корней, лишенное преданий, оно обречено на бездействие; правда, оно возложило было на себя новую задачу – внести в Россию западную цивилизацию, и оно до некоторой степени успевало в этом,
пока еще играло роль просвещенного правительства. Эта роль теперь оставлена им.
Правительство, расставшееся с народом во имя цивилизации, не замедлило отречься от образования во имя самодержавия.
Оно отреклось от цивилизации, как скоро сквозь ее стремления стал
проглядывать трехцветный призрак либерализма; оно попыталось вернуться к национальности, к народу. Это было невозможно. Народ и правительство не имели ничего общего между собою; первый отвык от последнего, а
правительству чудился в глубине масс новый призрак, еще более страшный
80
призрак – красного петуха. Конечно, либерализм был менее опасен, чем
новая пугачевщина, но страх и отвращение от либеральных идей стали так
сильны, что правительство не могло более примириться с цивилизациею.
С тех пор единственной целью царизма остался царизм. Он властвует,
чтоб властвовать. Громадные силы употребляются на взаимное уничтожение, на сохранение искусственного покоя.
Но самодержавие для самодержавия напоследок становится невозможным; это слишком нелепо, слишком бесплодно.
Оно почувствовало это и стало искать занятия в Европе. Деятельность
русской дипломатии неутомима; повсюду сыплются ноты, советы, угрозы,
обещания, снуют агенты и шпионы. Император считает себя естественным
покровителем немецких принцев; он вмешивается во все мелкие интриги
мелких германских дворов: он решает все споры; то побранит одного, то наградит другого великою княжной. Но этого недостаточно для его деятельности. Он принимает на себя обязанность первого жандарма вселенной, он
опора всех реакций, всех гонений. Он играет роль представителя монархического начала в Европе, позволяет себе аристократические замашки,
словно он Бурбон или Плантагенет, словно его царедворцы – Глостеры или
Монморанси.
Зимний дворец, как вершина горы под конец осени, покрывается все
более и более снегом и льдом. Жизненные соки, искусственно поднятые до
этих правительственных вершин, мало-помалу застывают, остается одна
материальная сила и твердость скалы, еще выдерживающей напор революционных воли.
Николай, окруженный генералами, министрами, бюрократами, старается забыть свое одиночество, но становится час от часу мрачнее, печальнее, тревожнее. Он видит, что его не любят; он замечает мертвое умолчание, царствующее вокруг него, по явственно доходящему гулу далекой бури, которая как будто к нему приближается. Царь хочет забыться. Он громко
провозгласил, что его цель – увеличение императорской власти.
Это признание – не новость: вот уже двадцать лет, как он без устали,
без отдыха трудится для этой единственной цели; для нее он не пожалел
ни слез, ни крови своих подданных. Все ему удалось; он раздавил польскую
народность. В России он подавил либерализм. Чего, в самом деле, еще хочется ему? Отчего он так мрачен? Император чувствует, что Польша еще
не умерла. На место либерализма, который он гнал с ожесточением совершенно напрасным, потому что этот экзотический цветок не может укорениться на русской почве, встает другой вопрос, грозный, как громовая туча.
Народ начинает роптать под игом помещиков; беспрестанно вспыхивают местные восстания; вы сами приводите тому страшный пример. Партия движения, прогресса требует освобождения крестьян; она готова принести в жертву свои права. Царь колеблется и мешает; он хочет освобождения и препятствует ему.
Он понял, что освобождение крестьян сопряжено с освобождением
земли, что освобождение земли, в свою очередь, – начало социальной революции, провозглашение сельского коммунизма. Обойти вопрос об освобождении невозможно – отодвинуть его решение до следующего царство-
81
вания, конечно, легче, но это малодушно, и, в сущности, это только несколько часов, потерянных на скверной почтовой станции без лошадей...
Из всего этого вы видите, какое счастие для России, что сельская община не погибла, что личная собственность не раздробила собственности
общинной; какое это счастье для русского народа, что он остался вне всех
политических движений, вне европейской цивилизации, которая, без сомнения, подкопала бы общину и которая ныне сама дошла в социализме до
самоотрицания.
Европа, – я это сказал в другом месте, – не разрешила антиномии между личностью и государством, но она поставила себе задачею это разрешение. Россия также не нашла этого решения. Перед этим вопросом начинается наше равенство.
Европа на первом шагу к социальной революции встречается с этим
народом, который представляет ей осуществление, полудикое, неустроенное, – но все-таки осуществление постоянного дележа земли между земледельцами. И заметьте, что этот великий пример дает нам не образованная
Россия, но сам народ, его жизненный процесс. А русские, прошедшие через
западную цивилизацию, мы не больше, как средство, как закваска, как посредники между русским народом и революционной Европою. Человек будущего в России – мужик, точно же как во Франции работник.
Различие между вашими законами и нашими указами заключает только в заглавной формуле. Указы начинаются подавляющей истиною: «Царь
соизволил повелеть»; ваши законы начинаются возмутительной ложью –
ироническим злоупотреблением имени французского народа и словами
«свобода, братство и равенство». Николаевский свод рассчитан против
подданных и в пользу самодержавия. Наполеоновский свод имеет решительно тот же характер. На нас лежит слишком много цепей, чтобы мы добровольно надели на себя еще новых. В этом отношении мы стоим совершенно наряду с нашими крестьянами. Мы покоряемся грубой силе. Мы рабы, потому что не имеем возможности освободиться; но мы не принимаем
ничего от наших врагов.
Россия никогда не будет протестантскою.
Россия никогда не будет juste-milieu [золотой серединой].
Россия никогда не сделает революции с целью отделаться от царя Николая и заменить его царями-представителями, царями-судьями, царямиполицейскими.
Мы, может быть, требуем слишком много и ничего не достигнем. Может быть, так, но мы все-таки не отчаиваемся; прежде 1848 года России не
должно, невозможно было вступать в революционное поприще, ей следовало доучиться, и теперь она доучилась. Сам царь это замечает и свирепствует против университетов, против идей, против науки; он старается отрезать Россию от Европы, убить просвещение. Он делает свое дело.
Успеет ли он в нем?
Я уже сказал это прежде. Не следует слепо верить в будущее; каждый
зародыш имеет право на развитие, но не каждый развивается. Будущее
России зависит не от нее одной. Оно связано с будущим Европы. Кто может
предсказать судьбу славянского мира в случае, если реакция и абсолютизм
окончательно победят революцию в Европе?
82
Быть может, он погибнет?
Но в таком случае погибнет и Европа...
И история перенесется в Америку...
Глава IX. КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
В РОССИИ (СЕРЕДИНА XIX–НАЧАЛО ХХ ВВ.)
Русская политическая мысль богата по своему содержанию и имеет
многолетнюю историю развития. Возникая вместе с формированием древнерусского государства в IX в., она прошла длительную эволюцию. На процесс развития политических идей в России оказали существенное влияние
политические учения мыслителей Запада и Востока. Однако самобытность
российской политической мысли обусловлена исключительной ролью в ее
развитии православия. Именно православие сформировало политическое
мировосприятие, свойственное только российскому обществу. Так, государство рассматривалось не только как единственный гарант общего блага, но
и как высокое нравственное начало, олицетворяющее идеалы справедливости, благочестия и истины. По своей природе государство не трактовалось как общественный договор, что было свойственно западным авторам.
А понималось как государство – вотчина. Сам государь являлся «помазанником Божьим». Однако, будучи богоизбранным, царь ответственен перед
своими подданными. Он не должен допускать нарушения законов, быть милосердным к обездоленным. В связи с тем, что исторически государство на
Руси играло определенную роль в жизни индивида и общества, политическая мысль обосновывала необходимость его существования лишь в форме абсолютной монархии. Влияние идеи французского Просвещения сформулировало внутри политической мысли России три направления: радикальное (оно было представлено сторонниками революционного свержения монархии – революционерами-демократами, анархистами, большевиками; либеральное (их называли «западниками» за их стремление перенести в Россию либеральные ценности свободы, частной собственности); консервативное (их называли «славянофилами», поскольку они отстаивали
самобытный путь развития России, противодействовали проникновению в
страну западных ценностей).
ДАНИЛЕВСКИЙ Н.Я. (1822–1885 гг.)
Николай Яковлевич Данилевский – известный русский публицист, социолог, идеолог панславизма. Он получил блестящее образование в Петербургском университете. Известность ему принесла работа «Россия и
Европа», опубликованная в 1871 г.
В основе социологических воззрений Н.Я. Данилевского лежит идея
существования обособленных, локальных «культурно-исторических типов»
(цивилизаций). Уподобляя их живому организму, он рассматривает их развитие как процесс непрерывной борьбы друг с другом и внешней средой.
Н.Я. Данилевский выделяет четыре разряда их исторического самопроявления: религиозный, культурный, политический и социально-экономический.
По мнению Данилевского, культурно-исторический тип ведет к государственному состоянию, а от него к цивилизации. Он выделяет десять культур-
83
но-исторических типов, большинство из которых уже исчерпали возможности развития. Качественно перспективным является лишь «славянский
тип». Русская государственность, по мнению Данилевского, формировалась
не на костях попранных народностей, а посредством исторической «не насильственной ассимиляции» племен, не знавших «ни зачатков исторической жизни, ни стремлений к ней», а также путем принятия под свою защиту
тех народов, которые, «будучи окружены врагами, уже потеряли свою национальную самостоятельность или не могли ее сохранить». По этой причине «с общей культурно-исторической точки зрения Россия не может считаться составной частью Европы ни по происхождению, ни по усыновлению.
Напротив, Россия либо с прочими славянскими народами образует самостоятельную культурную единицу и окажется в состоянии противостоять западному влиянию, либо – лишится своей самобытности и растворится в европейской культуре».
РОССИЯ И ЕВРОПА49
ГЛАВА X. РАЗЛИЧИЯ В ХОДЕ
ИСТОРИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Народности, национальности суть органы человечества, посредством
которых заключающаяся в нем идея достигает в пространстве и во времени
возможного разнообразия, возможностей многосторонности и осуществления. Народность составляет поэтому существенную основу государства,
самую причину его существования, – и главная цель его и есть именно охранение народности. Из самого определения государства следует, что государство, не имеющее народной основы, не имеет в себе жизненного начала и вообще не имеет никакой причины существовать. Если, в самом деле, государство есть случайная смесь народностей, то какую национальную
честь, какую национальную свободу может оно охранять и защищать, когда
честь и свобода их могут быть (и в большинстве случаев не могут не быть)
друг другу противоположны? На что идут миллионы, поглощаемые флотами, армиями, финансовым управлением, государственным долгом таких государств? – ни на что, как на оскорбление и лишение народной чести и свободы народностей, втиснутых в его искусственную рамку.
Из этого национального значения государства следует, что каждая народность, если получила уже и не утратила еще сознание своего самобытного исторического национального значения, должна составлять государство и что одна народность должна составлять только одно государство. Эти
положения подвержены, по-видимому, многим исключениям, но только, повидимому. Совершенному отсутствию таковых, почему и всякое нарушение
интересов одного или нескольких членов системы другими может быть не
иначе восстановлено, как насилием, то есть войною, или добровольным
примирением.
Итак, формы политически централизованного государства, союзного
государства, союза государств и политической системы обуславливаются, с
одной стороны, отдельностью народных личностей, служащих их основанием, и степенью их сродства между собою, с другой стороны, степенью
опасности, угрожающей национальной чести и свободе, которым государст-
84
ва должны служить защитою и обороною. Неверное понимание этих отношений никогда не останется безнаказанным и ведет к самым пагубным последствиям.
Так, например, по степени национального сродства все греческие племена могли бы составлять одно государство, ибо имели один язык, одну
религию, одни предания и т.д. Но, развиваясь в стране, весьма хорошо защищенной природою – морем и горами, удаленной от враждебных народностей, еще даже не образовавшихся, они долгое время находились вне
всякой внешней опасности; поэтому без неудобства могли бы образовать из
себя союзное государство или даже союз государств.
Ежели национальность составляет истинную основу государства, самую причину и главную цель его бытия, то, конечно, и происхождение государства обуславливается сознанием этой национальности как чего-то особого и самобытного, требующего соединения всех личных сил для своего
утверждения и без опасения; и поводом к образованию государства будет
служить всякое событие, которое возбуждает это сознание, – всякое противоположение других национальностей, точно так, как ощущение противоположности внешнего мира с внутренним приводит к сознанию индивидуальной личности. Никто теперь не думает, чтобы какое-либо условие, договор,
контракт служили основанием государства; так же, как никто не думает,
чтобы подобное условие создало язык. По таким основаниям не может даже считаться прирожденный человеку инстинкт общественности, ведущий
только к сожительству в обществе (родом, племенем, общиною), а не к государству. Для сего последнего нужно нечто большее, необходим внешний
толчок, приводящий племена к ясному сознанию их народной личности, а
следовательно, и к необходимости ее защиты и охранения. По крайней мере, мы не знаем примера, чтобы какое-либо государство образовалось без
такого внешнего толчка – одного или нескольких, одновременно или последовательно возбудивших в племени народное сознание. Могло бы без него
развиться государство – сказать трудно.
По всем вероятиям, государство, образующееся в таких идеальных условиях, приняло бы формы федерации, но федерации совершенно иного
характера, нежели все те, которые мы знаем. Именно государственное верховенство должно бы в ней заключаться не в целом, а в самом элементарном общественном союзе – в деревенской или в волостной общине, и взаимная связь и зависимость должна бы быть тем слабее, чем выше порядок
группы, этими общинами составляемой, то есть связь окружная была бы
сильнее и теснее уездной, уездная – областной, областная – краевой, краевая – государственной.
Первый толчок, положивший начало тысячелетнему процессу образования Русского государства, был сообщен славянским племенам, рассеянным по пространству нынешней России, призванием варягов. Самый факт
призвания, заменивший для России завоевание, существенно важный для
психологической характеристики славянства, в занимающем нас теперь отношении не имеет большого значения. И англосаксы были призваны британцами для защиты их от набегов пиктов и скоттов; со всем тем, однако
же, порядок вещей, введенный первым в Англии, ничем существенным не
85
отличается оттого, который был введен в других европейских странах, и
призвание в этом случае по своим последствиям было равносильно завоеванию. Это, конечно, могло бы случиться и с русскими славянами, если бы
пришельцы, призванные для избавления от внутренних смут, были малочисленнее. Но, по счастью, призванное племя было малочисленно, как это
доказывается уже тем, что до сих пор существует возможность спорить о
том, кто такие были варяги. Если бы их численность была значительнее, то
они не могли бы почти бесследно распуститься в массе славянского народонаселения.
Эта-то малочисленность варягов, даже помимо их призвания, не позволила им внести в Россию того порядка вещей, который в других местах
был результатом преобладания народности, господствующей над народностью подчиненною. Поэтому варяги послужили только закваскою, дрожжами, пробудившими государственное движение в массе славян, живших еще
одной этнографической, племенною жизнью; но не могли положить основания ни феодализму, ни другой какой-либо форме зависимости одного народа от другого. Первобытная государственность России, лишенная помощи
феодализма, или не могла бы сообщаться из Новгорода и Киева с обширными странами, населенными славянскими и финскими народами, племенная воля которых находилась под охраною необозримого пространства лесов, болот и степей; или между обширными окраинами и небольшим ядром
должно бы установиться отношение метрополии к колониям, род данничества, в котором исчезла бы равноправность всех частей России по отношению к правительственному центру. Этому недостатку пособила удельная
система. Посредством ее, с одной стороны, распространилась государственность, с другой – каждой части сохранена была равноправность как особому самостоятельному княжеству. Взаимные отношения членов княжеского дома сохранили связь частей государства; но с умножением княжеского
рода, с ослаблением связи между его членами в последовательности поколений одного великокняжеского центра становилось недостаточно. Не только увеличивалось число княжений, но по мере этого увеличения образовывались и новые великокняжеские центры.
Сверх призвания варягов, заменившего собою западное завоевание, –
призвания, которое оказалось слишком слабым, дабы навсегда сообщить
государственный характер русской жизни, – оказалась надобность в другой
форме зависимости – в данничестве. Но и данничество это имело тот же
слабый, прививной характер, как и варяжское призвание. Когда читаем описания татарского нашествия, оно кажется нам ужасным, сокрушительным.
Оно, без сомнения, и было таковым для огромного числа отдельных лиц,
терявших от него жизнь, честь, имущество; но для целого народа как существа коллективного и татарское данничество должно почитаться очень легкою формою зависимости. Татарские набеги были тяжелы и опустошительны, но татарская власть была легка сравнительно с примерами данничества, которые представляет нам история (например, сравнительно с данничеством греков и славян в Турции). Степень культуры, образ жизни оседлых
русских славян и татарских кочевников были столь различны, что не только
смешение между ними, но даже всякая власть последних над первыми не
86
могла глубоко проникать, должна была держаться одной поверхности. Этому способствовал характер местности, который дозволил нашим завоевателям сохранить свой привычный и любезный образ жизни в степях задонских и заволжских. Вся эта буря прошла бы даже, может быть, почти бесследно (как без постоянного вреда, так и без постоянной пользы), если бы
гений зарождавшейся Москвы не умел приспособиться к обстоятельствам и
извлечь всей выгоды из отношений между покорителями и покоренными.
Видя невозможность противиться силе и сознавая необходимость предотвращать опустошительные набеги своевременною уплатою дани, покоренные должны были внести более строгие формы народной зависимости по
отношению к государству. Дань, подать, составляет всегда для народа, не
постигающего ее необходимости, эмблему наложенной на него зависимости, главную причину вражды его к государственной власти. Он противится
ей сколько может; нужна сила, чтобы принудить его к уплате. Чтобы оградить себя от излишних поборов, народ требует представительства в той
или другой форме, ожидая, что, разделяя его интересы, оно не разрешит
никакого побора, который не оправдывался бы самою существенною необходимостью. Московские князья имели ту выгоду на своей стороне, что вся
ненавистная сторона мытарства падала на Орду. Орда же составляла ту
силу, которая одною угрозою заставляла народ платить дань. Москва являлась если не избавительницею, то облегчительницею той тягости, которую
заставляло нести народ иноплеменное иго. Кроме самого понятия о государственной власти (коренящегося в духе славянских народов), в этом посредничестве Московских князей, избавлявших народ от прямого отношения к татарам, кроется, без сомнения, то полное доверенности и любви чувство, которое русский парод сохраняет к своим государям. Таким образом,
Московские князья, а потом цари совместили в себе всю полноту власти,
которую завоевание вручило татарам, оставив на долю этих последних то,
что всякая власть заключает в себе тягостного для народа – особенно для
народа, не привыкшего еще к гражданскому порядку и сохранившего все
предания племенной воли. Московские государи, так сказать, играли роль
матери семейства, которая хотя и настаивает на исполнении воли строгого
отца, но вместе с тем избавляет от его гнева и потому столько же пользуется авторитетом власти над своими детьми, сколько и нежною их любовью.
Но когда иноплеменное иго было свергнуто, страшилище, заставлявшее безропотно сносить всю тягость государственной власти, исчезло, а с
ним исчезла и самая сила, посредством которой Московские государи проводили в русский народ государственное объединение. Ее надо было обрести в собственных средствах. Таких средств было очень мало, а препятствий, которые надлежало преодолеть, очень много. Главное препятствие
опять-таки составляли пространство и природа русской области. Какая нужда подчиняться суровым требованиям государственного порядка, личной
службы, денежным уплатам, когда леса представляли такие непроницаемые убежища, что даже в наши дни, от времени до времени, открываются
целые поселения, успевшие скрыться в них от зоркого глаза исправников и
становых, когда обширные степи, очищенные от могущественных хищников,
представляли столько раздолья и столько свободы, когда реки и моря, с
87
беспримерным обилием рыбы, доставляли легкое пропитание и даже прибыльный промысел? Какие же были средства у государства без постоянного войска, без многочисленной армии чиновников, без организованной феодальной иерархии и при малом развитии промышленности, при ничтожной
городской деятельности, без денег на то, чтобы создать и содержать войско
и администрацию? И действительно. Государственность на Руси была еще
так слаба, что как только прекращение старинного царского дома разорвало
ту связь любви и привычки, которая образовалась в течение веков, государство рухнуло под слабыми ударами поляков, – даже не государства Польского, а отдельных польских шаек. Его восстановил народный дух, никаким
правительством не руководимый. 750 лет, протекших от основания Руси до
времени Минина, создали единый цельный народный организм, связанный
нравственно духовной связью, но не успели еще образовать плотного государственного тела. Очевидно, что такое обращение при всякой опасности к
самым тайникам народной жизни было слишком рискованно и не могло считаться нормальным порядком вещей. Без этого народного духа всякая государственность есть тлен и прах; но ведь государство затем главнейшем и
существует, чтобы его охранять, – чтобы, будучи оживляемо им, придавать
стройность и единство его проявлениям в защите народности. Без этой
стройности и единства даже самый бодрый народный дух мог бы оказаться
недостаточным для борьбы с силами, более сосредоточенными и лучше
направленными, нежели силы Польского государства. Но чем же было придать эту силу государству? При тогдашних обстоятельствах не было другого средства, как закрепление всего народа в крепость государству. Годунов
предчувствовал его необходимость, Петр его довершил. Для упрочения
Русского государства, чего не могли довершить ни добровольное призвание
иноплеменников, ни насильственно наложенное данничество, имевшие
слишком легкий, прививной характер, – надо было прибегнуть к крепостной
неволе, то есть к форме феодализма, опять-таки отличающейся от настоящего самородного феодализма, как искусственно привитая болезнь от болезни натуральной.
Что крепостное состояние есть форма феодализма в том обширном
смысле, который выше был придан этому слову, – в этом едва ли можно
сомневаться, – так как оно заключало все существенные его признаки: почти безграничная власть лиц привилегированного сословия над частью народа под условием несения государственной службы. Хотя и не таково было начало крепостного права на Руси, но таков был характер его, когда оно
достигло своего полного развития при Петре. Для нас, на глазах которых
крепостное право было отменено и которые видели все неразлучное с ним
зло, – тягость, налагаемая им на народ, кажется чрезмерною, и трудно даже
решиться назвать его легкою формою зависимости. Но все в мире сравнительно, а сравнить надо только явления однородные, и если сопоставить
наше крепостное право с европейским феодализмом, смягченный образчик
которого мы можем видеть на латышах и эстах Прибалтийских губерний, то,
конечно, крепостная зависимость окажется легкою.
Одноплеменность и единоверие господ с их крестьянами, а также
свойственные русскому характеру мягкость и добродушие смягчали тягость
88
крепостной зависимости во все периоды ее развития; но, кроме этого, каждый из периодов, в который крепостное право имело особый характер,
представлял и особые условия, смягчающие его тягость. Первым периодом
можно считать установление крепостных отношений до окончательного их
утверждения введенною Петром ревизией. В это время свободный переход
крестьян от помещика к помещику еще не прекратился на деле; кроме того,
слабость государственной власти, смуты, занимавшие начало этого периода, были обстоятельствами, допускавшими развития всей тягости крепостного права. С ревизии, установленной Петром, это изменилось: крестьяне
были отданы в полную зависимость помещикам, на которых лежала обязанность поставки рекрут и уплаты податей; но это, собственно, была тягость, налагаемая государством, а не личным произволом, который почти
вовсе не имел возможности проявляться, так как и дворянство было также
точно записано в крепость государству и всю жизнь свою обязано было
проводить на службе. С грамоты о вольности дворянства начинается третий период крепостного права, в который оно, собственно, потеряло уже
причину своего существования. В теории – обратилось оно в чистое злоупотребление, так как государство получило возможность платить своим
слугам и содержать их иначе, нежели предоставляя им право на обязательный труд крестьян: на практике – тягость для крестьян также должна
была значительно увеличиться после того, как дворяне получили право выходить в отставку и проживать в своих имениях. Последний, самый тяжелый
период крепостного права, наступил с того времени, как понятия о роскоши
и европейском комфорте проникли из столиц в губернии и уезды, а развивающаяся промышленность и торговля заменили натуральное хозяйство
денежным. Для всякого продукта непосредственного потребления скоро
достигается предел, далее которого в нем не чувствует уже надобности самый расточительный человек; для денег же предела насыщения не существует. Поэтому, несмотря на общее смягчение нравов, на уменьшение
примеров дикого произвола, на многие законы, стеснявшие произвол помещиков над подвластными им людьми, самое последнее время существования крепостного права едва ли не было самым тяжелым, как это, впрочем, совершенно основательно указано в самом Манифесте, которым объявлялось прекращение крепостной зависимости в России. Потому, кажется
мне, я имел право сказать, что и крепостное право – эта русская форма
феодализма (точно так же, как призвание варягов – русская форма завоевания, как владычество татар – русская форма данничества), употребленная Московскими государями для политической централизации Руси, –
имело сравнительно легкий характер.
Исчезло, наконец, и крепостное право – эти последние подмостки,
употребленные при постройке нашей государственности. Русский народ перешел через различные формы зависимости, которые должны были сплотить его в единое тело, отучить от личного племенного эгоизма, приучить к
подчинению своей воли высшим, общим целям – и цели эти достигнуты; государство основалось на незыблемой народной основе; и, однако же, в течение этого тысячелетнего процесса племенной эгоизм не заменился сословным, русский народ, не утратив своих нравственных достоинств, не утратил и вещественной основы для дальнейшего своего развития, ибо со-
89
хранил владение землею в несравненно большей степени, нежели какой бы
то ни было европейский народ. И не только сохранил он это владение, но и
обеспечил его себе на долгие веки общинною формою землевладения. Он
вполне подготовлен к принятию гражданской свободы взамен племенной
воли, которой (как всякий исторический народ) он должен был лишиться во
время своего государственного роста.
Глава XI. ЕВРОПЕЙНИЧАНЬЕ – БОЛЕЗНЬ РУССКОЙ ЖИЗНИ
Россия должна была вынести еще тяжелую операцию, известную под
именем Петровской реформы. В то время цивилизация Европы начала уже
в значительной степени получать практический характер, вследствие которого различные открытия и изобретения, сделанные ею в области наук и
промышленности, получили применение к ее государственному и гражданскому строю. Следовательно, самая существенная цель государства (охрана народности от внешних врагов) требовала уже в известной степени технического образования, – степени, которая с тех пор, особливо со второй
четверти XIX в., не переставала возрастать в сильной пропорции.
Необходимо было укрепить русскую государственность заимствованиями из культурных сокровищ, добытых западной наукой и промышленностью, – заимствованиями быстрыми, не терпящими отлагательства до того
времени, когда Россия, следуя медленному естественному процессу просвещения, основанному на самородных началах, успела бы сама добраться
до необходимых государству практических результатов просвещения. Петр
осознал ясно эту необходимость, но (как большая часть великих исторических деятелей) он действовал не по спокойно обдуманному плану, а со
страстью увлечением. Познакомившись с Европою, он, так сказать, влюбился в нее и захотел во чтобы то ни стало сделать Россию Европою. Видя
плоды, которые приносило европейское дерево, он заключил о превосходстве самого растения, их приносившего, под русским еще бесплодным дичком (не приняв во внимание разности в возрасте, не подумав, что для дичка, может быть, еще не пришло время плодоношения), и потому захотел
срубить его под самый корень и заменить другим.
Если Европа внушала Петру страстную любовь, страстное увлечение,
то к России относился он двояко. Он вместе и любил, и ненавидел ее. Любил он в ней собственно ее силу и мощь, которую не только предчувствовал, но уже сознавал, любил в ней орудие своей воли и своих планов, любил материал для здания, которое намеревался возвести по образу и подобию зародившейся в нем идеи под влиянием европейского образца; ненавидел же самые начала русской жизни – самую жизнь эту как с ее недостатками, так и с ее достоинствами. Если бы он ненавидел ее всей страстностью своей души, то обходился бы с ней осторожнее, бережнее, любовнее.
Потому в деятельности Петра необходимо строго отличать две стороны:
его деятельность государственную, все его военные, флотские, административные, промышленные насаждения, и его деятельность реформативную
в тесном смысле этого слова, то есть изменения в быте, правах, обычаях и
понятиях, которые он старался произвести в русском народе. Первая деятельность заслуживает вечной признательной, благоговейной памяти и
90
благословения потомства. Как ни тяжелы были для современников его рекрутские наборы (которыми он не только пополнял свои войска, строил города и заселял страны), введенная им безжалостная финансовая система,
монополии, усиление крепостного права – одним словом, запряжение всего
народа в государственное тягло, всем этим заслужил он себе имя Великого
– имя основателя русского государственного величия. Но деятельностью
второго рода он не только принес величайший будущности России вред, который так глубоко пустил свои корни, что доселе еще разгадает русское народное тело, он даже совершенно бесполезно затруднил свое собственное
дело: возбудил негодование своих подданных, смутил их совесть, усложнил
свою задачу, сам устроил себе препятствия, на поборение которых должен
был употреблять огромного долю той необыкновенной энергии, которою
был одарен и которая, конечно, могла бы быть употреблена с большею
пользою. К чему было брить бороды, надевать немецкие кафтаны, загонять
в ассамблеи, заставлять курить табак, учреждать попойки (в которых даже
пороки и распутство должны были принимать немецкую форму), искажать
язык, вводить в жизнь придворную и высшего общества иностранный этикет, менять летоисчисление, стеснять свободу духовенства? К чему ставить
иностранные формы жизни на первое почетное место и тем накладывать на
все русское печать низкого и подлого, как говорилось в то время? Неужели
это могло укрепить народное сознание? Конечно, одних государственных
нововведений (в тесном смысле этого слова) было недостаточно: надо было развить то, что всему дает крепость и силу, то есть просвещение; но что
же имели общего с истинным просвещением все эти искажения народного
облика и характера? Просвещение к тому же не насаждается по произволу,
как меняется форма одежды или вводится то или другое административное
устройство. Его следовало не насаждать извне, а развивать изнутри. Ход
его был бы медленнее, но зато вернее и плодотворнее.
Как бы то ни было, русская жизнь была насильственно перевернута на
иностранный лад. Сначала это удалось только относительно верхних слоев
общества, на которое действие правительства сильнее и прямее и которое
вообще и вширь и вглубь, то есть расходится от высших классов на занимающие более скромное место в общественной иерархии, и с наружности –
проникать в самый строй чувств и мыслей, подвергшихся обезнародовающей реформе. После Петра наступили царствования, в которых правящие
государством лица относились к России уже не с двойственным характером
ненависти и любви, а с одной лишь ненавистью, с одним презрением, которым так богато одарены немцы ко всему славянскому, в особенности ко
всему русскому. После этого тяжелого периода долго еще продолжались,
да и до сих пор продолжаются еще колебания между предпочтением то
русскому, как при Екатерине Великой, то иностранному, как при Петре III
или Павле. Но под влиянием толчка, сообщенного Петром, самое понятие
об истинно русском до того исказилось, что даже в счастливые периоды национальной политики (как внешней, так и внутренней) русским считалось
нередко такое, что вовсе этого имени не заслуживало. Говоря это, я разумею вовсе не одно правительство, а все общественное настроение, которое, электризуясь от времени до времени русскими патриотическими чувст-
91
вами, все более и более, однако же, обезнародовалось под влиянием европейских соблазнов и принимало какой-то общеевропейский колорит то с
преобладанием французских, то немецких, то английских колеров, смотря
по обстоятельствам времени и по слоям и кружкам, на которые разбивается
общество.
Болезнь эту, вот уже полтора столетия заразившую Россию, все расширяющуюся и укореняющуюся и только в последнее время показавшую
некоторые признаки облегчения, приличнее всего, кажется мне, назвать европейничаньем; и коренной вопрос, от решения которого зависит вся будущность, вся судьба не только России, но и всего Славянства заключается
в том, будет ли эта болезнь иметь такой доброкачественный характер, которым отличались и внесение государственности иноплеменниками русским славянам, и татарское данничество, и русская форма феодализма;
окажется ли эта болезнь прививною, которая, подвергнув организм благодетельному перевороту, излечится, не оставив за собою вредных неизгладимых следов, подтачивающих самую основу народной жизненности. Сначала рассмотрим симптомы этой болезни, по крайней мере, главнейшие из
них; а потом уже оглянемся кругом, чтобы посмотреть – не приготовлено ли
и для нее лекарства, не положена ли уже секира у корня ее.
Все формы европейничанья, которыми так богата русская жизнь, могут
быть подведены под следующие три разряда:
1. Искажение народного быта и замена форм его чужими, иностранными; искажение и замена, которые, начавшись с внешности, не могли не проникнуть в самый внутренний строй понятий и жизни высших слоев общества
и не проникать все глубже и глубже.
2. Заимствование разных иностранных учреждений и пересадка их на
русскую почву с мыслью, что хорошее в одном месте должно быть и везде
хорошо.
3. Взгляд как на внутренние, так и на внешние отношения и вопросы
русской жизни с иностранной, европейской, точки зрения; рассматривание
их в европейские очки, так сказать, в стекла, поляризованные под европейским углом наклонения; причем нередко то, что должно бы нам казаться окруженным лучами самого блистательного света, является совершенным
мраком и темнотою.
Глава XV. ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ
Всеславянский союз есть единственная твердая почва, на которой может расти самобытная славянская культура. <…> Таков общий смысл,
главный вывод всего нашего исследования. Поэтому мы не станем приводить теперь доказательств значения пользы и необходимости такого устройства Славянского мира с культурно-исторической точки зрения; в этой
главе я имею в виду раскрыть важность, пользу и необходимость объединения славянской семьи в союзной федеративной форме лишь с более узкой, чисто политической точки зрения.
Мы видели выше, что с общей культурно-исторической точки зрения
Россия не может считаться составной частью Европы ни по происхождению, ни по усыновлению, что ей предстоят только две возможности: или
92
вместе с прочими славянами образовать особую, самостоятельную культурную единицу, или лишиться всякого культурно-исторического значения –
быть ничем.
Не надо себя обманывать. Враждебность Европы слишком очевидна:
она лежит не в случайных комбинациях европейской политики, не в честолюбии того или другого государственного мужа, а в самых основных ее интересах. Внутренние счеты ее не покончены. Бывшие в ней зародыши внутренней борьбы развились именно в недавнее время; но весьма вероятно,
что они из числа последних: с улажением их или даже с несколько продолжительным умиротворениием их Европа опять обратится всеми своими силами и помыслами против России, почитаемой ею своим естественным
прирожденным врагом. Если Россия не поймет своего назначения, ее неминуемо постигнет участь всего устарелого, лишнего, ненужного. И России,
не исполнившей своего предназначения и тем самым потерявшей причину
своего бытия, свою жизненную сущность, свою идею, ничего не остается,
как бесславно доживать свой жалкий век, перегнивать как исторический
хлам, лишенный смысла и значения, или образовать безжизненную массу,
так сказать, неодухотворенное тело, и в лучшем случае также распуститься
в этнографический материал для новых неведомых исторических комбинаций, даже не оставив после себя живого следа.
Будучи чужда Европейскому миру по своему внутреннему складу, будучи слишком сильна и могущественна, чтобы занимать место одною из
членов европейской семьи, быть одною из великих европейских держав,
Россия не иначе может занять достойное себя и Славянства место в истории, как став главою особой, самостоятельной политической системы государств и служа противовесом Европе во всеобщности и целости. Вот выгоды, польза, смысл Всеславянского союза по отношению к России.
Но бороться с соединенной Европой может только соединенное Славянство. Итак, не всемирным владычеством угрожает Всеславянский союз,
а, совершенно напротив, он представляет необходимое и вместе единственно возможное ручательство за сохранение всемирного равновесия,
единственный оплот против всемирного владычества Европы. Союз этот
был бы не угрозою кому бы то ни было, а мерою чисто оборонительною не
только в частных интересах Славянства, но и всей Вселенной. Всеславянский союз имел бы своим результатом не всемирное владычество, а равный и справедливый раздел власти и влияния между теми народами или
группами народов, которые в настоящем периоде всемирной истории могут
считаться активными ее деятелями: Европой, Славянством и Америкой, которые сами находятся в различных возрастах развития.
Всемирная ли монархия, всемирная ли республика, всемирное ли господство одной системы государств, одного культурно-исторического типа
одинаково вредны и опасны для прогрессивного хода истории в единственно справедливом смысле этого слова, ибо опасность заключается не в политическом господстве одного государства, а в культурном господстве одного культурно-исторического типа, каково бы ни было его внутреннее политическое устройство. Настоящая глубокая опасность заключается именно
в осуществлении того порядка вещей, который составляет идеал наших за-
93
падников: в воцарении не мнимой, а действительной, столь любезной им
общечеловеческой цивилизации. Это было бы равнозначительно прекращению самой возможности всякого дальнейшего преуспеяния или прогресса в истории внесением нового миросозерцания, новых целей, новых
стремлений, всегда коренящихся в особом психическом строе выступающих
на деятельное поприще новых этнографических элементов.
Не в том дело, чтобы не было всемирного государства, республики или
монархии, а в том, чтобы не было господства одной цивилизации, одной
культуры, ибо это лишило бы человеческий род одного из необходимейших
условий успеха и совершенствования – элемента разнообразия. Итак, <...>
Всеславянский союз не только не угрожает всемирным владычеством, но
есть единственное предохранение от него.
Борьба с Западом – единственное спасительное средство как для излечения наших русских культурных недугов, так и для развития общеславянских симпатий, для поглощения ими мелких раздоров между разными славянскими племенами и направлениями. Уже назревший восточный вопрос
делает борьбу эту, помимо чьей бы то ни было воли, неизбежной в более
или менее близком будущем. Наше дело может состоять не в исчислении
русских армий и флотов, оценке их устройства, вооружения и тому подобного, а только в рассмотрении кроющихся в России элементов силы, как они
выказались в явлениях ее истории и в анализе того образа действий, которого она должна держаться для обеспечения себе вероятного успеха.
ПОБЕДОНОСЦЕВ К.П. (1827–1907 гг.)
Константин Петрович Победоносцев четверть века занимал пост оберпрокурора Святейшего Синода. Его имя олицетворяет консерватизм и мракобесие среди современников. С ним связывали контрреформы императора Александра III. В истории России он остался одиозной фигурой, получившей о себе нелестные отзывы современников и потомков. Его называли
«гений тьмы», «Великий Инквизитор», «дикий кошмар русской истории»,
«тиран и изверг», «государственный вампир» и т.д.
Негативное отношение к политической деятельности К.П. Победоносцева было перенесено и на его работы. Они не переиздавались и были
преданы забвению. Однако при всей дискуссионности многих положений
его политического учения ему нельзя отказать в аргументированности, целостности и логике. Политические воззрения К.П. Победоносцева были основаны на тезисе о том, что «самодержавие, православие, народность» определяют самобытность исторического пути России, несовместимость институтов и ценностей западной и российской цивилизаций.
Трудности, с которыми сталкиваются реформы в России в современных условиях, вновь востребовали теоретическое наследие К.П. Победоносцева. Они заставляют задуматься о том, кто мы, предостерегают нас от
механического заимствования западного опыта при переходе к демократии.
Об этом предупреждал более ста лет назад К.П. Победоносцев.
Политическое учение К.П. Победоносцева было изложено в книге «Московский сборник», где собраны наиболее значительные его работы. Выход
сборника (1896 г.) был приурочен к полувековому юбилею его служебной
94
деятельности. Одна из ярких публикаций сборника – статья «Великая ложь
нашего времени», в которой автор критикует такие институты демократии,
как парламентаризм, свободные выборы, многопартийность и т.д.
ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ50
<…> Одно их самых лживых политических начал есть начало народовластия, та, к сожалению, утвердившаяся со времени французской революции идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле
народной. Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор
вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции – и проникла, к
несчастию, в русские безумные головы. Она продолжает ещѐ держаться в
умах с упорством узкого фанатизма, хотя ложь ее с каждым днем изобличается все явственнее перед целым миром.
В чем состоит теория парламентаризма? Предполагается, что весь народ в народных собраниях творит себе законы, избирает должностные лица, стало быть, изъявляет непосредственно свою волю и приводит ее в
действие. Это идеальное представление. Прямое осуществление его невозможно: историческое развитие общества приводит к тому, что местные
союзы умножаются и усложняются, отдельные племена сливаются в целый
народ или группируются в разноязычии под одним государственным знаменем, наконец, разрастается без конца государственная территория: непосредственное народоправление при таких условиях немыслимо. Итак, народ должен переносить своѐ право властительства на некоторое число выборных людей и облекать их правительственною автономией. Эти выборные люди, в свою очередь, не могут править непосредственно, но принуждены выбирать еще меньшее число доверенных лиц – министров, коим
предоставляется изготовление и применение законов, раскладка и собирание податей, назначение подчиненных должностных лиц, распоряжение военною силой.
Механизм – в идее своей стройный; но, для того чтобы он действовал,
необходимы некоторые существенные условия. И этот механизм мог бы успешно действовать, когда бы доверенные от народа лица устранились вовсе от своей личности; когда бы на парламентских скамьях сидели механические исполнители данного им наказа; когда бы министры явились тоже
безличными, механическими исполнителями воли большинства; когда бы
притом представителями народа избираемы были всегда лица, способные
уразуметь в точности и исполнять добросовестно данную им и математически точно выраженную программу действий. Закон действительно выражал
бы волю народа; управление действительно исходило бы от парламента;
опорная точка государственного здания лежала бы действительно в собраниях избирателей, и каждый гражданин явно и сознательно участвовал бы в
правлении общественными делами.
Такова теория. Но посмотрим на практику. В самых классических странах парламентаризма – он не удовлетворяет ни одному из вышеуказанных
условий. Выборы никоим образом не выражают волю избирателей. Представители народные не стесняются нисколько взглядами и мнениями избирателей, но руководятся собственным произвольным усмотрением или рас-
95
четом, соображаемым с тактикой противной партии. Министры в действительности самовластны; и скорее они насилуют парламент, нежели парламент их насилует. Они вступают во власть и оставляют власть не в силу воли народной, но потому, что их ставит к власти или устраняет от нее – могущественное личное влияние или влияние сильной партии.
Если бы потребовалось истинное определение парламента, надлежало бы сказать, что парламент есть учреждение, служащее для удовлетворения личного честолюбия и тщеславия и личных интересов представителей. Учреждение это служит не последним доказательством самообольщения ума человеческого. Испытывая в течение веков гнет самовластья в
единоличном и олигархическом правлении и не замечая, что пороки единовластья суть пороки самого общества, которое живет под ним, – люди разума и науки возложили всю вину бедствий на своих властителей и на форму
правления и представили себе, что с переменой этой формы на форму народовластия или представительного правления – общество избавится от
своих бедствий и от терпимого насилия. Что же вышло в результате? Вышло то, что все осталось, в сущности, по-прежнему, и люди, оставаясь при
слабостях и пороках своей натуры, перенесли на новую форму прежние
свои привычки и склонности. Как прежде, правит личная воля и интерес
привилегированных лиц; только эта личная воля уже осуществляется не в
лице монарха, а в лице предводителя партии, и привилегированное положение принадлежит не родовым аристократам, а господствующему в парламенте и правлении большинству.
На фронтоне этого здания красуется надпись: «Все для общественного
блага». Но это нечто иное, как самая лживая формула; парламентаризм
есть торжество эгоизма, высшее его выражение. Все здесь рассчитано на
служение своему я. По смыслу парламентской фикции, представитель отказывается в своем звании от личности и должен служить выражением воли и
мысли своих избирателей; а в действительности избиратели – в самом акте
избрания отказываются от всех своих прав в пользу избранного представителя. Перед выборами кандидат, в своей программе и в своих речах, ссылается постоянно на вышеупомянутую фикцию: он твердит все о благе общественном, он не что иное, как слуга и печальник народа, он о себе не думает и забудет себя и свои интересы ради интереса общественного. И все
это – слова, слова, одни слова, временные ступеньки лестницы, которые он
строит, чтобы взойти куда нужно и потом сбросить ненужные ступеньки. Тут
уже не он станет работать на общество, а общество станет орудием для его
целей. Избиратели являются для него стадом – для сбора голосов, и владельцы этих стад подлинно уподобляются богатым кочевникам, для коих
стадо составляет капитал, основание могущества и знатности в обществе.
Так развивается, совершенствуясь, целое искусство играть инстинктами и
страстями массы, для того чтобы достигнуть личных целей честолюбия и
власти. Затем уже эта масса теряет всякое значение для выбранного ею
представителя, до тех пор пока понадобится снова на нее воздействовать:
тогда пускаются в ход снова льстивые и лживые фразы – одним в угоду, в
угрозу другим: длинная, нескончаемая цель однородных маневров, образующая механику парламентаризма. И такая-то комедия выборов продол-
96
жает до сих пор обманывать человечество и считается учреждением, венчающим государственное здание... Жалкое человечество!
<…> Честолюбивый искатель сам выступает перед согражданами и
старается всячески уверить их, что он, более чем всякий иной, достоин их
доверия. Из каких побуждений выступает он на это искательство? Трудно
поверить, что из бескорыстного усердия к общественному благу. Вообще, в
наше время редки люди, проникнутые чувством солидарности с народом, готовые на труд и самопожертвование для общего блага; это натуры идеальные; а такие натуры не склонны к соприкосновению с пошлостью житейского
быта. Кто по натуре своей способен к бескорыстному служению общественной пользе в сознании долга, тот не пойдет заискивать голоса, не станет
воспевать хвалу себе на выборных собраниях, нанизывая громкие и пошлые
фразы. Такой человек раскрывает себя и силы свои в рабочем углу или в узком кругу единомышленников, но не пойдет искать популярности на шумном
рынке. Такие люди если и идут в толпу людскую, то не затем, чтобы льстить
ей и подлаживаться под пошлые ее влечения и инстинкты, а разве затем,
чтобы обличать пороки людского быта и ложь людских обычаев. Лучшим
людям, людям долга и чести противна выборная процедура: от нее не отвращаются лишь своекорыстные, эгоистичные натуры, желающие достигнуть
личных своих целей. Такому человеку не стоит труда надеть на себя маску
стремления к общественному благу, лишь бы приобрести популярность. Он
не может и не должен быть скромен, – ибо при скромности его не заметят, не
станут говорить о нем. Своим положением и тою ролью, которую берет на
себя, – он вынуждается – лицемерить и лгать с людьми, которые противны
ему, он поневоле должен сходиться, брататься, любезничать, чтобы приобрести их расположение, – должен раздавать обещания, зная, что потом не
выполнит их, должен подлаживаться под самые пошлые наклонности и
предрассудки массы, для того чтоб иметь большинство за себя.
Выборы – дело искусства, имеющего, подобно военному искусству,
свою стратегию и тактику. Кандидат не состоит в прямом отношении к своим избирателям. Между ним и избирателями посредствует комитет, самочинное учреждение, коего главною силою служит – нахальство. Искатель
представительства, если не имеет еще сам по себе известного имени, начинает с того, что подбирает себе кружок приятелей и споспешников; затем
все вместе производят около себя ловлю, то есть приискивают в местной
аристократии богатых и не крепких разумом обывателей и успевают уверить их, что это их дело, их право и преимущество стать во главе – руководителями общественного мнения. Всегда находится достаточно глупых или
наивных людей, поддающихся на эту удочку, – и вот, за подписью их, появляется в газетах и наклеивается на столбах объявление, привлекающее
массу, всегда падкую на следование за именами, титулами и капиталами.
Вот каким путем образуется комитет, руководящий и овладевающий выборами, – это своего рода компания на акциях, вызванная к жизни учредителями. Состав комитета подбирается с обдуманным искусством: и в нем одни служат действующей силой – люди энергичные, преследующие во чтобы
то ни стало – материальную или тенденциозную цель; другие – наивные и
легкомысленные статисты – составляют балласт. Толпа слушает лишь того,
97
кто громче кричит и искуснее подделывается пошлостью и лестью под ходячие в массе понятия и наклонности.
В день окончательного выбора лишь немногие подают свои голоса
сознательно: это отдельные влиятельные избиратели, коих стоило уговаривать поодиночке. Большинство, то есть масса избирателей, дает свой голос
стадным обычаем, за одного из кандидатов, выставленных комитетом. На
билетах пишется то имя, которое всего громче подтверждено и звенело в
ушах у всех в последнее время. Никто почти не знает человека, не дает себе отчета ни о характере его, ни о способностях, ни о направлении: выбирают потому, что много наслышаны об его имени. Напрасно было бы вступать в борьбу с этим стадным порывом. Положим, какой-нибудь добросовестный избиратель пожелал бы действовать сознательно в таком важном
деле, не захотел бы подчиниться насильственному давлению комитета.
Ему остается – или уклониться вовсе в день выбора, или подать голос за
своего кандидата по своему разумению. Как бы ни поступил он, – все-таки
выбран будет тот, кого провозгласила масса легкомысленных, равнодушных или уговоренных избирателей.
По теории, избранный должен быть излюбленным человеком большинства, а на самом деле избирается излюбленник меньшинства, иногда
очень скудного, только это меньшинство представляет собой организованную силу, тогда как большинство, как песок, ничем не связано и потому бессильно перед кружком или партией. Выбор должен бы падать на разумного
и способного, а в действительности падает на того, кто нахальнее суется
вперед. Казалось бы, для кандидата существенно требуется – образование,
опытность, добросовестность в работе, а в действительности все эти качества могут быть и не быть: они не требуются в избирательной борьбе, тут
важнее всего – смелость, самоуверенность в соединении с ораторством и
даже с некоторою пошлостью, нередко действующей на массу. Скромность,
соединенная с тонкостью чувства, и мысли, – для этого никуда не годится.
Что такое парламентская партия? По теории, – это союз людей, одинаково мыслящих и соединяющих свои силы для совокупного осуществлении
своих воззрений в законодательстве и в направлении государственной жизни. Но таковы бывают разве только мелкие кружки: большая, значительная
в парламенте партия образуется лишь под влиянием личного честолюбия,
группируясь около одного господствующего лица. Люди, по природе, делятся на две категории: одни – не терпят над собой никакой власти, и потому
необходимо стремятся господствовать сами; другие, по характеру своему,
страшась нести на себе ответственность, соединенную со всяким решительным действием, уклоняются от всякого решительного акта воли: эти
последние как бы рождены для подчинения и составляют из себя стадо,
следующее за людьми воли и решения, составляющими меньшинство. Таким образом, люди самые талантливые подчиняются охотно, с радостью
складывая в чужие руки направление своих действий и нравственную ответственность. Они как бы инстинктивно «ищут вождя» и становятся послушными его орудиями, сохраняя уверенность, что он ведет их к победе –
и, нередко, к добыче. Итак, все существенные действия парламентаризма
отправляются вождями партий: они ставят решения, они ведут борьбу и
98
празднуют победу. Публичные заседании суть не что иное, как представление для публики. Производятся речи для того, чтобы поддержать фикцию
парламентаризма. Редкая речь вызывает, сама по себе, парламентское
решение в важном деле. Речи служат к прославлению ораторов, к возвышению популярности, к составлению карьеры, – но в редких случаях решают подбор голосов. Каково должно быть большинство – это решается обыкновенно вне заведения.
Таков сложный механизм парламентского лицедейства, таков образ
великой политической лжи, господствующей в наше время. По теории парламентаризма, должно господствовать разумное большинство; на практике
господствуют пять-шесть предводителей партии; они, сменяясь, овладевают властью. По теории, убеждение утверждается ясными доводами во время парламентских дебатов; на практике – оно не зависит нисколько от дебатов, но направляется волею предводителей и соображениями личного
интереса. По теории, народные представители имеют в виду единственно
народное благо: на практике – они, под предлогом народного блага и на
счет его, имеют в виду преимущественно личное благо свое и друзей своих.
По теории – они должны быть из лучших, излюбленных граждан; на практике – это наиболее честолюбивые и нахальные граждане. По теории – избиратель подаст голос за своего кандидата потому, что знает его и доверяет
ему; на практике – избиратель дает голос за человека, которого по большей
части совсем не знает, но о котором натверждено ему речами и криками заинтересованной партии. По теории – делами в парламенте управляют и
двигают – опытный разум и бескорыстное чувство; на практике – главные
движущие силы здесь – решительная воля, эгоизм и красноречие.
Демократическая форма правления самая сложная и самая затруднительная из всех известных в истории человечества. Вот причина – почему
эта форма повсюду была преходящим явлением, за немногими исключениями, нигде не держалась долго, уступая место другим формам.
И неудивительно. Государственная власть призвана действовать и распоряжаться; действия ее суть проявления единой воли, – без этого немыслимо никакое правительство. Но в каком смысле множество людей или собрание народное может проявить единую волю? Демократическая фразеология не останавливается на решении этого вопроса, отвечая на него известными фразами и поговорками вроде таких, например, «воля народная»,
«общественное мнение», «верховное решение нации», «глас народа – глас
Божий» и т.п., все эти фразы, конечно, должны означать, что великое множество людей, по великому множеству вопросов может прийти к одинаковому
заключению и поставить сообразно с ним одинаковое решение. Пожалуй, это
и бывает возможно. Но лишь по самым простым вопросам. Но когда с вопросом соединено хотя малейшее усложнение, решение его в многочисленном
собрании возможно лишь при посредству людей, способных обсудить его во
всей сложности и затем убедить массу к принятию решения.
Мы видим, что каждым отдельным племенем, принадлежащим к составу разноплеменного государства, овладевает страстное чувство нетерпимости к государственному учреждению, соединяющему его в общий
строй с другими племенами, и желание иметь свое самостоятельное управ-
99
ление, со своею, нередко мнимою, культурой. И это происходит не с теми
только племенами, которые имели свою историю и в прошедшем своем отдельную политическую жизнь и культуру, но и с теми, которые никогда не
жили особою политической жизнью. Монархия неограниченная успевала
устранять или примирять все подобные требования и порывы, – и не одною
только силой, но уравнением прав и отношений под одной властью. Но демократия не может с ними справиться, и инстинкты национализма служат
для нее разъедающим элементом: каждое племя из своей местности высылает представителей – не государственной и народной идеи, но представителей племенных инстинктов, племенного раздражения, племенной ненависти – и к господствующему племени, и к другим племенам, и к связующему все части государства учреждению.
Величайшее зло конституционного порядка состоит в образовании министерства на парламентских или партийных началах. Каждая политическая
партия одержима стремлением захватить в свои руки правительственную
власть и к ней пробирается. Глава государства уступает политической партии, составляющей большинство в парламенте; в таком случае министерство
образуется из членов этой партии и, ради удержания власти, начинает борьбу с оппозицией, которая усиливается низвергнуть его и вступить на его место. Но если глава государства склоняется не к большинству, а к меньшинству и из него избирает свое министерство, в таком случае новое правительство распускает парламент и употребляет все усилия к тому, чтобы составить
себе большинство при новых выборах и с помощью его вести борьбу с оппозицией. Сторонники министерской партии подают голос всегда за правительство; им приходится во всяком случае стоять за него – не ради поддержания
власти, не из-за внутреннего согласия в мнениях, но потому, что это правительство само держит членов своей партии во власти и во всех сопряженных
с властью преимуществах, выгодах и прибылях. Вообще – существенный
мотив каждой партии – стоять за своих во что бы то ни стало или из-за взаимного интереса, или просто в силу того стадного инстинкта, который побуждает людей разделяться на дружины и лезть в бой стена на стену.
ЧИЧЕРИН Б.Н. (1828–1904 гг.)
Борис Николаевич Чичерин – известный российский философ, правовед и либеральный общественный деятель, один из основателей российской государственной школы в юриспруденции. Окончил Московский университет, позже защитил магистерскую, а затем докторскую диссертацию
по праву. Он написал пятитомную «Историю политических учений», «Курс
государственной науки», «Философию права» и т.д.
Согласно Б.Н. Чичерину, государство представляет собой союз людей,
объединенных правом и управляемых верховной властью в целях достижения общего блага. Под общим благом он понимал безопасность и осуществление нравственного порядка. Наряду с этим, государство определяет и
защищает гражданские права. Б.Н. Чичерин был идеологом охранительного
либерализма, сущностью которого является примирение начала свободы с
началом власти и закона. Наиболее благоприятной формой для соединения сильной власти и индивидуальной свободы является, по Чичерину, кон-
100
ституционная монархия. Выступая за создание правового государства, он
указывал на необходимость постепенного ограничения власти монарха с
помощью конституции и представительных учреждений. Поскольку российский абсолютизм не имеет глубоких корней в обществе, то он уступил свое
место конституциональной монархии достаточно легко.
В понимании права Б.Н. Чичерин следовал гегелевской традиции, согласно которой право есть развитие идеи свободы, однако с некоторыми
изменениями. Сама свобода в контексте естественного права рассматривалась как сфера требований справедливости и правды в поведении отдельных индивидов. Свобода в контексте позитивного права есть мера внешней
свободы, определенная законом. Следовательно, свобода как нравственность объективизируется в реальных общественных отношениях, в поведении людей в таких социальных формах, как семья, государство, гражданское общество.
О НАРОДНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ51
Книга 1. Существо и свойства народного представительства
Глава I. Представительство и полномочие
<...> Масса граждан, пользующихся политической свободой, имеющих
право голоса, ограничивается выбором представителей, которым поручается ведение дел, охранение прав и интересов избирателей.
Однако этим не исчерпывается существо представительства. <…>
Представитель не только лицо, служащее государству, но на этой службе
он заступает место самих граждан, насколько они призваны к участию в государственных делах. В нем выражается их право; через него проводятся
их мнения. Считаясь представителем всего народа, действуя во имя общих
государственных целей, он вместе с тем является органом большинства,
его избравшего. При выборе лица избиратели руководствуются не столько
его способностями, сколько соответствием его образа мыслей и направления с их мнениями и интересами, и хотя юридически он становится независимым, общение мыслей должно сохраняться постоянно; остается зависимость нравственная. Если же связь исчезла, если представитель или сами
избиратели отклонились от прежних убеждений, новые выборы дают гражданам возможность восстановить согласие, заменив прежнего представителя другим. Кратковременные выборы имеют в виду постоянное возобновление этой нравственной связи представителя с избирателями, тогда как
цель долгих сроков состоит в большем ограждении общих государственных
интересов посредством большей независимости представителей от случайных перемен и колебаний общественного мнения.
Таким образом, в самом существе представительства лежит двойной
характер, который необходимо иметь в виду при обсуждении всех вопросов,
до него касающихся. Оно является вместе и выражением свободы, и органом власти. Свобода возводится здесь на степень государственной власти.
Поэтому мы должны рассмотреть взаимное отношение этих двух существенных элементов политической жизни.
Глава II. Политическая свобода и ее развитие
Что же такое выборное право, на котором основано представительство? В чем состоит его существо? Насчет этого вопроса мнения публицистов
расходятся.
101
Демократическая школа обыкновенно рассматривает выборное начало
как право каждого свободного лица на участие в общих делах. Производя
общество из личной воли человека, оно видит в последней основание всякой власти, а потому утверждает, что участие в выборах не может быть отнято у гражданина без нарушения справедливости. Напротив, писатели, которые держатся более охранительного направления, видят в выборном начале не столько право, сколько обязанность, возлагаемую на граждан во
имя общественной пользы. Права отдельного лица, говорят они, ограничиваются свободою и не простираются на господство над другими. Поэтому
всякая общественная власть непременно имеет характер должности. Выборное право дает человеку власть над другими; следовательно, и здесь
мы можем видеть только обязанность, исполняемую гражданином для общественной пользы. Таким образом, политическая свобода является высшим развитием свободы личной. Свобода есть источник политического
права, как и всякого другого. Однако <…> нет сомнения, что, получая такое
развитие, становясь на эту ступень, она приобретает совершенно иной характер, нежели в частной жизни. Из личной она превращается в общественную, решает судьбу всех, становится органом целого. Поэтому здесь к
началу права присоединяется начало обязанности. Гражданин, имеющий
долю власти, должен действовать не для личных выгод, а во имя общего
блага; он должен носить в себе сознание не только своих частных целей, но
и общих начал, господствующих в общественной жизни. А для этого требуется высшая способность. <…> Поэтому неспособные должны быть устранены от участия в политических правах. Это признается во всех государствах в мире, даже самых демократических, где свобода лежит в основании
всего государственного устройства. <...> Народное представительство
должно служить выражением целого общества, а не какой-либо части, ибо
здесь дело идет об общей для всех свободе, об общественной власти, о
решении судьбы всех. Если низшие классы, по недостатку способности и
развития, исключаются из политических прав, то высшие должны представлять собою все разнообразие существенных интересов и элементов народной жизни. <…> Можно сказать, что политическая способность граждан состоит, главным образом, в умении соглашать разнообразные стремления
свободы с высшими требованиями государства. Но для этого необходимо,
чтобы она сделалась достоянием целых классов, связывая различные элементы народа сознанием общих государственных нужд.
<…> Для разных отраслей государственной деятельности нужна неодинаковая способность в гражданах, призываемых к участию в делах.
Степень способности, достаточная для низших сфер, может, совершенно
недостаточна для высших; ибо легче понимать ближайшие интересы, нежели более общие и отдаленные, легче действовать в окружающей среде,
нежели на более широком поприще. Вследствие этого политическое право
граждан может ограничиваться участием в суде, в местном управлении или
же простираться до участия в верховной государственной власти. Точно так
же и представительное начало, вытекающее из политического права, может
существовать в центре и областях, для общих государственных дел и для
интересов местных и сословных – одним словом, везде, где личный голос
102
гражданина всецело заменяется голосом выборного человека. Везде оно
служит выражением права граждан участвовать в решении общих дел, а
потому вручает им долю общественной власти; в разных сферах это право
имеет различное значение.
Глава III. Учение о полновластии народа
<...> В политической науке давно высказывалась мысль, что при первоначальном соединении людей в государство народ имеет право установлять тот или другой образ правления, перенося, естественно, принадлежащую ему верховную власть на избранные им лица. Эта теория исчезла
вместе с понятиями о состоянии природы и о первоначальном договоре
людей. Но в настоящее время утверждают, что всякий народ имеет постоянное право установлять у себя тот образ правления, который соответствует его потребностям. В этом воззрении выражается старание согласовать
демократические начала с возможностью и правомерностью различных образов правления, которые иначе, с демократической точки зрения, лишаются всякого юридического основания.
<...> Умственное и нравственное состояние общества, взаимные отношения разнообразных его элементов – сословий, партий, областей, наконец, внешнее положение государства и обстоятельства, в которых оно находится, – все это рождает различные нужды и имеет различное влияние
на государственное устройство.
Из этого следует, что степень развития свободы, место, которое она
занимает в общественном организме, верховное или подчиненное ее значение определяются неабсолютными требованиями разума, а относительными требованиями жизни. Политическая свобода не составляет неотъемлемого права народа; в ней нельзя видеть непременного условия всякого
государственного порядка. Народное представительство установится там,
где оно требуется общим благом, где оно отвечает настоящим нуждам государства, где оно способно действовать в согласии с другими элементами,
где оно содействует достижению известных целей. Поэтому основной вопрос состоит здесь в пользе, которую оно приносит, и в условиях, которые
для него требуются.
Книга 2. Виды народного представительства
Глава I. Народное представительство в республиках
Республики бывают аристократические, демократические и смешанные. В первых владычествует высшее сословие, которое принимает непосредственное участие в управлении; поэтому здесь нет представительного
устройства. Вторые разделяют на непосредственные демократии, пример
которых мы видим в древних республиках, где народ, собираясь на площади, сам решал дела, и на представительные, принадлежащие новому времени. К последним относятся Соединенные Штаты, Швейцария, Франция и
южноамериканские республики; о них то преимущественно и будет речь.
Однако, говоря в особенности о смешанных формах, мы должны будем
коснуться и древних государств, ибо в новое время подобное устройство
составляет весьма редкое явление.
Греческие республики показали, какой высокой степени развития может достигнуть демократия, но, вместе с тем, как быстро она склоняется к
упадку.
103
Только в новых государствах демократия развилась во всей своей
полноте; только здесь она могла принести все свои плоды. Пример Соединенных Штатов показывает, что результаты могут быть громадны, и дает
этой форме почетное место в истории человеческих учреждений. Все, что в
состоянии произвести свобода, сознающая потребности государства и
умеющая установить прочный порядок, находится здесь в полном развитии.
Изумительная энергия и деятельность народа, умение практически приняться за всякое дело, горячая привязанность граждан к своим учреждениям, благосостояние и образованность, разлитые в массах, громадные силы,
которые делают Соединенные Штаты одним из могущественных государств
в мире, – вот и причины, и последствия развивающейся на широком пространстве демократии.
Глава II. Народное представительство в монархиях
В республиках верховная власть признается исходящею из народа; в
монархиях устанавливается власть, не зависимая от народной воли. В первых основное начало есть свобода, в последних – подчинение высшему порядку, господствующему над людьми. И свобода, и порядок, в котором живут люди, вытекают из существа человека. Но свобода коренится в личности, в отдельной воле каждого, » разнообразных, изменяющихся стремлениях, определяющих характер и деятельность лица; в высшем же порядке
воплощаются вечные элементы человеческой природы, постоянные интересы обществ, неизменные законы жизни, – одним словом, все, что связывает и лица, и поколения в одно духовное целое. Государство как союз поколений, образующих единую духовную личность, является видимым,
внешним выражением этого высшего порядка, который должен господствовать в мире и которому поэтому принадлежит верховная власть. Человек, с
одной стороны, сам носит в себе создание высших начал; отсюда возможность устройства, основанного на свободе. Но, с другой стороны, порядок,
основанный на вечных идеях, создан не им. Он не в силах изменить нравственные законы; он может отклониться от необходимых требований общественной жизни не иначе, как посягнувши на собственное свое духовное естество; он повинуется власти не потому только, что хочет, а потому, что
должен повиноваться как нравственное существо и как член общего тела.
Эта вечная сущность государственного организма, эта независимость высшего порядка от случайной воли человека выражаются в монархическом
начале. Здесь власть идет сверху, а не снизу. Здесь господствует постоянный закон, в силу которого власть передастся от поколения к поколению
помимо воли отдельных лиц. Здесь, наконец, является видимое воплощение государственного единства не только в данную минуту, но и во все времена. Таковы, по крайней мере, свойства наследственной монархии, которая одна соответствует существу монархического начала, ибо она одна
ставит власть выше всех случайностей.
Возвышаясь, таким образом, над народом, по самому своему положению имея в виду общее благо, а не пользу одного сословия или класса, монарх является независимым от партий. Одно только монархическое правительство в состоянии отрешиться от односторонней цели и собирать вокруг
себя способных людей различных направлений, соединяя их в дружной
104
деятельности для общего блага. В самодержавии партии не обозначаются
так резко, не ограничиваются для достижения власти, не вступают в управление с систематической, но односторонней программой. Огромное большинство граждан состоит из людей средних мнений, всегда готовых примкнуть к правительству, которое искренно хочет народного блага. Монархическая власть одна в состоянии спокойно и беспристрастно обсуждать государственные вопросы. Она не принуждена жертвовать большинству интересами меньшинства. Стоя над нами как высший судья, не причастный спору, она имеет в виду справедливое соглашение выгод обеих сторон. Меньшинство находит здесь гарантии, каких не могут дать ему учреждения, предающие его на жертву противникам. Поэтому, даже при народном представительстве, в парламентском правлении, где партии сменяют друг друга в
обладании властью, необходимо монархическое начало, умеряющее их
борьбу, сдерживающее увлечения, охраняющее интересы меньшинства.
Цель представительной монархии состоит в сочетании порядка и свободы. Монархическое начало, как мы видели, представляет идею высшего
порядка. Но в чистой своей форме оно, если не исключает свободы, то не
дает ей полного развития и лишает ее всяких гарантий. В этом состоит слабая сторона абсолютизма.
Представительная монархия имеет в виду устранение этих недостатков. Здесь воля монарха сдерживается правами народного представительства; взаимные отношения властей определяются законом. Произвол устраняется, свобода получает надлежащее обеспечение, способнейшие люди
выдвигаются вперед и приобретают преобладающее влияние на дела.
Можно сказать, что представительная монархия, по своей идее, наиболее
приближается к совершенному образу правления. Если идеал государственного устройства состоит в полном и гармоническом развитии тех разнообразных сил и стремлений, из которых слагается общество, то здесь
именно представляется такое сочетание, при котором каждый член получает должное место в общем организме. Все существенные элементы государства: монархический, аристократический и демократический – соединяются в общем устройстве для совокупной деятельности, во имя общей цели. Каждый приносит свою долю сил и охраняет те начала, которые в нем
преимущественно выражаются. Государственная власть, единая и верховная, воплощается в монархе, стоящем на вершине здания; свобода находит
себе орган и гарантию в народном представительстве; высшая политическая способность получает самостоятельный вес в отдельном аристократическом собрании, и над всем царствует закон, определяя взаимные отношения властей, которые могут побуждать друг друга к деятельности и воздерживаться взаимно при одностороннем направлении.
Представительная монархия, как и все другие образы правления,
страдает присущим ее форме недостатком: разделением власти. Сосредоточенная власть рождает произвол, разделенная власть ведет к борьбе.
Между этими двумя источниками зла вращается всякое государственное
устройство; выйти из этой дилеммы нет возможности.
Глава III. Совещательные собрания
Низшую форму представительства составляют совещательные собрания. Они подают правительству советы, когда оно их спрашивает, но поста-
105
новления их не имеют обязательной силы. Правительство может решить
дело, как ему заблагорассудится; мнение собрания служит только материалом для решения наравне с другими способами изучения вопросов. Подобные собрания встречаются в истории, но не в виде постоянных учреждений,
а как временные пособия правительству, особенно в трудных обстоятельствах. Они принадлежат к младенческим эпохам государственной жизни,
когда власть имеет мало средств, а голос народа лишен возможности проявиться другим путем. В то время, когда не было ни печати, ни удобных путей сообщения, ни сколько-нибудь установившегося общественного мнения, ни даже местных собраний, могущих служить органами народных нужд,
правительство прибегало иногда к созванию чинов для решения важных и
затруднительных вопросов. Обладая скудными средствами, плохо зная силы страны, оно искало в них света и опоры. Так, в случае войны, когда дворянство поставляло людей, а города давали деньги, нужно было призывать
и тех и других к совещанию, чтобы знать, на что можно рассчитывать.
Эти временные потребности исчезли при высшем развитии политической жизни. Правительства снабжены всеми средствами, какие может дать
государство; они могут полагаться на свои орудия, действовать на общество всеми путями. Им всегда более или менее известны силы страны; они
знают, в какой мере возможно напрягать их. Наконец, общественный голос
всегда может подняться в критические минуты. Поэтому в трудных обстоятельствах не нужно прибегать к чрезвычайным собраниям. Прежние генеральные штаты и земские соборы исчезли вместе с прежним бытом. В настоящее время может быть речь не о собраниях, созываемых в случае нужды, а о представительстве как постоянном государственном учреждении.
Новый политический быт, основанный на твердом порядке, на прочных уставах, требует постоянных органов.
Глава IV. Сословные собрания
Сословное разделение, вытекшее из средневековой жизни, сделалось
принадлежностью и нового государственного порядка, до тех пор пока начала свободы не достигли полного развития. Различное историческое назначение сословий развило в них различную политическую способность, с
которой надобно было сообразоваться. Нашедши перед собою общество,
сложившееся таким образом, государство присвоило себе это устройство,
ввело его в свой состав, приноровило к своим целям, видоизменяя его <…>
по мере практических потребностей. Оно находило в нем и готовую форму
для общественного порядка, и готовое орудие для своей деятельности,
орудие необходимое, пока собственные средства, постоянное войско и администрация были мало развиты. Поэтому мы видим, что возникающее государство иногда усиливает даже сословное разделение.
Разделение народа на сословия имеет значение особенно при самодержавном правлении. Повсеместное водворение неограниченной монархии в Европе было вызвано, главным образом, раздробленным состоянием
общества, в котором различные, ничем не сдержанные силы, приходя в
столкновение друг с другом, производили постоянную анархию. Для установления порядка нужна была единая власть, господствующая над всеми.
Она одна могла оградить слабых от притеснения, подчинить сильных об-
106
щему закону, уничтожить несовместимые с государственными интересами
права и привилегии, дать каждому надлежащее место в общем организме.
Чем глубже было сословное разделение, тем сильнее была потребность в
подобной власти для установления государственного единства. Поэтому
там, где сословия разделялись менее резкими чертами, где различные слои
народонаселения сливались и действовали сообща, там мы видим меньшее разделение самодержавной власти.
Книга 3. Историческое развитие представительных учреждений в
Европе
Глава V. Земские соборы в России
<...> При крепостном состоянии всех сословий о представительстве не
могло быть речи. Царь совещался с подданными, как помещик со своими
крепостными, но государственного учреждения из этого не могло образоваться. Политическая свобода основывается на свободе личной, а последняя исчезла в России с возникновением Московского государства. До второй половины XVIII века России знала либо избыток личной независимости
без государственного порядка, либо государственный порядок, подавляющий свободу. Только с раскреплением высших сословий начинается заря
новой жизни. Жалованные Грамоты дворянству внесли в русское государство начала свободы и права. За ними последовала Жалованная Грамота
городам. Однако эти новые элементы не могли развиться, пока огромное
большинство народонаселения оставалось крепостным. Только в настоящее время, с освобождением крестьян, Россия совершенно стала на новую
почву. Теперь она устраивает свой гражданский быт на началах всеобщей
свободы и права. Это – та почва, на которой стоят все европейские народы;
она только может дать настоящие элементы для представительных учреждений. Но политическая свобода не прямо вытекает из свободы личной.
Менее всего она доступна народу, только что выходящему из подчинения,
едва начинающему становиться на собственные ноги. Политическая свобода требует общественных условий, которые вырабатываются медленно,
трудным жизненным путем и без которых, введение представительного
устройства может породить только смуту.
Книга 4. Условия народного представительства
Глава I. Государство и общество
<…> История убеждает нас, что политическая свобода тогда только
прочна, когда она опирается на общественные силы. <...> Под именем общества разумеется вообще совокупность частных сил и элементов, входящих в состав народа. Тот же самый народ, который, будучи устроен в единое, цельное тело, образует государство, с другой стороны, как состоящий
из разнообразных элементов, является обществом. Отношение государства
к обществу представляет, следовательно, отношение единства к множеству. Это две формы быта, которые существуют вместе и имеют непосредственное влияние друг на друга. Строение целого находится в прямой зависимости от тех частных сил, которые в нем движутся и действуют.
Эта связь проявляется особенно ярко в представительном порядке, когда свобода становится участницей государственной власти. Политическая
деятельность граждан, как членов целого, определяется понятиями, при-
107
вычками, нравами, которые они приобретают в частной жизни как члены
общества. В народном представительстве государство и общество проникают друг в друга; общественные силы призываются к политической деятельности; многообразие вводится в единство.
Глава V. Общественное мнение
Политическая зрелость общества, от которой зависит возможность
представительных учреждений, определяется суммой политических идей, в
нем разлитых, и способностью его приложить эти идеи к действительности.
Плодом и выражением созревшей политической мысли является общественное мнение – главный двигатель государственной жизни в представительном порядке.
Всякое правление, основанное не на внешней силе, держится известным настроением общества. Власть должна находить опору в мыслях и
чувствах народа.
Чувство составляет достояние массы; мысль сосредоточивается в
высших слоях. Которые поэтому являются представителями общественного
мнения. И тот и другой элементы равно необходимы в государстве. Великие инстинкты народа составляют основу всей его жизни, но управляет и
руководит ими разумное создание. В свободных учреждениях оно играет
главную роль.
Представительные учреждения находятся в самой тесной связи с общественным мнением. От него они заимствуют и силу, и жизнь; оно определяет их состав и направление. Представительное устройство может держаться только там, где общественное мнение дает ему постоянную опору,
где общество всегда готово стоять за свои права. <...> В настоящее время
одной правительственной деятельности недостаточно для удовлетворения
государственных нужд. Высшее развитие требует большого напряжения
сил. А это возможно только при самодеятельности народа. Правительство,
имеющее в руках одни административные средства, не в состоянии тягаться с тем, которое призывает на помощь всю энергию, лежащую в недрах
общества. С другой стороны, самые общественные силы с развитием мысли и свободы сделались менее податливы, нежели прежде.
Правительства не всегда могут рассчитывать на их содействие; нередко за оказанную помощь требуется вознаграждение в расширении прав. Таким образом, самый ход жизни ведет к господству общественного мнения, и
если оно не всегда является непогрешимым, то, во всяком случае, оно служит признаком высшего развития и духовной крепости народа. Это – сила
неосязаемая, неуловимая, не поддающаяся производству. Рассеянные и
раздробленные суждения соединяются здесь в нечто общее и единое, становятся двигателями государственной жизни.
Глава VI. Партии
Мы уже говорили о необходимости партий в представительном порядке, о выгодах и невыгодах, проистекающих из их борьбы. Политическая
свобода призывает общественные силы к участию в государственных делах; поэтому движение происходит здесь не иначе как взаимодействием тех
разнообразных направлений, на которые разделяется общество. Здесь лежит главный источник политической жизни в конституционных государствах.
108
Партии, естественно, возникают на почве общественного мнения. Необходимость дисциплины и организации для совокупного действия превращает неустроенную массу свободных и случайных мыслей в более или менее крепкие и прочные силы, способные быть политическими деятелями.
При организованных партиях есть возможность рассчитывать, действовать,
направлять разрозненные стремления к общей цели. Чем партии устойчивее, чем более, они срослись с историей народа, чем более определилась
их программа, тем правильнее течет политическая жизнь, основанная на
свободе. Наоборот, там, где партии представляют только смутное брожение бесконечно разнообразных направлений, там из политической свободы
рождается один хаос. С другой стороны, только при политической свободе
могут образоваться настоящие партии, ибо здесь только являются возможность и необходимость действовать сообща на политическом поприще,
достигать известных целей постоянными и совокупными усилиями многих.
Но одной свободы для этого недостаточно; необходимо, чтобы в обществе
существовали нужные для партии элементы, чтобы в нем развит был политический смысл, чтобы определились направления, чтобы люди группировались около некоторых общих, сознанных ими начал, наконец, чтобы выработались политические нравы, которые создаются всякой общественной
деятельностью, требующей совокупных усилий. Одним словом, только созревшее общественное мнение рождает настоящие политические партии. И
при этих условиях они возникают не вдруг, а слагаются медленно, в политической борьбе. Они должны пройти через многие испытания прежде, нежели получат надлежащую крепость и силу. Поэтому не надо думать, что с
установлением представительного порядка немедленно водворяется парламентское правление. Оно невозможно, пока партии не выработались и не
доказали свою способность управлять государством.
Глава VIII. Местное самоуправление
Мы говорили уже о том, что местное самоуправление служит школой
для самодеятельности народа и лучшим практическим приготовлением к
правительственному порядку. Многие публицисты идут гораздо далее: они
видят в местном самоуправлении не только непременное условие, но и основание народного представительства. Утверждают, что общая свобода
должна вытекать из местной, <…> что представительные учреждения,
имеющие опору лишь в атомистически раздробленном обществе и в неорганизованном общественном мнении, всегда остаются шаткими и что одна
корпоративная связь, образующая крепкие союзы из самостоятельных общин и областей, в состоянии дать им прочность и силу. Защитники этих
теорий считают централизацию главным врагом политической свободы. По
их мнению, она делает народ неспособным к правильной конституционной
жизни и порождает лишь деспотизм и революции.
Таким образом, вникая в смысл исторических фактов, невозможно утверждать, что централизация губит политическую свободу. Напротив, во
многих отношениях она способствует ее развитию. Конституционный порядок держится не самостоятельностью местного управления, а общим духом, господствующим в народе. Местная жизнь вращается в слишком тесном круге, в слишком мелочных интересах. Создавая отдельные, мелкие
109
центры, она становится препятствием объединению мыслей и целей, необходимому для представительного устройства. Централизация исправляет
этот достаток, указывая людям на общие интересы, во имя которых она
действует. Она выводит их из тесной сферы и заставляет самую свободу
искать гарантии в общих учреждениях и в совокупной деятельности граждан. Местное самоуправление дает простор свободе частной, но для политической нужно более широкое основание. Общественное мнение, на котором зиждется представительный порядок, образуется не из местных воззрений и интересов. Партии, которые играют здесь главную роль, имеют
также значение общее, а не местное. Они ведут борьбу на основании общей программы, одинаково повсюду. Поэтому для политической жизни
весьма важно существование центра, где мысли перерабатываются и объединяются, где сосредоточиваются главные силы партии и происходит политическая борьба.
Глава Х. Способы происхождения конституций
<...> Новые конституции водворяются также различными путями. Они
могут быть либо дарованные законною властью, либо происшедшие из революции. Середину между теми и другими занимают конституции, установленные соглашением народных представителей с монархом. Это различие
происхождения имеет также весьма существенное влияние на развитие конституционного порядка, хотя и ему нельзя придавать безусловного значения.
НОВГОРОДЦЕВ П.И. (1866–1924 гг.)
Павел Иванович Новгородцев – правовед, философ, общественный
деятель, социолог. Родился 28 февраля (12 марта) 1866 г. в Бахмуте. Окончил юридический факультет Московского университета. В 1897 г. защитил
магистерскую, а в 1903 г. – докторскую диссертацию (Кант и Гегель в их
учениях о праве и государстве). С 1896 г. приват-доцент, а затем профессор
Московского университета. С 1904 г. – член совета «Союза Освобождения»,
с 1905 г. – член партии кадетов. Избирался депутатом Государственной думы. За участие в «Выборгском воззвании» в 1906 г. был арестован. После
увольнения по политическим мотивам из Московского университета занимал
должность ректора Московского высшего коммерческого института (1906–
1918 гг.). В 1917 г. был избран в состав ЦК партии кадетов. Не приняв Октябрьской революции, занимался активной антибольшевистской деятельностью. В 1920 г. эмигрировал в Берлин. Потом переехал в Прагу, где создал
Русский юридический факультет в пражском университете. С 1921 г. окончательно обосновался в Праге, где основал Русский юридический факультет в
местном университете и возглавлял его до своей кончины П.И. Новгородцев
считался главой школы «возрожденного естественного права» в России. Согласно его учению, разумное начало в личности есть автономное нравственное начало. Разум является единственным источником идеи должного, морального закона, который представляет собой факт чистого сознания, достоверен сам по себе, независим от исторической необходимости.
ДЕМОКРАТИЯ НА РАСПУТЬЕ52
Со времен Токвиля... в политической литературе неоднократно высказывалась мысль, что развитие государственных форм с неизменной и неотвратимой закономерностью приводит к демократии.
110
С тех пор как в целом ряде стран демократия стала практической действительностью, она сделалась и в то же время предметом ожесточенной
критики. И если прежде самым характерным обобщением политической
науки была мысль о грядущем торжестве демократии, теперь таким обобщением надо признать утверждение о неясности ее будущего. Пока демократии ждали, о ней говорили, что она непременно наступит, когда же она
наступила, о ней говорят, что она может и исчезнуть. Прежде ее нередко
считали высшей и конечной формой, обеспечивающей прочное и благополучное существование; теперь ясно ощущают, что, отнюдь не создавая
твердого равновесия жизни, она более чем какая-либо другая форма возбуждает дух исканий. В странах, испытавших эту форму на практике, она
давно уже перестала быть предметом страха; но она перестала быть здесь
и предметом преклонения. Те, кто ее опровергает, видят, что в ней все же
можно жить и действовать; те, кто ее ценит, знают, что как всякое земное
установление она имеет слишком много недостатков для того, чтобы ее
можно было безмерно превозносить.
В сущности, только теперь новая политическая мысль достигает настоящего понимания существа демократии. Но, достигая его, она видит, что
демократический строй привел не к ясному и прямому пути, а к распутью,
что вместо того, чтобы быть разрешением задачи, демократия сама оказалась задачей. Более спокойные наблюдатели полагают, что прямой путь
все же не утерян; более пылкие говорят, что выхода нет, что наступил трагический час.
Таковы мысли и впечатления современного политического сознания,
которые я хочу здесь разъяснить. Но, прежде всего, мне надо установить,
что мы будем разуметь под демократией и о какой демократии будем говорить. Сделать это тем более необходимо, что это понятие принадлежит к
числу наиболее многочисленных и неясных понятий современной политической теории.
<...> Любой представитель социализма, отделяющий себя от коммунистической партии, скажет сейчас, что диктатура пролетариата, осуществленная в России, есть полное отрицание демократических начал. Между
тем сами представители русского коммунизма с такой же уверенностью заявляют, что они-то как раз и осуществляют в жизни настоящую реальную
демократию, тогда как их противники стоят на точке зрения формальной и
призрачной демократии. Такого же рода взаимные упреки слышатся и нередко в других случаях, причем в этих спорах в понятие демократии большей частью вкладывается совершенно различное содержание.
Итак, что же такое демократия? Когда древние писатели, и притом самые великие из них – Платон и Аристотель, отвечали на этот вопрос, они
имели в виду, прежде всего, демократию как форму правления. Они различают формы правления в зависимости от того, правит ли один, немногие
или весь народ, и установили три основные формы – монархию, аристократию и демократию. Но Платон и Аристотель каждую форму правления
связывали с известной формой жизни, с некоторыми более глубокими условиями общественного развития. Оба имели перед собой богатый опыт
развития и смены политических форм, и оба видели, что если есть в госу-
111
дарстве какая-то внутренняя сила, за которую оно держится, несмотря на
всяческие бедствия, то формы его меняются. <...>
Новая политическая мысль внесла значительные осложнения в простоту греческих определений. Древний мир знал только непосредственную
демократию, в которой народ сам правит государством через общее народное собрание. Понятие демократии совпало здесь с понятием демократической формы правления, с понятием непосредственного народоправства. Из
новых писателей это греческое словоупотребление воспроизводит Руссо: и
для него демократия есть форма правления, в которой народ не посредственно не только законодательствует, но и управляет. Но, с другой стороны,
именно Руссо дал основание теоретическое для того более широкого понимания демократии, которое утвердилось в XIX и XX вв. Поскольку он допускал, что с верховенством народа совместимы различные формы правительственной власти – и демократическая, и аристократическая, и монархическая, – он открыл теоретическую возможность для нового понимания
демократии как формы государства, в котором верховная власть принадлежит народу, а формы правления могут быть разные. Сам Руссо считал
демократию возможной только в виде непосредственного народоуправства,
соединяющего законодательство с исполнителем. Те формы государства, в
которых народ оставляет за собой только верховную законодательную
власть, а исполнение передает монарху или коллегии немногих, он признавал законными с точки зрения народного суверенитета, но не называл их
демократическими. При этом он вообще и ни в каких правовых формах не
допускал представительства. В отличие от Руссо, позднейшая теория распространила понятие демократии на все формы государства, в котором народу принадлежит верховенство в установлении власти и контроля над
нею. При этом допускается, что свою верховную власть, свою «общую волю», чтобы употребить термин Руссо, народ может проявлять как непосредственно, так и через представителей. В соответствии с этим демократия определяется, прежде всего, как форма государства, в котором верховенство принадлежит общей воле парода.
В этом смысле новая теория пришла к гораздо более сложному представлению о демократии, чем то, которое встречается в древности. Но в
другом отношении она не только подтвердила, но и закрепила греческое
понимание существа демократии: двинув в качестве общего идеала государственного развития идеал правового государства, новая теория рассматривает и демократию как одну из форм правового государства. А так
как с идеей правового государства, как она развивается в новое время, неразрывно соединяется представление не только об основах власти, но и о
правах граждан, о правах свободы, то издревле идущее определение демократии как формы свободной жизни связывается здесь органически с самым существом демократии как формы правового государства.
С этой точки зрения демократия означает, возможно, полную свободу
личности, свободу ее исканий, свободу состязания мнений и систем.
<…> Современные теоретики демократии называют ее также свободным правлением <…>. Это показывает, в какой мере понятие свободы неразрывно сочетается с представлением о демократической форме государ-
112
ства и как бы исчерпывает это понятие. Однако мы упустили бы один из самых существенных признаков демократической идеи, если бы не упомянули
о свойственном демократии стремлении к равенству.
С точки зрения моральной и политической, между равенством и свободой существует наибольшее соотношение. Мы требуем для человека свободы во имя безусловного значения человеческой личности, и, так как в каждом человеке мы должны признать нравственную сущность, мы требуем в
отношении ко всем людям равенства. Демократия ставит своей целью осуществить не только свободу, но и равенство; и в этом стремлении ко всеобщему уравнению не менее проявляется сущность демократической идеи,
чем в стремлении ко всеобщему освобождению. Идея общей воли народа
как основы государства в демократической теории неразрывно связывается
с этими началами равенства и свободы и не может быть от них отделена.
Участие всего народа, во всей совокупности его элементов, в образовании
всеобщей воли вытекает столько же из идеи равенства, сколько из идеи
свободы.
Я исчерпал основные определения демократии, поскольку они необходимы мне для дальнейшего изложения. Я хочу пояснить теперь эти определения со стороны отрицательной, показав, чем не может быть демократия, сколько бы она на это ни притязала.
Современная политическая теория откидывает эти взгляды как наивные и поверхностные и противопоставляет им целый ряд наблюдений и
выводов, снимающих с демократии ореол чудесного, сверхъестественного
и вводящих ее в ряд естественных политических явлений, в ряд других политических форм. И, прежде всего, эта теория указывает на чрезвычайную
трудность осуществления демократической идеи и на величайшую легкость
ее искажений. Припомним, что еще такой великий и прославленный носитель демократической идеи, как Руссо, именно потому, что он горячо любил
демократию истинную, находил, что она может быть осуществлена лишь
при особо счастливых и исключительных условиях.
Наивная и незрелая политическая мысль обыкновенно полагает, что
стоит только свергнуть старый порядок и провозгласить свободу жизни,
всеобщее избирательное право и учредительную власть народа, и демократия осуществится сама собой. Нередко думают, что провозглашение
всяких свобод и всеобщего избирательного права имеет само по себе некоторую чудесную силу направлять жизнь на новые пути. На самом деле то,
что в таких случаях водворяется в жизнь, обычно оказывается не демократией, а, смотря по обороту событий, или олигархией, или анархией, причем
в случае наступления анархии ближайшим этапом политического развития
бывают самые сильные суровые формы демагогического деспотизма.
По существу своему, как мы сказали, демократия есть самоуправление
народа, но для того, чтобы это самоуправление не было пустой фикцией,
надо, чтобы народ выработал свои формы организации. Это должен быть
народ, созревший для управления самим собою, сознающий свои права и
уважающий чужие, понимающий свои обязанности и способный к самоограничению. Такая высота политического сознания никогда не дается сразу,
она приобретается долгим и суровым опытом жизни. И чем сложнее и выше
113
задачи, которые ставятся перед государством, тем более требуется для
этого политическая зрелость народа.
Степень отдаленности современных демократий от демократического
идеала познается в особенности в <…> вопросе о фактическом осуществлении народовластия. Руссо, конечно, был прав, когда с понятием истинной
демократии он соединял живое и непосредственное участие всего народа
не только в законодательстве, но и в управлении, когда он утверждал, что
система представительства есть отступление от народовластия в строгом
смысле этого слова. Но в то же время он прекрасно понимал, насколько
трудно провести в жизнь подлинную демократическую идею; ибо, как говорил он, «противно естественному порядку, чтобы большинство управляло, а
меньшинство было управляемо». И действительно, в демократиях с естественной необходимостью над общей массой народа всегда выдвигаются немногие, руководящее меньшинство, вожди, направляющие общую политическую жизнь. Это давно замеченное и притом совершенно естественное
явление, что демократия практически всегда переходит в олигархию, в
правление немногих.
<…> В противоположность политическому оппортунизму недавнего
прошлого, когда казалось, что демократия есть нечто высшее и окончательное, что стоит только достигнуть ее, и все остальное приложится, теперь приходится признать, что демократия, вообще говоря, есть не путь, а
только распутье, не достигнутая цель, а проходной пункт.
Я думаю, что в этом ощущении и сознании положения, к которому привела современная демократия как распутье, заключается весьма глубокая
интуиция, весьма тонкое восприятие самого существа демократии.
Поскольку демократия есть система свободы, есть система политического релятивизма, для которого нет ничего абсолютного, который все готов
допустить – всякую политическую возможность, всякую хозяйственную систему, лишь бы это не нарушало начала свободы – она есть всегда распутье; ни один путь тут не заказан, ни одно направление тут не запрещено.
Своими широчайшими перспективами и возможностями демократия
как будто бы вызвала ожидания, которых она не в силах удовлетворить. А
своим духом терпимости и приятия всех мнений, всех путей она открыла
простор и для таких направлений, которые стремятся ее ниспровергнуть.
Она не могла быть иною, ибо в этом ее природа, ее преимущество. Но этой
своей природой и этим своим преимуществом она могла удовлетворить
лишь некоторых, а не всех. У людей всегда остается потребность продолжать любую действительность до бесконечности абсолютного идеала, и никаким устройством государства их нельзя удовлетворить.
В свое время Маркс подал пример решительного отрицания идеи свободного государства и осмеял верование «вульгарной демократии», которая видит в демократической республике тысячелетнее царствие и не имеет никакого предчувствия о том, что именно в этой последней государственной форме классовая борьба будет окончательно разыграна. Он отвергал демократию во имя нового порядка, освобожденного от колебаний свободы и поставленного на почву норм твердых и непререкаемых, связей
безусловных и всеобщих. Тут очевидно движение от демократического рас-
114
путья, от духа критики и терпимости, от широты и неопределенности релятивизма к твердому пути социализма, к суровой догме, к абсолютизму рациональной экономической организации. Исходя из иных мотивов, но с точки зрения формальной, в том же направлении движется и консервативная
мысль, которая также требует большей определенности и авторитетности,
большей твердости и святости государственного порядка.
Надо ли прибавлять, что анархизм, хотя он критикует демократию с
точки зрения ее же собственного принципа свободы, но доведенного до
конца, до последнего предела и связанного с идеей беспощадной социальной революции, также ищет большей определенности, большей последовательности. Для него демократия плоха тем, что это все еще государство,
что движение свободы останавливается здесь на половине пути, между тем
как ему нужна свобода полная и безграничная.
<…> Но если дать себе отчет в основных принципах демократии и социализма, то необходимо прийти к заключению, что речь идет тут о двух
совершенно различных системах мысли и жизни, сближающихся лишь в некоторых внешних признаках и резко расходящихся в их внутреннем существе. Демократия, которая последовательно вступила бы на путь социализма
и решила бы заменить политическую централизацию экономической, должна была бы отказаться от некоторых самых существенных начал и утверждений. И, прежде всего, она перестала бы быть системой свободы и, вместе с новой сущностью, должна была бы усвоить и новое наименование…
КРОПОТКИН П.А. (1842–1921 гг.)
Петр Алексеевич Кропоткин – один из крупнейших идеологов русского
и международного анархизма, общественный деятель, ученый. Принадлежал к старому княжескому роду. Окончил Пажеский корпус и в 1862 г. уехал
в Сибирь, в Амурское казачье войско.
Всемирную известность приобрел как географ и геолог, автор работ в
области истории и теории этики. Однако в дальнейшем пишет серию работ
по теории анархизма. П.А. Кропоткин стремился соединить философию
анархизма с «биосоциологическим законом взаимной помощи». Без подобной помощи люди не могли бы существовать. По мнению Кропоткина, взаимная помощь осуществляется в различных формах: через род, племя, общину, город, республику. Однако исторический процесс развивается в направлении к негосударственным формам. Государство, по убеждению П.А. Кропоткина, есть искусственная организация, противостоящая обществу, поскольку его миссия свелась к «поддержке эксплуатации и порабощения человека человеком». По этой причине государство – это зло, фактор, из-за которого общество стало развиваться противоестественным образом. Следовательно, его необходимо уничтожить.
Идеал будущего общества П.А. Кропоткина усматривал в «анархичном
коммунизме». Он представлял собой федерацию самоуправляющихся общин, над которыми нет верховной центральной власти, в которой отношения определяются не законами, а свободным взаимосоглашением людей. В
1872 г. он сближается с бакунинцами в I Интернационале. Весной 1874 г.
был арестован и два года содержался в Петропавловской крепости. Затем
115
совершил побег и сорок лет провел в эмиграции. В июне 1917 г. вернулся в
Россию и выступил против «авторитарного коммунизма» и диктатуры пролетариата за анархо-коммунизм, в основе которого, по мнению П.А. Кропоткина, лежат принципы справедливости, уважения к личности, ее свободе.
ГОСУДАРСТВО И ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИИ53
<…> Условимся прежде всего в том, что мы разумеем под словом «государство». Известно, что в Германии существует целая школа писателей,
которые постоянно смешивают государство с обществом. Такое смешение
встречается даже у серьезных мыслителей, а также и у тех французских
писателей, которые не могут представить себе общества без государственного подавления личной и местной свободы. Отсюда и возникает обычное
обвинение анархистов в том, что они хотят «разрушить общество» и проповедуют «возвращение к вечной войне каждого со всеми».
Государство есть лишь одна из форм, которые общество принимало в
течение своей истории. Каким же образом можно смешивать понятия об
обществе и государстве?
С другой стороны, государство нередко смешивают с правительством.
И так как государство немыслимо без правительства, то иногда говорят, что
следует стремиться к уничтожению правительства, а не к уничтожению государства.
Мне кажется, однако, что государство и правительство представляют
собою опять-таки два разнородных понятия. Понятие о государстве обнимает собою не только существование власти над обществом, но и сосредоточение управления местной жизнью в одном центре, то есть территориальную концентрацию, а также сосредоточение многих или даже всех отправлений общественной жизни в руках немногих. Оно предполагает возникновение совершенно новых отношений между различными членами общества.
Это характерное различие, ускользающее на первый взгляд, ясно выступает при изучении происхождения государства. И для того, чтобы понять, что такое государство, есть только один способ: это проследить его
историческое развитие.
<…> Если вы посмотрите на государство, каким оно явилось в истории
и каким по существу своему продолжает быть теперь; если вы убедитесь,
как убедились мы, что общественное учреждение не может служить безразлично всем целям, потому что как всякий орган, оно развивается ради
одной известной функции, а не ради всех безразлично, – вы поймете, почему мы неизбежно приходим к заключению о необходимости уничтожения
государства.
Мы видим в нем учреждение, которое в течение всей истории человеческих обществ служило для того, чтобы мешать всякому союзу людей между собою, чтобы препятствовать развитию местного почина, душить уже
существующие вольности и мешать возникновению новых. И мы знаем, что
учреждение, которое прожило уже несколько столетий и прочно сложилось
в известную форму ради того, чтобы выполнить известную роль в истории,
не может быть приноровлено к роли противоположной.
116
А между тем такое смешение 2-х, совершенно разных понятий «государство» и «общество» идет в разрез со всеми приобретениями, сделанными в области истории в течение последних тридцати лет, в нем забывается, что люди жили обществами многие тысячи лет, прежде чем создались
государства, и что среди современных европейских народностей государство есть явление самого ценного происхождения, развившееся лишь с шестнадцатого столетия, – причем самыми блестящими эпохами в жизни человечества были именно те, когда местные вольности и местная жизнь не были еще задавлены государством и когда люди жили в общинах и в вольных
городах.
Что же говорят в ответ на этот довод, неопровержимый для всякого, кто
только задумывался над историей? «Государство уже есть, оно существует и
представляет готовую и сильную организацию. Зачем же разрушать ее, если
можно ею воспользоваться? Правда, теперь она вредна, но это потому, что
она находится в руках эксплуататоров. А раз она попадает в руки народа, почему же ей не послужить для благой цели, для народного блага?»
Через всю историю нашей цивилизации проходят 2 течения, 2 враждебные традиции свободы. И теперь, накануне великой социальной революции, эти 2 традиции опять стоят лицом к лицу.
Которое нам выбирать из этих 2-х борющихся в человечестве течений
– течение народное или течение правительственного меньшинства, стремящегося к политическому и религиозному господству, – сомнения быть не
может. Наш выбор сделан. Мы пристаем к тому течению, которое еще в
двенадцатом веке приводило людей к организации, основанной на свободном соглашении, на свободном почине личности, на вольной федерации
тех, кто нуждается в ней. Пусть другие стараются, если хотят, удержаться
за традиции канонического и императорского Рима!
СОЛОВЬЕВ В.С. (1853–1900 гг.)
Владимир Сергеевич Соловьев родился в Москве в семье известного
историка Сергея Михайловича Соловьева. Его мать Поликсена Владимировна была украинкой и имела в числе своих предков Григория Сковороду,
русского мыслителя XVIII в. Обстановка ранних лет жизни Владимира Соловьева сложилась весьма благоприятно для его последующего духовного
развития.
Владимир Соловьев очень рано начал читать произведения русских
философов-славянофилов и крупнейших немецких идеалистов. Парадоксально, но в это же время он зачитывался трудами вульгарных материалистов и даже пережил весьма болезненный материалистический кризис своего сознания, к счастью, быстро закончившийся.
Под влиянием материалистических идей Владимир поступил сначала
на физико-математический факультет, где помимо основных предметов преподавались все естественные науки. В те годы он увлекался биологией, а из
биологии больше всего зоологией и ботаникой. Но уже на II курсе перешел
на историко-филологический факультет и с еще большим рвением приступил к изучению чисто философских наук. В 1873 г. Владимир Соловьев окончил Московский университет. В первый же год по окончании университета он
написал магистерскую диссертацию, которую и защитил в 1874 г.
117
В июне 1876 г. Владимир Соловьев приступил к преподаванию в Московском университете, но в марте 1877 г. перевелся в Петербург, где стал
членом Ученого комитета при Министерстве народного просвещения и одновременно преподавал в университете. В 1880 г. защитил докторскую диссертацию, но из-за разногласий с руководством еще долго оставался на
должности доцента.
В 1881 г. Владимир Соловьев прекратил свою преподавательскую деятельность в Петербургском университете после прочтения им 28 марта
1881 г. публичной лекции, в которой призывал помиловать убийц Александра II. Поступок Соловьева был продиктован не революционностью, которой
он был чужд, но наивным, искренним убеждением в необходимости христианского всепрощения. Вопреки распространенной версии о том, что увольнение философа связано с шумихой по поводу его лекции и обрушившимися на него репрессиями, дело обстояло иначе. Никаких репрессий, кроме
легкого недоумения царя, назвавшего Соловьева «чистейшим психопатом»,
не было, и из университета его никто не увольнял. Скорее философ использовал создавшуюся ситуацию как удобный предлог для ухода, поскольку никогда не любил преподавание с его принудительными моментами вроде лекционных программ, расписания лекций, студенческих экзаменов, ученых советов, отчетов и т.д. После отставки Соловьев целиком отдался написанию произведений богословского характера, которые уже были подготовлены его философско-теоретическими раздумьями.
К концу 90-х годов здоровье его заметно ухудшилось. В 1900 г. он
приехал в подмосковное имение Узкое, принадлежавшее тогда князю Петру
Николаевичу Трубецкому, где и скончался тем же летом. Причинами его
смерти были артериосклероз, болезнь почек и общее истощение организма. Похоронен Владимир Сергеевич на Новодевичьем кладбище, вблизи
могилы его отца.
Творческая натура Соловьева сложна и многогранна. Его произведения пронизаны духовным беспокойством, ощущением шаткости и обреченности земного мира. Он предчувствовал наступление мировых катастроф, и
это предчувствие было у него настолько глубоко и невыразимо обычным
прозаическим языком, что он, в конце концов, заговорил в пророческих тонах и стал изображать наступление конца истории в духе чистейшей мифологии. Кроме своих философских трудов, Владимир Соловьев известен как
талантливый публицист, охотно печатавшийся в различных журналах, и незаурядный поэт.
Отказавшись от теократии, В.С. Соловьев занимался проблемами христианского государства и христианской политики. Необходимость государств он обосновал не только потребностью в безопасности, но и необходимостью улучшать условия существования человека, способствовать его
свободному развитию. Находясь между Западом и Востоком, Россия, по
мнению Соловьева, особенно нуждалась в сильном государстве, способном
противостоять враждебному воздействию извне. Русский народный идеал,
цель России, считал Соловьев, состоят в прямой и всеобъемлющей службе
христианскому делу. Государство как можно меньше должно стеснять внутренний мир человека, предоставляя его духовному воздействию церкви.
118
В интерпретации взаимоотношений государства и церкви В.С. Соловьев исходил из тезиса о социальном государстве. Государство должно гарантировать каждому права на постоянное существование, а взаимоотношения с церковью строить на основе согласия. Он не противопоставлял естественное и позитивное право, поскольку исходил из того, что право есть
мера добра и справедливости. При этом право как справедливость есть
нравственный принцип государства, а любовь есть нравственный принцип
церкви. Их отличие состоит в том, что право предполагает принудительное
требование реализации минимального добра.
ФИЛОСОФСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА54
ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВА
I. Всякое личное существо, в силу своего безусловного значения (в
смысле нравственности), имеет неотъемлемое право на существование и
на совершенствование. Но это нравственное право было бы пустым словом, если бы его действительное осуществление зависело всецело от
внешних случайностей и чужого произвола. Действительное право есть то,
которое заключает в себе условия своего осуществления, то есть ограждения себя от нарушений. Первое и основное условие для этого есть общежитие или общественность, ибо человек одинокий, предоставленный самому
себе, очевидно бессилен против стихий природы, против хищных зверей и
бесчеловечных людей. Но, будучи необходимым ограждением личной свободы или естественных прав человека, общественная форма жизни есть
вместе с тем ограничение этих прав, но ограничение не внешнее и произвольное, а внутренне вытекающее из существа дела. Пользуясь для ограждения своего существования и деятельности организацией общественной, я
должен и за нею признать право на существование и развитие и, следовательно, подчинить свою деятельность необходимым условиям существования и развития общественного. Если я желаю осуществлять свое право или
обеспечивать себе область свободного действия, то, конечно, меру этого
осуществления или объем этой свободной области я должен обусловить
теми основными требованиями общественного интереса или общего блага,
без удовлетворения которых не может быть никакого осуществления моих
прав и никакого обеспечения моей свободы.
Определенное в данных обстоятельствах места и времени ограничение личной свободы требованиями общего блага; или – что то же – определенное в данных условиях уравновешение этих двух начал, есть право положительное, или закон.
Закон есть общепризнанное и безличное (то есть не зависящее от
личных мнений и желания) определение права, или понятие о должном, в
данных условиях и в данном отношении, равновесии частной свободы и
общего блага, – определение или общее понятие, осуществляемое через
особые суждения в единичных случаях или делах.
Отсюда три отличительные признака закона: 1) его публичность – постановление, не обнародованное во всеобщее сведение, не может потому
иметь силы закона; 2) его конкретность – закон выражает норму действительных жизненных отношений в данной общественной среде, а не какие-
119
нибудь отвлеченные истины и идеалы, и 3) реальная применимость, или
удобоисполнимость в каждом единичном случае, ради чего с ним всегда
связана так называемая «санкция», то есть угроза принудительными и карательными мерами, – на случай неисполнения его требований или нарушения его запрещений.
Чтобы эта санкция не оставалась пустою угрозой, в распоряжении закона должна быть действительная сила, достаточная для приведения его в
исполнение во всяком случае. Другими словами, право должно иметь в обществе действительных носителей и представителей, достаточно могущественных для того, чтобы издаваемые ими законы и произносимые суждения могли иметь силу принудительную. Такое реальное воплощение права
называется властью.
Требуя по необходимости от общественного целого того обеспечения
моих естественных прав, которое не под силу мне самому, я по разуму и
справедливости должен предоставить этому общественному целому положительное право на те средства и способы действия, без которых оно не
могло бы исполнить своей, для меня самого желательной и необходимой,
задачи; а именно, я должен предоставить этому общественному целому:
1) власть издавать обязательные для всех, следовательно, и для меня, законы; 2) власть судить сообразно этим общим законам о частных делах и
поступках и 3) власть принуждать всех и каждого к исполнению как этих судебных приговоров, так и вообще всех законных мер, необходимых для общей (а следовательно, и моей) безопасности и преуспеяния.
II. Ясно, что эти 3 различные власти – законодательная, судебная и исполнительная – суть только особые формы проявления единой верховной
власти, в которой сосредоточивается все положительное право общественного целого как такого.
Без единства верховной власти, так или иначе выраженного, невозможны были бы ни общие законы, ни правильные суды, ни действительное
управление, то есть самая цель организации данного общества не могла бы
быть достигнута.
Общественное тело с постоянною организацией, заключающее в себе
полноту положительных прав, или единую верховную власть, называется
государством. Во всяком организме необходимо различаются: 1) организующее начало; 2) система органов или орудий организующего действия и
3) совокупность организуемых элементов. Соответственно этому и в собирательном организме государства различаются: 1) верховная власть;
2) различные ее органы, или подчиненные власти, и 3) субстрат государств,
то есть масса населения, состоящая из единичных лиц, семейств и более
широких частных союзов, подчиненных государственной власти. Только в
государстве право находит все условия для своего действительного осуществления, и с этой стороны государство есть воплощенное право. Однако
этим основным определением понятие государства не исчерпывается.
Называя государство городом, греки – первые создатели чисто человеческой культуры – указали на существенное значение для государства
его культурной задачи, и верность этого указания подтверждается разумом
и историей. Если свободные роды и племена принимают принудительную
120
организацию, если частные интересы подчиняются условиям, необходимым
для существования целого, то это делается не с тем, конечно, чтобы поддерживать дикую, полузвериную жизнь людей. Государство есть необходимое условие человеческой образованности, культурного прогресса. Поэтому принципиальные противники государственной организации бывают непременно вместе с тем и принципиальными противниками образованности.
Государство, как действительное историческое воплощение людской
солидарности, есть реальное условие общечеловеческого дела, то есть
осуществления добра в мире. Этот реально-нравственный характер государства, подчеркнутый практическим духом римлян, не означал, однако, что
оно само, как думали римляне, уже есть безусловное начало нравственности, высшая цель жизни, верховное добро и благо. Ошибочность такого
взгляда, обоготворявшего государство, проявилась наглядно в истории, когда выступило действительно безусловное начало нравственности в христианстве. Внутреннее преимущество христианства, в силу которого оно
должно было восторжествовать даже с чисто человеческой точки зрения,
состояло в том, что оно было шире, великодушнее своего противника, что
оно могло, оставаясь себе верным, признать за государством право на существование и даже на верховное владычество в мирской области, оно отдавало ему должное в полной мере, оно было справедливо, тогда как римским властям поневоле приходилось отказывать христианству в том, что
принадлежало ему по праву, именно, в значении его как высшего безусловного начала жизни. Победа осталась за более широкой, гуманной, прогрессивной стороной, и с тех пор, каковы бы ни были исторические перемены,
действительное возвращение к римскому государственному абсолютизму
есть дело невозможное.
На его место выступили в средние века две новые политические идеи
общего значения: западноевропейская и византийская. В первой из них,
прошедшей множество фазисов развития – от феодального королевства до
современной французской или американской республики (с временными и
непрочными реакциями в сторону абсолютизма), – подчеркивается в особенности относительный характер государства.
Общее благо требует, чтобы борьба противных сил не переходила в
непрерывное насилие, чтобы они были по возможности мирно уравновешиваемы, по общему согласию – молчаливому или же прямо выраженному в
договоре. В этом и состоит основной формальный смысл государства,
именно его правовое значение. Право по самой идее своей есть равновесие частной свободы и общего блага. Конкретное выражение, или воплощение, этого равновесия со всеми условиями, необходимыми для его осуществления, и есть государство.
Но это воплощаемое в государстве равновесие противоборствующих
сил и интересов не есть постоянное, оно подвижно и изменчиво: изменяются самые силы действующие, изменяются их взаимоотношения, изменяются, наконец, и самые способы их государственного уравновешения. Чем же
определяются эти изменения? Если правовые отношения совершенствуются по существу, становятся более справедливыми, более человечными, то,
спрашивается, какая сила управляет этим совершенствованием? Полнота
121
правовых деятелей есть государство – но государство, по западному понятию о нем, само есть только выражение данного правового состояния – и
ничего более. Итак, нужно или признать, что прогресс права и связанное с
ним усовершенствование человечества не только происходило и происходит, но и всегда будет происходить само собою, как физический процесс,
причем теряется всякая уверенность, что этот процесс будет вести к лучшему; или же нужно признать западноевропейское понятие государства недостаточным и искать другое.
V. Византийская политическая идея характеризуется тем, что признает
в государстве сверхправовое начало, которое, не будучи произведением
данных правовых отношений, может и призвано самостоятельно изменять
их согласно требованиям высшей правды. Эта идея до новейшего времени
не была чужда и Западной Европе, но здесь она была лишь собственно
тенденциею одного из политических элементов, наряду с другими боровшегося за преобладание – именно королевской власти. Торжество этого элемента над другими было лишь временно и неполно, и в настоящее время
идея абсолютной монархии никаких корней в жизни и сознании западноевропейских народов не имеет.
В Византии хотя идея абсолютной монархии или христианского царства утверждалась в отвлеченной форме; но не могла получить надлежащего
развития ни в сознании, ни в жизни «ромеев», над которыми слишком еще
тяготели предания римского государственного абсолютизма, лишь поверхностно украшенного христианскою внешностью.
Между тем, по существу дела эти две идеи не только не тождественны,
но, в известном отношении, находятся друг с другом в прямом противоречии. По римской идее государство, как высшая форма жизни, есть все, оно
само по себе есть цель, и когда вся полнота государственной власти <…>
сосредоточилась в едином императоре, то он помимо всякой лести и рабских чувств, а в силу самой идеи был признан благодателем божественного
достоинства, или человекобогом. <…> Вместо того чтобы праздно высматривать призрачных фей за облаками, пусть он потрудится перенести это
священное бремя прошедшего через действительный поток истории. Ведь
это единственный для него исход из его блужданий – единственный, потому
что всякий другой был бы недостаточным, недобрым, нечестивым. Не верит
сказке современный человек; не верит, что дряхлая старуха превратится в
царь-девицу. Не верит – тем лучше! Зачем вера в будущую награду, когда
требуется заслужить ее настоящим усилием и самоотверженным подвигом?
Кто не верит в будущность старой святыни, должен все-таки помнить ее
прошедшее. Блаженны верующие: еще стоя на этом берегу, они уже видят
из-за морщин дряхлости блеск нетленной красоты. Но и не верящие в будущее превращение имеют тоже выгоду – нечаянной радости. И для тех и
для других дело одно: идти вперед, взяв на себя всю тяжесть старины.
Если ты хочешь быть человеком будущего современный человек, не забывай в дымящихся развалинах Анхиза и родных богов. А наша святыня могущественнее Троянской, и путь наш с нею дальше Италии и всего земного
мира. Спасающийся спасется. Вот тайна прогресса – другой нет и не будет.
122
БАКУНИН М.А. (1814–1876 гг.)
Михаил Александрович Бакунин родился в семье родовитого дворянина. Благодаря стараниям отца, человека европейски образованного, испытавшего влияние идей Руссо, личности его десятерых детей формировались в атмосфере утонченных вкусов, искусства, литературы, любви, в общении с природой. Михаил прекрасно рисовал и музицировал.
15 лет от роду М.А. Бакунин стал юнкером Петербургского артиллерийского училища, нравы которого являли собой прямую противоположность семейной гармонии. Он привык лгать, потому что искусная ложь в юнкерском обществе не только не считалась пороком, но единогласно одобрялась. Через 3 года был произведен в прапорщики. Однако с первого офицерского курса его отчислили за нерадивость и дерзость, допущенную в отношении начальника училища; он был направлен на службу в армию, но
через год, сказавшись больным, подал в отставку.
С начала 1836 г. М.А. Бакунин живет в Москве. Бывает в Петербурге.
Знакомится и сближается со многими известными представителями российской интеллигенции. Он вхож в знаменитый литературный салон Е.Г. Левашовой, в котором бывали А.С. Пушкин и П.Я. Чаадаев. Поддерживает
близкие, хотя и небезоблачные, отношения с В.Г. Белинским, В.П. Боткиным, М.Н. Катковым, Т.Н. Грановским. Знакомится с А.И. Герценом,
Н.П. Огаревым.
Со всей страстью отдается изучению немецкой классической философии, читает в подлинниках Канта, Фихте, Гегеля. Ничто, казалось, не предвещало будущих метаморфоз в его сознании.
К началу 1840 г. Бакунин окончательно утвердился в мысли уехать в
Европу. Хроническими стали ссоры с ближайшими друзьями. Последняя
грязная сцена разыгралась на квартире В.Г. Белинского в присутствии многих… «Подлец», – так оценил нравственные качества своего нового знакомого Н. П. Огарев.
4 октября 1840 г. на пристани в Кронштадте Бакунина провожал только А.И. Герцен, выделивший ему (отец отказал) 2000 рублей бессрочного
кредита.
За границей время уплотнилось для Бакунина до предела. Уже на втором году своей берлинской жизни он убедился в «ничтожности и суетности
всякой метафизики» и «бросился в политику». Невероятно быстро расширяется круг его знакомств и дружеских связей. Десятки, сотни имен. Среди
них – Карл Маркс, будущий идейный и политический противник, а пока вызывающий у Бакунина искреннее уважение и почтение.
Смелые пробы пера Бакунина, политического писателя, – его статьи
«Реакция в Германии» и «Коммунизм», опубликованные соответственно в
1842 г. и 1843 г. Отвергая «коммунистическое» общество, «устроенное по
плану Вейтлинга», Бакунин утверждал, что Европа находится «накануне великого всемирно-исторического переворота», что бедные и угнетенные
массы свергнут существующий социально-политический строй и реализуют
лозунги французской революции – «свобода, равенство и братство».
В 1843 г. начинаются гонения на Бакунина со стороны официальных
властей, подстрекаемых царскими дипломатами. Он вынужден менять мес-
123
та жительства, страны. В начале мая 1848 г. Бакунин – один из руководителей восстания в Дрездене. 10 мая, после отступления повстанцев из города, был арестован.
Сначала, в январе 1850 г., суд Саксонии приговорил его к смертной
казни. Спустя полгода было объявлено королевское помилование: гильотина заменялась пожизненным заключением. И Бакунин... передается в руки
австрийского правосудия. В мае 1851 г. австрийский суд приговорил его к
смертной казни через повешение, которая вновь заменена пожизненным
заключением. И... несколько дней спустя переданный русским властям Бакунин находится уже в одиночной камере Алексеевского равелина Петропавловской крепости. В 1854 г. он был переведен в Шлиссельбургскую крепость, где пробыл до 1857 г., когда новый император, Александр II, счел
возможным отправить, казалось, окончательно сломленного преступника на
поселение в Сибирь.
Оказавшись в условиях относительной свободы, Бакунин отнюдь не собирался «готовиться достойным образом к смерти», как он в том заверял
Александра II. В 1858 г., в первом же письме к Герцену в Лондон, писал: «Я
жив, я здоров, я крепок, я женюсь, я вас люблю и помню и вам, равно как и
себе, остаюсь неизменно верен». В этих словах все – правда. Осенью 1861 г.
Бакунин совершает смелый побег через Восточную Сибирь, Японию и Америку в Лондон, в объятия к Герцену и Огареву. Старые товарищи тут же приняли его в состав издателей «Колокола».
Не успев толком оглядеться, Бакунин, по выражению Герцена, «запил
свой революционный запой». Его энергия стимулируется известиями о возникновении в России тайного общества «Земля и воля» и о готовящемся
восстании в Польше.
Герцен, Огарев и Бакунин были едины в своем отношении к польскому
вопросу: независимость Польши необходима для освобождения самой России. На какое-то время «Колокол» становится связующим звеном между
русскими и польскими революционными силами. Издатели ведут переговоры с представителями руководства тех и других, однако слабость первых и
обостренный шляхетский национализм вторых не давали оснований для
оптимизма.
Бакунин не ограничивается печатной пропагандой, равно как и ролью
заграничного представителя «Земли и воли». С началом польского восстания (январь 1863 г.) он направляется в Швецию, где участвует в организации кампании солидарности с поляками. Затем участвует в морской экспедиции, намеревавшейся доставить из Англии оружие для повстанцев. Наконец, когда печальный исход уже был ясен, Бакунин ищет помощь польскому
и общеславянскому делу в Италии, пытаясь склонить легендарного героя
Джузеппе Гарибальди к участию в польском восстании.
В ноябре 1864 г. Бакунин встретился в Лондоне (после многолетнего
перерыва) с Карлом Марксом, который к этому времени вместе с товарищами заложил основы Международного товарищества рабочих – I Интернационала. Бакунин произвел на Маркса весьма благоприятное впечатление.
Был искренен Бакунин с Марксом в эту встречу или нет, судить трудно.
Однако известно, что вскоре он приступил к созданию своего «интернацио-
124
нального революционно-социалистического тайного общества». Суть проекта сводилась к организации широкомасштабного заговора для осуществления международной революции, в ходе которой были бы уничтожены современные государства и на их месте возникла бы вольная федерация народов, формирующаяся снизу вверх.
Революционная анархистско-социалистическая концепция была изложена Бакуниным еще в 1868 г. «Наша программа», опубликованная на
страницах русской эмигрантской газеты, четко формулировала задачи освобождения умственного (распространение в народе атеизма и материализма), социально-экономического (передача средств производства земледельческим общинам и рабочим ассоциациям) и политического (революционная замена государственности свободной федерациею вольных рабочих
как земледельческих, так и фабрично-ремесленных артелей). Предполагалось также осуществить «полную волю всех народов, ныне угнетенных империею, с правом полнейшего самораспоряжения».
Подробно конспектируя «Государственность и анархию», К. Маркс
справедливо упрекал автора в идеализме: «Он абсолютно ничего не смыслит в социальной революции, знает о ней только политические фразы. Ее
экономические условия для него не существуют».
Однако Бакунину нельзя отказать в политическом чутье и понимании
социальной психологии.
Критикуя сторонников Маркса, Бакунин предупреждал, что «ученые
коммунисты», заполучив государственную власть, попытаются уложить
жизнь будущих поколений в прокрустово ложе своего социального идеала.
«Дайте им полную волю, они станут делать над человеческим обществом
те же опыты, какие ради пользы науки делают теперь над кроликами, кошками и собаками». Бакунин пророчествовал о том, что реализация идеи
диктатуры пролетариата как представительной демократии на основе всеобщего избирательного права неизбежно выльется в деспотическое управление массами со стороны «незначительной горсти привилегированных избранных или даже неизбранных». И даже рабочее происхождение новых
«правителей» и «представителей народа» ничего не решает: став государственными чиновниками, они «будут представлять уже не народ, а себя и
свои притязания на управление народом».
К сожалению, во многом Бакунин не ошибался. Но и его альтернатива:
«свобода может быть создана только свободою, т.е. всенародным бунтом и
вольною организациею рабочих масс снизу вверх» – тоже, как показал злосчастный опыт анархистов XX века в России, Испании и т.д., оказалась дорогой, ведущей куда угодно, но только не в царство свободы, справедливости и братства.
ФЕДЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛИЗМ И АНТИТЕОЛОГИЗМ55
<...> Государство – это самое вопиющее, самое циничное и самое
полное отрицание человечности. Оно называет всеобщую солидарность
людей на земле и объединяет только часть их с целью уничтожения, завоевания и порабощения всех остальных. Оно берет под свое покровительство
лишь своих собственных граждан, признает человеческое право, человеч-
125
ность и цивилизацию лишь внутри своих собственных границ; не признавая
вне себя никакого права, оно логически присваивает себе право самой жестокой бесчеловечности по отношению ко всем другим народам, которых оно
может по своему произволу грабить, уничтожать или порабощать. Если оно
и выказывает по отношению к ним великодушие и человечность, то никак не
из чувства долга; ибо оно имеет обязанности лишь по отношению к самому
себе, а также по отношению к тем своим членам, которые его свободно образовали, которые продолжают его свободно составлять или даже, как это
всегда, в конце концов, случается, сделались его подданными. Так как международное право не существует, так как оно никак не может существовать серьезным и действительным образом, не подрывая саму основу
принципа суверенности государства, то Государство не может иметь никаких обязанностей по отношению к наследию других государств. Следовательно, гуманно ли оно обращается с покоренным народом, грабит ли оно
его и уничтожает лишь наполовину, не низводит до последней степени рабства, – оно поступает так из политических целей и, быть может, из осторожности или из чистого великодушия, никогда из чувства долга, ибо оно имеет
абсолютное право располагать покоренным народом по своему произволу.
Это вопиющее отрицание человечности, составляющее сущность Государства, является, с точки зрения Государства, высшим долгом и самой
большой добродетелью: оно называется патриотизмом и составляет всю
трансцендентную мораль Государства. Мы называли ее трансцендентной
моралью, потому что она обычно превосходит уровень человеческой морали и справедливости, частной или общественной, и тем самым чаще всего
вступает в противоречие с ними. Например, оскорблять, угнетать, грабить,
обирать, убивать или порабощать своего ближнего считается, с точки зрения обыкновенной человеческой морали, преступлением. В общественной
жизни, напротив, с точки зрения патриотизма, если это делается для большей славы государства, для сохранения или увеличения его могущества, то
становится долгом и добродетелью. И эта добродетель, этот долг обязательны для каждого гражданина-патриота; каждый должен их выполнять – и
не только по отношению к иностранцам, но и по отношению к своим соотечественникам, подобным ему членам и подданным государства, – всякий,
как того требует благо государства.
Это объясняет нам, почему с самого начала истории, т.е. с рождения
государств, мир политики всегда был и продолжает быть ареной наивысшего мошенничества и разбоя – разбоя и мошенничества, к тому же высоко
почитаемых, ибо они предписаны патриотизмом, трансцендентной моралью
и высшим государственным интересом. Это объясняет нам, почему вся история древних и современных государств являет лишь рядом возмутительных преступлений; почему короли и министры, в прошлом и настоящем, во
все времена и во всех странах, государственные деятели, дипломаты, бюрократы и военные, если их судить точки зрения простой морали и человеческой справедливости, сто тысяч раз заслужили виселицы или каторги;
ибо нет ужаса, жестокости, святотатства, клятвопреступления, обмана, низкой сделки, циничного воровства, бесстыдного грабежа и подлой измены,
которые бы не были совершены, которые бы не продолжали совершаться
126
ежедневно представителями государств без другого извинения, кроме
столь удобного и вместе с тем столь страшного слова: государственный
интерес!
Поистине ужасное слово! Оно развратило и обесчестило большее число лиц в официальных кругах и правящих классах общества, чем не христианство. Как только это слово произнесено, все замолкает, исчезает честность, честь, справедливость, право, исчезает самострадание, а вместе с
ним логика и здравый смысл; черное становится белым, а белое – черным,
отвратительное – человеческим, а самые подлые предательства, самые
ужасные преступления становятся достойными поступками! И так как теперь уже доказано, что никакое государство не может существовать, не совершая преступлений или, по крайней мере, не мечтая о них, не обдумывая, как их исполнить, когда оно бессильно их совершить, мы в настоящее
время приходим к выводу о безусловной необходимости уничтожения государств. Или, если хотите, их полного и коренного переустройства в том
смысле, чтобы они перестали быть централизованными и организованными
сверху вниз державами, основанными на насилии или на авторитете какогонибудь принципа, и, напротив, реорганизовались бы снизу вверх, с абсолютной свободой для всех частей объединяться или не объединяться и с
постоянным сохранением для каждой части свободы выхода из этого объединения, даже если бы она вошла в него по доброй воле, реорганизовались
бы согласно действительным потребностям и естественным стремлениям
всех частей, через свободную федерацию индивидов и ассоциаций, коммун, округов, провинций и наций в единое человечество.
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И АНАРХИЯ56
<...> Мы уже несколько раз высказывали глубокое отвращение к теории
Лассаля и Маркса, рекомендующей работникам если не последний идеал,
то, по крайней мере, как ближайшую главную цель – основание свободного
государства, которое, по их объяснению, будет не что иное, как «пролетариат, возведенный на степень господствующего состояния».
Спрашивается, если пролетариат будет господствующим сословием,
то над кем он будет господствовать? Значит, останется еще другой пролетариат, который будет подчинен этому новому господству, новому государству. Например, хотя бы крестьянская чернь, как известно, пользующаяся
благорасположением марксистов и которая, находясь на низшей степени
культуры, будет, вероятно, управляться городским и фабричным пролетариатом; или, если взглянуть с национальной точки зрения на этот вопрос,
то, положим, для немцев славяне по той же причине станут к победоносному немецкому пролетариату в такое же рабское подчинение, в каком последний находится по отношению к своей буржуазии.
Если есть государство, то непременно есть господство, следовательно,
и рабство; государство без рабства, открытого или маскированного немыслимо – вот почему мы враги государства.
Что значит пролетариат, возведенный в господствующее сословие?
Неужели весь пролетариат будет стоять во главе управления? Немцев считают около сорока миллионов. Неужели же все сорок миллионов будут чле-
127
нами правительства? Весь народ будет управляющим, а управляемых не
будет. Тогда не будет правительства, не будет государства, а если будет
государство, то будут и управляемые, будут рабы.
Эта дилемма в теории марксистов решается просто. Под управлением
народным они разумеют управление народа посредством небольшого числа представителей, избранных народом. Всеобщее и поголовное право избирательства целым народом так называемых народных представителей и
правителей государства – вот последнее слово марксистов, так же, как и
демократической школы, – ложь, за которою кроется деспотизм управляющего меньшинства, тем более опасная, что она является как выражение
мнимой народной воли.
Итак, с какой точки зрения ни смотри на этот вопрос, все приходишь к
тому же самому печальному результату: к управлению огромного большинства народных масс привилегированным меньшинством, это меньшинство,
говорят марксисты, будет состоять из работников. Да, пожалуй, из бывших
работников, но которые, лишь только сделаются правителями или представителями народа, перестанут быть работниками и станут смотреть на весь
чернорабочий мир с высоты государственной, будут представлять уже не
народ, а себя и свои притязания на управление народом. Кто может усомниться в этом, тот совсем не знаком с природою человека.
Но эти избранные будут горячо убежденные и к тому же ученые социалисты. Слова «ученый социалист», «научный социализм», которые беспрестанно встречаются в сочинениях и речах лассальцев и марксистов, сами собою доказывают, что мнимое народное государство будет нечто иное,
как весьма деспотическое управление народных масс новою и весьма немногочисленною аристократиею действительных или мнимых ученых. Народ не учен, значит, он целиком будет освобожден от забот управления,
целиком будет включен в управляемое стадо. Хорошо освобождение!
Марксисты чувствуют это противоречие и, сознавая, что управление
учѐных, самое тяжелое, обидное и презрительное в мире, будет, несмотря
на все демократические формы, настоящею диктатурою, утешают мыслью,
что эта диктатура будет временная и короткая. Они говорят, что единственною заботою и целью ее будет образовать и поднять народ как экономически, так и политически до такой степени, что всякое управление сделается
скоро ненужным и государство, утратив весь политический, т.е. господствующий характер, обратится само собою в совершенно свободную организацию экономических интересов и общин.
Тут явное противоречие. Если их государство будет действительно народное, то зачем ему упраздняться, если же его упразднение необходимо
для действительного освобождения народа, то как же они смеют его называть народным? Своею полемикою против них мы довели их до сознания,
что свобода, или анархия, т.е. вольная организация рабочих масс снизу
вверх, есть окончательная цель общественного развития и что всякое государство, не исключая и их народного, есть ярмо, значит, с одной стороны,
порождает деспотизм, а с другой – рабство.
5. Уничтожение государства и юридического права необходимо будет
иметь следствием уничтожение личной наследственной собственности и
128
юридической семьи, основанной на этой собственности, так как та и другая
совершенно не допускают человеческой справедливости.
6. Уничтожение государства, права собственности и юридической семьи – одно сделает возможным организацию народной жизни снизу верх,
на основании коллективного труда и собственности, сделавшихся в силу
самих вещей возможными и обязательными для всех путем совершенной,
свободной федерации отдельных лиц в ассоциации, или в независимые
общины, или помимо общин и всяких областных и национальных разграничений в великие однородные ассоциации, связанные тождественностью их
интересов и социальных стремлений.
Как же морализировать этот мир? Возбуждая в нем прямо, сознательно и укрепляя в его уме и сердце единую, всепоглощающую страсть всенародного общечеловеческого освобождения. Это новая, единственная религия, силою которой можно шевелить души и создавать спасительную коллективную силу. Таково должно быть отныне единственное содержание
тайной организации, организации, которая должна, в одно и то же время
создать народо-вспомогательную силу и сделаться практическою школою
нравственного воспитания для всех членов.
Прежде всего, определим ближе цель, значение и назначение этой организации. В моей системе, как я уже несколько раз заметил выше, она не
должна составлять революционной армии – у нас должна быта только одна
революционная армия – народ, – организация должна быть лишь только
штабом этой армии, организатором не своей, а народной силы, посредницею между народным инстинктом и революционною мыслию. А революционная мысль только потому и революционна, жива, действительна, истинна, что она выражает и только поскольку она формирует народные инстинкты, выработанные историею. Стремиться навязать народу свою мысль,
простую <...> или чуждую его инстинктам, – значит хотеть поработить его
новому государству. Поэтому организация, хотящая искренно только освобождения народной жизни, должна принять программу, которая была бы
полнейшим выражением народных стремлений. Организации предстоит огромная задача: не только приготовить торжество революции народной посредством пропаганды и сплочений народных сил; не только разрушить до
конца силою этой революции весь ныне существующий экономический, социальный и политический порядок вещей; но еще, пережив самое торжество революции, на другой день народной победы сделать невозможным установление какой бы то ни было государственной власти над народом –
даже самой революционной, по-видимому, даже вашей, – потому что всякая
власть как бы она ни называлась, непременным образом подвергла бы народ старому рабству в новой форме. Поэтому организация наша должна
быть довольно крепка и живуча, чтобы пережить первую победу народа, – а
это совсем нелегкое дело, – должна быть так глубоко проникнута своим началом, чтобы можно было надеяться, что даже посреди самой революции
она не изменит ни мыслей, ни характера, ни направления. В чем же должно
будет состоять это направление? Что будет главною целью и задачею организации? Помочь народу самоопределиться на основании полнейшего
равенства и полнейшей и всесторонней человеческой свободы, без ма-
129
лейшего вмешательства какой бы то ни было, даже временной или переходной, власти, т.е. без всякого государственного посредства.
Мы отъявленные враги всякой официальной власти – будь она хоть
распререволюционная власть, – враги всякой публично признанной диктатуры, мы – социально-революционные анархисты.
ПЛЕХАНОВ Г.В. (1856–1918 гг.)
Георгий Валентинович Плеханов – один из организаторов первой в
России политической демонстрации студентов и рабочих в декабре 1876 г. у
Казанского собора. Избегая ареста, перешѐл на нелегальное положение,
став профессиональным революционером. В январе 1880 г. эмигрировал. С
осени 1881 г. жил в Швейцарии. Изучал марксистскую литературу, историю
западно-европейского рабочего движения, сотрудничал в европейской социалистической печати, в российских журналах, посещал лекции в Женевском университете.
В 1882 г. перевѐл на русский язык «Манифест Коммунистической партии». В сентябре 1883 г. организовал и возглавил группу «Освобождение
труда». Вѐл активную теоретическую и организационную работу по изданию
и переправке в Россию марксистской литературы. На теоретических трудах
Г.В. Плеханова воспитывалось целое поколение российских социалдемократов.
Принял непосредственное участие в подготовке и работе 2-го съезда
РСДРП (1903 г.), один из авторов проекта Программы РСДРП, выступал по
важнейшим вопросам порядка дня; избран членом редколлегии газеты «Искра» и председателем Совета партии. После съезда, из-за углубления разногласий с В.И. Лениным и большевиками, перешѐл на сторону меньшевиков, стал одним из их лидеров.
Февральская революция 1917 г. позволила Плеханову после 37 лет изгнания вернуться на Родину. 2 апреля выступил на Всероссийском совещании Советов РСД, где изложил своѐ отношение к революционным событиям в России, высказался за продолжение войны для защиты Родины и революции, призывал избегать всего, что может вызвать «преждевременную
гражданскую войну» и «порождать недоразумения между населением и армией» (Газета «Единство», 1917 г., 5 апр.).
Полемизируя с Лениным по поводу Апрельских тезисов, упрекал его в
том, что тот считает войну грабительской, империалистической лишь со
стороны России, но ничего не говорит о Германии. Плеханов характеризовал Апрельские тезисы как «безумную и крайне вредную попытку посеять
анархическую смуту в Русской Земле».
Резко осуждал стремление большевиков взять в свои руки политическую власть. Считал, что Россия ещѐ не созрела для социалистической революции и для перехода к социализму. Опасался, что, если В.И. Ленин
займѐт место А.Ф. Керенского, «это будет началом конца нашей революции.
Торжество ленинской тактики принесѐт с собой такую гибельную, такую
страшную экономическую разруху, что весьма значительное большинство
населения страны повернѐтся спиной к революционерам».
Октябрьскую революцию встретил отрицательно, считал ее преждевременной, так как пролетариат составляет в стране меньшинство и не готов к
130
такой миссии. Предупреждал, что крестьянство, получив землю, не будет
развиваться в сторону социализма. Предостерегал, что захват власти «одним классом или – ещѐ того хуже – одной партией» может иметь печальные
последствия (Вопросы истории. – 1989. – № 12. – С. 105–106). Однако на
предложения Б.В. Савинкова возглавить антибольшевистское правительство
ответил: «Я сорок лет своей жизни отдал пролетариату, и я не буду его «расстреливать даже тогда, когда он идѐт по ложному пути» («Борис Савинков
перед Военной коллегией Верховного суда СССР», М., 1924, с. 182).
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ57
VI. О Ленине и других кривых вожаках. Признаюсь, я сомневался:
надо ли писать о Ленине, ведь каждый его сторонник может усмотреть в
первой же негативной строчке «месть с того света». Но Ленин – мой ученик,
который ничему у меня не научился, кроме того, он – мой противник, о котором в будущем будут написаны тома, поэтому было бы с моей стороны малодушием обойти эту тему молчанием. В таких случаях трудно быть объективным, но я бы изменил себе, если бы отступил сейчас от истины.
Ленин, безусловно, великая, незаурядная личность. Писать о нем
трудно: он многолик и, как хамелеон, при необходимости меняет свою окраску. С интеллигентами он – интеллигент, с рабочими – «рабочий», с крестьянами – «крестьянин»; он закономерен и случаен, логичен и алогичен, прост
и сложен, последователен и непоследователен, «марксист» и псевдомарксист и т.д., и т.д. Было бы неправдой, если бы я обвинил его в незнании марксизма, было бы также ошибкой, если бы я сказал, что он догматичен. Нет, Ленин не догматик, он знает марксизм. Но, к сожалению, он «развивает» его с непостижимым упорством в одном направлении – в направлении фальсификации и с одной целью – с целью подтверждения своих
ошибочных выводов. В марксизме его не устраивает только то, что нужно
ждать, пока созреют объективные условия для социалистической революции. Ленин – псевдодиалектик. Он убежден, что капитализм ужесточается и
всегда будет развиваться в сторону усиления его пороков. Но это – огромная ошибка. По мере развития производительных сил смягчался рабовладельческий строй, смягчался феодализм, и, стало быть, смягчается капитализм. Объясняется это классовой борьбой и постепенным ростом культуры
и самосознания всех слоев населения.
Ленин – цельный тип, который видит свою цель и стремится к ней с
фанатичной настойчивостью, не останавливаясь ни перед какими препятствиями. Он весьма умен, энергичен, чрезвычайно трудоспособен, не тщеславен, не меркантилен, но болезненно самолюбив и абсолютно нетерпим к
критике. «Все, что не по Ленину, – подлежит проклятию!» – так однажды
выразился М.Горький. Для Ленина каждый, кто в чем-то с ним не согласен, –
потенциальный враг, не заслуживающий элементарной культуры общения.
Ленин – типичный вождь, воля которого подавляет окружающих и притупляет его собственный инстинкт самосохранения. Он смел, решителен,
никогда не теряет самообладания, тверд, расчетлив, гибок в тактических
приемах. В то же время он аморален, жесток, беспринципен, авантюрист по
натуре. Следует, однако, признать, что аморальность и жестокость Ленина
131
исходит не от его личной аморальности и жестокости, а от убежденности в
своей правоте. Аморальность и жестокость Ленина – это своеобразный выход из его индивидуальности путем подчинения морали и гуманности политическим целям. Ленин способен перебить половину россиян, чтобы загнать
вторую в счастливое социалистическое будущее. Для достижения поставленной цели он пойдет на все что угодно, даже на союз с чертом, если это
будет необходимым. Покойный Бебель говорил: «…я пойду хоть с чертом и
даже с его бабушкой», но при этом добавлял, что такая сделка возможна,
если он оседлает черта или его бабушку, а не они его. Союз же Ленина с
чертом закончится тем, что черт проскачет на нем, как когда-то ведьма проскакала на Хоме.
Широко распространено мнение, что политика – грязное дело. К сожалению, нынешние действия Ленина как нельзя нагляднее подтверждают
это. Политика же без морали – это преступление. Человек, наделенный
властью, или политик, обладающий большим авторитетом, в своей деятельности должен руководствоваться, прежде всего, общечеловеческими
моральными принципами, ибо беспринципные законы, аморальные призывы и лозунги могут обернуться огромной трагедией для страны и ее народа.
Ленин не понимает этого и не хочет понимать.
Ленин ловко манипулирует цитатами Маркса и Энгельса, зачастую давая им совершенно иное толкование. Из моих работ о роли личности и масс
в Истории Ленин усвоил только одно: он, как личность, «призванная» Историей, может творить с ней все, что захочет. Ленин является примером человека, который, признавая свободу воли, видит свои поступки сплошь окрашенными в яркий цвет необходимости. Он достаточно образован, чтобы
не считать себя Магометом или Наполеоном, но в том, что он «избранник
судьбы», Ленин убежден безусловно. С точки зрения законов социального
развития и исторической необходимости, Ленин был нужен лишь до февраля 1917 г. – в этом смысле он закономерен. После Февральской революции,
которая смела царизм и устранила противоречия между производительными силами и производственными отношениями, историческая надобность в
Ленине отпала. Но беда заключается в том, что массы об этом не знали и
не знают. Они получили больше политических свобод, чем в Западной Европе, но, полуголодные и обнищавшие, к тому же вынужденные продолжать
войну, даже не заметили этого. Закончись война весной 1917 года, реши
Временное правительство земельный вопрос без промедления – и у Ленина не осталось бы для совершения социалистической революции никаких
шансов, а сам он навсегда был бы списан из рядов Историей призванных.
Вот почему Октябрьский переворот и сегодняшний Ленин – не закономерность, а роковая случайность.
Ленин – теоретик, но для образованного социалиста труды его не интересны: они не отмечены ни изяществом слога, ни отточенной логикой, ни
глубокими мыслями, но на малограмотного человека они неизменно производят сильное впечатление простотой изложения, смелостью суждений,
уверенностью в правоте и привлекательностью лозунгов.
Ленин – хороший оратор, умелый полемист, который пускает в ход любые приемы, чтобы смутить, заставить замолчать и даже оскорбить оппо-
132
нента. При несовершенстве дикции он умеет ясно излагать свои мысли,
способен польстить, заинтересовать и даже загипнотизировать аудиторию,
при этом он удивительно быстро и безошибочно приспосабливает свою
речь к уровню слушателей, забывая, что бороться за правое дело – не значит льстить толпе и опускаться до ее уровня. Ленин – человек, не знающий
«золотой середины». «Кто не с нами – тот против нас!» – вот его политическое кредо. В своем стремлении растоптать противника он опускается до
личных оскорблений, доходит до грубой брани, и не только в полемике, но и
на страницах печатных работ, которые он «выпекает» с непозволительной
скоростью. Гениальный Пушкин переписывал набело даже свои письма.
Великий Толстой по несколько раз корректировал свои романы. Ленин же
ограничивается лишь незначительной правкой.
Многие общечеловеческие понятия, признаваемые каждым цивилизованным человеком, отвергаются Лениным или трактуются в негативном
смысле. Например, для любого грамотного человека либерализм – это позитивная система взглядов, для Ленина – это всего лишь «либеральные
пошлости». Для любого грамотного человека буржуазная демократия – это
пусть урезанная, но все же демократия, для Ленина это – «филистерство»,
зато ничем не ограниченный классовый террор – это «пролетарская демократия», хотя в принципе, демократия – т.е. власть народа – ни буржуазной,
ни пролетарской быть не может, так как и буржуазия, и пролетариат, взятые
в отдельности, – это лишь часть народа, далеко не большая.
Толстой, величайший гуманист, считавший, что истинное величие невозможно без любви, добра и простоты, не признал бы Ленина великим. Но
прав ли он? Наполеон не отличался ни любовью, ни добротой, ни простотой, но он, безусловно, великий полководец. История знала великих поэтов,
великих музыкантов, но она знала и великих преступников. Так кто же Ленин? Ленин – это Робеспьер 20-го века. Но если последний отсек головы
нескольким сотням невинных людей, Ленин отсечет миллионам. В этой связи мне вспоминается одна из первых встреч с Лениным, которая, по-моему,
состоялась летом 1895 года в кафе Landolt. Зашел разговор о причинах падения Якобинской диктатуры. Я в шутку сказал, что она рухнула, потому что
гильотина слишком часто секла головы. Ленин вскинул брови и совершенно
серьезно возразил: «Якобинская республика пала, потому что гильотина
слишком редко секла головы. Революция должна уметь защищаться!» Тогда мы (присутствовали П. Лафарг, Ж. Гэд и, кажется, Ш. Лонгэ) только
улыбнулись максимализму г. Ульянова. Будущее, однако, показало, что это
не было проявлением молодости и горячности, а отражало его тактические
взгляды, которые уже в то время были четко сформулированы. Судьба Робеспьера хорошо известна. Не лучшей будет и судьба Ленина: революция,
совершенная им, страшнее мифического Минотавра; она съест не только
своих детей, но и своих родителей. Но я не желаю ему судьбы Робеспьера.
Пусть Владимир Ильич доживает до того времени, когда со всей очевидностью поймет ошибочность своей тактики и содрогнется содеянному.
Вторым после Ленина по способностям и по значению в партии большевиков является Троцкий. «Иудушка», «подлейший карьерист и фракционер», «проходимец, хуже всяких прочих фракционеров» – так отзывался о
133
нем Ленин и был совершенно прав. Ленин в одной из своих работ написал:
«Много блеску и шуму в фразах Троцкого, но содержания в них нет», – и в
этой оценке Ленин прав. Стиль Троцкого – стиль бойкого журналиста –
слишком легок и бегл, чтобы быть глубоким. Троцкий чрезвычайно амбициозен, самолюбив, беспринципен и догматичен до конца ногтей. Троцкий
был «меньшевиком», «внефракционером», а сейчас он – «большевик». На
самом же деле он всегда был и будет «социал-демократом в себе». Он всегда там и с теми, где успех, но при этом он никогда не оставит попыток
стать фигурой номер один. Троцкий – блестящий оратор, но приемы его однообразны, шаблонны, поэтому его интересно послушать только один раз.
Он обладает взрывным характером и при успехе может сделать очень многое в короткое время, но при неудаче легко впадает в апатию и даже в растерянность. Если станет ясно, что ленинская революция обречена, он первым покинет ряды большевиков. Но если она окажется успешной, он сделает все, чтобы потеснить Ленина. Ленин знает об этом, и все же они в одном лагере, потому что демагогия Троцкого и его идея перманентной революции нужны Ленину, к тому же он – несравненный мастер собирания под
свои знамена всех желающих. Ленин – вождь большевиков – никогда не согласится быть вождем другой фракции. Для Троцкого же самое главное –
быть вождем, неважно, какой партии. Вот почему столкновения между Лениным и Троцким в будущем неизбежны.
Рядом с Троцким можно поставить Каменева, затем Зиновьева, Бухарина. Каменев знает марксизм, но – не теоретик. По убеждениям Каменев –
меньшевик циммервальдец, колеблющийся между меньшевиками и большевиками. Он не обладает необходимой силой воли, чтобы претендовать
на роль влиятельного политика. Именно поэтому он следует за большевиками, будучи во многом не согласным с ними. Зиновьев – большевик циммервальд-кинтальского толка, но без окончательно сложившихся убеждений. Несмотря на постоянные сомнения, он все же останется в рядах большевиков до тех пор, пока не представится возможность с перспективой перейти в другой лагерь. Зиновьев, как и Каменев, не обладает твердым характером, но способен для закрепления собственных позиций выполнить
любой приказ Ленина. Бухарин – принципиальный, убежденный большевик,
не лишенный логики, собственного мнения и задатков теоретика. Он неоднократно и по многим вопросам был не согласен с Лениным. Возможно, что
именно Бухарин – в случае смерти Ленина – станет ведущей фигурой
большевистской диктатуры. Но не исключено и то, что еще при жизни Ленина Бухарин и другие названные фигуры, как в свое время жирондисты, будут сметены большевиками второго эшелона, которые никогда и ни в чем
не возражали Ленину.
ЛЕНИН (УЛЬЯНОВ) В.И. (1870–1924 гг.)
В.И. Ленин – создатель партии большевиков, вождь Октябрьской революции, основатель Советского государства.
Учение о государстве и праве В.И. Ленин изложил в работе «Государство и революция» (1917 г.). Государство, по Ленину, «есть продукт и проявление непримиримости классовых противоречий». Для примирения про-
134
тивоположных интересов классов, обусловленных частной собственностью,
экономически господствующий класс создает государство. Классовый характер государства, по мнению В.И. Ленина, выражается в том, что любое
государство представляет собой «диктатуру класса». Любая диктатура есть
власть, опирающаяся непосредственно «на насилие, не связанная никакими законами».
Пролетариат, совершив социалистическую революцию, должен разрушить буржуазную государственность и создать новый тип государства – государство трудящихся (диктатуру пролетариата).
По мере создания материальных предпосылок, отмирания классовых
различий, формирования нового человека, будет отмирать государство. Подобный план революционного переустройства общества В.И. Ленин осуществил после возвращения в 1917 г. в Петроград после 10 лет эмиграции.
ГОСУДАРСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ58
Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции
Глава I. КЛАССОВОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО
4. «Отмирание» государства и насильственная революция
Во-первых. В самом начале этого рассуждения Энгельс говорит, что,
беря государственную власть, пролетариат «тем самым уничтожает государство как государство». На деле Энгельс говорит об «уничтожении» пролетарской революцией государства буржуазии, тогда как слова об отмирании относятся к остаткам пролетарской государственности после социалистической революции. Буржуазное государство не «отмирает», по Энгельсу,
а «уничтожается» пролетариатом в революции. Отмирает после этой революции государство или полугосударство.
Во-вторых. Государство сеть «особая сила для подавления». Это великолепное и в высшей степени глубокое определение Энгельса дано им
здесь с полнейшей ясностью. А из него вытекает, что «особая сила для подавления» пролетариата буржуазией, миллионов трудящихся горстками богачей должна смениться «особой силой для подавления» буржуазии пролетариатом (диктатура пролетариата).
В-третьих. Об «отмирании» и даже еще рельефнее и красочнее – о
«засыпании» Энгельс говорит совершенно ясно и определенно по отношению к эпохе после «взятия средств производства во владение государством
от имени всего общества», то есть после социалистической революции. Мы
все знаем, что политической формой «государства» в это время является
самая полная демократия. Но никому из оппортунистов, бесстыдно искажающих марксизм, не приходит в голову, что речь идет здесь, следовательно, у Энгельса, о «засыпании» и «отмирании» демократии. Буржуазное государство может «уничтожить» только революция. Государство вообще, то
сеть самая полная демократия, может только «отмереть».
В-четвертых. Выставив свое знаменитое положение: «государство отмирает», Энгельс сейчас же поясняет конкретно, что направляется это положение и против оппортунистов, и против анархистов. При этом на первое
место поставлен у Энгельса тот вывод из положения об «отмирании государства», который направлен против оппортунистов.
135
В-пятых. В том же самом сочинении Энгельса, из которого все помнят
рассуждение об отмирании государства, есть рассуждение о значении насильственной революции. Историческая оценка ее роли превращается у
Энгельса в настоящий панегирик насильственной революции.
Глава II. ГОСУДАРСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ. ОПЫТ 1848–1851 ГОДОВ
1. Канун революции
Государство есть особая организация силы, есть организация насилия
для подавления какого-либо класса. Какой же класс надо подавлять пролетариату? Конечно, только эксплуататорский класс, то есть буржуазию. Трудящимся нужно государство лишь для подавления сопротивления эксплуататоров, а руководить этим подавлением, провести его в жизнь в состоянии
только пролетариат, как единственный до конца революционный класс,
единственный класс, способный объединить всех трудящихся и эксплуатируемых в борьбе против буржуазии.
Эксплуататорским классам нужно политическое господство в интересах поддержания эксплуатации, то есть в корыстных интересах ничтожного
меньшинства, против громаднейшего большинства народа. Эксплуатируемым классам нужно политическое господство в интересах полного уничтожения всякой эксплуатации, то есть в интересах громаднейшего большинства народа, против ничтожного меньшинства современных рабовладельцев, то есть помещиков и капиталистов.
Маркс всю свою жизнь боролся с этим мелкобуржуазным социализмом, ныне возрожденным в России партиями эсеров и меньшевиков. Маркс
провел учение о классовой борьбе последовательно вплоть до учения о
политической власти, о государстве.
Свержение господства буржуазии возможно только со стороны пролетариата, как особого класса, экономические условия существования которого подготовляют его к такому свержению, дают ему возможность и силу совершить его. В то время как буржуазия раздробляет, распыляет крестьянство и все мелкобуржуазные слои, она сплачивает, объединяет, организует
пролетариат. Только пролетариат – в силу экономической роли его в крупном производстве – способен быть вождем всех трудящихся и эксплуатируемых масс, которые буржуазия эксплуатирует, гнетет, давит часто не
меньше, а сильнее, чем пролетариев, но которые не способны к самостоятельной борьбе за свое освобождение.
Учение о классовой борьбе, примененное Марксом к вопросу о государстве и о социалистической революции, ведет необходимо к признанию
политического господства пролетариата, его диктатуры, то есть власти, не
разделяемой ни с кем и опирающейся непосредственно на вооруженную
силу масс. Свержение буржуазии осуществимо лишь превращением пролетариата в господствующий класс, способный подавить неизбежное, отчаянное сопротивление буржуазии и организовать для нового уклада хозяйства
все трудящиеся и эксплуатируемые массы.
Пролетариату необходима государственная власть, централизованная
организация силы, организация насилия и для подавления сопротивления
эксплуататоров, и для руководства громадной массой населения, крестьянством, мелкой буржуазией, полупролетариями в деле «налаживания» социалистического хозяйства.
136
Воспитывая рабочую партию, марксизм воспитывает авангард пролетариата, способный взять власть и вести весь народ к социализму, направлять и организовывать новый строй, быть учителем, руководителем, вождем всех трудящихся и эксплуатируемых в деле устройства своей общественной жизни без буржуазии и против буржуазии. Наоборот, господствующий ныне оппортунизм воспитывает из рабочей партии отрывающихся от
массы представителей лучше оплачиваемых рабочих, «устраивающихся»
сносно при капитализме, продающих за чечевичную похлебку свое право
первородства, то есть отказывающихся от роли революционных вождей народа против буржуазии.
Глава III. ГОСУДАРСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ. ОПЫТ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ 1871 ГОДА. АНАЛИЗ МАРКСА
2. Чем заменить разбитую государственную машину?
Итак, разбитую государственную машину Коммуна заменила как будто
бы «только» более полной демократией: уничтожение постоянной армии,
полная выборность и сменяемость всех должностных лиц. Но на самом деле это «только» означает гигантскую замену одних учреждений учреждениями принципиально иного рода. Здесь наблюдается как раз один из случаев превращения количества в качество: демократия, проведенная с такой
наибольшей полнотой и последовательностью, с какой это вообще мыслимо, превращается из буржуазной демократии в пролетарскую, из государства (особая сила для подавления определенного класса) в нечто такое, что
уже не есть собственно государство.
Полная выборность, сменяемость в любое время всех без изъятия
должностных лиц, сведение их жалованья к обычной «заработной плате
рабочего», эти простые и «само собою понятные» демократические мероприятия, объединяя вполне интересы рабочих и большинства крестьян,
служат в то же время мостиком, ведущим от капитализма к социализму. Эти
мероприятия касаются государственного, чисто политического переустройства общества, но они получают, разумеется, весь свой смысл и значение
лишь в связи с осуществляемой или подготовляемой «экспроприацией экспроприаторов», то есть переходом капиталистической частной собственности на средства производства в общественную собственность.
Глава IV. ПРОДОЛЖЕНИЕ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ ЭНГЕЛЬСА
6. Энгельс о преодолении демократии
В обычных рассуждениях о государстве постоянно делается та ошибка, от которой здесь предостерегает Энгельс и которую мы отмечали мимоходом в предыдущем изложении, а именно: постоянно забывают, что уничтожение государства есть уничтожение также и демократии, что отмирание
государства есть отмирание демократии.
На первый взгляд, такое утверждение представляется крайне странным и непонятным; пожалуй, даже возникает у кого-либо опасение, не ожидаем ли мы пришествия такого общественного устройства, когда не будет
соблюдаться принцип подчинения меньшинства большинству, ибо ведь демократия это и есть признание такого принципа?
Нет. Демократия не тождественна с подчинением меньшинства большинству. Демократия есть признающее подчинение меньшинства большин-
137
ству государство, то есть организация для систематического насилия одного класса над другим, одной части населения над другою.
Мы ставим своей конечной целью уничтожение государства, то есть
всякого организованного и систематического насилия, всякого насилия над
людьми вообще. <...> Но, стремясь к социализму, мы убеждены, что он будет перерастать в коммунизм, а в связи с этим будет исчезать всякая надобность в насилии над людьми вообще, в подчинении одного человека
другому, одной части населения другой его части, ибо люди привыкнут к
соблюдению элементарных условий общественности без насилия и без
подчинения.
Глава V. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОТМИРАНИЯ ГОСУДАРСТВА
2. Переход от капитализма к коммунизму
Раньше вопрос ставился так: чтобы добиться своего освобождения,
пролетариат должен свергнуть буржуазию, завоевать политическую власть,
установить свою революционную диктатуру.
Теперь вопрос ставится несколько иначе: переход от капиталистического общества, развивающегося к коммунизму, в коммунистическое общество
невозможен без «политического переходного периода», и государством этого
периода может быть лишь революционная диктатура пролетариата.
Каково же отношение этой диктатуры к демократии?
В капиталистическом обществе, при условии наиболее благоприятного
развития его, мы имеем более или менее полный демократизм в демократической республике. Но этот демократизм всегда сжат тесными рамками
капиталистической эксплуатации и всегда остается поэтому, в сущности,
демократизмом для меньшинства, только для имущих классов, только для
богатых.
Демократия для ничтожного меньшинства, демократия для богатых –
вот каков демократизм капиталистического общества. Если присмотреться
поближе к механизму капиталистической демократии, то мы увидим везде и
повсюду, и в «мелких», якобы мелких, подробностях избирательного права
(ценз оседлости, исключение женщин и т.д.), и в технике представительных
учреждений, и в фактических препонах праву собраний (общественные издания не для «нищих»!), и в чисто капиталистической организации ежедневной прессы и т.д, и т.д, – мы увидим ограничения да ограничения демократизма. Эти ограничения, изъятия, исключения, препоны для бедных кажутся мелкими, особенно на глаз того, кто сам никогда нужды не видал и с
угнетенными классами в их массовой жизни близок не был (а таково девять
десятых, если не девяносто девять сотых буржуазных публицистов и политиков), – но в сумме взятые эти ограничения исключают, выталкивают бедноту из политики, из активного участия в демократии.
Нет. Развитие вперед, то есть к коммунизму, идет через диктатуру
пролетариата и иначе идти не может, ибо сломить сопротивление эксплуататоров-капиталистов больше некому и иным путем нельзя.
Демократия для гигантского большинства народа и подавление силой,
то есть исключение из демократии эксплуататоров, угнетателей народа, –
вот каково видоизменение демократии при переходе от капитализма к коммунизму.
138
Итак: в капиталистическом обществе мы имеем демократию урезанную, убогую, фальшивую, демократию только для богатых, для меньшинства. Диктатура пролетариата, период перехода к коммунизму, впервые даст
демократию для народа, для большинства, наряду с необходимым подавлением меньшинства, эксплуататоров. Коммунизм один только в состоянии
дать демократию действительно полную, и чем она полнее, тем скорее она
станет ненужной, отомрет сама собою.
Наконец, только коммунизм создает полную ненадобность государства, ибо некого подавлять, – «некого» в смысле класса, в смысле систематической борьбы с определенной частью населения. Мы не утописты и нисколько не отрицаем возможности и неизбежности эксцессов отдельных лиц,
а равно необходимости подавлять такие эксцессы. Но, во-первых, для этого
не нужна особая машина, особый аппарат подавления, это будет делать
сам вооруженный народ с такой же простотой и легкостью, с которой любая
толпа цивилизованных людей даже в современном обществе разнимает
дерущихся или не допускает насилия над женщиной. А, во-вторых, мы знаем, что коренная социальная причина эксцессов, состоящих в нарушении
правил общежития, есть эксплуатация масс, нужда и нищета их. С устранением этой главной причины эксцессы неизбежно начнут «отмирать». Мы
не знаем, как быстро и в какой постепенности, но мы знаем, что они будут
отмирать. С их отмиранием отомрет и государство, Маркс, не пускаясь в
утопии, определил подробнее то, что можно теперь определить относительно этого будущего, именно: различие низшей и высшей фазы (ступени,
этапа) коммунистического общества.
4. Высшая фаза коммунистического общества
Но научная разница между социализмом и коммунизмом ясна. То, что
обычно называют социализмом, Маркс назвал «первой» или низшей фазой
коммунистического общества. Поскольку общей собственностью становятся
средства производства, поскольку слово «коммунизм» и тут применимо, если не забывать, что это не полный коммунизм. Великое значение разъяснений Маркса состоит в том, что он последовательно применяет и здесь материалистическую диалектику, учение о развитии, рассматривая коммунизм
как нечто развивающееся из капитализма. Вместо схоластически выдуманных, «сочиненных» определений и бесплодных споров о словах (что социализм, что коммунизм) Маркс дает анализ того, что можно бы назвать ступенями экономической зрелости коммунизма.
В первой своей фазе, на первой своей ступени коммунизм не может
еще быть экономически вполне зрелым, вполне свободным от традиций
или следов капитализма. Отсюда такое интересное явление, как сохранение «узкого горизонта буржуазного права» – при коммунизме в его первой
фазе. Буржуазное право по отношению к распределению продуктов потребления предполагает, конечно, неизбежно и буржуазное государство,
ибо право есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению
норм права.
Демократия имеет громадное значение в борьбе рабочего класса против капиталистов за свое освобождение. Но демократия вовсе не есть предел, а лишь один из этапов по дороге от феодализма к капитализму и от капитализма к коммунизму.
139
Демократия означает равенство. Понятно, какое великое значение
имеет борьба пролетариата за равенство и лозунг равенства, если правильно понимать его в смысле уничтожения классов. Но демократия означает только формальное равенство. И тотчас вслед за осуществлением равенства всех членов общества по отношению к владению средствами производства, то есть равенства труда, равенства заработной платы, пред человечеством неминуемо встанет вопрос о том, чтобы идти дальше, от формального равенства к фактическому, то есть к осуществлению правила:
«каждый по способностям, каждому по потребностям».
Демократия есть форма государства, одна из его разновидностей. И,
следовательно, она представляет из себя, как и всякое государство, организованное, систематическое применение насилия к людям. Это, с одной
стороны. Но, с другой стороны, она означает формальное признание равенства между гражданами, равного права всех на определение устройства
государства и управление им. А это, в свою очередь, связано с тем, что на
известной ступени развития демократии она, во-первых, сплачивает и дает
ему возможность разбить, сломать вдребезги, стереть с лица земли буржуазную, хотя бы и республикански-буржуазную, государственную машину,
постоянную армию, полицию, чиновничество, заменить их более демократической, но все еще государственной машиной в виде вооруженных рабочих масс, переходящих к поголовному участию народа в милиции.
Здесь «количество переходит в качество»: такая степень демократизма связана с выходом из рамок буржуазного общества, с началом его социалистического переустройства. Если действительно все участвуют в
управлении государством, тут уже капитализму не удержаться.
Учет и контроль – вот главное, что требуется для «налажения», для
правильного функционирования первой фазы коммунистического общества.
Все граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства, каковым являются вооруженные рабочие. Все граждане становятся служащими и рабочими одного всенародного, государственного «синдиката».
Когда большинство народа начнет производить самостоятельно и повсеместно такой учет, такой контроль за капиталистами (превращенными
теперь в служащих) и за господами интеллигентиками, сохранившими капиталистические замашки, тогда этот контроль станет действительно универсальным, всеобщим, всенародным, тогда от него нельзя будет никак уклониться, «некуда будет деться».
Все общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством
труда и равенством платы.
Но эта «фабричная» дисциплина, которую победивший капиталистов,
свергнувший эксплуататоров пролетариат распространит на все общество,
никоим образом не является ни идеалом нашим, ни нашей конечной целью,
а только ступенькой, необходимой для радикальной чистки общества от
гнусности и мерзостей капиталистической эксплуатации и для дальнейшего
движения вперед.
С того момента, когда все члены общества или хотя бы громадное
большинство их сами научились управлять государством, сами взяли это
дело в свои руки, «наладили» контроль за ничтожным меньшинством капи-
140
талистов, за господчиками, желающими сохранить капиталистические замашки, за рабочими, глубоко развращенными капитализмом, – с этого момента начинает исчезать надобность во всяком управлении вообще. Чем
полнее демократия, тем ближе момент, когда она становится ненужной.
Чем демократичнее «государство», состоящее из вооруженных рабочих и
являющееся «уже не государством в собственном смысле слова», тем быстрее начинает отмирать всякое государство.
Ибо когда все научатся управлять и будут на самом деле управлять
самостоятельно общественным производством, самостоятельно осуществлять учет и контроль тунеядцев, баричей, мошенников и тому подобных
«хранителей традиций капитализма», – тогда уклонение от этого всенародного учета и контроля неизбежно сделается таким неимоверно трудным, таким редчайшим исключением, будет сопровождаться, вероятно, таким быстрым и серьезным наказанием (ибо воруженные рабочие – люди практической жизни, а не сентиментальные интеллигентики, и шутить они с собой
вряд ли позволят), что необходимость соблюдать несложные, основные
правила всякого человеческого общежития очень скоро станет привычкой.
И тогда будет открыта настежь дверь к переходу от первой фазы коммунистического общества к высшей его фазе, а вместе с тем к полному отмиранию государства.
ИЛЬИН И.А. (1883–1954 гг.)
Иван Александрович Ильин – выдающийся русский философ, правовед, политолог, литературный критик, православный мыслитель. Автор более 40 книг и 300 статей на русском и немецком языках.
Родился 28 марта 1883 года в потомственной дворянской семье. Отец –
Александр Иванович, губернский секретарь, присяжный поверенный округа
Московской судебной палаты; дед – Иван Иванович – полковник, служил начальником кремлевского дворца. Мать – Екатерина Юльевна, урожденная
Швейкерог. Таковы русская и немецкая ветви рода Ильина. С детства на
формирование личности исследователя и мыслителя оказывали воздействие нравственная среда и духовная атмосфера, царившие в его семье. С
детской поры закладывались в сознании ребенка, вызревая с годами в убежденность и жизненную позицию, представления об основах духовности. Росло понимание, что овладение свободой – дело сугубо личное, результат раскрепощения собственной души и движение навстречу любви. Постепенно
складывалось и сознание, что духовность есть ключ к истинному счастью.
Ильин родился и вырос в Москве, с юности впитывал дивные природные, исторические и религиозные ароматы этого города. Навсегда остался
москвичом, русским человеком, чья судьба неотделима от Москвы. Учился
легко и успешно. В 1901 году, окончив с золотой медалью знаменитую Первую Московскую гимназию, поступает в Московский университет на юридический факультет. В этот период его интересуют философские и государственные вопросы. Он пытается разобраться в философии Канта, в его взглядах
на таинственную, а потому особенно притягательную «вещь в себе». В
1906 году Ильин оканчивает университет с получением кандидатской степени и остается при кафедре энциклопедии права и истории философии права
141
для подготовки к профессорскому званию. В 1909 году Иван Александрович
сдал магистерские экзамены, прочитал две испытательные лекции – и только
после этого был утвержден в звании приват-доцента юридического факультета Московского университета. С этого года начинается его преподавательская деятельность. Затем Ильин проводит два года в научной командировке
за границей. В основном она прошла в знаменитых университетах Германии
– в Гейдельберге, Фрайбурге, Берлине. Побывал он и в Париже, в цитадели
французского просвещения Сорбоне. Вернувшись в 1912 году на родину,
Иван Александрович погружается в активную педагогическую деятельность и
не оставляет ее вплоть до своего изгнания в 1922 году. 1918 год знаменателен для Ильина публичной защитой магистерской диссертации «Философия
Гегеля как учение о конкретности Бога и человека», по итогам которой соискателю единогласно Ученым советом были присуждены сразу две степени –
магистра и доктора государственных наук. Научный и общественный авторитет Ильина ширился и все увереннее заявлял о себе.
Февральскую революцию Ильин воспринял как «временный беспорядок», а большевистский Октябрьский переворот – как катастрофу и активно
включился в борьбу с новым режимом. Неоднократно арестовывался, в последний (шестой) раз в сентябре 1922, после чего вместе с большой группой философов, ученых и литераторов был выслан из России в Германию.
До прихода к власти нацистов Ильин состоял профессором Русского
научного института в Берлине. В 1927–30-е годы издавал «журнал волевой
идеи» – «Русский колокол». В 1934 году уволен нацистами, с 1938 года
проживал в Швейцарии.
Выдающийся вклад Ильин внес в разработку русской национальной
идеологии. В своем докладе «Творческая идея нашего будущего», сделанном в Белграде и в Праге в 1934, он сформулировал назревающие проблемы русской национальной жизни. Мы должны сказать всему остальному миру, заявлял он, что Россия жива, что хоронить ее – близоруко и неумно; что
мы – не человеческая пыль и грязь, а живые люди с русским сердцем, с русским разумом и русским талантом; что напрасно думают, будто мы все друг с
другом «перессорились» и пребываем в непримиримом разномыслии».
Будучи продолжателем традиций русской религиозно-философской
мысли, И.А. Ильин полагал, что государство и право основаны не только на
«внушительном воздействии приказа и угрозы», но, «прежде всего, на духовной правоте» – на «содержательной верности издаваемых повелений и
норм». Государственная власть есть сила духовная. Ее назначение состоит
в том, «чтобы создавать в душах людей настроение определенности, завершенности... Власть должна «соблюдать свою истинную духовную природу», которую она черпает в религии.
Значительное место в работах И.А. Ильина занимали проблемы поиска лучшей формы правления. Идеальной формой для России он считал
монархию. Сквозь призму самоценности личности он рассматривал необходимость правового ограничения власти. Правовое государство основано
на признании личности свободной, духовной, правомочной, управляющей
собою в душе и в делах. Тоталитарное же государство покоится на страхе,
терроре, на партийных указах, а не на законе.
142
СОЦИАЛЬНОСТЬ ИЛИ СОЦИАЛИЗМ?59
Первое условие «социальности» – это бережное отношение к человеческой личности: к ее достоинству, к ее свободе. Порабощение и уничтожение человека исключает «социальность», ибо социальность есть состояние духа; порядок духовной жизни; говорить о социальности, унижая
человека, делая его рабом, – нелепо и лицемерно. Сытые холопы остаются
холопами, роскошно одетые и в комфорте живущие рабы не перестают
быть рабами и становятся тупыми, развратными и самодовольными рабами. Режим угроз, страха, доносов, шпионажа, лести и лжи никогда не будет
социален, несмотря ни на какую возможную «сытость». Человеку нужны,
прежде всего, – достоинство и свобода; свобода убеждений, веры, инициативы, труда и творчества. Только достойный и свободный человек может осуществлять живую справедливость и живое братство. Рабы и тираны
всегда будут хотеть другого и проводить в жизнь обратное.
Итак, «социальность» есть цель и задача государственного строя,
создаваемого, по слову Аристотеля, ради прекрасной жизни». «Социализм»
же есть только один из способов, предложенных для осуществления этой
цели и этой задачи. «Социальность» нужна при всех условиях; а «социализм» – только при условии, если он действительно осуществляет
«социальность».
Общность имущества вообще есть дело претрудное и требующее легкой и свободной добровольности. Но именно добровольную общность
не следует смешивать ни с социализмом, ни с коммунизмом (как делают
анархисты, коммунисты).
Неразделенный крестьянский двор, где ссорятся две–три семьи, – не
есть образчик социализма. Добровольную общность части имущества мы
наблюдаем в артели, в ученом обществе, у студенческой организации, у
скаутов, у «Соколов», в кооперативе, в акционерной компании и т.д. Во
всем этом нет никакого социализма, ибо это есть общность добровольная,
не отменяющая частную собственность и могущая быть прекращенною.
Социализм же принудителен, окончателен, бессрочен и враждебен частной
собственности.
Элемент социализма имелся в русской крестьянской общине, государственно-принудительной, бессрочной и ограничивающей свободное распоряжение землей. Община казалась целесообразной и «социальной» потому, что связанные ею крестьяне старались преодолеть ее отрицательные
стороны справедливым распределением пользуемой земли и несомого
бремени (пределы по едокам и круговая порука). Но на деле это повело к
аграрному перенаселению в общине и во всей стране, к экстенсивности и
отсталости крестьянского хозяйства, к стеснению и подавлению личной хозяйственной инициативы, к аграрным иллюзиям в малоземельной крестьянской среде и потому к нарастанию революционных настроений в стране,
ибо замаринованные в общине крестьяне воображали, будто в России имеется неисчерпаемый запас удобной земли, который надо только взять и
распределить, – тогда как осуществившийся в начале революции «черный
передел» дал им на самом деле прирезок в две пятых одной десятины.
143
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ
Прежде всего: государственная форма есть не «отвлеченное понятие»
и не «политическая схема», безразличные к жизни народов, а строй жизни
и живая организация народа. Необходимо, чтобы народ понимал свой
жизненный строй, чтобы он умел – именно «так» – организоваться, чтобы он уважал законы этого строя и вкладывал свою волю в эту организации. Иными словами: именно живое правосознание народа дает государственной форме осуществление, жизнь и силу; так что государственная
форма зависит, прежде всего, от уровня народного правосознания, от
исторического нажитого народом политического опыта, от силы его воли и
от его национального характера.
Нелепо вводить в стране государственную форму, не считаясь с уровнем и с навыками народного правосознания.
Далее, государственная форма должна считаться с территориальными размерами страны и численностью ее населения. В республике СанМарино (59 кв. км, 9000 жителей) исполнительная власть доселе принадлежит двум «капитанам», избираемым «Большим Советом» (парламентом) на
6 месяцев, причем один из них обыкновенно выбирается из пришлых иностранцев...
Некоторые, совсем маленькие кантоны Швейцарии доселе собирают
раз в год свое «однодневное вече» – на площади, и в случае дождя – под
зонтами... Уже в большинстве остальных кантонов Швейцарии – это невозможно.
Далее, государственная форма должна считаться с климатом и с природою страны. Суровый климат затрудняет всю организацию народа, все
сношения, все управление. Природа влияет на характер людей, на продовольствие страны, на ее промышленность; она определяет ее географические и стратегические границы, ее оборону, характер и обилие ее войн. Все
это должно быть учтено в государственной форме. Многонациональный состав населения предъявляет к государственной форме свои требования.
Он может стать фактором распада и привести к гибельным гражданским
войнам. Но эта опасность может быть и преодолена: природой страны и
горным свободолюбием солидаризирующихся народов (Швейцария); или
же долгим и свободным эмигрантским отбором, заокеанским положением
страны и торгово-промышленным характером государства (Соединенные
Штаты); или же – наконец – религиозно-культурным преобладанием и успешным политическим водительством численно сильнейшего племени, если оно отличается настоящей уживчивостью и добротой (Россия).
Выводы:
Каждый народ и каждая страна есть живая индивидуальность со
своими особыми данными, со своей неповторимой историей, душой и природой.
Каждому народу причитается поэтому своя, особая, индивидуальная
государственная форма и конституция, соответствующая ему, и только ему. Нет одинаковых народов и не должно быть одинаковых форм и
конституций. Слепое заимствование и подражание нелепо, опасно и может
стать гибельным.
144
ЧТО ЕСТЬ ГОСУДАРСТВО – КОРПОРАЦИЯ ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЕ?
То, что действительно произошло в мире за последние тридцать лет,
есть духовное обличение и отражение тоталитарного строя, вес равно –
левого или правого; но совсем не политическое оправдание формальной демократии. Напротив, именно «формальная демократия» с ее внутренними пустотами, ошибками и соблазнами и привела к левому и правому
тоталитаризму: эти два политических режима связаны друг с другом, как
уродливая реакция на болезненное преувеличение, или как тирания, возникающая из распада; или как рабство, возвращающееся на того, кто не сумел найти и соблюсти духовно верную меру свободы. Ныне мы переживаем
период, когда человечество еще не разочаровалось ни в формальной
демократии, ни в право-левом тоталитаризме; когда одни наивно собираются лечить провалившийся тоталитаризм формальной демократией, а
другие организуются для того, чтобы заменить формальную демократию
правым или левым тоталитаризмом.
Мы же настаиваем для России на третьем исходе и считаем его единственно верным. Для того чтобы уразуметь его, надо поставить весь вопрос
со всей возможной политико-юридической ясностью.
Государство как многоголовый (или совокупный) субъект права может
быть или «корпорацией», или «учреждением». Что же оно есть на самом
деле?
Корпорация (например, кооператив) состоит из активных полномочных и равноправных деятелей. Они объединяются в единую организацию
по своей свободной воле; хотят – входят в нее, не хотят – выходят из нее.
Они имеют общий интерес и вольны признать его и отвергнуть. Если они
признают его и входят в эту корпорацию, то они тем самым имеют и полномочие действовать для его удовлетворения. Они уполномочены формулировать свою общую цель, ограничивать ее, выбирать голосованием все необходимые органы, утверждать их и дезавуировать их, «отзывать» свою
волю, погашать свои решения, обуславливать свое участие «постольку-поскольку».
Кооперация начинается с индивидуума: с его мнения, изволения, решения; с его «свободы» и интереса. Она строится снизу вверх; она основывает все на голосовании; она организуется на свободно признанной (и соответственно свободно ограничиваемой, свободно отвергаемой) солидарности заинтересованных деятелей. «Все через народ» – идеал формальной
демократии.
Напротив, жизнь учреждения (например, больницы, гимназии) строится не снизу, а сверху (даже и тогда, когда само учреждение учреждено всенародным голосованием). Люди, заинтересованные в жизни этого учреждения, получают от него благо и пользу, но не формулируют сами ни своего
общего интереса, ни своей общей цели. Они не имеют и полномочия действовать от лица учреждения. Они «проходят» через него, но не составляют
его и не строят его. Они пассивно принимают от учреждения заботы, услуги,
благодеяния и распоряжения.
И вот сторонники формальной демократии считают, что государство тем лучше организовано, чем последовательнее оно превращается в
145
корпорацию. А сторонники тоталитарного строя убеждены, что государство
тем лучше организовано, чем последовательнее всякое самоуправление
исключено и подавлено, чем больше государство превращено в учреждение. Принцип корпорации, проведенный последовательно до конца, погасит
всякую власть и организацию, разложит государство и приведет его к анархии. Принцип учреждения, проведенный последовательно до конца, погасит
всякую человеческую самодеятельность, убьет свободу личности и духа и
приведет к каторге. Анархия не лечится каторгой: это варварство. Каторга
не оздоравливается анархией: это безумие. Спасителен только третий путь.
Какой же? И как найти его?
***
Прежде всего, надо понять и до конца продумать, что корпоративный
строй требует от граждан зрелого правосознания. Желающий участвовать в
управлении государством должен уметь управлять самим собой, понимать
сущность государства, его задачи и цели, органичность народной жизни,
значение и смысл свободы, технику социальной организации, законы политики и хозяйства, Нет этого – и общий интерес остается неосознанным,
подмененным частной корыстью и личными вожделениями, принцип солидарности останется пустым словом, общая цель утратится, полномочие будет подменено «кулачным нравом»; начинается фальсификация государственности и развал. Государство погибнет или сложится вновь по типу диктаторского учреждения.
Тех, кто не способен осознать и жизненно оформить свой общественный интерес и кому нелепо давать право голоса, государство всегда будет
опекать и вести.
Люди вообще живут на свете не для того, чтобы убивать свое время и
силы на политическую организацию, а чтобы творить культуру. Политика не
должна поглощать их досуг и отрывать их от работы, а обеспечивать им порядок, свободу, законность, справедливость и технически-хозяйственные
удобства жизни. Кипение в политических разногласиях, страстях и интригах,
в тщеславии, честолюбии и властолюбии есть не культура, а растрата сил и
жизненных возможностей. Поэтому политика не должна поглощать времени
и воли больше, чем это необходимо. Корпоративный строй склонен растрачивать народные силы; строй учреждения, если он на высоте, экономит их.
В довершение всего – политическое дело требует особых знаний, изучения, подготовки, опыта и таланта, которыми «все» никогда не обладали и
обладать не будут; политическое строительство всегда было и всегда будет
делом компетентного меньшинства.
Поэтому государство никогда не перестанет строиться по типу учреждения, особенно в тех отношениях, где необходимы единая власть и дисциплина: а именно – в делах общественного воспитания, порядка, суда, управления, обороны, дипломатии и некоторых других. Это совсем не означает,
что принцип самоуправления исключается из государственной жизни и
строительства, что он осуждается и отвергается; но это означает, что сфера
его применения по самому существу дела ограничена: 1) принудительным
характером государственного союза вообще (подданство – гражданство, лояльность без всякого «постольку-поскольку», налоги, воинская повинность,
146
судебный приговор и наказание); 2) самой техникой государственного и в
особенности военного строительства (вопросы, требующие тайны и личной
ответственности, вопросы стратегии и тактики не голосуются); 3) наличным
уровнем правосознания в стране; 4) необходимой экономией сил (люди живут на свете решительно не для того, чтобы политиканствовать).
Все это означает, что современные крайности (формальной демократии и тоталитарного режима) являются нездоровыми заблуждениями. Государство в своем здоровом осуществлении всегда совмещает в себе черты
корпорации с чертами учреждения: оно строится – и сверху, и снизу – и по
принципу властной опеки, и по принципу – самоуправления. Есть государственные дела, в которых уместно и полезно корпоративное самоуправление; и есть такие дела, в которых оно решительно неуместно и недопустимо. Голосование в русской армии в 1917 г. было проявлением политического кретинизма и революционной интриги (одновременно). Подобно этому
есть государственные дела, которые можно вести только по принципу властного предписания, назначения и взыскания; и есть такие дела, в которых
необходимо самоуправление, ибо тоталитарный централизм убивает в них
жизнь (срав. советский строй). Нелепо строить все государство по схеме
больницы или школы, ибо государственно-зрелые граждане не больные
и не школьники; их осознанная солидарность драгоценна, их политическая
активность необходима, их публично-правовая уполномоченность зиждительна; все это есть могучий политический цемент.
Это означает также, что политик, организующий государство, должен
считаться, прежде всего, с наличным в данной стране и в данную эпоху
уровнем народного правосознания, определяя по нему то жизненное сочетание из учреждения и корпорации, которое будет наилучшим «при данных
условиях жизни».
Такими условиями жизни являются: Территория и ее размеры (чем
больше эти размеры, тем необходимее сильная власть и тем труднее проводить корпоративный строй).
Плотность населения (чем больше она, тем легче организация страны; чем меньше она, тем необходимее начало учреждения).
Державные задачи государства (чем грандиознее они, тем меньшему числу граждан они понятны и доступны, тем выше должен быть уровень
правосознания, труднее корпоративный строй).
Хозяйственные задачи страны (с примитивным хозяйством маленькой страны может легко управиться и корпоративное государство).
Национальный состав страны (чем оно однороднее, тем легче народу самоуправляться).
Религиозная принадлежность народа (однородная религиозность
масс облегчает управление, разнородная – затрудняет; обилие противогосударственных сект может стать прямой государственной опасностью и т.д.).
Социальный состав страны (чем он первобытнее и проще, тем легче
дается народу солидарность, тем проще управление).
Культурный уровень народа (чем он ниже, тем необходимее начало
учреждения).
Уклад народного характера (чем устойчивее и духовно-индивидуализированнее личный характер у данного народа, тем легче осуществлять
147
корпоративный строй; народ индивидуализированный не духовно, а только
биологически, и притом бесхарактерный, может управляться только властной опекой).
Все это указуется здесь только для примера; при всем этом подразумевается оговорка «при прочих равных условиях».
Итак, единого мерила, единого образцового строя для всех народов и государств нет и быть не может. И тот, кто вечно твердит «все через
народ», обнаруживает свое верхоглядство и свою политическую неспособность.
О ТОТАЛИТАРНОМ РЕЖИМЕ
Что такое тоталитарный режим?
Это есть политический строй, беспредельно расширивший свое вмешательство в жизнь граждан, включивший всю их деятельность в объем
своего управления и принудительного регулирования. Слово «тотус»
означает по-латыни «весь, целый». Тоталитарное государство есть всеобъемлющее государство. Оно определяется от того, что самодеятельность граждан не нужна и вредна, а свобода граждан опасна и нетерпима. Имеется единый властный центр: он призван все знать, все предвидеть, все планировать, все предписывать. Обычное правосознание исходит
от предпосылки: все незапрещенное – позволено, тоталитарный режим
внушает совсем иное: все непредписанное – запрещено. Обычное государство говорит: у тебя есть сфера частного интереса, ты в ней свободен;
тоталитарное государство заявляет: есть только государственный интерес,
и ты им связан. Обычное государство разрешает: думай сам, веруй свободно, строй свою внутреннюю жизнь как хочешь; тоталитарное государство
требует: думай о предписанном, не веруй совсем, строй свою внутреннюю
жизнь по указу. Иными словами: здесь управление – всеобъемлющее; человек порабощен; свобода становится преступной и наказуемой.
148
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В нашем быстро меняющемся мире с политологией нельзя быть на
«вы». Зубрежка дат рождения и смерти великих философов, ученых, писателей и даже названий их главнейших произведений – пустая трата времени. С политологией как наукой нужно быть на «ты». Надо глубоко и всеобъемлюще усвоить для себя политический процесс, чтобы хорошо разбираться в текущем моменте.
История политологии существует не только в датах, названиях, терминах – их, конечно, тоже нужно знать. Она существует и в образах, и в красках,
и в движении. Чтобы так представлять себе становление и развитие политологии в мире, нужно не только пробегать глазами по строчкам, но и подключать воображение. Вот, например, в хрестоматии сказано, что Кампанелла
написал свою книгу «Город Солнца» в замке-тюрьме св. Ангела в Риме, где в
сырой камере он провел больше тридцати трех лет, закованный в кандалы…
Инквизиция строго следила за узником, чтобы он не мог писать. А он как-то
ухитрялся… Включите воображение, перенеситесь в далекое прошлое, к нему… Вас тоже потрясло, что в таких нечеловеческих условиях можно было
не только как-то поддерживать слабый огонек своей жизни, но и творить?
Здесь, в узилище, Томазо Кампанелла создавал сочинения по философии,
медицине, астрономии, математике. А еще годами продумывал устройство
будущей идеальной республики, где всѐ станет общим… Чуть живой после
пыток, с искалеченными руками, тайком от надзирателей он «лепил» кирпичек в стройное здание политологии, очень всеобъемлющей науки, очень
важной для миропонимания и очень интересной, если подходить к этому
предмету не «троечки» ради, а вдумчиво, основательно.
Становление политологии – это история борьбы за счастье людей.
149
БИБЛИОГРАФИЯ
42
Крижанич, Юрий. Часть I. О благе, о торговле. Часть III о мудрости,
о различных сословиях людей, о призвании короля, о королевской власти и
о тирании, Объяснение общего заблуждения богатых людей и многих правителей относительно принудительности вещей и безграничной власти, О
жестоком правлении и людодерстве, Об исправлении тиранства и дурного
правления, Законы против народного недовольства и для иных нужд и привилегии всем сословиям / Юрий Крижанич; Политика. – М.: Изд-во «Наука»,
1965. – С. 378–381, 385, 393–398, 461–463, 547–549, 555–560, 564, 568–575,
576–581, 591–593, 599–601, 605–613.
43
Радищев, А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву / А.Н. Радищев.
– М.: Изд-во ООО «Олимп», 2001. – 239 с.
44
Чаадаев, П.Я. Философические письма / П.Я. Чаадаев // Полное собрание сочинений и избранные письма. – М.: Изд-во «Наука», 1991. –
С. 320–440.
45
Аксаков, К.С. О том же / К.С. Аксаков // Полн. собр. соч. – М.: Изд-во
«Художественная литература», 1989. – Т. 1, С. 16–23.
46
Муравьев, Н.М. Проект Конституции / Н.М. Муравьев // Избранные
социально-политические и философские произведения декабристов. – М.:
Политиздат, 1951. – Т. 1, С. 295–329.
47
Пестель, П.И. Русская правда или заповедная государственная грамота великого народа российского, служащая заветом для усовершенствования государственного устройства России и содержащая верный наказ как
для народа, так и для временного верховного правления / П.И. Пестель //
Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. – М.: Госполитиздат, 1951. – Т. 2, С. 73–85.
48
Герцен, А.И. Русский народ и социализм / А.И. Герцен // Сочинения в
двух томах. – М.: Изд-во «Мысль», 1986. – Т. 2, С. 154–155, 168–170, 177–178.
49
Данилевский, Н.Я. Глава X. Различия в ходе исторического воспитания. Глава XI. Европейничанье – болезнь русской жизни. Всеславянский
союз / Н.Я. Данилевский. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. – 6-е изд. –
СПБ: Изд-во С-Петербургского университета, изд-во «Глаголъ», 1995. –
С. 187–188, 191–193, 215–221, 222–226, 337–341, 360–362, 368.
50
Победоносцев, К.П. Великая ложь нашего времени: Статья / К.П. Победоносцев // Сб.: Великая ложь нашего времени. – М.: Изд-во «Русская книга», 1993. – С. 31–58.
51
Чичерин, Б.Н. Представительство и полномочiе. Политеческая свобода и ея развитiе. Учение о полновластiи народа. Свойство народнаго
представительства. Народное представительство в республикахъ. Народное предствительство въ монархияхъ. Конституционная монархiя. Представительство въ сложных государствахъ. Развитие конституционной монархiи
въ Англии / Б. Чичерин. О народном представительстве. – М.: Тiпографiя и
комп. У Пречистенских воротъ, 1866. – С. 8–18, 19–34, 35, 46–47, 56–57, 61–
63, 71–73, 81–83, 90–81, 95, 96–97, 116–118, 122–123, 126–128, 135–136,
165–167, 180–181, 256–259.
150
52
Новгородцев, П.И. Демократия на распутье / П.И. Новгородцев. Сочинения. – М.: Изд-во «РАРИТЕТ», 1995. – С. 388–404.
53
Кропоткин, П.А. Государство, его роль в истории / П.А. Кропоткин //
Хлеб и воля. Современная наука и анархия. – М.: Изд-во «Правда», 1990. –
С. 396–453.
54
Соловьев, В.С. Философская публицистика / В.С. Соловьев: Сочинения в 2-х томах: том 2. – М.: Изд-во «Мысль», 1988. – С. 549–561, 619–621.
55
Бакунин, М.А. Федерализм, социализм и антитеологизм / М.А. Бакунин // Избранные сочинения и письма. – М.: Изд-во «Мысль», 1987. –
С. 279–330.
56
Бакунин, М.А. Государственность и анархия / М.А. Бакунин // Философия. Социология. Политика. – М.: Изд-во «Правда», 1989. – С. 482, 483,
525, 526.
57
Плеханов, Г.В. Политическое завещание / Г.В. Плеханов // Избранные философские произведения. – М.: Госполитиздат, 1974. – С. 18–20, 24–
26, 42–44, 82, 83, 86–91, 99–102.
58
Ленин, В.И. Государство и революция / В.И. Ленин // Полн. собр. соч.
в 55 томах. – Т. 33. – изд. 5. – М.: Госполитиздат, 1981. – С. 18–20, 24–26,
42–44, 82, 83, 86–91, 99–102.
59
Ильин, И.А. Социальность или социализм. О государственной форме. Оптимизм в политике. Что есть государство – корпорация или учреждение? О тоталитарном режиме / И.А. Ильин // Наши задачи. Историческая
судьба и будущее России: Статьи 1948–1954 гг.: в 2-х т. – Т. 1. – М.: Изд-во
«РАРОГ», 1992. – С. 40–42, 46–48, 74–75, 84–89, 94–96.
151
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава VIII. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ
(КОНЕЦ XVII–НАЧАЛО ХIХ ВВ.) ........................................................ 3
КРИЖАНИЧ ЮРИЙ (1618–1683 гг.) ...................................................................... 3
РАДИЩЕВ А.Н. (1749–1802 гг.) ............................................................................. 8
ЧААДАЕВ П.Я. (1794–1856 гг.) ............................................................................ 51
АКСАКОВ К.С. (1817–1860 гг.) ............................................................................. 65
МУРАВЬЕВ Н.М. (1795–1843 гг.) ......................................................................... 68
ПЕСТЕЛЬ П.И. (1793–1826 гг.) ............................................................................ 71
ГЕРЦЕН А.И. (1812–1870 гг.) ............................................................................... 77
Глава IX. КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
В РОССИИ (СЕРЕДИНА XIX–НАЧАЛО ХХ ВВ.) .............................. 82
ДАНИЛЕВСКИЙ Н.Я. (1822–1885 гг.) ................................................................. 82
ПОБЕДОНОСЦЕВ К.П. (1827–1907 гг.) .............................................................. 93
ЧИЧЕРИН Б.Н. (1828–1904 гг.) ............................................................................ 99
НОВГОРОДЦЕВ П.И. (1866–1924 гг.) ............................................................... 109
КРОПОТКИН П.А. (1842–1921 гг.) ..................................................................... 114
СОЛОВЬЕВ В.С. (1853–1900 гг.) ....................................................................... 116
БАКУНИН М.А. (1814–1876 гг.) .......................................................................... 122
ПЛЕХАНОВ Г.В. (1856–1918 гг.). ....................................................................... 129
ЛЕНИН (УЛЬЯНОВ) В.И. (1870–1924 гг.) ......................................................... 133
ИЛЬИН И.А. (1883–1954 гг.) ............................................................................... 140
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 148
БИБЛИОГРАФИЯ ................................................................................................ 149
Учебное издание
ШТРАКС Марк Григорьевич,
ФЕДОРОВА Нина Николаевна
СТОЛПЫ ФИЛОСОФИИ
И ПОЛИТОЛОГИИ
ЧАСТЬ 3
Учебное пособие
Редактор И.А. Короткова
Подписано в печать 16.06.2014 г. Формат 60×84/16.
Усл. печ. л. 9,5. Тираж 300 экз. Заказ
. Цена 155 руб.
МАДИ, Москва, 125319, Ленинградский пр-т, 64