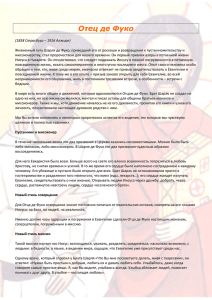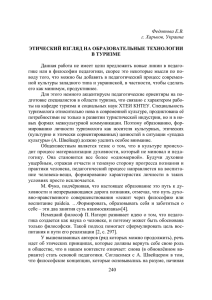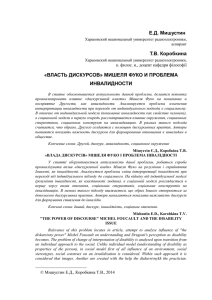Научные тетради. Выпуск III
реклама
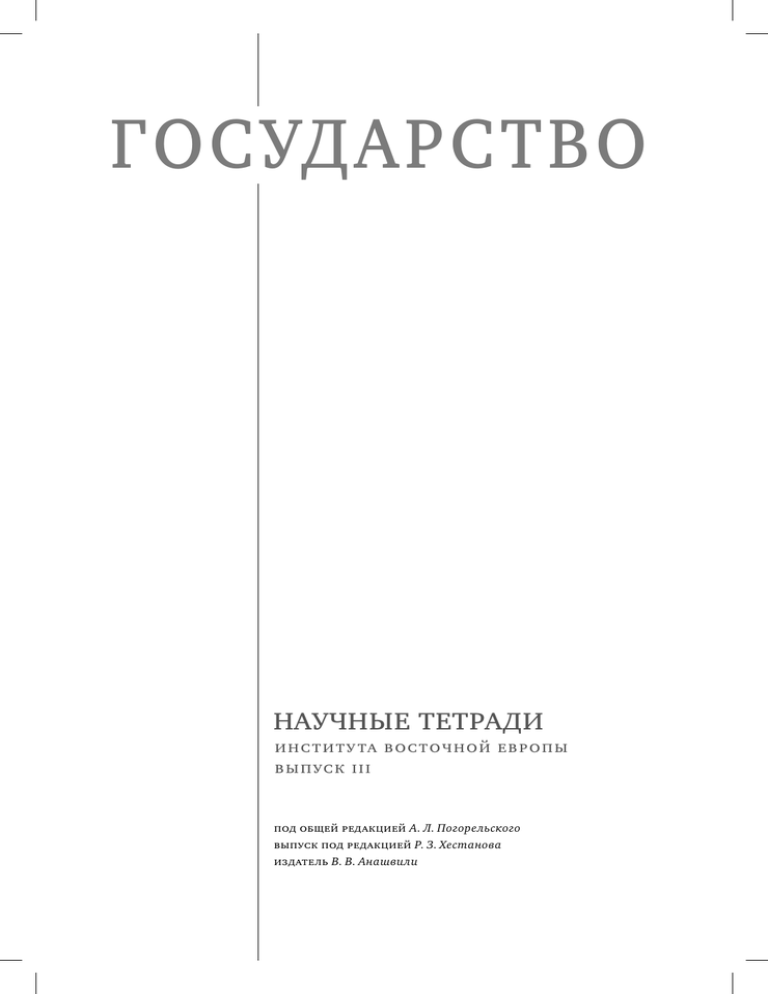
iii А. Л. Погорельского Р. З. Хестанова В. В. Анашвили I Проект осуществлен совместно с Центром Ричард Бонни. Борьба за статус великой державы и конец старого фискального режима · 3 фундаментальной социологии Государственного Артур Цуциев. Об одном алгоритме кризисного причинения на Северном Кавказе · 63 университета — Высшей школы экономики Р услан Хестанов. Привилегированные объекты государственного управления · 70 Выпускающий редактор Е. Попова Дизайн и верстка С. Зиновьев Издательский дом «Территория будущего» 105006, Москва, ул. Ольховская, 45, стр. 4 isbn 978-5-91129-053-5 Тираж 1000 экз. Отпечатано в типографии «Момент», Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, 11 Р. Бин Вон. История налогов: некоторые фискальные особенности китайского государства в прошлом и настоящем · 86 Виталий Куренной. Государство как механизм деполитизации · 102 Виктор Мартьянов. Гетерархия как условие государства · 133 Жан Ив Гренье и Андре Орлеан. Мишель Фуко, политэкономия и либерализм · 167 Василий Жарков. Династическое государство европейской периферии в борьбе за управляемость. Московское царство xvi – xvii вв. · 192 I a Ib Ричард Бонни Идеи меркантилистов и камералистов оказали глубокое влияние на европейских правителей xviii века. «Финансовая система, оставленная отцом в наследство сыну и постоянно совершенствуемая, — писал в своих мемуарах Фридрих Великий, — может изменить положение государства. Бедное государство благодаря ей способно приобрести такие богатства, что окажется в состоянии бросить свою песчинку на весы баланса между великими европейскими державами». Властители осознавали существование тесной связи между экономическим ростом, процветанием подданных и усилением своего финансового и военного могущества. Иосиф ii утверждал, что «к армии он был привязан менее, чем к финансам»; если бы он мог сократить размер своей армии и превратить своих подданных в тружеников, то так бы и сделал; но ответственность перед страной вынуждала его «сочетать необходимые меры безопасности с благосостоянием государства». Ему приходилось также обличать тех правителей, которые тратят все свои силы на «незначительные завоевания» и достижение «мелких преимуществ», при этом растрачивая реальный капитал своего государства и на долгие годы оставляя его без ресурсов. Аналогичные взгляды выражали и правители мелких государств. Так, о ландграфе Гессена Фридрихе ii говорилось, что он хороший государь, который любит своих подданных и любим ими; но при этом его «самой сильной страстью» является армия, а причины этой страсти «коренятся в его любви к деньгам и к прибыли» — при том что Гессен занимал исключительное положение, монополизировав рынок германской «торговли солдатами». И все же, даже если правители подыскивали себе лучших советников, чем когда-либо доселе, и в принципе знали, что им следует делать в смысле управления своими государствами, из этого не следует, что они всегда находили разумные решения. Прусской модели в некоторых отношениях следовала Австрия и даже Гессен; но прусские régie (отку 3 пы), даже построенные по образцу французских ferme générale , в долговременном плане проявили ряд изъянов, и от некоторых экспериментов пришлось отказаться даже в самой Пруссии. Та степень, в которой советники из числа физиократов и камералистов могли реально оценить фискальный потенциал того или иного государства, остается предметом дискуссий. В данном отношении наиболее красноречивые свидетельства нам дают неудачные переговоры о передаче Иосифу ii Баварии в обмен на австрийские Нидерланды. Правда, осуществление такого предприятия всегда было делом рискованным вследствие опасности войны с Пруссией и скрытой оппозиции Франции. Но в 1784– 1785 гг., незадолго до смерти Фридриха ii Прусского, появилась реальная возможность сделать такой ход, который принес бы колоссальные территориальные приращения, а за ними, как признавал сам Иосиф, последовали бы серьезные административные перемены. Однако Кауниц, главный советник Иосифа ii , оказался неспособным понять, в чем заключаются реальные интересы монархии. Пять из шести вопросов, которыми Иосиф ii задавался в связи с этим обменом, относились к сфере финансов, и на каждый он получил отрицательный ответ. В результате обмена император терял 400 тыс. налогоплательщиков, а баварская армия насчитывала всего 4000 человек; кроме того, ожидалась потеря 4 млн талеров дохода, при том что терпимой считалась потеря лишь одного миллиона. Австрийские советники решили, что австрийские Нидерланды приносят больший доход, чем Бавария, и принесут еще больше, если открыть реку Шельду, результатом чего станет возрождение бельгийской торговли. По сути же, они даже не сумели толком решить элементарную задачу на сложение, поскольку по их же цифрам доходы от Баварии могли достигнуть 6,25 млн талеров, что гораздо ближе к аналогичному показателю для австрийских Нидерландов, чем к предполагавшейся величине ежегодных баварских доходов в 4 млн талеров. Согласно реальным цифрам, доходы от Баварии были выше, чем от австрийских Нидерландов (8 млн и 7,6 млн соответственно), и при более компетентной администрации, нежели правительство электора Карла-Теодора, они могли вырасти еще на треть. Потенциальные доходы от Баварии, возможно, были не так велики, как от австрийских Нидерландов, которые являлись еще и источником займов, однако к 1787 г. Иосиф ii уже открыто сожалел о том, что сделка не состоялась, потому что она сулила объединение «ядра» габсбургских земель. Таким образом, близорукая поглощенность фискальными вопросами в ущерб более широким стратегическим и экономическим задачам порой приводила к фатальным ошибкам. В целом, правители xviii века могли ожидать увеличения своих доходов, особенно косвенных налогов, в результате экономического развития и в первую очередь роста населения. Как в своем сочинении «Против Макиавелли» . Конторы откупов (фр.). 4 . i i i 1739 г., так и в «Завещании» 1768 г. Фридрих Великий провозглашал максиму о том, что «реальная мощь государства зависит от численности его подданных». Он противопоставлял безлюдные просторы русской Сибири небольшой, но густонаселенной Голландии, с точки зрения как доходов, так и военной силы — не в пользу первой. Прусское государство тратило серьезные суммы на то, чтобы привлечь в страну иммигрантов, и к 1780-м гг. их число достигло четверти миллиона при общей численности населения в 4,75 млн человек, то есть иммигрантом был каждый двадцатый. Другие государства, в первую очередь Австрия и Россия, последовали прусскому примеру, проводя программы колонизации, и лишь в 1770-е гг. стали выражаться первые серьезные сомнения в разумности поощрения иммиграции вследствие присущей населению тенденции к росту. Взамен образа густонаселенной и процветающей Голландской республики Мальтус в 1798 г. предложил образ густонаселенного и нищего Китая; но еще в 1767 г. сэр Джеймс Стюарт предупреждал, что слишком большое население не сможет обеспечивать себя продовольствием и начнет вымирать от голода, а Неккер в 1775 г. говорил о «всевозможных лишениях», которые влечет за собой излишний рост населения. Однако эти новые идеи вплоть до конца столетия не получили широкого признания. Вне зависимости от нашего отношения к мнению о том, что численность европейского населения с 1320 по 1720 г. если и выросла, то лишь незначительно (при том что это мнение опровергается хотя бы данными по Англии и Швеции, не считая менее очевидных примеров), после 1720 г. реальный рост населения зафиксирован практически повсюду. Население австрийских земель с 1740 по 1787 гг. выросло с 12,7 до 20,7 млн человек. Население Франции, в 1715 г. насчитывавшее 19–20 млн человек, к 1789 г. увеличилось до 29 млн, и в наполеоновскую эпоху сохраняло стабильную численность примерно в 30 млн человек. Наиболее быстрый рост населения наблюдался в Британии, славившейся своей малочисленностью; в период между «славной революцией» и окончанием войны за независимость j оно увеличилось на 46 процентов, составляя к 1815 г. 10–12 млн человек, или 15–17 млн, если учитывать население Ирландии. Правительства были гораздо больше заинтересованы в подсчете своего населения, чем когда-либо прежде; настал век «протоцензуса» (причем проводившегося не только в фискальных целях), хотя реальная перепись населения в современном смысле была изобретена лишь в xix веке. Кроме того, исчерпание продовольственных ресурсов вследствие роста населения стало предметом серьезного политического беспокойства, а вопрос о зерновой «либерализации» — устранения традиционных барьеров в «политике», или управлении торговли зерном, — превратился к середине века в существенный политический фактор, как и создание хлебных складов на случай войны или недорода. Законная цена хлеба стала весьма щекотливым вопросом, поскольку она была связана с проблемой государственного вме 5 шательства в рыночные процессы, что наиболее драматическим образом проявилось в период «максимума» (максимальных цен) во время французской революции. С повышением благосостояния и ростом населения доходной базы государства могло бы стать достаточно для обеспечения его потребностей. Однако этого не случилось из-за негибкости фискальных систем большинства европейских государств, структуры привилегий и налоговых льгот, сомнительных последствий повышенного налогообложения и обострившейся борьбы между государствами за великодержавный статус. Хотя грубые соотношения между численностью населения и армии имеют ограниченную ценность (необходимо также учитывать колебания численности армии, изменение числа иностранцев, служащих в национальных армиях, и т. д.), очевидно, что одни государства были намного милитаризированнее других и что это могло оказать серьезное влияние на их способность к экономическому развитию и на фискальное бремя их подданных. В 1786 г. Пруссия по численности населения стояла на тринадцатом месте в Европе, а по размеру армии — на четвертом (или даже на третьем). Однако даже Фридрих Великий в последние годы жизни начал признавать, что содержание огромной армии является непосильной обузой для экономики и что для государства налогоплательщики и производители товаров гораздо важнее, чем солдаты. Армия Гессена была еще более непропорционально крупной по отношению к численности населения, чем прусская. Поскольку англичане были вынуждены брать на службу гессенских наемников, они тем самым субсидировали гессенских налогоплательщиков, чье налоговое бремя было вдвое меньшим, чем в Пруссии. Собственно, размер налогов на душу населения в Гессене был одним из самых низких во всей Священной Римской империи и даже снижался в течение xviii века. Таким образом, успехи государства и процветание его жителей зависели от организационных способностей его правителей. Благодаря реформам в Пьемонте-Савойе это государство сделалось гораздо более сильным, чем можно было бы ожидать, исходя из его размеров и численности населения. 1. a k l m xiv В конце xvii века наступила эпоха «политической арифметики». Советники старались склонить своих правителей на сторону той или иной финансовой системы, расхваливая их относительные достоинства и сравнивая относительный размер государственных расходов и долгов. «Счастливы те королевства, которые обильны столь опытными политиками», — писал Чарльз Давенант вскоре после Рисвикского мира (1697). Он полагал, что французский долг гораздо выше, чем считалось (долги Англии он оценивал в 17,5 млн фунтов, долги Голлан- 6 . i i i дии в 25 млн и долги Франции в 100 млн фунтов). Эти цифры можно оспаривать, но они важны для нас как напоминание о том, что рост государственной задолженности представлял собой важнейший экзамен на зрелость государства: управление долгом имело критическое значение для воюющих стран еще до 1698 г. и стало одним из ключевых вопросов в затяжных войнах xviii века. Кроме того, государства были озабочены тем, каким образом привести отток средств на покупку товаров и услуг и финансирование заграничных войн в соответствие с притоком аналогичных средств. Отсутствие положительного баланса платежей имело бы катастрофические последствия для обменного курса: «Если у нас не будет средств для оплаты армии, чужестранцы наверняка приберут наше серебро к своим рукам, ибо обменный курс определяется торговым балансом». Континентальные государства Европы в этом отношении обладали преимуществом: их заграничные войны обычно велись на небольшом удалении от страны. Что касается Австрии, Пруссии и России, они могли непосредственно снабжать свои войска; Франция и Соединенные Провинции не всегда практиковали непосредственное снабжение, но большая часть запросов, исходящих из армии, частично или полностью оплачивалась внутри страны. Но и в этом случае чистый отток драгоценных металлов из Франции был нормой во время зарубежных войн xviii века, поскольку во Францию с 1710 по 1792 гг. не ступала нога завоевателя, и ее войска действовали в Германии, северной Италии, Нидерландах и Северной Америке. После «Славной революции» способность Англии оплачивать свои военные издержки зависела почти исключительно от положительного сальдо внешней торговли, что являлось невероятно рискованной политикой, поскольку в xvii в. английская торговля обычно сокращалась во время войны; более того, внешняя торговля терпела убытки из-за каперов и требовала введения конвойной системы, которая порой шла вразрез с потребностями военно-морского флота. xviii век начался и завершился одним и тем же образом: всеевропейской войной, которая имела определяющее значение для расклада как экономической, так и политической власти в глобальном масштабе. Именно в этом заключалась сущность борьбы между Англией (или Великобританией, после принятия в 1707 г. Акта об объединении с Шотландией) и Францией, происходившей с 1689 по 1815 гг. — иногда эту борьбу называют «второй Столетней войной». В Англии после «славной революции», а в особенности после воцарения Ганноверской династии, Франция считалась «естественным и неизбежным врагом». И тем не менее борьба, разумеется, велась между пятью государствами, а не двумя, причем Австрия обычно принимала сторону англичан, а Испания оказывалась во французском лагере; за возможным исключением разве что Испании, Соединенные Провинции были первым европейским государством, сумевшим провести одновременную мобилизацию мощной армии и флота, и они оставались наиболее мо 7 гущественной державой в смысле своего места в мировой экономике по меньшей мере до 1740 г., невзирая на то, что Утрехтский мир представлял собой серьезное политическое поражение Нидерландов и стал для Британии первым важным шагом на пути к смене голландцев в роли доминирующей торговой державы. Девятилетняя война (1689–1697; Десятилетней войной она была для Франции, начавшей ее в конце 1688 г.) представляла собой наиболее систематическую из когда-либо имевших место попыток вести экономическую войну. Англия и Голландская республика, при жизни Вильгельма iii вступив в уникальный союз, имели возможность потребовать от своих союзников, Испании и Австрии, присоединиться к блокаде Франции. Подобного единства в экономической войне больше не наблюдалось до времен наполеоновской Континентальной блокады, которая носила совершенно иной характер. Напротив, Война за испанское наследство, хотя и необходимая с голландской точки зрения по экономическим соображениям, включала в себя лишь частичный запрет на торговлю с Францией и южными Нидерландами и вовсе никакого запрета на торговлю с Испанией и испанской Америкой. Возрожденная после 1706 г. голландская торговая гегемония в южных Нидерландах была непопулярна в Британии и внесла серьезный вклад в развитие англо-голландских трений на последних этапах войны. Когда голландцы по глупости отвергли французские мирные предложения 1709–1710 гг., пожинать экономические преимущества сепаратного мира с Людовиком xiv выпало на долю британского правительства тори. Однако эксплуатация тех возможностей, которые давал контракт asiento — право привилегированного доступа к испанским колониальным владениям — оказалась для Великобритании нелегким делом и привела к англо-испанской войне 1739– 1748 гг. По торговому договору, заключенному в 1750 г. между двумя странами, Британия отказалась от asiento. Однако британское торговое доминирование в xviii веке было обеспечено вовсе не дипломатической победой 1713 года. Оно стало итогом двух последних войн с Людовиком xiv . Во время Войны Аугсбургской лиги английская торговля пребывала в полном упадке, и механизм выплат функционировал только благодаря порче монеты; но даже это не смогло предотвратить серьезного снижения обменного курса в 1695–1696 гг. Англии очень повезло, что вследствие надвигающегося конфликта из-за испанского наследства Франция поспешила заключить мир в тот момент, когда продолжать войну было очень трудно. Напротив, Война за испанское наследство сопровождалась быстрым ростом британского экспорта, в частности благодаря спросу на одежду в разбухших вооруженных силах североевропейских стран (важным рынком для Англии стала Россия, хотя австрийская и шведская армия по уставу обеспечивались отечественной тканью) и временному упадку торговых соперников вследствие прямых военных действий либо учреждения высоких акцизов. 8 . i i i Великая Северная война нарушила балтийскую торговлю зерном и тем самым открыла новые рынки для британского экспорта зерна. Но в первую очередь Война за испанское наследство закрепила за Британией место на двух рынках, действительно имевших большое значение из-за их развития в xviii веке, причем таких, на которых присутствие Британии в 1700 г. оказалось под угрозой: речь идет об Испании и Португалии. Более того, Британия получала доступ к их колониальным рынкам. Поставки в Португалию, Испанию и их колониальные империи в среднем обеспечили половину, а порой и две трети общего роста британского экспорта за первые сорок лет xviii века. И особенно важной для успеха Британии оказалась эксплуатация ею «старейшего союза» с Португалией. В xvii в. Португалия при режиме графа Эрисейра (ум. 1690), «португальского Кольбера», пыталась следовать меркантилистской политике, нацеленной на исключение других стран из своей колониальной торговли. Такая протекционистская политика трещала по швам вследствие развития лузитано-атлантической экономики и роста бразильского золотого экспорта в частности. Благоприятные для Англии условия торговли с Португалией были обеспечены Кромвелем в 1654 г.; но договор Метуэна от 1703 г. фактически превращал Англию в наиболее привилегированного торгового партнера Португалии и гарантировал, что бразильское золото будет попадать в Англию через Португалию. Договор Метуэна открыл для Англии новый источник драгоценных металлов, благодаря чему денежная масса в Британии могла возрастать теми же темпами, что и промышленность с торговлей. Адам Смит был прав, утверждая, что «почти все наше золото… происходит из Португалии». Первоочередное значение этой всемирной экономической конкуренции имело своим следствием то, что военные возможности воюющей державы оценивались не только ее способностью содержать крупную полевую армию, но и наличием флота. В этом состояло одно из различий между перво- и второстепенными державами, признававшееся современниками. Англия занимала уникальное положение, с 1689 г. взяв на себя «двойные обязательства» по содержанию армии и флота, в то время как Франция в 1693 и 1704 гг. была вынуждена отказаться от крупных морских операций. Даже во время Семилетней войны Франция не могла одновременно финансировать и сухопутную армию, и флот, размерами не уступавшие британским. Великобритании же было нелегко выбрать между сухопутной или морской войной: «Безопасность Европы необходима для безопасности Британской империи. Мы не можем их разделять», — заявил лорд Окленд в 1799 г. в парламенте. Расходы на одновременное ведение войны обоих типов, нередко на театре всемирного масштаба, имели колоссальное значение для разбухания государственного бюджета. Вторым фактором, обусловившим рост военных расходов, а следовательно, порождавшим необходимость в увеличении доходов с целью избежания сильной за 9 долженности, стало увеличение размеров армий. Несмотря на многочисленные исторические дискуссии о «революции в военном деле», завершившейся к 1660-м гг., размер отдельных полевых армий редко превышал 25–30 тыс. человек. Напротив, во время последних двух войн Людовика xiv полевые армии численностью в 50–100 тыс. человек стали нормой, причем у французов эти цифры были еще более высокими. Размер французской армии значительно вырос за последние два десятилетия правления Людовика xiv : в 1689 г. в армии насчитывалось 158 тыс. человек, но эта цифра возросла до 273 тыс. человек к 1691 г. и почти до 400 тыс. человек к 1693 г. Такая величина оставалась максимальным размером армии на любых театрах военных действий, допустимым с точки зрения ресурсов французской монархии при «старом режиме», а в реальности размер французских войск в 1710–1792 гг. существенно снизился, обычно не превышая 150–200 тыс. человек. Рост численности армий имел очевидные последствия для государственных расходов: Мале, один из главных чиновников министерства финансов, докладывал, что расходы за 1708–1714 гг. в среднем составляли 218 млн ливров, а во время Голландской войны 1672–1678 гг. эта же цифра равнялась лишь 99 млн ливрам. Продовольственный кризис 1693 г. сократил налоговые поступления государства, и войну удалось продолжить лишь благодаря относительному успеху нового подушного налога, введенного в 1695 г. по примеру австрийских Габсбургов. Угроза французским рубежам означала, что после 1693 г. на содержание большого флота уже не оставалось средств. Этот вакуум заполнили каперы, которые сперва действовали против английского и голландского судоходства; к 1709 г. французская торговля незаконно (но с полученного чуть ранее благословения французского министра финансов Шамийяра) проникла в испанскую империю в Южной Америке, несмотря на союз между Людовиком xiv и Филиппом v. Франция могла финансировать ведение военных действий благодаря масштабному импорту драгоценных металлов, который в 1709 г. составил 30 млн ливров. Провал гертруденбергских мирных переговоров в марте 1710 г. резко обострил вопрос о финансировании войны: к середине июля единственным выходом представлялось продолжение войны — в противном случае Людовику xiv пришлось бы согласиться с требованием противников о том, что Филипп v не должен оставаться королем Испании и при необходимости даже пойти войной на своего внука с целью низвергнуть его с престола. В этих обстоятельствах следовало создать новую армию, но реальной подготовки к этому не велось, поскольку мучительные переговоры предыдущего года зародили надежду на урегулирование по одному из самых серьезных предметов раздора. Кроме . Впоследствии Наполеон оценивал максимальный размер армии при Людовике xiv в 546 тыс. человек в 1692 г.; но такие цифры могли получиться лишь при учете численности милиции. Здесь милиция исключена из расчетов. 10 . i i i того, после беспорядков, вызванных голодом 1709–1710 гг., который получил известность как «великая зима», в распоряжении у правительства не имелось налоговых поступлений для оплаты новой армии. После резкого пересмотра бюджета в конце лета 1710 г. был поспешно принят новый налог — «десятина», — авторы которого вдохновлялись голландским примером. По-видимому, французские министры считали, что успех нового налога имел большое значение для того, чтобы привести противников в чувство; в реальности же победа тори на выборах 1710 г. выбила почву из-под ног у военной партии в Великобритании, и голландцам осталось лишь вымаливать те уступки, которые они могли получить после заключения «коварным Альбионом» сепаратного мира. Слабость французской валюты, особенно по отношению к испанскому дублону или пистолю, играла важнейшую роль в неуспехе французских военных начинаний между 1689 и 1714 гг. В течение обеих войн французское правительство не проводило более-менее последовательной политики регулярной девальвации, в то время как испанское правительство после 1686 г. никогда не отказывалось от своей политики стабилизации денежного обращения. Таким образом, обменный курс, который приобрел большое значение во время Войны за испанское наследство из-за вставшей перед французским правительством необходимости оплачивать пребывание своих войск на Пиренейском полуострове, более-менее последовательно изменялся в пользу Испании; французские товары в Испании продавались за менее привлекательную цену, нежели голландская или английская контрабанда. Так, несмотря на значительный ввоз драгоценного металла во французское королевство через Нант, Сен-Мало, Ла-Рошель и Байонну, одновременно с тем, несмотря на все усилия правительства, существенные суммы нелегально вывозились в Женеву через Лион. В результате королевство столкнулось с острой проблемой нехватки металлической монеты. Для решения этой проблемы использовались самые разные меры, включая введение пресловутых billets de monnaie (ассигнаций) и последующего условия о том, что этими бумагами следует оплатить четверть всех издержек транзакции. После 1708 г. Демарец изъял большую часть этих бумаг из обращения и снял все условия, связанные с их использованием; но дефицит финансов оставался в порядке вещей, и к моменту смерти Людовика xiv в 1715 г. государственный долг находился в районе 1250 млн ливров, хотя Демарец представил эти цифры так, что сразу этого было не понять. В любом случае, соглашения 1713–1714 гг. не стали для Франции большой проблемой, но положение страны было не такое, чтобы и впредь проводить авантюристическую внешнюю политику. Против серьезного финансового бремени в последние годы Войны за испанское наследство решительно восставали привилегированные классы, давая понять, что они согласны платить десятину лишь до окончания войны, и регент 11 в 1717 г. уступил им, отменив этот налог. После этого Лоу в 1718–1720 гг. сделал попытку расширить кредитный рынок, уменьшить сумму государственного долга и заменить металлические деньги бумажными в качестве главного средства обмена. Но чрезмерное увлечение этой системой (а вовсе не сопротивление заинтересованных группировок) привело 17 июля 1720 г. к ее окончательному краху. Доверие к финансовым новшествам и к бумажным деньгам было подорвано на долгие годы , причем Лоу, отнюдь не уменьшив государственный долг, напротив, ухитрился увеличить его примерно на 700 млн ливров и (вопреки своим намерениям) усугубить экономическую депрессию. Даже после волевого сокращения бумажных долгов посредством визы, долг все равно составлял около 1700 млн ливров, и вряд ли стоит сомневаться в том, что прошло целое десятилетие, прежде чем Франция начала оправляться от краха системы Лоу. Ревальвация livre tournois (турского ливра) в 1726 г. и его относительная стабильность вплоть до 1785 г. вернули столь необходимое доверие к валюте, ранее принесенное в жертву агрессивной французской внешней политике. Доходы французского государства в мирное время выросли с 207 млн ливров в 1727 г. примерно до 344 млн в 1768 г., благодаря чему произошло и скромное увеличение реальных доходов, хотя их подсчет зависит от того, как оценивать уровень инфляции. Важнее то, что реальное налоговое бремя мирного времени даже сократилось по сравнению с предыдущей эпохой мира. Вплоть до начала Семилетней войны в 1756 г. военные операции проводились в относительно небольшом масштабе: финансовые потребности Войны за польское наследство (1733–1738) успешно сдерживались, и даже Война за австрийское наследство (1740–1748) не нарушила финансового спокойствия во Франции. В противоположность Франции и несмотря на то, что Филипп v сохранил свой трон, Испанию заставили дорого заплатить за мирные соглашения 1713–1714 гг., по крайней мере в смысле территориальных уступок, но ее финансовое положение было гораздо более благоприятным. Во-первых, вопреки тому, чего можно было бы ожидать, доходы Филиппа v во время Войны за наследство в реальности возросли: общие поступления увеличились с 120,3 млн reales de vellón в 1703–1704 гг. до 229,4 млн в 1713 г., в разгар войны с Каталонией, главным образом благодаря безжалостной эксплуатации таких чрезвычайных источников доходов, как доходы церкви, конфискация собственности бунтовщиков и дополнительные налоги. Вторым, более поздним, аспектом финансового выздоровления стали долговременные последствия отмены привилегий Арагона и Валенсии в 1707 г. и Каталонии в 1714 г. Эти меры позволили к 1718 г. распространить фактическое прямое налогообложение на внешние провинции страны, с которыми никогда . Можно сказать, что отчасти оно было восстановлено с учреждением Caisse d’escompte («Учетная касса») в 1776 г. 12 . i i i не удавалось совладать Габсбургам; к тому же моменту они обеспечивали примерно десятую часть всех доходов правительства. Так, хотя по оценкам на май 1787 г. поступления достигали 84 млн reales de vellón, при том что расходы находились на уровне 122,9 млн, финансовое положение страны в 1717–1718 гг. было намного более надежным: правда, расходы составляли 237,9 млн, но и доходы достигали 236,4 млн. Впоследствии темпы роста доходов упали, и барьер в 300 млн был окончательно превзойден лишь после Войны из-за уха Дженкинса (1739–1748), да и то лишь с целью оплаты возросших расходов. Судьба держав-победительниц 1713–1714 гг. в смысле роста их государственных доходов и стабильности финансов оказалась совершенно разной. Хуже всего среди трех победителей приходилось австрийским Габсбургам, поскольку при Леопольде i и налоги, и кредитные возможности по большей части контролировались властями различных подчиненных территорий. Попытка мобилизовать в 1703 г. армию в 129 тыс. человек привела к колоссальной нагрузке на финансы. Ежегодные военные расходы во время Войны за испанское наследство, по крайней мере после 1704 г., в среднем превышали 20 млн флоринов. При Карле vi , несмотря на новую финансовую политику, реального роста чистых доходов так и не удалось добиться; государственный долг вырос с 52,1 млн флоринов в 1718 г. до 99 млн в 1739 г., и это без учета отдельных долгов правительств Милана и Брюсселя. Австрийские Габсбурги во время войны неизбежно попали в сильнейшую зависимость от иностранных субсидий, в первую очередь от британских, которые выдавались вплоть до дипломатической революции 1756 г. Но и при этом наследственное проклятие Марии-Терезии (которая писала о себе как об оставшейся «без денег, без кредита и без армии») 1740 г. стало предпосылкой для военного поражения в Войне за австрийское наследство и привело к необходимости реформ, проведенных Гаугвицем в 1747–1749 гг. Вторая держава-победительница 1713–1714 гг. (Соединенные Провинции) находилась в лучшей форме, но была жестоко разочарована мирным договором и явно оказалась на грани финансового краха после трех продолжительных и дорогостоящих войн с Францией между 1672 и 1713 гг. Благодаря образцовой отчетности мы точно знаем, что лишь один раз до 1660 г. (в 1643 г.) общий размер голландской армии превышал 60 тыс. человек. В период Голландской войны (1672– 1679 гг.) очень большая численность армии наблюдалась в 1673–1675 гг. (от 88 до 93 тыс. человек), но планка в 100 тыс. человек была преодолена лишь в 1695 г. Напротив, в 1702–1713 гг. размер голландской армии всегда превышал эту цифру; ежегодные военные расходы достигали 24,4 млн гульденов в 1703 г., 27,7 млн в 1708 г. и 29 млн в 1712 г.; неудивительно, что к концу Войны за испанское наследство финансы республики находились в плачевном состоянии. По оценкам 1713 г., война обошлась республике примерно в 128 млн гульденов, в то вре 13 мя как одни лишь проценты по государственному долгу Голландии в промежуток между Неймегенским миром и Утрехтским миром почти удвоились. Более того, рост населения здесь был значительно ниже, чем в других странах, и реальное повышение доходов являлось труднодостижимым. При пересчете на текущие цены налоговые поступления в Голландии с 1725 по 1790 гг. выросли примерно лишь на 25 процентов, а во Франции и Великобритании — примерно на 35 процентов; но в отличие от этих двух монархий, реальные налоговые поступления, то есть при пересчете на постоянные цены, сократились. Более того, как утверждал в 1771 г. Исаак де Пинто, основные факторы, обеспечивавшие голландское верховенство во всемирной торговле, к 1760-м гг. начали отмирать. Бесспорным победителем в 1713 г. оказалась Великобритания, хотя ее государственный долг с 1697 г. более чем удвоился (36,2 млн фунтов в 1713 г. по сравнению с 16,7 млн в 1697 г.), в то время как средний уровень расходов во время войны также был значительно выше, чем в 1690-х гг. (7 млн фунтов вместо 5,5 млн). Средняя общая численность вооруженных сил — то есть и флота, и армии — выросла со 116 с лишним тысяч человек во время Девятилетней войны до 135 с лишним тысяч человек во время Войны за испанское наследство. К моменту финансового краха 1720 г. («Пузырь Южных морей» по меньшей мере отчасти стал откликом на первоначальный успех системы Лоу) государственный долг превышал 50 млн фунтов, но впоследствии сократился в мирные 1720-е и 1730-е годы. Но и при этом к концу Войны за австрийское наследство (1739–1748) долг более чем удвоился по сравнению с 1713 г., составив 76 млн фунтов, и еще раз почти удвоился к окончанию Семилетней войны (1756–1763) — с 74 млн до 132,6 млн фунтов. Однако ни в одной из войн после 1714 г. нефундированная часть государственного долга не превышала 20 процентов, а в большинстве случаев была ниже 10 процентов: произошел решительный поворот к долговременной задолженности (фундированная задолженность впервые превысила нефундированную только в 1712 г.). Средние ежегодные расходы во время Войны за австрийское наследство были лишь незначительно выше, чем во время последней войны с Людовиком xiv (8,78 млн фунтов и 7,06 млн фунтов соответственно), главным образом благодаря сокращению численности армии военного времени. Однако в ходе Семилетней войны расходы более чем удвоились, достигнув среднегодовой цифры в 18 млн фунтов; основную роль здесь сыграло увеличение размера армии, превышавшего 90 тыс. человек. К 1760 г. военные расходы были эквивалентны большей доле национального дохода даже по сравнению с Войной за испанское наследство (15,5 процента по оценке для 1760 г. и 14,5 процента для 1710 г.). Помимо размеров вооруженных сил в военное время, тяжелым бременем для финансов стали субсидии союзникам: 7 млн фунтов за время одной лишь Войны за испанское наследство, и 24,5 млн фунтов между 1702 и 1763 гг. 14 . i i i И если британские субсидии были очень важны для Австрии, а впоследствии и Пруссии, то контракты на поставку наемников для Британии являлись животворной влагой для Гессен-Касселя: в 1702–1763 гг. в качестве оплаты за наемников сюда поступило 25 млн талеров, что равнялось половине всех государственных расходов. «Эти войска — наше Перу, — заявлял в 1745 г. ландграф Вильгельм viii . — Потеряв их, мы лишимся всех своих ресурсов». Британская стратегия стала очевидной еще во время Войны за австрийское наследство: она заключалась в том, чтобы связать французскую мощь войнами в материковой Европе, субсидируя врагов Франции, производить блокаду французских портов с целью пресечь деятельность вражеского флота и использовать британские военно-морские силы для колониальных завоеваний и приобретения ведущей позиции в торговых перевозках, которая определялась исключительно размерами торгового флота. Поначалу эта политика не всегда была успешной: расчленить испанскую империю в 1739 г. оказалось гораздо сложнее, чем ожидалось; эта политика принесла свои плоды лишь во время Семилетней войны, представлявшей собой чистейший пример войны xviii века, в ходе которой британская заморская торговля возрастала, и соответственно росла таможенная выручка — отчасти благодаря заморским военным расходам. 2. a k « b» Великая борьба между Швецией и Россией за господство в восточной Балтике завершилась в 1721 г. решительной победой России. Однако до 1697 г. все как будто указывало на то, что Швеция имеет все шансы на сохранение своей гегемонии в этом регионе. Благодаря учреждению Карлом xi системы indelningsverket (военных поселений) Швеция приобрела постоянную оборонительную армию, которая в мирное время могла финансироваться путем выделения определенных статей дохода на ее содержание; это позволяло войскам жить с земли, не нанося ущерба сельской экономике. Карл xi сократил государственный долг с 44 до 11 млн талеров и держал про запас 2 млн талеров на экстренные расходы. Когда его сыну в 1700 г. объявили войну, система, оставшаяся в наследство от Карла xi , сработала безупречно и вполне оправдала себя громкой победой под Нарвой. В 1701–1709 гг. Карлу xii пришлось вернуться к традиционной политике «война кормит саму себя»; после поражения под Полтавой в 1709 г. она едва ли была возможна, хотя агрессивные финансовые мероприятия позволили продолжать войну. Гибель короля в 1718 г. привела к наступлению на следующий год «эпохи свободы», поскольку Фридрих Гессенский добился для своей жены права наследования лишь ценой отказа от абсолютной монархии. На этом шведские военные авантюры закончились, не в последнюю очередь 15 по финансовым причинам: расходы в 1718 г. примерно в 12 раз превышали постоянные поступления (расходы составляли 34,7 млн серебряных талеров, а постоянные поступления — менее половины от суммы в 6,89 млн для 1696 года). Еще пагубнее чисто бюджетных последствий войны оказался ущерб для экономики, вызванный обезлюдением страны вследствие призыва солдат на заморскую службу. Швеция покинула клуб великих держав, но шведская модель успела продемонстрировать, что государство с относительно небольшим населением может стать серьезной военной державой и добиться региональной гегемонии благодаря эффективному использованию своих ресурсов и высокому уровню мобилизации населения в ряды действующей армии. Из держав-победительниц 1719–1721 гг. Дания обладала самой крупной армией по отношению к численности населения; в отличие от Пруссии, у нее имелся также значительный флот. На Данию оказала влияние шведская модель, но в отличие от северной соседки, абсолютистский режим с высоким уровнем мобилизации оставался в Дании нормой в течение xviii века. Фредерик iv во время Войны за испанское наследство отправил английскому и голландскому правительствам 12 тыс. наемников в ответ на обещание военно-морской помощи в случае необходимости. Датские расходы выросли с 4,5 млн риксталеров в 1710 г. до 5,8 млн в 1720 г.; затраты на армию в этот период слегка сократились, но зато существенно выросли затраты на флот и администрацию. Дания во время Великой Северной войны отличалась от других балтийских государств тем, что испытывала в эти годы серьезное приращение бюджета: общие поступления возросли с 5,3 млн риксталеров в 1710 г. до 6,9 млн в 1720 г. Существенную роль в создании этого прироста играли заграничные военные субсидии: самую большую долю доходной части бюджета составляли поступления из различных источников (2,7 млн в 1710 г. и 3 млн в 1720 г.). Но и при этом государственный долг за время войны увеличился, обменный курс упал, а в 1713 г. впервые были выпущены бумажные деньги. После 1721 г. расходы на армию сократились до уровня ниже 2 млн риксталеров в год и (в зависимости от того, каким источникам верить) не превышали этой суммы до 1762 г. Несмотря на колебания в балтийской торговле, пошлина за проход кораблей через Зунд оставалась в xviii в. важным источником поступлений для датской короны. Вплоть до русской победы под Полтавой в 1709 г., противостояние с Швецией поглощало почти все ресурсы России: в 1705 году, самом напряженном для русских, 96 процентов российского бюджета уходило на ведение войны. К 1710 г. эта цифра сократилась до 80 процентов. О масштабах кризиса дает представление тот факт, что в том же году лишь 4⁄5 всех российских расходов обеспечивалось за счет сбора налогов при почти полном отсутствии кредита. Дефицит приходилось преодолевать порчей монеты, что являлось основным источником доходов в 1701–1709 гг. (который принес около 4,4 млн рублей), а впоследствии 16 . i i i и введением дополнительных налогов. Лишь в конце правления Петра, по бюджету за 1725 г., общие расходы на военные нужды (то есть на содержание армии и флота) сократились до 6,54 млн рублей, что составляло 64,5 процента общих расходов, которые по-прежнему почти на 2 млн превышали общие поступления, составлявшие 8,5 млн рублей. Военная катастрофа, постигшая Петра под Нарвой в 1700 г., научила его ценить шведскую модель в смысле как фискальной, так и военной администрации; со слов немца Генриха Фика царь узнал о достижениях Карла xi и получил подробную информацию об устройстве шведского государства. После русской морской победы при Гангуте в 1714 г. Петр i учредил в России видоизмененную шведскую систему администрации, в частности, основав коллегии, шесть из которых представляли собой исключительно фискальные учреждения или имели в числе своих задач сбор налогов. Аналогичным образом Табель о рангах была составлена в 1722 г. на основе шведского и прусского опыта, закрепив преимущество военной карьеры для дворян перед штатской и ключевую роль главы вооруженных сил в принятии решений. Самым очевидным последствием двадцатилетней войны со Швецией стала возросшая и более не снижавшаяся численность армии: даже фискальный кризис не привел к ее роспуску в 1724 г.; вместо этого офицеров отправили в неоплаченные отпуска. Амбиции питаются успехами, но необходимым условием для русских территориальных амбиций на западе являлся крах польской державы. В Польше признавалась необходимость срочных фискальных реформ, но они так и не были осуществлены после 1717 г., когда страна попала в зависимость от России. «Молчаливый сейм» того года установил государственные доходы на уровне 10 млн злотых в год — сумма, слишком маленькая для военных потребностей в случае противостояния с Россией; размер армии в любом случае ограничивался 24 тыс. человек. Бывшая великая держава, по крайней мере до мира 1686 г., подтвердившего территориальные потери по договору 1667 г., была низведена до статуса потенциальной добычи для стремившихся расчленить ее держав. И государство, и армия были слабыми в Польше из-за того, что знать не хотела платить налоги. Лишь в 1788 г. Польша решила создать армию в 100 тысяч человек, что составляло 1 процент населения; и окружающие Польшу державы окончательно поделили ее между собой в 1793 г. именно из-за того, что сейм 1788–1792 гг. пытался модернизировать государство и армию. «Просвещенный деспотизм» не следует узко интерпретировать в фискальных и экономических терминах, поскольку он содержал в себе концептуальный элемент, непосредственно связанный с распространением идей Просвещения и с влиянием камерализма. Однако вряд ли можно сомневаться в том, что по крайней мере в случае двух крупнейших немецких государств — сперва Пруссии, а затем и Австрии — он представлял собой попытку догнать в политическом, фис 17 кальном и экономическом отношении другие европейские страны, такие как Великобританию и Нидерланды. Великобритания и Франция оставались великими державами, с которыми никто не мог сравниться. Предметом соперничества стало первенство во втором ряду держав и конкуренция за союз с двумя этими великими державами. Фридрих ii похвалялся, что такие государства, как Пруссия и Австрия, стоят выше стран третьей категории, которые не могут финансировать независимую внешнюю политику без заграничных субсидий. В этом смысле большинство прочих немецких государств попадало именно в третью категорию: там просвещенный деспотизм принимал не совсем такие формы, как в Австрии и Пруссии, или же вообще никак не проявлялся. Поначалу соперничество между Австрией и Пруссией затушевывалось военным сотрудничеством во время Войны за испанское наследство (благодаря чему электор Фридрих iii получил в 1701 г. титул короля Пруссии) и тем, что Фридрих-Вильгельм i (1713–1740) обычно придерживался проавстрийской политики. Хотя историки справедливо уделяют большое внимание предшествовавшим достижениям «великого электора» Фридриха-Вильгельма, учредившего постоянное налогообложение и Генеральный военный комиссариат, нередко забывается, что Пруссия, как и Россия, поначалу пыталась устроить военную и фискальную администрацию по шведскому образцу; на этом пути был достигнут ряд успехов, но в конце xviii века прусская кантональная система обнаружила те же недостатки, что и шведская система того же периода. Содержание постоянной армии в 190 тыс. человек к правлению Фридриха ii превратилось в серьезную обузу для прусской экономики. Австрийская армия была на треть крупнее, но Пруссия содержала вдвое больше солдат по отношению к численности населения. Фридрих-Вильгельм i в 1722–1723 гг. создал ключевой институт — Генеральный директорат (но он так и не сумел учредить военную коллегию на шведский и русский манер, которая появилась в Пруссии лишь в 1787 г.); в 1733 г. была введена кантональная система рекрутирования войск. Подобно Карлу xi после 1679 г., прусский король избегал войн и к моменту своей смерти в 1740 г. скопил в государственной казне (Staatsschatz) 10 млн рейхсталеров в золотой монете. Это обстоятельство, как и сильная армия, которая считалась в Европе чрезмерно большой для государства с таким небольшим населением, как Пруссия, позволили Фридриху ii захватить в 1740 г. Силезию, что решительно изменило течение европейской истории в xviii веке. После оккупации Силезии там была учреждена реформированная фискальная система: налоги «на прусский манер» оказались более тяжелыми, чем прежде, но и более справедливыми, хотя все экономические выгоды получала Пруссия, а не Силезия. Две трети военных резервов Фридриха было истрачено за два года Первой Силезской войны; к 1745 г. в казне насчитывалось 6 млн рейхсталеров, хотя Вторая Силезская война обошлась в 12 миллионов. К 1752 г. Силезия обеспечивала 28 процен- 18 . i i i тов прусских доходов, а впоследствии она единственная из всех прусских провинций регулярно платила налоги во время Семилетней войны. Подготовка к войне и финансовые поступления позволили к 1756 г. восстановить прусский денежный резерв, на этот раз составлявший 20 млн рейхсталеров. Мария-Терезия в ответ на потерю Силезии решилась вести за ее возвращение борьбу не на жизнь, а на смерть, что имело своим следствием две неудачные войны в 1740-х гг. На реформаторских планах Гаугвица 1749 г., которые должны были стать поворотной точкой в финансовых и военных делах габсбургской монархии, отразились не только взгляды камералистов, но и его опыт пребывания в должности президента Королевского бюро в остатках австрийской Силезии после 1743 г., когда он был хорошо осведомлен о прусских реформах, осуществлявшихся по ту сторону границы. Гаугвиц указывал, что при прусском управлении Силезия стала платить почти вдвое больше налогов, при том что реальная фискальная нагрузка уменьшилась из-за повышения фискальной эффективности. Австрийским ответом на прусский Генеральный директорат стал Директориум, но первостепенной целью являлось создание постоянной армии мирного времени численностью в 108 тыс. человек, которую предполагалось финансировать за счет повышения налогов, собираемых с наследственных земель. Эта система самым жалким образом провалилась в ходе великого испытания силы — Семилетней войны. Та обошлась Пруссии в 140 млн рейхсталеров. Хотя русские войска (в союзе с Австрией) большую часть войны занимали Восточную Пруссию, Пруссия в свою очередь оккупировала Саксонию, Мекленбург и шведскую Померанию, что принесло ей 53 млн рейхсталеров. Британские субсидии в размере 670 тыс. фунтов в год в целом составили 27,5 млн рейхсталеров. Прежние сбережения, повышение налогов, решительная порча монеты оккупированных государств (а к концу войны и самой Пруссии), жестокая эксплуатация Саксонии и невыплата жалованья чиновникам помогли собрать средства и сократить расходы. В 1763 г. Фридрих ii вышел из войны, имея значительный запас (Dispositionsfond) в 14,4 млн рейхсталеров. В другом лагере наблюдалась совершенно иная картина. Русским войскам в Восточной Пруссии к моменту восшествия Екатерины ii на престол перестали платить жалованье. Государственные расходы в 1762 г. достигали 16 млн рублей, из которых 73,7 процента уходило на армию. На следующий год расходы выросли до 17,2 млн рублей. Хотя после заключения мира доходы быстро увеличились, их все равно не хватало для покрытия дефицита, который в 1763 г. составлял около 2,7 млн рублей, без учета недоимок. Бумажные деньги предполагал ввести Петр iii в мае 1762 г., но Екатерина, взойдя на престол, не стала проводить в жизнь изданный им закон. Австрийские владения к концу войны находились в еще более отчаянном финансовом положении. После борьбы за власть между Гаугвицем и Кауницем в 1761 г. Дирек 19 ториум Гаугвица лишился большинства своих военных и финансовых функций, за исключением сбора «контрибуций». Процесс принятия решений центральным правительством пришлось видоизменить в целях соответствия требованиям войны. В то время как в 1704 г., в год битвы при Бленхейме, численность австрийской армии достигла 138 тыс. человек, а новый пик в 162 тыс. человек был зафиксирован во время Турецкой войны и последующих лет (1716–1720), уже в первые годы Семилетней войны размер армии превышал 200 тыс. человек. Лишь в 1762– 1763 гг. он снизился до уровня примерно в 180 тыс. человек. В то время как общие военные расходы во время Войны за австрийское наследство никогда не превышали 26,5 млн флоринов в год, а цифры за 1744– 1746 гг. были значительно выше, чем для других лет, военные расходы в ходе Семилетней войны достигали уровня 40 млн флоринов в год, регулярно превышая 32 млн флоринов. Такое повышение издержек требовало существенного увеличения фискального бремени, хотя австрийское правительство не стало по примеру прусского прибегать к порче монеты. Вместо этого оно в 1761–1763 гг. выпускало все больше бумажных денег, и бумажный кредит за эти годы вырос до 18 млн флоринов, что равнялось сумме, необходимой для возмещения по крайней мере половины всех расходов на целую кампанию; выплата процентов по займам была отсрочена, хотя на эти цели уходила все большая доля контрибуции и новых военных налогов. Франция сменила Великобританию в роли поставщика необходимых военных субсидий, оказавшись в этом смысле достаточно надежным союзником: в 1760– 1762 гг. она выплачивала 7,5 млн ливров в год; однако очень высокие требования, изначально заложенные в соглашение 1757 г. (12 млн флоринов в год), не могли быть и не были удовлетворены. Так или иначе, к 1763 г. австрийское правительство разочаровалось в субсидиях как в средстве финансирования будущих войн и взамен искало способы увеличения национального богатства, которое бы имело своим следствием повышение налоговых поступлений и рост государственной кредитоспособности. 3. k b В смысле англо-бурбонского соперничества Семилетняя война представляла собой борьбу за экономическое и торговое главенство, в которой Британия одержала убедительную победу. Но ни одно государство, претендовавшее на статус глобальной державы, не могло смириться с таким положением вещей. Соответственно, Франция взяла на себя инициативу сравнительного рассмотрения различных вариантов финансирования будущего конфликта, делая особый упор на реформаторском опыте некоторых итальянских государств. Проведенное ранее во Франции по приказу Бертена изучение обменных кур- 20 . i i i сов дает разумные основания для сопоставления других валют с livre tournois, и у нас есть возможность существенно раздвинуть временные рамки этого сопоставления. В смысле одних только фискальных ресурсов (то есть за исключением кредита) Франция в 1763 г. по-прежнему занимала первое место, имея годовой доход в 321 млн ливров. Далее следовала Англия с 224 млн ливров. Испанский министр финансов, под чьим наблюдением составлялся отчет для французского правительства, не приводит никакой оценки испанских фискальных поступлений, но их можно оценить в 131,8 млн ливров. По французским данным на третьем месте стояли Соединенные Провинции с доходом в 120 млн ливров, но эта цифра учитывает общее фискальное бремя (то есть «общие поступления Генеральных Штатов и городов»); поступления, находившиеся в распоряжении государства, едва ли превышали 85 млн ливров. В спину Соединенным Провинциям дышали австрийские Габсбурги с 92 млн ливров, без учета Ломбардии и австрийских Нидерландов. На подъеме находилась Пруссия, чьи доходы не учитываются во французском отчете — но как считается, они равнялись 49 млн ливрам. Однако они возрастали так быстро, что к моменту смерти Фридриха ii в 1768 г. могли оцениваться почти в 90 млн ливров, в то время как голландские доходы застыли практически на одном уровне. Из числа других европейских государств, упомянутых в отчете 1763 г., лишь Португалия с доходами в районе 50 млн ливров находилась в положении, сопоставимом с прусским, но финансы этой страны были отягощены фиксированными статьями расходов. Швеция и Финляндия с 23 млн ливров, Неаполь с 27 млн, Дания и Норвегия с 24 млн значительно отставали от Пруссии, как и Папское государство (около 13 млн) и другие немецкие государства — такие как Саксония, Ганновер и Бавария. Хотя доклады французских зарубежных представителей свидетельствуют о постоянном повышении налогов в этих странах, лишь в немногих докладах делается попытка провести анализ подушного налогового бремени из-за отсутствия надежных данных о численности населения. Из французского исследования можно вывести явную взаимозависимость между высоким уровнем денежного оборота и наличием утонченной, высокоразвитой фискальной системы. В некоторых странах — таких как Папское государство и Швеция — денежный оборот оценивался как чрезвычайно низкий, практически отсутствующий. Напротив, высокий уровень денежного оборота в Великобритании и Соединенных Провинциях способствовал росту колоссальной фундированной задолженности (оценивавшейся соответственно в 2964 млн и 2100 млн ливров). Увеличение государственного долга, в свою очередь, стимулировало денежное обращение, как признавал в 1771 г. Исаак де Пинто. Даже некоторые мелкие итальянские княжества, такие как Тоскана, имели значительный государственный долг. Эта тенденция к накоплению долгов, являясь неизбежным последствием зависимости от займов вследствие невозможности финан 21 сировать войны за счет новых налогов, стала общеевропейским явлением и привела к так называемой пандемии банкротств, охватившей Европу во время революционных и наполеоновских войн, истоки которой следует искать в значительном несоответствии между долгами и поступлениями во второй половине xviii века. Объясняя это несоответствие, в первую очередь следует учесть те препятствия, с которыми столкнулись европейские правительства в попытке реформировать структуру налогов, упразднить привилегии и обложить налогами новые формы богатства. Во Франции такие попытки самым жалким образом провалились вследствие указаний оппозиции на то, что правительство не имеет права бесконтрольно обкладывать население налогами. К 1763 г. стало ясно, что во Франции требуется радикальная налоговая реформа, поскольку Семилетняя война привела королевские финансы в полное расстройство. Влияние физиократов на французское правительство достигло максимальной степени именно в тот момент, когда было отменено учреждение кадастра, то есть ко времени отставки Бертена с поста генерального контролера финансов в 1763 г. Бертен составил проект либерализации торговли зерном, полностью воплощенный в жизнь сменившим его Л’Аверди. Первоначально либерализацию хлебного рынка предполагалось провести одновременно с учреждением национального кадастра, и ее не следует понимать как суррогат фундаментальной фискальной реформы или прелюдию к ней. Более того, политика зерновой либерализации получала (в отличие от кадастра) достаточную поддержку в парламентах. Успехи в сфере экономической реформы могли бы расчистить путь к будущим фискальным и институциональным реформам. Но провал зерновой либерализации — наметившийся во время неурожая 1765 г. и ставший очевидным к моменту отмены этой политики при Террэ — предотвратил возможность какой-либо будущей фискальной реформы в противоположность реформе структурной организации королевских финансов . Предложенный Террэ территориальный налог (impôt territorial) представлял собой мертворожденное детище; но осуществленное им частичное списание долга и превращение тонтин в пожизненные аннуитеты надолго оставили горький привкус, особенно у держателей тонтин. Тюрго, из всех генеральных контролеров наиболее близкий к физиократам , заступив на должность в 1774 г. после отставки Террэ, при новом короле, в свою очередь, готовом отказаться от политики последне. Проведенная в 1681 г. Кольбером реформа косвенных налогов, продержавшаяся до конца «старого режима», продемонстрировала возможность осуществления серьезной структурной реформы без изменения природы самих налогов или их влияния на базу налогообложения. . Людовик xvi именно по этой причине был против его назначения: „Il est bien systématique, et il est en liaison avec les Encyclopédistes.” (“Он такой систематик и связан с энциклопедистами“). Тюрго продержался на своем посту лишь с августа 1774 по май 1776 г. 22 . i i i го, оказался не в состоянии осуществить широкомасштабные реформы, потому что к тому времени идеи реформаторов были по большей части дискредитированы. И все же, если фискальная реформа в целом провалилась, то колониальная торговля после окончания Семилетней войны процветала: если в период 1730–1740 и 1740–1754 гг. французская колониальная торговля демонстрировала существенный рост (соответственно на 119 и 71 процент), то самое большое приращение наблюдалось не в этом секторе (более сильно выросли левантийская торговля в первый период и северная торговля). Однако в период 1765 –1776 гг. французская колониальная торговля росла быстрее, чем все прочие сектора французской торговли — уровень ее роста составлял 76,7 процента, при том что торговля с Испанией сократилась на 6 процентов. В стоимостном выражении колониальная торговля теперь почти в три раза превышала любой другой сектор торговли. Для британских колоний торговля с испанскими поселениями являлась настоятельным императивом, поскольку те служили для них основным источником наличности. Захват вражеских колониальных владений считался желательным не только с целью удержания их как рынков и источников поступлений, но и потому что они, в свою очередь, усиливали финансовую мощь врага, будь то Франция или Испания. Общий баланс ввоза и вывоза драгоценных металлов оставался в Европе положительным в течение всего xviii века: золото и серебро утекало из Европы главным образом в качестве платы за дальневосточные товары, но этот экспорт более чем перекрывался импортом из Америки . Но Британия находилась в лучшем положении по сравнению с другими европейскими державами за возможным исключением голландцев, чья дальневосточная торговля — по крайней мере до Четвертой англоголландской войны в 1780-х гг. — также процветала благодаря поражению, нанесенному англичанами французам. Добыча золота в Бразилии достигла максимума в 1726–1730 гг. и после 1750-х гг. испытала заметный спад, как и приток золота в Великобританию. Более того, против экономической зависимости Португалии от Великобритании выступал маркиз Помбал, министр в годы правления Жозе i (1750–1777), который проводил политику, сопоставимую с просвещенным деспотизмом в других странах. После смерти короля Помбал был смещен со своего поста, и от некоторых направлений его политики отказались; но в целом Португалия процветала благодаря своему нейтралитету в англофранцузских войнах 1778–1783 и 1793–1802 гг., причем ее экономическая зависимость от Великобритании в этот период снизилась. Та энергия, с какой Испания и Франция возобновили свою колониальную политику, не имела бы особого значения для Великобритании, если бы она в 1763–1783 гг. не испытывала кризис в отношениях со сво. В конкретный момент в конкретной стране, такой как Великобритания, этот баланс вполне мог быть отрицательным. 23 ей первой колониальной империей в Америке, который привел к потере тринадцати колоний. Этот кризис был спровоцирован британской попыткой сделать эти самоуправляющиеся колонии «управляемыми». С 1763 по 1778 гг. британский (фактически имперский) парламент претендовал на право вводить прямые налоги в американских колониях в форме гербового сбора, который перестал практиковаться с 1778 г. вследствие размаха охватившего колонии восстания. Когда американская революция близилась к завершению, Уильям Нокс заметил: «Лучше вообще не иметь колоний, чем не иметь возможности подчинить их военно-морской мощи и торговым интересам Великобритании». Заявленной целью введенной в 1767 г. пресловутой пошлины Тауншенда было упорядочение торговли, а не выручка дополнительных средств; но в случае неудачи со сбором этой пошлины представлялось «абсурдным даже думать о предотвращении контрабанды или сборе каких-либо налогов, как старых, так и новых». Прежние налоги, такие как таможенные пошлины, по сути представляли собой побочный продукт мер, вводившихся с другими целями, и в любом случае доля налогов, уплачиваемых континентальными американскими колониями по сравнению с вест-индскими, представляла собой ничтожно малую величину; но возникшая после 1763 г. потребность содержать в американских колониях постоянные войска, ежегодные затраты на которые оценивались цифрой примерно в 224 тыс. фунтов (гражданская администрация обходилась всего в 50 тыс.), имела своим следствием необходимость введения в колониях новых налогов для оплаты этих расходов. С началом американской войны в 1775 г. британское правительство столкнулось с беспрецедентными трудностями в деле обеспечения продовольствием, одеждой, оружием и боеприпасами крупных сил, находившихся примерно в 3000 миль от основных источников снабжения. В данном случае, в противоположность прежним войнам, британские силы примерно в 60 тыс. человек (возросшие до 92 тыс. человек в 1780– 1781 гг.) остались без местных источников снабжения из-за «отказа всех колоний удовлетворять потребности королевских войск по всем статьям снабжения, необходимым для их существования». Ключевое значение имело отношение англичан к этой революции: никто не ожидал затяжной кампании, и каждый раз все думали, что кампания этого года станет последней. Ожидание скорой победы вело и к тому, что торговые ограничения проводились в жизнь не слишком энергично. С вступлением в войну в 1778 г. Франции, а на следующий год и Испании британский флот стал испытывать серьезное перенапряжение сил. Еще сильнее осложняла британскую политику блокады враждебность нейтральных государств, которая в 1780 г. втянула в войну Соединенные Провинции. После нескольких лет пребывания крупной армии в Америке и Вест-Индии стало ясно, что методы контрактов, применявшиеся для ее снабжения, затратны и неэффективны. Кроме того, не хватало морского транспорта для обеспечения постоянного притока людей и продовольствия: 24 . i i i если бы война продолжилась и в 1783 г., британская армия в Америке вполне могла сдаться из-за голода. Это была первая (и единственная) война в промежутке между 1689 и 1815 гг., в которой Великобритания сражалась одновременно против Испании и Франции при отсутствии другой «войны или цели, которые бы отвлекали их внимание и ресурсы. Мы же, к несчастью, получили на свою голову еще одну войну, исчерпавшую наши финансы и требовавшую отвлечения существенной части нашего флота и армии…» Георг iii в сентябре 1780 г. утешался тем, что французские и испанские финансы находятся в печальном состоянии; «эта война, как и предыдущая, окажется войной кредитов». Несмотря на пресловутую «экономию государственных средств» лордом Нортом, и главным образом из-за взлетевших до небес расходов на флот война за американскую независимость ежегодно обходилась в рекордные суммы (в среднем по 20,3 млн фунтов в год) и привела к существенному повышению налогов: земельный налог после 1775 г. никогда не опускался ниже трех шиллингов с фунта, в течение почти всей войны составляя четыре шиллинга с фунта; но куда большее значение имели акцизы, которые к концу войны принесли почти 6,5 млн фунтов выручки. Но разрыв между расходами и поступлениями все равно составлял в среднем по 8 млн фунтов в год. Поэтому едва ли удивительно, что государственный долг почти удвоился, с 127,3 млн фунтов в начале войны увеличившись до 242,9 млн в 1783 г., поскольку более 80 процентов дополнительных поступлений на финансирование войны составляли займы. Расходы страны во время войны составляли приблизительно 124 млн фунтов, что почти на четверть больше всего национального дохода за 1780 г. Реальный объем налогообложения за время войны вырос почти на треть. Французский министр иностранных дел Верженн знал, что ведение войны невозможно без получения кредита: «Поистине это война наличности (une guerre d’ecus), и есть основания опасаться, что если она затянется, мы не последними останемся без средств». Он надеялся, что Франция вернет себе «общественное доверие, сильно подорванное превратностями последней войны, а также, возможно, иными причинами» . Тюрго, генеральный контролер в момент воцарения Людовика xvi , выступал против войны, потому что для него самым важным были внутрифранцузские реформы. Он полагал, что пример Америки ставит крест на всей колониальной системе, что французские колонии не стоят того, чтобы из-за них воевать, что Англия, а не Франция, станет пожинать плоды новой экономической системы, которая может выстроиться после заключения мира, и что «первый же пушечный выстрел приведет правительство Вашего Величества к банкротству». Верженн нашел лучшие аргументы, и в конечном счете проро. Ср. аргумент Людовика xvi о том, что война велась «не с целью какой-либо территориальной агрессии с нашей стороны, а исключительно ради разрушения их торговли и подрыва их мощи…» 25 чества Тюрго о крахе колониальной системы не оправдались. Американские колонии получили независимость, однако Британия успешно отстояла свои прочие колонии от посягательств Бурбонов. Сама она снова сравнительно легко отделалась в этой последней большой войне при «старом режиме», хотя была вынуждена смириться с серьезным ущербом для «репутации». Таким образом, возврат к статус-кво, сложившемуся до 1763 года, был закрыт. Хотя кое-кто утверждал, что американские колонии к моменту своей независимости не приносили особой экономической пользы имперской державе, в реальности дело обстояло совершенно иначе (в Америку в 1772–1773 гг. направлялось 37 процентов британского экспорта по сравнению всего с 10 процентами в 1700–1701 гг.). Колонисты действительно были не в таком положении, чтобы отказываться от торговли с Британией, особенно осуществлявшейся через Вест-Индию (и великие замыслы французов отобрать этот рынок у англичан потерпели полный крах); более того, их финансы находились в отчаянном положении, и в 1780 г. бумажные деньги, выпускавшиеся Конгрессом в течение всей войны, фактически обесценились, что послужило серьезным предзнаменованием событий в Европе во время революционных и наполеоновских войн. Лишь после отчета Александра Гамильтона о государственном кредите в 1790 г. ситуация окончательно стабилизировалась, хотя, разумеется, едва ли можно сравнивать те 80 с чем-то миллионов долларов, находившиеся в распоряжении правительства Гамильтона, с приблизительно 1275 млн долларов, имевшихся у правительства Питта в Великобритании. Но в первую очередь были решительно пресечены какие-либо французские колониальные захваты за счет Британии. Победа Клайва под Плесси в 1757 г. превратила Индию в «настоящую» колонию, чистый доход от которой к 1766–1769 гг. составлял 7,5 млн фунтов. Французская попытка взять в 1781–1782 гг. реванш за итоги Семилетней войны в Индии провалилась. Неккер во время своего первого министерского срока (1776–1781) не сумел осуществить иных мер, помимо чисто организационных изменений в методе сбора прямых налогов; сущность самих налогов осталась прежней. Под влиянием британского примера и идей Исаака де Пинто о необходимости завоевать общественное доверие путем издания отчетов Неккер финансировал участие Франции в войне за независимость j — которое за восемь лет обошлось по меньшей мере в миллиард ливров — в основном посредством займов, а не повышения налогов: сумма этих займов за время первого министерского срока Неккера составила 530 млн ливров. Часть затрат на обслуживание долга оплачивалась из резервов казны, но все это к 1788 г. оставило тяжелое долговое наследие и в первую очередь повлекло за собой высокие расходы на погашение долга. К концу пребывания Неккера в должности стало ясно, что такая политика сама по себе больше не работает и что налоги придется повышать. В Великобритании получили оши- 26 . i i i бочное донесение о том, что Неккер в 1781 г. был отправлен в отставку из-за его противодействия дальнейшим военным расходам: «Лучшие люди считают уход г-на Неккера смертельным ударом по репутации Франции и независимости Америки». По Великобритании широко разошлись надежды на финансовый крах Франции, но даже Верженн в 1781 г. считал его вполне вероятным. В реальности же, хотя Неккер участвовал в неудачных мирных переговорах, нет никаких доказательств того, что он выступал против увеличения налогов после того, как все сбережения и все возможные источники займов были исчерпаны. Его отставка произошла из-за отказа короля удовлетворить его требование о допуске к работе в conseil d’en haut (государственном совете), которое, в свою очередь, было вызвано ростом расходов на содержание флота. Мирабо впоследствии поносил Неккера за использование им пожизненных рент (rentes viageres), очень дорого обходившихся казне, хотя был ли средний уровень в 6 процентов годовых чрезмерным по сравнению с тем, что выплачивали предшественники Неккера, или по сравнению с преобладавшими на тот момент рыночными условиями, остается вопросом спорным . Французское правительство в 1782 г. издало отчет, в котором оценивались сравнительные военные расходы Великобритании и Франции и их влияние на государственный долг обеих стран. По оценке французского правительства, исходя из обменного курса в 23,17 ливра за 1 фунт стерлингов, британские вооруженные силы за семь лет, начиная с 1776 г., обошлись в 2834 млн ливров; если вычесть из этой цифры обычные расходы мирного времени, военные затраты составят 2270,5 млн ливров. На французские вооруженные силы за тот же период было израсходовано 1732,5 млн ливров; опять же при вычете стандартных расходов мирного времени получалось, что военные затраты составили 928,9 млн ливров. Таким образом, британские военные расходы превышали французские более чем вдвое, поскольку Франция не вела сухопутной войны наряду с морской. Аналогичным образом обстояла и ситуация с государственным долгом. Британская задолженность, включая казначейские векселя, долговые расписки, выдававшиеся вооруженными силами, и недоимки, оценивалась в 5532 млн ливров при ежегодных процентах в 220 млн ливров (цифры для одного лишь консолидированного долга составляли соответственно 4538 млн и 170 млн ливров). Напротив, французский долг (включая займы 1782 г.) составлял 3315,1 млн ливров, на которые ежегодно накапливались проценты в 165,4 млн ливров. Эти подсчеты сохраняли силу вплоть до начала французской революции. Французский долг в стоимостном выражении был меньше британского, причем значительно меньше в смысле его отношения к валовому национальному . Хотя совсем другой вопрос — в полной ли мере французское правительство осознавало растущую финансовую сложность рынка. 27 продукту (56 процентов по сравнению со 182 процентами) и к подушному доходу. Однако серьезность долгов измеряется тем, насколько легко их обслуживать. Долговые проценты во Франции по отношению к размеру долга были намного существеннее, чем в Великобритании (7,5 процента и 3,8 процента соответственно), а отношение затрат на обслуживание долга к налоговым поступлениям было еще выше (62 процента по сравнению с 56 процентами). Франция последовательно выделяла меньшую долю налоговых поступлений на выплату процентов по долгам, но не получала никакой выгоды от этой политики, поскольку Великобритания выплачивала свой государственный долг, поднимая налоги, а Франция была вынуждена сдерживать рост своей задолженности путем частичных дефолтов, таких как в 1770 г. Одним из последствий такой традиции частичных дефолтов до 1774 г. являлась более высокая процентная ставка по сравнению с британской: у рынка отсутствовало доверие к французской короне как к должнику. Тем самым «риск дефолта» хронически повышал стоимость французского долга по сравнению с британским. До тех пор, пока Питт в 1783 г. не стал канцлером казначейства, Британия не возмещала существенную долю своего долга через амортизационный фонд, однако почти 30 процентов расходов на обслуживание французского долга уходило на его погашение. После 1783 г. британская политика изменилась: Питт превратил морские долговые обязательства и прочие краткосрочные долги в постоянную и непогашаемую задолженность, а кроме того, использовал новые налоговые поступления как для выплаты процентов по долгам, так и для частичного погашения основной суммы долга. В этом деле ему помогло повышение ежегодных доходов, составлявших в 1782– 1784 гг. около 12 млн фунтов, а в 1790–1792 гг. более 16 млн фунтов. Реформированный в 1786 г. амортизационный фонд предусматривал погашение долга в течение 35 лет, что способствовало гармонизации отношений между Великобританией и Францией, проявившейся в англо-французском торговом договоре того же года. Мир 1783 г. привел к коренной переоценке целей британской политики в отношении колониальной торговли. Адам Смит собирался 4-й книгой своего труда «О богатстве народов» («О системах политической экономии») убедить британских политиков реформировать империю и в политическом, и в коммерческом плане. Его влияние на британское правительство зачастую сильно преувеличивается, однако в англо-французском торговом договоре 1786 г. наблюдается явное согласие с Францией: большинство товаров из обеих стран взаимно облагалось умеренными пошлинами, и фактически каждая из стран получала статус наибольшего благоприятствования во взаимной торговле. Французская колониальная торговля во время американской войны за независимость сильно пострадала, но в мирный период после 1783 г. она испытала наибольший расцвет за всю предреволюционную эпоху. В 1784–1788 гг. сред- 28 . i i i ний ежегодный объем французской торговли вырос почти в пять раз по сравнению с 1716–1720 гг., с 215 млн до 1062 млн ливров (в текущих ценах). Этот рост соответствовал общему оживлению атлантической экономики, с 1760-х гг. находившейся в упадке. В 1783–1792 гг. возродилась и британская экономика после экономической депрессии во время американской войны за независимость, причем ежегодный рост экспорта в среднем составлял 6,9 процента — значительно выше, чем в последующие годы до 1815 г. Нет сомнений в том, что за Эденским договором 1786 г. последовало резкое возрастание британского экспорта во Францию. С другой стороны, за многими случаями снижения британских тарифов в 1783–1792 гг., по-видимому, стояло стремление казначейства к сокращению контрабанды и увеличению таможенной выручки. Поставленная британским правительством цель наводнить континентальный рынок дешевыми промышленными товарами не изменилась, и вплоть до отмены Зерновых законов в 1846 г. оно упрямо стояло на «меркантилистских» позициях. 4. a k mk: l b I ak В качестве полного отрицания прежней политики Людовик xvi , взойдя в 1774 г. на престол, сознательно решил не отказываться от выплаты государственного долга и придерживался такой позиции вплоть до конца своего правления. Однако без периодических дефолтов того или иного вида государство не могло выжить из-за хронического и постоянно растущего дефицита, порождаемого «политической системой, которая полностью оторвала привилегию тратить деньги от обязанностей по уплате налогов, и в то же время оставляла общественности достаточно политического влияния для агитации против налогообложения». Эскалация займов мирного времени являлась неизбежным последствием политики Людовика xvi : в период с апреля 1783 по ноябрь 1787 гг. чистая сумма займов составила 570,4 млн ливров. Расходы на обслуживание долга в мирное время почти удвоились, составляя 28 процентов от общих расходов в 1751 г. и 49,3 процента в 1788 г. Деятельность Калонна на посту министра (1783–1787) обычно считается поворотным пунктом в финансовых процессах, приведших к французской революции. На эти годы приходится пик займов мирного времени (чистая сумма займов составила 335 млн ливров), хотя критика фискальной структуры со стороны министра и его реформаторские предложения были наиболее смелыми из всех, что раздавались при «старом режиме». Провал его планов стал жестоким ударом для политической системы. Более осторожные планы Бриенна также не были воплощены в жизнь, и в качестве последнего средства были созваны Генеральные Штаты, когда кризис казны оказался неразрешимым из-за проблем с получением новых займов. Генеральным Штатам было обещано, что 29 они получат право налогообложения и контроля над бюджетом, включая личные расходы короля. Первым решением объявившего о своем суверенитете Национального собрания в июне 1789 г. было заявление о том, что «оно от имени Нации единогласно высказалось за то, чтобы временно продолжить взимание на прежней основе всех налогов и сборов, несмотря на то, что те вводились и взимались незаконно». Хотя эта мера была призвана гарантировать, что король и его министры не смогут управлять страной, если Национальное собрание будет распущено, она имела катастрофические последствия, поскольку спровоцировала массовое уклонение от налогов, взимавшихся новым революционным правительством. Никакой новой (и поэтому ipso facto «законной») налоговой системы в приемлемые сроки создать было невозможно, вследствие чего у последующих революционных правительств отсутствовали возможности, и скорее всего воля для широких принудительных мер, поскольку они положили бы конец «налоговым каникулам», которые для многих стали главным политическим достижением революции. Неккер ясно выразился на тот счет, что необходим новый чрезвычайный налог для решения тройной проблемы: падения сбора существующих налогов («dépérissement des impôts existants»), задержек с введением новых налогов и риска, связанного со структурной реформой («hasards inséparables d’un systême complet d’innovation»). Задержки вызвали в провинции «un contentement très-favorable à la révolution» («крайнее удовлетворение от революции»), но несмотря на это, люди путают фискальную реформу с налоговыми послаблениями («la libération des impôts qui lui étoient onéreux, & la diminution de tous…»). Однако Национальное собрание вместо этого забаллотировало ненавистные косвенные налоги, не дожидаясь, когда им будет найдена подходящая замена, тем самым лишив новое государство наиболее обильного источника «старорежимных» поступлений и способствуя тому, чтобы баланс сместился с косвенных на прямые налоги совершенно незапланированным образом. Более того, собрание приостановило, а затем и упразднило взимание церковной десятины — пусть ненавистный, но тем не менее потенциально полезный источник дополнительных поступлений для нового государства, если духовенство в любом случае собирались экспроприировать (что и произошло при секуляризации церковной собственности, которая была переименована в biens nationaux ). Особенно резкой критике Неккер подверг принятое в декабре 1789 г. решение Национального собрания об учреждении бумажных денег — знаменитых ассигнатов, которые были выпущены в преддверии продажи церковной собственности, первоначально в объеме 400 млн ливров. Хотя принципиальное решение было принято, реально выпуск новых бумажных денег (numéraire fictif) был отсрочен до апреля 1790 г. Была также введена новая тройная система пря. Национальная собственность (фр.). 30 . i i i мых налогов (contribution foncière, contribution mobilière et personnelle и patente ). Закон о новом земельном налоге содержал ряд серьезных изъянов (например, в отсутствие национального земельного кадастра этот налог продолжал взиматься на основе заявлений налогоплательщиков, в то время как его возмещение основывалось на прецедентах времен «старого режима»), но в первую очередь он был принят слишком поздно и на основании чрезмерно оптимистичных предположений о вероятной сумме поступлений. В течение 1790 и 1791 гг. ежемесячные расходы монархии хронически превышали ее доходы. В 1791 г. земельный налог принес лишь 34 млн ливров из 300 млн, которые предполагалось собрать к декабрю 1792 г.; тем не менее расходы государства в 1791 г. составили 822,7 млн ливров при налоговых поступлениях в размере всего 249 млн ливров (при прогнозе в 587 млн). Бриссо и его сторонники сумели спровоцировать депутатов Национального собрания на объявление войны Австрии (апрель 1792 г.), после чего война стала для французского революционного правительства «финансовой операцией против коалиции князей». От войны зависела кредитоспособность революции в политическом смысле (эмигранты лишались какой-либо базы для контрреволюции) и в буквальном смысле (ассигнаты становились международно конвертируемыми): Бриссо 31 декабря 1791 г. заявил в Якобинском клубе: «не начав войну, мы подорвем доверие к нашим ассигнатам». Мог быть восстановлен обменный курс; в случае выгодного мира ассигнаты могли затопить всю Европу, которая таким образом окажется заинтересована в успехе революции. С другой стороны, утверждалось, что Франция осталась «без дисциплинированной армии, без опытных генералов, без денег…», и таким образом, беспомощна перед силами коалиции. Выпуск ассигнатов все же состоялся, невзирая на горький опыт системы Лоу и прекрасную осведомленность о катастрофических последствиях применения бумажных денег в j , Дании и Швеции, а также в России и Испании (хотя в этих двух странах полные последствия такого шага проявились позже). Хотя налоги обеспечивали 13 процентов всех поступлений французского революционного правительства в 1790– 1795 гг., бумажных ассигнатов сознательно выпускалось все больше как для покрытия дефицита, так и для восполнения недостаточных поступлений. Ассигнаты обеспечили 7000 млн ливров дохода (исходя из стабильного курса ассигнатов на 1790 г.), что соответствовало нормальным поступлениям за 14 лет. После января 1793 г. выпуск ассигнатов стал важнейшим средством финансирования войны. Но экономические издержки оказались колоссальными. Находившиеся в обороте бумажные деньги не были обеспечены никакими новыми экономическими ресурсами. Первоначально доверие к ассигнатам основывалось . Земельный налог, налог на движимое имущество и подушный налог, торгово-промышленный налог (фр.). 31 на их обеспечении землей, то есть все рассчитывали, что бумажные деньги будут выкуплены путем продажи biens nationaux: но реальные продажи церковных земель и собственности, принадлежащей эмигрантам, принесли не более 900 млн ливров ассигнатами по стабильным ценам . Сперва ассигнаты были пущены в оборот в Париже и разошлись по департаментам по неравным курсам: стоимость ассигнатов могла сильно колебаться от департамента к департаменту. Система максимальных цен (то есть цен, фиксированных на уровне ниже рыночного), введенная в 1793 г., хотя и по иным причинам, на первых порах помогала поддерживать курс ассигнатов, по крайней мере до тех пор, пока продовольственный кризис не выявил невозможность обменять бумажные деньги на хлеб. Благодаря своей политике снабжения столицы хлебом и реквизирования хлеба и иных припасов для 750-тысячной армии летом 1794 г. правительство сумело избежать сильного обесценивания ассигнатов. К 1795 г. правительство планировало собирать налоги ассигнатами, принимая их по рыночному курсу (au cours); но к тому моменту, как эти планы начали претворяться в жизнь, ассигнаты — чья стоимость в начале 1796 г. составляла менее 1 процента от номинала — слишком обесценились, чтобы оставлять их в обращении. Попытка заменить их бумажными деньгами (путем выпуска так называемых promesses de mandats territoriaux) также быстро провалилась. Реальной формой налогообложения стала инфляция, причиной которой являлся чрезмерный выпуск ассигнатов — причем такое налогообложение оказалось еще более регрессивным, чем ненавистные налоги «старого режима» (ассигнаты малого номинала печатались лишь с мая 1791 г.). Разрыв между доходами и расходами после объявления войны в апреле 1792 г. превратился в зияющую пропасть. Финансовое положение за 26-месячный период, начиная с 1 июля 1791 г., из которых 16 месяцев занимала война, обрисовывается в отчетах от сентября 1793 г. Расходы за этот период возросли до 2652 млн ливров, из которых 2322 были потрачены на войну (714 млн — на пропитание армии, 490 млн — на выплату жалованья, 324 млн — на амуницию). Лишь 226 млн ливров военных расходов было выплачено наличными. При этом 5600 млн (т. е. 58 процентов) из 6800 млн ливров поступлений, предназначенных для финансирования военных действий, были получены посредством печати ассигнатов; налоги и доход от национализированных земель принесли гораздо меньше средств — соответственно 368 млн и 130 млн ливров. 15 декабря 1792 г. были упразднены учреждения бывших австрийских Нидерландов и приняты постановления об использовании местных ресурсов для снабжения французской армии; ассигнаты вво. Номинальная цифра равнялась 2100 миллионам. В законе от 18 марта 1796 г. отмечалась «la disproportion entre la quantité en émission et la valeur du gage» («диспропорция между объемом эмиссии и обеспечением»). 32 . i i i дились и на оккупированных территориях. Когда война превратилась в национальный кризис, Конвент в августе 1793 г. был вынужден объявить всеобщий призыв. Одним махом было снято фактическое ограничение на размер французской армии, действовавшее при «старом режиме» (200 тыс. человек в 1789 г.): к сентябрю 1794 г. в армии номинально числилось 1,17 млн человек, хотя лишь 750 тыс. были полностью оснащены и обучены военному делу, а дезертирство вскоре стало серьезной проблемой. Внутри страны расходы на армию могли быть обеспечены командной экономикой с ее режимом «максимальных цен» (май 1793 — декабрь 1794), которая раскрывала перед Конвентом перспективу «неисчерпаемых ресурсов»: утверждалось, что «с момента введения максимума обесценивание ассигнатов создает для правительства проблемы лишь в вопросе приобретения импорта». Другое дело — затраты на содержание армии за границей. Расходы на армию в 400 тыс. человек на v год революции реально составляли 354 млн ливров (141 млн — жалованье, 158 млн — продовольствие и 55 млн — дополнительные расходы, включая 34 млн на транспорт, в т. ч. и доставку продовольствия). Население оккупированных территорий сперва приветствовало французские войска, но из-за принудительного введения ассигнатов и неоплаченных реквизиций от былого энтузиазма вскоре не осталось и следа. Во время суровой зимы 1794–1795 гг. оккупированные территории были объедены дочиста. К марту 1796 г. из земель между Рейном и Маасом начали поступать жалобы (почти наверняка преувеличенные) на захват или расхищение продовольствия и товаров на сумму в 257,5 млн ливров (в твердых ценах); 54,7 млн из этой суммы было возмещено ассигнатами, а еще 49,2 млн списано как убытки, вызванные обесцениванием ассигнатов. Точный подсчет суммы всех поборов в оккупированных странах и «братских республиках» совершенно невозможен при тех методах учета, которые применялись даже в самой Франции; но согласно осторожным оценкам, между 1792 и 1799 гг. было собрано по меньшей мере 360 млн франков, что составляет до четверти всех поступлений Директории на vi и vii годы республики. Питтмладший как-то похвалялся, что он может предсказать финансовый крах революционной Франции. «А кто же, — якобы возразил ему Уилберфорс, — был канцлером казначейства у Аттилы?» С обесцениванием ассигнатов и «мандатов» официальные финансовые отчеты за iv год (сентябрь 1794 — сентябрь 1795) пришлось составлять с учетом реальной стоимости бумаг на момент их выкупа. Общие расходы составляли сумму в 457 млн ливров в твердой валюте, 252 млн из которых были выплачены наличными; 213 млн из этих наличных средств были выделены непосредственно на финансирование войны. Имеющиеся запасы наличных средств за отчетный период составляли всего 271 млн ливров. Из этой суммы 51 млн приходилось на поступления от налогов, включая часть выручки от принудительного займа 33 1793 г. (полная величина которой достигала 228 млн ливров ассигнатами) и суммы, собранные в департаментах аннексированных территорий, прежде входивших в австрийские Нидерланды. Напротив, 122 млн ливров дали контрибуции в завоеванных странах (включая 105 млн, собранных в Голландии и 12 млн в Италии), а 55 млн ливров было получено благодаря тайной закупке наличных, за которые расплачивались ассигнатами (для того чтобы собрать эту сумму наличными, потребовалось 7400 млн ливров ассигнатами и 450 млн — «мандатами»!). В бюджете на v год (1796–1797) фигурировали поступления в сумме всего 422 млн (по большей части за счет налогов), а расходы находились на уровне в 842 млн: дефицит драгоценных металлов затруднял увеличение поступлений от налогов, в то время как численность армии к концу 1795 г. вынужденно сократилась примерно до 400 тыс. человек, просто из-за того, что у государства не имелось ресурсов для финансирования более крупных сил. Возврат к монетизации происходил медленно и болезненно, причем promesses de mandats и другие находившиеся в обращении бумажные деньги в переходный период перестали приносить государству какую-либо пользу. В эпоху ассигнатов наблюдалось также резкое падение обменного курса французской валюты, которое объясняется вывозом капитала, закупками зерна за границей и ограничениями на экспорт золота. Важными факторами оказались также потеря доверия и прекращение французской экспортной торговли во время войны. Однако объем бумажных денег нарастал так стремительно, что возврат к металлическому стандарту оказался чрезвычайно трудным, хотя, вероятно, его упрощали облегчение доступа к импорту драгоценных металлов благодаря франко-испанскому союзу 1795–1796 гг. и экспорт золота из Британии (вызванный колоссальными военными расходами этой страны за границей и закупками зерна). К 1797 г. эффективность сбора налогов во Французской республике несколько повысилась и номинальный объем поступлений стабилизировался, хотя нет особых сомнений в том, что низкие цены на сельхозпродукцию повысили реальное фискальное бремя земельного налога. Во время так называемого banqueroute des deux tiers («банкротство на две трети») в сентябре 1797 г. министр финансов Рамель одним росчерком пера сократил расходы на обслуживание долга с 250 млн (цифра, сама по себе резко снизившаяся с 1790 г.) до 80 млн. Однако армейские поставщики оставались привилегированными клиентами правительства. Директория в обход казначейства передала половину ожидавшихся поступлений от отдельных департаментов в 320 млн ливров в распоряжение армейских поставщиков, причем половина этой суммы (80 млн звонкой монетой) выдавалась компаниям авансом. Остальную часть предполагалось выплатить национализированными землями, причем это предложение сравнивалось с пистолетом, приставленным к горлу армейских поставщиков («le pistolet sur la gorge aux fournisseurs»). Но это был относительно экономичный метод опла- 34 . i i i тить выставленные армейскими поставщиками счета на сумму 160 млн ливров за последние девять месяцев 1798 г. К концу этого года различные восстания против власти французов на оккупированных территориях были подавлены, а в республиках-сателлитах были готовы для эксплуатации ресурсы почти всего запада и юга Европы. На долю этих стран выпадали значительные расходы, хотя французы в конце концов обычно получали куда меньшие суммы, чем требовали первоначально. По Гаагскому договору (май 1795 г.), навязанному Сиейесом и Ребеллем голландцам, те должны были выплатить 100 млн гульденов за их освобождение из-под ига «оранского тирана» сверх обычных реквизиций, а также разрешить свободное хождение ассигнатов. В результате финансы новорожденной Батавской республики оказались в плачевном состоянии . В ноябре 1797 г. был предложен новый 8-процентный подоходный налог, который взимался с апреля 1798 г. По оценкам, с 1795 по 1804 гг. голландцы выплатили Франции более 229 млн гульденов, то есть более одного годового дохода республики. Сумма налогов на одного жителя в Голландии была выше, чем в любой другой стране Европы. По расчетам на 1803 г., каждый гражданин Франции уплатил в среднем 15,2 франка налогов, а каждый гражданин Батавской республики — сумму, эквивалентную 64,3 франкам. 5. : b b a k k b Плоды эксплуатации покоренных территорий пожинала уже не республика, а первая империя. Наполеона называли человеком старого режима в том отношении, что он отказался от всего революционного опыта бумажных денег в пользу жесткого монетаризма. Он завершил работу революционного правительства, сократив размер государственного долга, а завоевывая другие страны — такие как Голландия в 1810 г. — проводил там ту же самую политику. Во многих отношениях он отвергал банковские эксперименты, проводившиеся Директорией, поскольку Французский банк (основанный в январе 1800 г., но работавший по правилам, утвержденным в законе от 14 апреля 1803 г.) имел весьма ограниченные функции. Он обладал монополией на выпуск банкнот, но их номинал был ограничен суммой в 500 ливров, и они имели хождение только в Париже. Общая масса этих бумажных денег в эпоху империи никогда не превышала 112 млн ливров, и поэтому они не могли играть существенной роли в механизме государственных платежей. Депозиты банка своим объемом едва ли превосходили средства Caisse d’escompte накануне революции. Наполеон противился «бумажному фунту» с убежденностью монетариста: так называемый franc de . 1 гульден был равен 42 су 6 денье, но вследствие различных уступок ежегодные платежи снизились до уровня в 15,3 млн франков. 35 germinal 1803 г. имел ту же стоимость, что и livre tournois 1785 г. Император не хотел прибегать к крупномасштабным займам, но фискальная дисциплина диктовалась еще и отсутствием у правительства кредитоспособности: аннулирование долгов Рамелем в 1797 г. вследствие фиаско с ассигнатами подорвало общественное доверие до такой степени, что даже если бы и удалось получить новые займы, то лишь под непомерно высокие проценты. Если Наполеон был «старорежимным» человеком в смысле недоверия к бумажным деньгам, то он же презирал и финансистов, которых называл бичом и проказой нации («le fléau, la lèpre de la nation»). Впрочем, отказаться от их услуг он не мог: с 1806 г. генеральные ревизоры фактически снова оказались у дел, как и правительственные чиновники, отвечавшие за сбор прямых налогов . Заметным явлением первой империи стало и возвращение косвенных налогов в форме douanes (таможенные сборы) и droits réunis («соединенные сборы»), хотя они не рассматривались как единый источник поступлений. Таким образом, если Наполеон и не воссоздал фискальную систему полностью, то он безусловно укрепил ее и санкционировал процесс ее централизации с опорой на Париж. Кроме того, император по своим взглядам был меркантилистом; у Континентальной блокады было чисто финансовое назначение, и ее цель, по словам министра императорской казны Мольена, состояла в том, чтобы «нанести Англии более глубокую денежную рану, чем те, что были получены Францией». Мольен полагал, что наполеоновская блокада «потрясла важнейшую опору британского правительства…» Император, по его мнению, стремился уничтожить «кредит Англии, мерой которого ошибочно считал капризный курс обмена, и истощить источник тех субсидий, которые Англия могла выдать новой коалиции». Так, Наполеон заинтересованно изучал обменные котировки, и колебания курса в Гамбурге или Данциге рассматривались как подтверждение того, что из Английского банка утекают запасы наличности, а не результат ввоза в континентальную Европу манчестерских тканей или ямайского сахара. В этом смысле Континентальная блокада имела оборонительную цель, заключавшуюся в том, чтобы не пускать британские товары в Европу. В общем плане перед Континентальной блокадой была поставлена и более положительная задача: создание структуры военных, дипломатических и династических союзов, фискальных и административных реформ и систематическая эксплуатация ресурсов стран-сателлитов с целью обеспечить самофинансирование и экономическое процветание империи. Экономическая самодостаточность империи была необходима из-за стремительного роста военных затрат: в 1806–1814 гг. было истрачено 5100 млн франков, причем 817 млн из них — за один лишь рекордный 1813 год, после российской катастрофы. В годы правления . Они приступили к работе в 1802 г., еще не называясь fonctionnaires banquiers. 36 . i i i Наполеона расходы взлетели до небес: если верить цифрам, их номинальный объем с 1801 по 1813 гг. практически удвоился, с 549,6 млн до 975,5 млн, достигнув в 1811 и 1812 гг. уровня в миллиард франков. Что касается поступлений, то самым важным источником дохода служили военные успехи, которые обеспечивали контрибуции и другие чрезвычайные поборы, уходившие в императорский экстраординарный фонд (domaine extraordinaire). Наполеон в декабре 1805 г. разбил под Аустерлицем объединенные австрийско-русские силы и по Прессбургскому договору наложил на Австрийскую империю контрибуцию в 40 млн флоринов взамен прямого налога на города. Впрочем, не все контрибуции и компенсации были выплачены побежденными или оккупированными странами. Португалия должна была заплатить 100 млн франков в 1807 г., но сохранила пробританскую ориентацию и заплатила лишь 7 миллионов. Несмотря на многие неясности, связанные с привычкой Наполеона подводить баланс бюджета задним числом, весьма вероятно, что кампании 1806 и 1807 гг. принесли выручку, которая покрыла треть французских бюджетных расходов, помимо затрат на содержание французской армии за границей. В оккупированных странах и полуавтономных королевствах проводились фискальные реформы, в основном по французскому образцу (сюда входило отделение доходов государства от доходов короны, упразднение феодальных привилегий, составление земельных кадастров, а также унификация, рационализация и упрощение контроля за доходами и расходами). Эти реформы заложили основу современной системы государственных финансов. Наполеон обеспечил мелким германским государствам быструю модернизацию в рамках Рейнской конфедерации. Даже тем государствам, которые находились под его покровительством, он предъявлял столь тяжелые фискальные претензии, исходя из принципа, требовавшего от них взять на себя долги тех государственных образований, которые им предшествовали, что их государственный долг стремительно нарастал. Долги Баварии выросли с 20 млн флоринов в конце xviii в. до 105 млн в 1818 г. Долги Бадена за то же самое время увеличились с 65 тыс. до 31 млн флоринов. Два эти государства были вынуждены взять на себя новые долговые обязательства в сумме соответственно 93 млн и 15 млн флоринов. Им пришлось предпринять ряд важных шагов на пути к финансовой модернизации именно по причине резкого возрастания задолженности и воспользоваться талантами таких министров-реформаторов, как Монтгелас в Баварии. Напротив, королевство Вестфалию при Жероме Бонапарте постигла финансовая катастрофа. У Вестфалии не было никаких надежд на сохранение платежеспособности, поскольку Наполеон с самого начала обременил ее долгом в 34 млн франков; самому себе он выделил 7 млн в год из доходов королевских владений, а конкретные земли и имения, приносящие 5 млн в год, назначил имперскими фьефами. Тысяче бенефициариев было гарантировано получе 37 ние 7 млн франков, или почти 20 процентов государственных доходов Вестфалии. В результате государственный долг вырос с 47 млн франков в 1808 г. до 220 млн в 1813 г.; как считалось, поступления не могли превысить уровень в 34 млн, в то время как на выплату военных контрибуций уходил 31 млн, не считая расходов на содержание 25-тысячной армии, которая обходилась еще в 11,5 млн франков. Хотя ставка земельного налога поднялась к 1812 г. с 5 до 20 процентов, отечественные поступления в реальности сократились, из-за чего ежегодный дефицит возрос с 8 млн франков в 1808 г. до 31 млн в 1813 г. Из всех королевств-сателлитов успешнее всего шли дела в королевстве Италия, которым управлял вице-король Евгений Богарне, но даже здесь с 1805 по 1811 г. поступления увеличились лишь на 50 процентов, а дефицит вырос с 1 до 5 млн лир. Джузеппе Прина, министр финансов Евгения, установил ставку подушного налога в размере 176 миланских лир или 134 франков, которая не увеличилась за время правления Евгения, хотя в 1809 г. были учреждены новые косвенные налоги. Важным подспорьем для королевства стало присоединение Венеции, хотя одна пятая ее доходов, а также государственная собственность стоимостью в 30 млн франков были приданы новым фьефам; кроме того, ежегодно выделялась сумма в 1,2 млн франков на пенсии генералам, офицерам и солдатам, назначенным Наполеоном. В Неаполитанском королевстве, где правил Жозеф Бонапарт, феодализм был формально упразднен в августе 1806 г., и Редерер взамен прежних 23 налогов учредил единый земельный и промышленный налог по французскому образцу. Плоды этой реформы пожинал Иоахим Мюрат. 1808 год королевство закончило с дефицитом, но на следующий год бюджет был практически сбалансированным, а в 1810 и 1811 гг. наблюдалось увеличение поступлений, в то время как долг сократился более чем вдвое; лишь в 1812–1815 гг. военные расходы снова породили дефицит. Поступления в 1808–1811 гг. выросли с 48 до 72 млн лир, однако 71 процент всех расходов в 1813 г. (57 млн лир из общей суммы в 80,4 млн) уходило на содержание армии и флота. По вычислениям Редерера, налоговое бремя в Неаполе составляло 12 франков на одного жителя, по сравнению с 27–30 франками на душу населения во Франции в 1808 г.; но для бедной, по преимуществу аграрной страны это была, вероятно, серьезная сумма, вдобавок возросшая при Мюрате. Но самые катастрофические последствия пребывание в составе империи имело для Голландии и Испании. Правда, в 1806 г. Гогель, голландский министр финансов, сумел внедрить в стране реформированную фискальную систему, которая в большей степени опиралась на его же неудачную попытку реформ 1801 г., чем на французский опыт. До этой реформы разрыв между доходами и расходами в 1804 г. оценивался в 38,2 млн флоринов, а на 1805 г. прогнозировался рост расходов. Реформа Гогеля обеспечила повышение доходов примерно на 16 млн флоринов, но общие ежегодные поступления в 1806–1809 гг. 38 . i i i оставались более-менее на одном уровне в 52 млн флоринов (примерно 113 млн франков); чистый доход превысил 50 млн лишь в 1809 г. Признававшийся дефицит колебался в пределах 18–28 млн флоринов; однако, если в сумму ежегодных расходов включить рост государственного долга, эта цифра в среднем возрастет примерно до 135 млн флоринов. Неспособность Луи Бонапарта осуществить финансовую реформу — в мае 1809 г. он уволил Гогеля, решив, что его неумолимость плохо сказывается на общественных настроениях — стала решающим фактором, обусловившим аннексию королевства Наполеоном в 1810 г. В Испании долг Бурбонов в 7200 млн reales de vellón (примерно 1920 млн франков) перешел к режиму Жозефа Бонапарта и был в значительной степени выплачен за счет «национальной собственности» (то есть конфискованных владений монастырей и повстанцев, оценивавшихся в 9700 млн). Бумажные деньги Бурбонов (vales reales) можно было непосредственно обменять на собственность, но их предполагалось заменить «закладными» (cédulas hipotecarias), которые обращались в недвижимость, а затем сжигались. Эта система, которой были свойственны некоторые черты дискредитированных ассигнатов, дурно администрировалась, и в обращении находились другие виды бумажных денег, поскольку власть Жозефа простиралась лишь на часть страны. В результате бумажные деньги быстро обесценивались и к ноябрю 1809 г. стоили лишь четверть номинала. Поскольку ежегодные поступления сократились примерно на 100 млн reales de vellón в год из-за отказа от королевских монополий, закрытия игорных домов и прекращения прежней тарифной политики, государственный долг нового режима стабильно возрастал и к июню 1813 г. достиг 327 млн reales de vellón (87 млн франков). Если включить в эту цифру задолженность перед Францией (620 млн reales de vellón или 165,3 млн франков), мы получим более реалистичную сумму долга, хотя инфляцию бурбонского долга оценить затруднительно из-за неудовлетворительного проведения политики по погашению задолженности. Совокупные затраты на содержание французской армии в Испании возросли с 532 млн reales de vellón в 1808 г. (142 млн франков) до 3242 млн в июне 1813 г. (865 млн франков за пять лет). Согласно явно преувеличенным оценкам, пятилетняя война в Испании обошлась Наполеону в миллиард франков металлической монетой и еще в три миллиарда займами и бумажными деньгами. 6. ab «Ibl» blkl ab b ( 1815 .) «Вскоре Амстердам станет вашей бухгалтерией», — говорил Камбон в Конвенте. Предполагалось, что оккупация австрийских Нидерландов и Голландии излечит французский финансовый дефицит и подорвет то доверие, на котором был основан британский кредит. Мало кто 39 до конца осознает, насколько близко сменявшие друг друга революционные правительства подошли к осуществлению этой цели. Французское вторжение в Голландию 1794 года временно лишило такие иностранные державы, как Россия, их главного денежного рынка, при том что воевавшая с Францией коалиция в целом состояла (за исключением Великобритании) из держав, более отсталых и экономически, и в смысле финансовой структуры. Наполеон наносил им еще более сокрушительные удары, чем республика. Четыре самые значительные «старорежимные» монархии на континенте в период 1800–1806 гг. либо были вынуждены помириться с Наполеоном, либо потерпели от его войск поражение: Россия запросила мира и в 1800 г. едва не заняла профранцузскую ориентацию; Австрия, Пруссия, Россия и Испания были побеждены или оккупированы соответственно в 1805, 1806, 1807 и 1808 гг. (причем Австрия еще раз потерпела поражение в 1809 г.). В каждом из этих государств период войны имел колоссальное значение для фискальной системы. Результаты произошедших перемен следует рассматривать в совокупности, потому что для них характерен ряд общих черт. Ключевая цель для каждой из этих четырех стран состояла в том, чтобы по крайней мере избежать ослабления в эпоху революционного и наполеоновского экспансионизма; по мнению их правителей и политических лидеров, было бы весьма желательно воспользоваться теми возможностями, которые сулил европейский конфликт, и стать сильнее соперников. Например, по сравнению с Пруссией и Россией Австрия в эпоху второй коалиции очень тщательно взвесила все возможные приобретения и потери. Большинство выдающихся мыслителей Просвещения крайне критически относились к современной им практике международных отношений, в которой по примеру Пруссии, в 1740 г. захватившей Силезию, господствовало стремление к оккупации и расчленению. При анализе катастрофических последствий Семилетней войны нередко забывают о том факте, что финансы Пруссии имели более прочную основу, чем в какой-либо из других континентальных держав, участвовавших в войне. Как ни странно, конфликт 1740 года в долгосрочном плане оказался для этой страны очень выгодным: Пруссия с 1740 по 1786 гг. находилась в состоянии войны меньше времени, чем какая-либо из других главных европейских держав. Более того, эта передышка была удачно использована во время rétablissement, то есть периода послевоенных реформ Фридриха Великого. К 1786 г. Фридрих скопил резерв в 51,3 млн рейхсталеров в государственной казне и связанных с ней фондов, что соответствует примерно 192 млн ливрам. Французское правительство в этот период никогда не имело текущих накоплений, не говоря уже о сопоставимом резервном фонде. Явное «возвышение» Пруссии в 1763–1793 гг. совпадало с частичным закатом Франции как в финансовом, так и в политическом смысле. Что касается Австрии и России, чьи финансы после 1763 г. находились в более 40 . i i i плачевном состоянии, чем прусские, то в силу одних лишь финансовых соображений необходимой предпосылкой для мобилизации являлся предварительный раздел завоеванных земель. Мир 1763 г. раскрыл Марии-Терезии глаза на то, что попытка вырвать Силезию из-под власти Пруссии была «химерой». Иосиф ii , который с 1765 г. являлся соправителем Марии-Терезии в соответствии с практически неработоспособным политическим договором, пытался учредить на австрийских землях нечто подобное прусской кантональной системе. Такая политика была в известной степени внутренне противоречива, поскольку Иосиф был убежден, что «чисто военное правление» Фридриха Великого настолько опустошило «его провинции, что в случае войны он не сможет извлечь из них дополнительные ресурсы». Тем не менее не Иосиф, а Мария-Терезия воспрепятствовала полному воплощению кантональной системы, несмотря на большие успехи, достигнутые к 1771 г. К концу ее правления военные реформы совместно с ростом населения позволили в военное время выставлять такую большую армию, что затраты на ее содержание — 65 млн флоринов в одном лишь 1779 г. — были чрезмерными. Война за баварское наследство 1778–1779 гг. представляла собой косвенную попытку заставить Фридриха расплатиться за захват Силезии в 1740 г. Австрийская монархия в 1778 г. мобилизовала 195-тысячную армию, а на следующий год попыталась довести ее численность до 308 тыс. человек. Военные действия не привели к решающему результату, однако финансовые затраты оказались существенными. Австрийская монархия, по словам Иосифа ii , осталась «фактически без союзников» и поэтому была вынуждена «изыскивать внутренние резервы и полагаться только на них». Как и предсказывал Кауниц, огромная армия не гарантировала решающего преимущества над Пруссией, однако гарантировала колоссальные расходы. При затратах в 100 млн флоринов и той энергии, которая ушла на упорное проведение после 1763 г. финансовых реформ, результаты оказались смехотворно малыми: приобретение Иннфиртеля, небольшой территории в 1000 кв. миль с населением в 120 тыс. человек, поступления от которой составляли около полумиллиона флоринов в год. Намного больший ущерб причинила трехлетняя война с турками-османами (1788–1790). Иосиф ii признавал, что такие войны приносят сомнительную экономическую и финансовую выгоду: «Даже если война окажется успешной, денежные затраты и людские потери, особенно вследствие болезней, неизбежно причиняют огромный вред, не говоря уже об опустошенных провинциях и обезлюдении и бесплодности тех земель, которые удастся завоевать». Расходы на армию численностью около 315 тыс. человек составляли 207,7 млн флоринов. Хотя поступления выросли с 65,8 млн флоринов в 1781 г. до 87,5 млн к 1788 г., темпы роста оставались недостаточными. Для покрытия дефицита к 1790 г. было напечатано бумажных денег на 28 млн флоринов (Banco-Zettel или Bankozettel), а государственный долг к тому 41 моменту достигал 400 млн флоринов. Таким образом, провал планов Иосифа ii по проведению фискальной реформы имел громадные последствия. Несмотря на его заявления о том, что «в отношении финансовых догматов веры я стал атеистом», единый земельный налог при его учреждении имел заметное сходство с impôt unique («единым налогом») физиократов. Этот налог и аграрное законодательство вступили в силу в феврале 1789 г.; отныне с любых крестьянских земельных наделов, которые не входили в состав помещичьих земель, полагалось уплачивать налог в размере 12,22 процента от дохода владельца и еще 17,77 процента в качестве постоянного выкупного платежа дворянству; 70 процентов оставалось в распоряжении домохозяйства. Новые налоговые принципы в военное время оказались непрактичными, и Иосиф ii самочинно изменил сущность земельного налога: отныне он взимался не с чистого дохода, а с валового объема продукции. Это создавало перспективу реального увеличения налогового бремени на крестьянство, в то же время сокращая доходы аристократии; вследствие этого реформа привела в восстанию в Венгрии и всеобщему недовольству в других частях империи. Намерение Иосифа перенаправить большую долю венгерских налоговых поступлений в Австрию было хорошо известно (по словам Иосифа, Венгрия в результате стала бы «новым Перу»). Столкнувшись с аналогичными мятежами в австрийских Нидерландах и в Венгрии, Леопольд ii , едва взойдя на престол в 1790 г., немедленно отменил эти реформы, и хотя это нисколько не способствовало преодолению финансового кризиса в монархии, Леопольду удалось несколько снизить чрезвычайные военные расходы (с 41,8 млн флоринов в 1790 г. до 16,4 млн флоринов в 1792 г.), однако государственный долг несколько возрос к 1792 г. (до 417 млн). Нежелание воевать с Францией было обычным делом в землях австрийских Габсбургов, но те заручились согласием подданных, пообещав, что война будет короткой и налоги не будут подняты; это обещание было нарушено в 1794 г. В промежутке между 1781 и 1818 г. только в одном году поступления оказались выше текущих расходов австрийской монархии. 1793 год был закончен с дефицитом в 10 млн флоринов (около 1 млн фунтов). В соответствии с прецедентом, установленным в 1702 г., австрийские власти попытались воспользоваться своей кредитоспособностью для получения займов на британском финансовом рынке. В декабре 1794 г. Питт признал, что в обмен на выставление австрийцами 200-тысячной армии британское правительство, вероятно, будет вынуждено дать им займовую гарантию на сумму в 6 млн фунтов. В январе 1795 г. займовая гарантия сократилась до размера в 4 млн фунтов или 40 млн флоринов, а впоследствии была увеличена до 4,6 млн фунтов, несмотря на страхи перед неминуемым банкротством Австрии и опасения относительно вероятного бездействия ее армии. Фокс считал займовую гарантию разновидностью субсидии, и события подтвердили его правоту. К окончанию Первой коалиционной 42 . i i i войны внешняя задолженность Австрии составляла около 116 млн флоринов, или одну пятую общего государственного долга. С выходом Пруссии из войны в 1795 г. все бремя боевых действий легло на плечи Австрии, и к 1796 г. ее финансы продолжали функционировать лишь благодаря выпуску бумажных денег в объеме 46,8 млн флоринов; на следующий год обмен банкнот на металлическую монету был приостановлен. После того как военные поражения подорвали финансовую мощь Габсбургов, фискальная слабость все более затрудняла ведение войны. Хотя цели австрийцев казались англичанам подозрительными, и те предпочитали заключать союзы с Пруссией и Россией, британские займы Австрии с 1800 по 1808 гг. составляли 31,3 млн флоринов. Но и этой суммы не хватило, чтобы предотвратить банкротство, ставшее результатом затрат на две мобилизации и поражений в 1805 и 1809 гг. Австрийский финансовый кризис 1805 г. усугублялся тем фактом, что англичане приостановили платежи, опасаясь, что эти деньги просто перетекут во вражескую казну; но и при этом, по всей вероятности, 1 млн фунтов британских субсидий, полученных Австрией, ушло во Францию в качестве военной контрибуции. К 1806 г. в обращении находилось почти 450 млн флоринов в виде Bankozettel при дисконтной ставке, равной 175. Впоследствии Австрия потерпела еще одно поражение под Ваграмом в июле 1809 г. — к тому моменту Великобритания выдала Габсбургам 1,19 млн фунтов звонкой монетой на финансирование боевых действий. Два австрийских поражения привели к уплате контрибуции на общую сумму в 350 млн франков, большая часть которой была истрачена на оккупацию страны; но и во французскую казну попало около 120 млн франков. В декабре 1809 г. австрийское правительство было вынуждено изъять все серебро, находившееся в распоряжении его подданных (кроме Венгрии) для выплаты французам второй контрибуции. К тому времени общая масса находившихся в обращении Bankozettel увеличилась до 846 млн флоринов при дисконтной ставке 469, что напоминало печальную участь французских ассигнатов. Незадолго до реформаторских мероприятий февраля 1811 г. общая сумма Bankozettel возросла до 1060 млн флоринов при дисконтной ставке, равной 800. В ходе реформы все Bankozettel и мелкая монета были изъяты из обращения и обменяны на новые бумажные деньги, которые назывались выкупными облигациями (Einlösungsscheine); старые деньги обменивались на новые в соотношении 5 к 1 при одинаковом номинале. Поскольку все налоги, как и государственные пенсии и жалованье, предстояло платить новыми деньгами, размер налогов и жалованья таким образом увеличился в пять раз. Однако процентная ставка по займам была урезана вдвое; выпуск бумажных денег никогда не превосходил уровень в 212 млн, и эта сумма подлежала постепенной амортизации. В Венгрии эту систему пришлось вводить указом от сентября 1812 г., поскольку венгерский сейм отказался давать на нее 43 свое согласие. В австрийских землях она так и не выполнила своего назначения, поскольку когда в апреле 1813 г. снова началось серьезное перевооружение, правительство было вынуждено выпустить бумажных денег (которые на этот раз назывались Anticipationsscheine) еще на 45 млн флоринов; за этой эмиссией последовало еще семь секретных, в результате чего к апрелю 1815 г. новые деньги котировались при дисконтной ставке в 408. Количество находившихся в обращении бумажных денег, новых и старых, достигло 635 млн флоринов. Поэтому Австрия крайне нуждалась в британских субсидиях, но англичане не могли много дать, поскольку коалиция была создана еще до вступления Австрии в войну и британские резервы были исчерпаны: в 1813 г. финансовые обязательства Британии составляли всего 1 млн фунтов, хотя австрийцы получили еще полмиллиона различными припасами. На следующий год сумма субсидий оказалась несколько меньше из-за прекращения военных действий. Решение сократить номинальный размер армии до 400 тыс. человек (на практике — от 200 до 230 тыс.) и сохранять военный бюджет на уровне в 45–50 млн флоринов (официальный предел сперва составлял 40 млн, впоследствии был поднят до 44 млн) стало возможным лишь после 1815 г., благодаря тому, что Австрия почти 35 лет ни с кем не воевала (за исключением военной интервенции в Италию в 1820–1821 гг.). Такая экономия, наряду с ростом обычных поступлений с 50,7 млн флоринов в 1814 г. почти до 94 млн в 1817 г., который в основном произошел благодаря возвращению утраченных в 1809 г. территорий, давал некоторую надежду на возможность сбалансированного бюджета. Проблема состояла в том, что ежегодный дефицит продолжал существовать, и государственный долг вырос с 739 млн флоринов в 1816 г. до 905 млн в 1823 г., в то время как выплаты по процентам за этот период утроились с 12 до 36 млн. Даже списание британским правительством австрийского долга, составлявшего к 1823 г. 23,5 млн фунтов (несписанными остались 2,5 млн фунтов), на фоне этой долговой горы осталось почти незамеченным. Имеющиеся у нас данные по прусскому бюджету ненадежны или ошибочны. По уцелевшим отчетам можно судить, что поступления даже в военное время регулярно превышали расходы. Однако все прочие источники сходятся в том, что после 1786 г. наблюдалось обратное явление и что накопления, оставшиеся после Фридриха Великого, были растрачены из-за того, что Фридрих-Вильгельм ii не желал пойти на ограничение своих внешнеполитических обязательств. К концу 1793 г. стало ясно, что Пруссия не может продолжать войну без субсидий. Из 13 млн фунтов, оставленных в 1786 г. Фридрихом Великим, осталось менее 3 млн — по крайней мере, так сообщили Гренвиллу, британскому министру иностранных дел — при том что поступления прусской короны регулярно оказывались ниже расходов. Пруссия дала понять, что содержание полевой армии в 100 тыс. человек требует субсидий от со- 44 . i i i юзников в размере 22 млн талеров (или 3,5 млн фунтов); а ведь в свое время Фридрих Великий похвалялся, что государствам второго класса в военное время не требуются зарубежные субсидии. К 1794 г. государственный долг Пруссии достиг 38,1 млн талеров, чем отчасти объясняется выход из войны на следующий год. Государство, которое на первый взгляд казалось одной из самых эффективных «старорежимных» монархий на континенте, в реальности страдало от внутренних политических разногласий и структурных слабостей, которые вынудили Пруссию после 1795 г. придерживаться нейтралитета в отношении Франции и обусловили неизбежное поражение в результате прямого военного столкновения в 1806 г. Пруссия в октябре 1806 г. была разбита под Йеной прежде, чем Англия успела ратифицировать ее запрос о возобновлении договора 1794 г. о субсидиях. Хотя ходили слухи о том, что перед захватом Берлина из прусской казны было вывезено звонкой монеты на сумму, эквивалентную 2 млн фунтам, англичане полагали, что прусские ресурсы «не только ослаблены и исчерпаны, но и… едва ли существуют вообще». Цена поражения оказалась громадной: территория Пруссии сократилась более чем вдвое (с 335 тыс. до 158 тыс. кв. километров), вследствие чего почти половина прусского населения оказалась в подданстве у других государств (население страны сократилось с 10,7 до 4,9 млн человек). Поражение едва не привело к фискальной катастрофе и имело колоссальные политические последствия, поставив страну на грань исчезновения как значительной державы. Даже около 1812 г. общие поступления составляли всего 17,2 млн талеров по сравнению с 29,7 млн около 1800 г. Государственный долг в 1807 г. достигал 53,7 млн талеров, к которым добавилась громадная контрибуция, наложенная Наполеоном: она составляла 515 млн франков, 220 млн из которых следовало передать в военное казначейство и такую же сумму выплатить оккупационным войскам; размер контрибуции превышал ежегодный доход усеченного прусского государства. Неудивительно, что долг быстро возрастал, достигнув уровня в 100 млн талеров в 1810 г., 112 млн в 1811 г. и 206 млн в 1815 г. К весне 1810 г. правительство Альтенштайна-Доны так и не смогло полностью выплатить французам контрибуцию и рекомендовало уступить Силезию; однако Харденберг, в том же году вернувшись на должность, обещал Фридриху-Вильгельму iii изыскать средства для полной выплаты контрибуции. В реальности прусское правительство всеми силами пыталось уклониться от уплаты контрибуции, которая была сокращена до 198,7 млн франков (56,3 млн талеров), причем 154,5 млн оставались невыплаченными к 12 июля 1807 г. Ожидалось, что 15 млн из этой суммы будет выплачено наличными, 45 млн путем уступки королевских земель, а 90 млн — в виде торговых кредитов. Хотя путем различных ухищрений долг к ноябрю 1807 г. был сокращен до 108,4 млн, в марте 1813 г. он все еще составлял 44,4 млн. Тем не менее реформа прусской фискальной экономики все равно была жизненно необходима. Она началась после Тильзитского мира 1807 г., хотя 45 к 1820 г. оставалась незавершенной: по словам Харденберга, государство, не взявшее на вооружение революционные принципы, «должно либо смириться с тем, что их ему навяжут силой, либо погибнуть». Краткосрочной целью реформы было обложение личных доходов чрезвычайным прямым налогом в 1808 г.; долгосрочные цели включали в себя более справедливое распределение земельного налога, включая отмену льгот от него, и выравнивание налоговых различий между городом и селом. Инициатором этих идей был Штайн, а его дело продолжил Харденберг. Идеи Штайна не могли не вызвать негодования у знати, вследствие чего Харденберг в 1811 г. был вынужден объявить отступление и отказаться от отмены льгот. Доходы русского правительства стабильно росли с 1763 по 1796 гг., но расходы по их сбору возрастали как в абсолютном выражении, так и в отношении к вырученным суммам. Когда Екатерина ii в 1762 г. пришла к власти, полевой армии, сражавшейся против Пруссии, не платили уже восемь месяцев и задолженность по выплате составляла 17 млн рублей. Учет финансов велся из рук вон плохо (согласно одной оценке, доходы за 1764 г. составляли 9,3 млн рублей, а по другой — 19,9 млн за 1769 г.). Более правдоподобной цифрой за 1764 г. представляется общая сумма поступлений в 21,9 млн рублей; при вычете затрат по их сбору, достигавших 4,2 млн рублей, получим цифру чистого дохода в 17,7 млн (накладные расходы по сбору составляют 19,2 процента). К концу правления Екатерины объем поступлений подскочил до 73,1 млн рублей, но расходы на их сбор, равные 17,7 млн рублям (24,2 процента), снижают цифру чистого дохода до 55,4 млн рублей. Если фискальная организация всех стран «пыталась угнаться за расходами», то это особенно верно в отношении России, в которой рост поступлений со значительным опозданием следовал за ростом расходов. Расходы выросли с 21,6 млн рублей в 1764 г. до 78,2 млн в 1796 г. Дефицит приходилось покрывать выпуском бумажных денег — рублевых ассигнаций. Ассигнационный банк и бумажные деньги были учреждены в конце 1768 г. с целью финансирования первой русско-турецкой войны (1768–1774); к 1786 г. в обращении находилось около 45 млн рублей ассигнациями, причем лимит выпуска был поднят до 100 млн рублей ради финансирования второй русско-турецкой войны (1787– 1792); к концу правления Екатерины ii в 1796 г. было напечатано около 156,7 млн бумажных рублей. Итогом стало катастрофическое падение как стоимости ассигнаций, так и обменного курса рубля, например, в отношении к голландскому гульдену (особенно важному из-за того, что большая часть русских займов делалась на амстердамском финансовом рынке). Финансы России находились в наихудшем состоянии по сравнению с прочими потенциальными партнерами по коалиции: к 1796 г. государственный долг составлял 215 млн рублей, и при ежегодных поступлениях и расходах соответственно в 55,4 и 78,2 млн рублей он был обречен скорее расти, чем сокращаться. 46 . i i i Россия враждебно относилась к французской революции, но вплоть до 1797 г. ее война с якобинством ограничилась военной интервенцией в Польшу, несмотря на просьбы Австрии и Пруссии о военном содействии. Даже перспектива получить в 1795 г. британский заем на благоприятных условиях (1 миллион фунтов на 55-тысячную армию) не соблазнила Россию на нарушение нейтралитета. Этому наиболее предпочтительному для англичан союзнику приходилось действовать при наибольшем удалении от главного военного театра в условиях, когда его финансы были расстроены гораздо сильнее, чем у двух других потенциальных союзников. Период мира с Францией при Павле i затормозил накручивание дефицита, но за первое десятилетие правления А лександра i финансы совершенно вышли из-под контроля. В 1803 г. поступления находились на уровне от 95,5 до 101,6 млн рублей ассигнациями, но расходы достигали 109,4 млн рублей. К 1805 г. поступления остались более-менее на том же уровне (порядка 100 или 107,2 млн рублей), а расходы выросли до 125,5 млн. Пагубная война с Наполеоном, закончившаяся Тильзитским миром, привела к росту расходов до 278,5 млн рублей в 1809 г. по сравнению со 127,5 или 133,8 млн рублей доходов. Русское правительство запросило у Британии 6 млн фунтов на продолжение войны, но получила отказ, вызванный опасением того, что русские не вернут долг; в любом случае англичане полагали, что война ведется ради защиты русских территорий и интересов, и поэтому финансовое содействие России оказывать не следует. В конце концов в ноябре 1807 г., выполняя обязательства, взятые на себя в Тильзите, Россия объявила войну Великобритании. Более того, увидев возможность вознаградить себя за Тильзитский мир, Александр i решил аннексировать Финляндию, что привело к новому витку расходов. Как и прежде, новые военные обязательства финансировались дальнейшим выпуском ассигнаций на рекордную сумму (соответственно 95 млн, 55,8 млн и 46,2 млн рублей в 1808–1810 гг.), и общее количество находящихся в обороте бумажных денег возросло до 477,4 млн рублей в 1808 г., 533,2 млн в 1809 и 579,4 млн рублей в 1810 г. К тому моменту ассигнации обесценились до рекордного уровня, составлявшего четверть их номинальной стоимости в серебре (25,4). Михаил Сперанский, новый финансовый советник при правительстве, называл в числе абсолютных приоритетов снижение объема находившихся в обращении ассигнаций, прекращение дальнейшей печати бумажных денег, сокращение расходов и выпуск бумаг внутреннего займа, аналогичного французскому Caisse d’amortissement. План Сперанского был принят указом от февраля 1810 г.: ассигнации признавались государственным долгом, который обещалось погасить полностью, а их дальнейший выпуск запрещался. Впоследствии предельный объем находившихся в обращении ассигнаций был установлен на уровне в 577 млн рублей, но соблюдать его не удавалось. Чрезвычайное финансовое бремя войн 1812–1815 гг., 47 сопоставимых по своему значению с кульминацией борьбы с Карлом xii в 1709 г., не позволило воплотить в жизнь такое решение финансовых проблем. Россия потребовала от англичан ежегодную субсидию в 4 млн фунтов на продолжение военных действий, но Британия не могла столько заплатить с учетом того, что приоритетным для нее оставался Пиренейский полуостров. Более того, в той степени, в какой Британия вообще была согласна платить, она предлагала выдать субсидию бумагами, а не звонкой монетой; британские субсидии оказались невелики по сравнению с финансовыми потребностями, в частности, из-за сомнений в готовности русских сопротивляться Наполеону. Эти сомнения рассеялись только после Бородинского сражения, за победу в котором французы заплатили крайне высокую цену. Разрыв между поступлениями и расходами продолжал увеличиваться вследствие негибкости российской налоговой основы, и для исправления ситуации требовались займы и другие срочные меры. К 1815 г. в обращении находилось 825,8 млн рублей ассигнациями, которые еще немного обесценились по сравнению с 1810 г. (с 25,4 до 23,8). Долг продолжал возрастать даже после заключения мира и к 1825 г. достиг 1300 млн рублей. Фактически провалом окончилась попытка более справедливого перераспределения налогового бремени при «старом режиме» в Испании, чем объясняются как низкая работоспособность фискальной системы, так и слабое сопротивление наполеоновской оккупации в 1808 г. Важнейшей идеей в правление Карла iii было введение «единого налога» (única contribución), первоначально задуманного еще до распространения в стране идей физиократов. Была создана комиссия по реформе, задача которой состояла в том, чтобы продемонстрировать выгоды консолидированного сбора налогов по сравнению с тем множеством налогов, которые взимались в xviii веке. Комиссия дала положительное заключение в апреле 1756 г. Поначалу идея так и заглохла, но в 1760 г. о ней снова вспомнили. Испанское правительство пыталось увеличить бремя прямых налогов за счет косвенных, но в тот раз из его усилий ничего не вышло (вследствие аристократической и народной оппозиции маркизу Эскилаче, кульминацией которой стали бунты 1766 г.). Неудачной оказалась и новая попытка реформ в 1770 г. Неспособность осуществить реформу фискальной структуры имела своим неизбежным следствием выпуск бумажных денег, а впоследствии лишение церковных земель неприкосновенности во время революционных войн. До 1768 г. rentas provinciales никогда не превышали 90 млн reales de vellón в год. Тем не менее повышение фискальной эффективности после 1779 г., связанное с выводом сельских земель из сферы rentas provinciales и переходом к прямому администрированию налогов, привело к росту поступлений с 102,6 млн reales de vellón в 1779 г. до 158 млн в 1793 г. «Америка — душа нашего величия»: важнейшая роль колоний для благосостояния испанской монархии была восстановлена после мира 48 . i i i 1763 г. (последовавшего за катастрофическим поражением Испании в предыдущем году, когда англичане захватили Гавану). Рост испанской военной и морской мощи в ответ на необходимость борьбы с британским проникновением был невозможен без увеличения доходов короны. Испанская колониальная империя рассматривалась как источник, который требовалось не только защищать, но и эксплуатировать, и нет сомнений в том, что имперские доходы выросли в течение xviii века; после 1750 г. возобновились поступления из казначейства Лимы, хотя максимальных значений xvii века они достигли лишь к 1780 г. Хотя Испания в результате войны с Англией в 1779–1783 гг. вернула Минорку и Флориду, ее финансы подтачивал хронический дефицит, который удавалось закрыть лишь эмиссией бумажных денег — vales reales. В ходе войны Испания напечатала vales reales на сумму до 452 млн reales de vellón, и к концу войны бумажные деньги обесценились на 13 процентов (в какой-то момент они обесценились на 22 процента по отношению к номиналу). Доверие к бумажным деньгам было восстановлено лишь с заключением мира в 1783 г., и к 1789 г. правительство смогло выпустить бумажных денег еще на 99 млн с целью финансирования программы по строительству каналов. Через два года после начала войны с Францией в 1793 г. коллективная воля правительства Годоя к продолжению сопротивления испарилась перед лицом внутренних заговоров и безудержного нарастания дефицита. В ходе войны были быстро исчерпаны как средства, полученные по новым займам, так и возможности стабильного увеличения обычных поступлений. За вычетом колоний, расходы к 1793 г. достигли 709 млн реалов, к 1794 г. возросли до 946 млн, а к 1795 г. — до 1029 млн реалов. Общий дефицит за четыре года (1793–1796) оценивался в 1269 млн реалов, из которых три четверти (964 млн) покрывалось выпуском бумажных денег (vales reales). Испанский флот был слишком слабым, чтобы сохранять нейтралитет по отношению к двум великим морским державами; Карл iv выбрал союз с Францией и войну с Великобританией; первый был заключен в августе 1796 г., вторая объявлена в октябре того же года. Эффективная британская блокада привела к финансовой катастрофе. Источники в данном отношении расходятся, но с началом военных действий и у генерального казначейства, и у его крупнейшего подразделения — мадридского казначейства — возникли проблемы с поступлениями. Согласно одной оценке, доходы короны, которые в 1793 г. составляли 584 млн reales de vellón, в 1797 г. упали до 487 млн, а расходы выросли до 1423 млн, что привело к дефициту в 945 млн. Неизбежно сократились поступления от таможенных сборов — важного источника доходов, — как и от еще более важного источника, американских колоний: поступления от последних в среднем составляли 123 млн в 1793–1795 гг. и в 1796 г. достигли 232 млн, сократившись в среднем до 17 млн в 1797–1801 гг. Правительство было вынуждено принимать бумажные деньги по их номинальной 49 стоимости, хотя они обесценились на 15–20 процентов: так, в 1797 г. правительству пришлось выплатить 1080 млн в vales reales, чтобы покрыть расходы в 900 млн. В мае 1798 г. у испанского правительства накопилось неуплаченных счетов на 26 млн при прогнозировавшемся дефиците в 800 млн. Добровольные пожертвования на ведение войны составили всего 23 млн, а подлежащий погашению беспроцентный патриотический заем помог собрать всего 1,5 млн. В конце августа 1798 г. Солар доносил о необходимости в «чрезвычайных мерах для накопления существенных фондов». Его предложение, в сентябре воплощенное в жизнь посредством четырех королевских указов, сводилось к прямой атаке на церковные богатства; vales reales можно было использовать для оплаты церковной собственности при постепенном выводе бумажных денег из обращения. Затраты на обслуживание королевского долга сократились на четверть, однако успех плана Солара зависел от результатов продаж церковных земель, выручка от которых помещалась в амортизационный фонд, что, в свою очередь, требовало сбалансированного бюджета, едва ли возможного во время войны с Англией. Почти сразу же пришлось объявить новый заем, а в апреле 1799 г. было выпущено vales reales почти на 800 млн; стоимость vales reales в первой половине 1799 г. упала на 30–45 процентов ниже номинала и к августу 1800 г. колебалась в районе 62–72 процентов от номинала. Лишь в 1802 г., после заключения мира между Францией, Испанией и Англией, vales reales вновь стали котироваться на уровне в 10–20 процентов ниже номинала. В августе 1800 г., пытаясь укрепить доверие к себе, правительство признало все vales reales, напечатанные до 1780 г., законным долгом монархии и создало отдельный консолидированный фонд. Согласно цифрам, предоставленным Наполеону в 1808 г., со временем удалось погасить около 300 млн из 2193 млн vales reales, находившихся в обращении. Попытка продажи церковной собственности обернулась для правительства полным крахом; продажа изъятых земель принесла всего 340 млн, а оставшиеся 1653 млн составляли новый долг. Возобновление войны между Францией и Великобританией в мае 1803 г. свело на нет все попытки уплатить по долгам. Наполеон в октябре 1803 задним числом заставил Карла i v заплатить «субсидию за довоенный нейтралитет» в сумме 6 млн франков (24 млн reales de vellón), несмотря на то, что война уже началась. Поскольку в наличии не имелось источников поступлений, на оплату счетов испанцам пришлось пустить консолидационный фонд; однако и эта мера оказалась невыполнимой, и в сентябре 1805 г. Карл iv был вынужден подписать контракт с амстердамским домом «Хоуп и компания» на получение займа в 10 млн флоринов (80 млн reales de vellón) при 5,5 процента годовых. В 1808 г. долг перед Францией достигал 31,6 млн reales de vellón, и еще 318 млн Испания задолжала голландским банкирам. 50 . i i i В ответ на испанскую «субсидию за нейтралитет» англичане захватили три из четырех испанских фрегатов с серебром, направлявшихся в Испанию из Мексики; Испания, в свою очередь, в декабре 1804 г. объявила войну Англии. Доходы короны от Индий сократились со средней цифры в 193 млн за 1802–1804 гг. до 28 млн в 1805–1807 гг., а средняя выручка от таможен упала вдвое, с 187 до 85 млн. Согласно цифрам, предоставленным Наполеону, расходы в 1807 г. составили 637 млн при поступлениях в 505 млн, и дефицит соответственно равнялся 132 млн. Новые налоги оказались абсолютно непопулярными и не позволили получить достаточно средств для того, чтобы закрыть дефицит. Одним из факторов, стоявших за решением Бонапарта захватить Испанию в 1808 г., было опасение перед финансовым крахом в стане союзника: как считал Наполеон, Испания обладает колоссальными богатствами, которыми ее некомпетентные правители не в состоянии воспользоваться, и получаемые им донесения лишь укрепляли его в этом мнении. Однако он так и не понял, что война нанесла смертельный удар связям Испании с ее американскими колониями. В данном отношении контраст с Португалией очевиден. Успешное франко-испанское наступление на Португалию в 1807–1808 гг. заставило правительство этой страны отправиться в изгнание — в Бразилию, где в результате укрепилась власть португальцев и стало возможным организовать сопротивление испанскому правлению в Америке. Напротив, в испанских колониях царило недовольство имперским правительством; колонисты не знали, признавать ли им Фердинанда vii , Жозефа Бонапарта, либо провозглашать независимость: в рамках «лоялистского» восстания зародилась идея о «свободных нациях». Эти разногласия и расколы в сочетании с насильственной изоляцией от метрополии вследствие британской блокады вызвали утрату Испанией большей части своей империи в 1808–1810 гг. и изменили весь курс ее финансовой истории. К моменту реставрации Фердинанда vii неизбежное свершилось. Повстанцы в испанской Америке окончательно прекратили поставки драгоценных металлов, и без того сведенные почти к нулю британской блокадой в 1804 г. Внешние поступления (доходы от таможен и платежи из колоний), до войны 1793 г. составлявшие почти четверть всех доходов испанского правительства, после 1815 г. упали ниже уровня в 10 процентов. Поставки серебра прекратились совершенно. Понесенные Испанией экономические потери по разным оценкам составляли от 2,3 до 5,6 процентов национального дохода, причем от 1 до 1,3 процента потерь были вызваны только прекращением поставок серебра. Вернувшись к власти, Фердинанд vii (1814– 1820) занялся восстановлением американской империи, пойдя лишь на минимальные уступки в отношении местной автономии. Результатом явилось политическое и финансовое банкротство страны. Его могло предотвратить лишь американское серебро, однако вновь покорить Америку могло лишь платежеспособное государство. В реальности испанская Америка была потеряна безвозвратно. 51 7. , k bm a m bm Войну Великобритании и Голландской республике в феврале 1793 г. первой объявила Франция. Хотя Великобритания вступила в войну 1793 г. ради сохранения баланса сил в континентальной Европе, а не ради расширения империи («[французские] острова в Вест-Индии не стоят одного года бесценного спокойствия, которым мы сейчас наслаждаемся», — считал Гренвилл в 1791 г.), но раз уж война началась, целью Англии стали захват французской заморской империи, «имея в виду увеличение нашего национального богатства и повышение безопасности», и превращение в «крупнейшую торговую и военно-морскую державу мира». Генри Дандас утверждал в 1801 г., что «…нынешняя мощь и превосходство нашей страны» находятся в прямой зависимости от «объема ресурсов, извлекаемых благодаря торговле и военно-морским силам, которые неотделимы друг от друга». Однако было необходимо, чтобы развитие британских «промышленных и торговых предприятий» не «обгоняло расширения ее иностранных рынков». Французская колониальная торговля рухнула в самом начале войны, после восстания рабов на Гаити в 1791 г. (этот остров обеспечивал три четверти объема всей торговли). Большая часть французских владений в Вест-Индии была оккупирована в первые полтора года войны, но полный контроль над этим регионом (ликвидация всех вражеских гарнизонов и создание семнадцати собственных гарнизонов) Британия получила лишь в 1810 г. Морская блокада, установленная Британией в 1793 г., привела к гибели французского торгового флота, а закрытие континентальных рынков привело к остановке во Франции промышленного производства до 1796 г. Таким образом, практически одним махом экономическая мощь важнейшей соперницы Британии была серьезно подорвана и сделан решительный шаг к британской всемирной экономической гегемонии. Как полагал Рикардо, расходы на войну в какой-то степени были возмещены реальным ростом британской экономики, и это в значительной степени склонило чашу весов в пользу Великобритании. Тем не менее война несла с собой не только экономические выгоды, но и издержки. С 1792 г. до заключения Амьенского мира в 1802 г. британский экспорт в среднем возрастал на 5,9 процентов в год, причем в первые годы войны медленнее, чем в 1798–1802 гг. Решающую роль в успехе экспорта играли шерстяные, но в первую очередь хлопчатобумажные ткани (экспорт которых в 1790–1811 гг. в среднем возрастал на 5,6 процента в год). Тем самым часть субсидий в 21,2 млн фунтов, выплаченных британским правительством союзникам в 1793–1801 гг., вернулась в форме оплаты за британские товары. Континентальная блокада Наполеона, вводившаяся берлинским указом от ноября 1806 г., представляла собой попытку лишить Брита- 52 . i i i нию этих выгод путем экономической автаркии: британским товарам просто закрывался доступ на европейские рынки, находившиеся под контролем Наполеона. Эта политика принесла известный успех. Темпы роста британской экономики существенно сократились: в 1802–1814 гг. экспорт ежегодно возрастал лишь на 3,1 процента по сравнению с 5,9 процентами в 1792–1802 гг. Даже поразительный рост экспорта хлопчатобумажных тканей (17,2 процента в год в 1792–1802 гг.: в 1800 г. хлопчатобумажные ткани составляли 24 процента всей стоимости экспорта промышленных товаров, а в 1815 г. — 42 процента) замедлился, в 1802– 1814 гг. в среднем повышаясь лишь на 8,4 процента в год. Британия была вынуждена принять решительные контрмеры, в первую очередь с целью защиты своих имперских интересов и охраны трансатлантической торговли. До 1807 г. нейтральным странам позволялось осуществлять значительную долю трансатлантических торговых перевозок. Вакуум, образовавшийся в 1792 г. с устранением традиционного соперника по колониальной торговле — Франции, заполнили американские корабли. Стоимость американского экспорта возросла с 20 млн долларов в 1792 г. до 108 млн в 1807 г. — рекордной цифры для данного периода; в те же годы американский торговый флот сменил французский в роли второго в мире после британского. Итогом стал кризис британской имперской экономики, ответом на который явился королевский указ от ноября 1807 г., запрещавший американцам торговать с враждебными Британии странами иначе, чем через британские порты. Этот указ оставался в силе до июня 1812 г., но за четыре дня до его отмены Мэдисон провозгласил состояние войны с Великобританией. Война 1812–1814 гг. отвлекала на себя существенную часть британских ресурсов в момент кульминации борьбы с Наполеоном; однако результатом экономического соперничества с Америкой в 1807–1815 гг. явилось изгнание американского торгового флота из морей и ликвидация этой серьезной угрозы для британской гегемонии. Великобритания сохранила контроль над Канадой, а Америка фактически превратилась в британского экономического сателлита. Отношения с традиционно дружественной Данией в результате принятия указа против нейтральной торговли также упали до наинизшей отметки; датчане в сентябре объявили войну, но англичане уже решили нанести превентивный удар по Копенгагену с целью уничтожения соперничающего флота, который мог попасть в руки Наполеона. Вторым британским ответом на Континентальную блокаду стала более энергичная попытка пресечь, а по возможности захватить поставки металлической монеты в Испанию и Португалию из их колониальных владений. Французские революционеры утверждали, что Испанская империя смертельно больна и готова к освобождению (они говорили о «l’imbécillité du joug espagnol» ), но вследствие господства . Глупость испанского гнета (фр.). 53 британского флота не могли протянуть колонистам руку помощи. Потребность Британии в импорте драгоценных металлов для облегчения выдачи зарубежных субсидий вновь со всей остротой поставила вопрос о «связях с испанской Америкой». В 1806 г. Попэм ненадолго захватил Буэнос-Айрес и послал домой призовых денег на 1,1 млн фунтов; но последующие военные действия против Буэнос-Айреса были неудачными, и сомнительно, чтобы финансовые и торговые выгоды перевешивали затраты на эти операции. Смена династии в Испании и восстание против французского правления в 1808 г. позволили англичанам куда более эффективно проникать на рынок испанской Америки, чем прежде, хотя испанская Хунта не горела желанием открывать свои колониальные рынки. К этим преимуществам добавилась существенная выгода, полученная благодаря нападению французов на Португалию в 1807 г.: англичане в безопасности доставили португальский двор в Рио-де-Жанейро, а договор 1810 г. о торговле и союзе открыл бразильский рынок (а через Бразилию и торговлю с Анголой) для британских товаров, не ставя никаких ограничений. К 1812 г. британский экспорт в Бразилию своей общей стоимостью превышал экспорт в Португалию. Этот договор представлял собой классический пример британского превентивного удара в экономическом смысле: был получен привилегированный доступ к дешевому сырью, открыты новые рынки для британских товаров, предотвращен ответ со стороны иностранцев. Более того, португальское правительство оказалось не в состоянии вернуться к той политике, которую оно проводило со времен Помбала: с 1807 г. и вплоть до возвращения Жоана vi из Бразилии в 1821 г. материковой Португалией правил регентский совет, самым влиятельным членом которого был британский генерал У. Карр Бересфорд. Едва ли Португалия могла заплатить более высокую цену за британскую помощь; в 1825 г. она была вынуждена признать независимость Бразилии. Британия же сохранила свою империю, при этом явно выиграв от насильственной деколонизации двух своих формальных соперниц. Накануне войны 1793 г. британский премьер-министр Питт якобы отмечал, что «у него готово два миллиона [фунтов стерлингов] и что он гарантирует увеличение постоянных поступлений на 600 тыс. фунтов в год…» Подобные суммы совершенно не соответствовали размаху последующего конфликта. Ежегодные британские расходы за время войны выросли шестикратно по сравнению с предвоенным уровнем, и общие затраты в 1793–1815 гг. составили около 1039 млн фунтов в текущих ценах. Военные расходы представляли собой основную долю всех затрат в течение всего xviii века. Расходы на войну составляли в среднем 5,2 млн фунтов в год во время Войны за испанское наследство, 9,5 млн фунтов в год во время Семилетней войны и 9,9 млн фунтов в год во время войны за независимость j ; в последних войнах с Францией эта величина поначалу в среднем составляла 22 млн фунтов за 1793–1797 гг., а в 1815 г. достигла 84 млн фунтов. В реальном вы- 54 . i i i ражении средние ежегодные расходы выросли с 13,2 млн фунтов за год в 1798–1801 гг. до 28,3 млн фунтов за год в последние годы войны. С учетом инфляции мы получаем явный рост расходов в реальном выражении. В последний период войны они выросли также в отношении к объему национального дохода, составляя около 6 процентов от него в 1792 г., а в критические 1808–1815 гг. доходя до 25 процентов, что также выше, чем во всех предыдущих конфликтах. Очевидным последствием этого колоссального скачка в расходах являлся столь же значительный рост номинальной суммы государственного долга — с 290 млн фунтов в 1788–1792 гг. до 862 млн фунтов к 1815 г. Годы войны были отмечены инфляцией, и суммы, ссужаемые государству, оценивавшиеся в ценах 1788–1792 гг., в реальности сократились, составляя в среднем по 18 млн фунтов в год на первых этапах войны (1793–1797) и 11 млн в средний период (1798–1812), но снова выросли, превысив 18 млн фунтов на затратном последнем этапе (1813–1816). Реальные процентные ставки в течение всей войны снижались, однако номинальный объем государственного долга утроился. Хотя этот момент остается предметом дискуссий, инвестиции в британскую экономику, судя по всему, были ограничены, но не совсем «вытеснены» огромной потребностью правительства в займах, поскольку доля инвестированного национального дохода в течение почти всей войны оставалась приблизительно постоянной. Резкое возрастание государственного долга привело к тому, что объем выплат кредиторам по процентам в 1793–1815 гг. составил около 236 млн фунтов. Для того чтобы получить эти суммы и поддержать кредитоспособность правительства, приходилось серьезно повышать налоги: примерно 60 процентов всех чрезвычайных налогов, собранных в стране в 1793–1815 гг., ушло на выплаты по процентам или на погашение суммы долга. Процентное соотношение (но не абсолютные суммы в денежном выражении) оставалось примерно постоянным — 63 процента чрезвычайных налогов в годы войны составляли налоги на доходы и на роскошь, хотя это обстоятельство предполагает наличие какого-либо финансового планирования, в реальности совершенно отсутствовавшего: Питт и его преемники «просто-напросто хватались то за одно, то за другое, пытаясь протянуть от бюджета до бюджета». Большая часть дополнительных налоговых поступлений в 1793–1815 гг. (около 55 процентов) была получена путем повышения ставки налогов, уже существовавших до войны; 36 процентов обеспечивалось примерно 21 новым налогом. Среди последних самым важным был налог 1799 г. на доходы или на собственность, предложенный Питтом в ноябре 1797 г. и учрежденный в январе 1798 г.: он позволил выручить 1,86 млн фунтов в 1798 г. и 6,05 млн фунтов в 1799 г. Вследствие того что правительство все больше нуждалось в средствах и старалось удовлетворить свои потребности в основном за счет косвенных налогов, а также благодаря инфляции, Великобритания — которая до войны 55 и без того занимала второе место в Европе по тяжести налогов, уступая только Соединенным Провинциям — в какой-то момент во время войны стала страной с самым тяжелым налоговым бременем из всех европейских государств. С 1803 по 1812 гг. англичане платили в среднем втрое больше налогов на душу населения в хлебном эквиваленте, чем французы. К 1818 г. поступления британского правительства равнялись 1184 млн франков, французского — 732 млн. Отказ французского государства от своих долговых обязательств, а также нелюбовь Наполеона к долгам и невозможность брать взаймы дополнительно усиливали это неравенство относительного налогового бремени: государственный долг на душу населения в Великобритании составлял в 1818 г. 1210 франков, а во Франции — всего 80 франков. Британские резервы драгоценных металлов и монеты в 1793 г. оценивались в 7 млн фунтов, а в апреле 1794 г. достигли 9 млн фунтов. В 1793–1815 гг. Великобритания выплатила союзникам 65,8 млн фунтов в виде субсидий, причем почти половина из них (30,7 млн фунтов) приходилась на последние пять лет войны; общий объем субсидий составлял почти 10 процентов всех поступлений, собранных во время войны. Общая сумма «заморских расходов», за исключением расходов на содержание британских войск, за 1793–1815 гг. равнялась 163 млн фунтов, причем основная доля расходов опять приходилась на период после 1812 г. Впрочем, реальные цифры для последних лет войны были существенно ниже из-за серьезной ценовой инфляции. До 1808 г. выплаты по иностранным субсидиям были относительно скромными, за исключением 1795 г., и не превышали более 1–2 процентов национального продукта. Гренвилл выступал против выдачи более 2 млн фунтов субсидий в год, указывая, что «германские князья принимают Англию за дойную корову»; Питт полагал, что было бы куда более разумно, если бы прусский король «действовал сам по себе, рассчитывая на собственные ресурсы». Однако, защищая политику субсидий от нападок Фокса, по словам которого «все военные расходы» могут лечь на плечи Британии, Гренвилл указывал, что Британия всегда считала «более дешевым и политичным платить иностранным войскам вместо того, чтобы отрывать нашу молодежь от плуга и от ткацкого станка, и тем самым не только остановить всю отечественную промышленность, но и обескровить остров и уменьшить силу нашей нации». Британское превосходство в военно-морской мощи, торговле и богатстве «очевидно», но «в отношении населения и возможности иметь большую армию Британия вынуждена отдать пальму первенства своей сопернице…» Гарантии по австрийским займам служили лишь одним из нескольких факторов, которые в 1797 г. привели британскую финансовую систему на грань краха; с января по март резервы драгоценных металлов и монеты сократились с 3,3 до 2,2 млн фунтов — абсолютный минимум для данного периода. Правда, несмотря на попытки революционного правительства во Франции пресечь утеч- 56 . i i i ку монеты за границу, и эмигранты, и оставшиеся в стране банкиры принимали активные меры, размещая в Лондоне инвестиции с целью избежать обесценивания своих капиталов в эпоху ассигнатов. Резервы Английского банка существенно возросли за счет таких зарубежных вкладов во время конфликта с Францией, но основной рост наблюдался после 1801 г. В 1796–1797 гг. возврат к металлическому стандарту во Франции стал неприятным ударом для Английского банка, хотя невозможно оценить, насколько серьезным. Противники Питта называли иностранные субсидии главной причиной банковского кризиса 1797 г.: Британия истратила на ведение войны не менее 13 млн фунтов либо в монете, либо в векселях и выплатила 10 млн фунтов субсидий. Однако в год, предшествовавший банковскому кризису, было истрачено 4 млн фунтов только на покупку зерна за границей, и следовательно, кризис платежного баланса был вызван не только военными расходами и субсидиями союзникам. Питт решил, что следует не прекращать субсидии, а финансировать за счет налогов намного большую долю государственных расходов, чем прежде. Основным предметом беспокойства оставались обменный курс и платежный баланс; заметное внимание уделялось также резервам драгоценных металлов и монеты, однако считалось (вероятно, справедливо), что положение с резервами автоматически улучшится при сохранении обменного курса и платежного баланса на должном уровне. По Акту о приостановке выплат от февраля 1797 г. Английский банк прекращал платежи наличными. С этим ограничением на конвертируемость векселей Английского банка в золото и в звонкую монету начался период так называемого бумажного фунта, который продолжался до 1821 г. В результате этой меры иностранные инвестиции были заперты в Великобритании, поскольку при их переводе за рубеж в векселях они обесценивались из-за падения лондонского обменного курса. Количество находящихся в обороте денег возросло, и возникла опасность вызвать в Британии «гиперинфляцию», сопоставимую с французской. Этого так и не случилось, несмотря на страхи, одолевавшие критиков правительственной политики, и яростные нападки Давида Рикардо на деятельность сменявших друг друга в 1809–1810 гг. правительств. Англичане не смогли бы финансировать Веллингтона и армии европейских союзников, если бы пустили ограниченный золотой запас страны на обеспечение полной конвертируемости. Континентальная блокада Наполеона поначалу пагубно сказалась на способности британцев выплачивать зарубежные субсидии. Платежный баланс в 1808 г. достиг критического уровня как раз в тот момент, когда снова возникла потребность в выдаче субсидий; испанцам было сказано, что невозможно «найти достаточно серебра, чтобы удовлетворить многочисленные запросы, предъявляемые в данный момент нашим ресурсам», и выплаты пришлось производить в казначейских векселях. Как только кризис 1808–1809 гг. был преодолен, британское правительство снова 57 смогло выделять средства на субсидии и содержание своих вооруженных сил за границей: средние ежегодные платежи в 16,1 млн фунтов в 1808–1815 гг. соответствовали 5,3 процентам национального продукта в 1811 г., в то время как особенно выдающимся был 1813 год, когда выплаты составили 27,4 млн фунтов, что равнялось не менее чем 8 процентам национального продукта. Эти общенациональные усилия привели к мирному урегулированию, весьма отвечавшему интересам Великобритании и закрепившему за страной экономическую гегемонию, которая продолжалась в течение почти всего xix века. Правда, союзные интересы Британии накануне битвы под Ватерлоо привели к тому, что Пруссия получила рейнские земли — «ошибка, оказавшаяся фатальной» для британских интересов, но проявившаяся значительно позже. Пальмерстон ясно выразился, что у Британии «нет ни сил, ни возможности для того, чтобы помешать независимым странам» присоединиться к созданному в 1834 г. прусскому таможенному союзу, Zollverein, хотя тот мог представлять собой угрозу для британского экспорта. Таможенный союз был создан отчасти в качестве реакции на дискриминационные британские зерновые законы, и экономическое соперничество между новым германским таможенным союзом и Великобританией было заложено с самого начала. В целом, двусторонние торговые соглашения, в которые Англия вступила после Венского конгресса, просто устранили дискриминационные тарифы на британские товары и дискриминационные портовые сборы с британских кораблей. Этот меркантилистский протекционизм был взаимным. Некоторые государства — такие как Испания и Португалия — в полной мере познали на своем опыте все последствия политики «открытых дверей» и отказывались от каких-либо новых договоров. Франция после произошедшей в 1814 г. реставрации несколько месяцев заигрывала с принципом свободной торговли, но как только стали ясны ее катастрофические последствия, перешла на протекционистские позиции, на которых находилась до 1860-х гг., хотя французские тарифы с 1820 примерно до 1880-х гг. стабильно устанавливались на более низком уровне, чем в Великобритании. Продолжение меркантилистской политики во внешних сношениях после 1815 г. сопровождалось принципом laissez-faire во внутрибританских делах. Правительство лорда Ливерпуля осуществляло регрессивную фискальную политику, которая (после отмены подоходного налога в 1816 г.) основывалась на косвенных налогах для обслуживания государственного долга и финансирования увеличившихся в размерах армии и флота мирного времени (которые в 1820–1825 гг. обходились в 2,5 раза дороже, чем в 1788–1792 гг.). В качестве последнего примера финансового консерватизма в 1821 г. в связи с возвратом к золотому стандарту был отменен «бумажный фунт». Отказ от любых претензий на погашение долга в 1828 г. можно рассматривать как консервативный шаг в том смысле, что Амортизационный фонд представлял собой новшество. Но в пер- 58 . i i i вую очередь, даже после наступления мира государственные расходы продолжали расти, и в 1816 г. налоговое бремя было почти в три раза тяжелее по сравнению с предвоенным уровнем. Кредиторы государства в целом выиграли от заключения мира гораздо больше, чем простые британские налогоплательщики. 8. m Керсент в 1793 г. уверял Конвент в том, что «английский кредит основывается на фиктивном богатстве»; Наполеон тоже был убежден, что британский государственный долг — это «ненасытный червь» (ver rongeur), который может подточить экономику страны. Со стороны англичан, лорд Гренвилл еще до начала войны писал, что «пузырь французских финансов… неизбежно должен лопнуть». Предположение о том, что война окажется недолгой из-за финансовых проблем государств, оказалось и в революционный, и в наполеоновский период заблуждением. Англичане медленно приспосабливались к новым условиям войны, поскольку, за исключением потери тринадцати американских колоний, им сопутствовали поразительные успехи в «старорежимных» войнах ограниченного масштаба, которые велись не ради сокрушения врага, а ради приращения богатства и могущества. Согласно британскому конституционному принципу, исходя из того, что «все современные войны затеваются из-за кошелька», военный министр должен быть и министром финансов; но и при этом до 1807–1808 гг. главными направлениями британской стратегии были торговля и колонии, а не операции в материковой Европе. Неккер понимал этот конституционный принцип в тот момент, когда у Франции имелась наилучшая возможность расширить свою колониальную империю за счет британской, но в 1781 г. он не сумел убедить Людовика xvi в необходимости сделать министра финансов главным министром. Считается, что «французские революционеры вели тотальную войну беспрецедентного накала и беспрецедентного размаха». Наполеон продолжил их работу, «устанавливая новые стандарты алчности всюду, где он проходил». Другие государства, в число которых в конце концов вошла даже Британия, были вынуждены взять на вооружение некоторые принципы массовой мобилизации и изъятия ресурсов просто для того, чтобы выжить. Согласно оценкам, Британия могла выставить около 615 тыс. человек на защиту нации; более скромная цифра в 500 тыс. человек относится к 3–4 процентам населения, непосредственно находившихся на сухопутной военной службе (за исключением еще примерно 110 тыс. человек на флоте). Для соответствия британским пропорциям Франции пришлось бы призвать на службу около миллиона человек, при том что в 1805 г. ее фронтовые войска насчитывали примерно 310 тыс. человек, а население страны составляло 29,6 млн человек. Более половины сил Наполеона в 500 или 600 тыс. человек, вторг 59 шихся в Россию, прибыло из других стран, а общее число солдат-иностранцев в наполеоновских войсках доходило, возможно, до миллиона человек. Максимальная численность армии, находившейся в распоряжении Наполеона, теоретически составляла 2,8 млн человек, но в реальности в 1813 г. было мобилизовано 1,1 млн человек, и не все из них были французами. Таким образом, в размерах британских и французских вооруженных сил наблюдалось значительное различие, в основном обусловленное подавляющим превосходством Франции в смысле общей численности населения. Чтобы преодолеть этот разрыв, англичанам приходилось сколачивать и субсидировать коалицию. Последняя стодневная кампания Наполеона в 1815 г. обошлась Британии почти в 7 млн фунтов субсидий. Однако расчет был ясен. Было дешевле потратить по 11 фунтов 2 шиллинга в год на содержание одного солдата-иностранца, чем на мобилизацию и содержание британских солдат в Европе, каждый из которых обошелся бы в 60–70 фунтов. Поэтому субсидии можно было подавать как меру экономии, а безденежность континентальных держав позволила Британии одолеть Наполеона ценой сравнительно небольших финансовых затрат. Опыт революционного и наполеоновского периодов свидетельствует о том, что могла произойти и закрепиться еще более радикальная перекройка европейских границ, в результате которой на свет появились бы две «сверхдержавы», Великобритания и Франция, обладающие намного большими ресурсами, чем имелось в их распоряжении при «старом режиме»: так бы случилось, если бы Амьенский мир 1802 г. оказался долговечным. Поэтому выживание прочих «старорежимных» государств зависело от их способности полностью мобилизовать свои ресурсы во время войны. В 1805 г. Австрия, а на следующий год Пруссия оказались без средств и были стремительно разгромлены Наполеоном. В смысле фискальной эксплуатации революционный и наполеоновский режимы также имели колоссальное значение. Одним из крупнейших успехов наполеоновской администрации в покоренных землях (если не на родине) была рационализация государственных финансов и увеличение государственных поступлений; но эти достижения в итоге оказались бесплодными вследствие стремительного роста военных расходов. Период почти непрерывных войн в 1793–1815 гг. резко ускорил длительный процесс создания современного фискального государства в Европе. Заманчиво сделать вывод о том, что Британия в конечном счете одержала верх в конфликте с Францией, в 1815 г. навсегда устранив ту угрозу, которую Наполеон нес ее гегемонии, благодаря предшествовавшей «фискальной революции», которая позволила ей раньше других государств адаптироваться к расходам на войну в глобальном масштабе. Можно даже утверждать, что опыт тотальной войны закрепил за Британией роль экономического лидера в промышленной революции вследствие «каталитического влияния военных импульсов на эко- 60 . i i i номический рост» в том смысле, что военные потребности «представляют собой ключевую детерминанту структуры производства». В ходе европейской истории нам встречается много технических инноваций, которые могли привести к «финансовой революции»; выделять английский вариант «голландских финансов» как единственный фактор успеха было бы чрезмерным упрощением, хотя один лишь английский государственный долг избежал эксцессов «гиперинфляции» в 1790-х гг. и в дальнейшем. Чтобы преуспеть, кредитным структурам приходилось постоянно адаптироваться ради удержания доверия сменявших друг друга поколений инвесторов. Английский государственный долг сначала пришлось консолидировать в постоянный и непогашаемый капитал; затем пообещать выплату долгов; а в период революционных и наполеоновских войн понадобились как увеличение налогов в беспрецедентных масштабах, так и отказ от металлического стандарта при конвертации валюты с целью укрепления финансовой системы в эпоху тотальной войны. Ради достижения успеха от английского правительства по-прежнему требовалась разумная стратегия. Но, возможно, в первую очередь было необходимо сохранять экономический рост с целью создания налогооблагаемой прибавки к валовому внутреннему продукту. Ни один из этих моментов нельзя было гарантировать или хотя бы предвидеть. Мирное потребление хлопчатобумажных тканей в качестве источника зарубежных прибылей сохраняло большее значение, чем военные потребности, и кроме того, существует не до конца опровергнутое мнение о том, что «мирные» инвестиции в рост британской экономики были вытеснены финансированием войны — иными словами, что британская экономика могла бы достичь более крупных успехов, если бы не почти постоянные войны с 1793 по 1815 гг. — сперва с Конвентом, затем с Наполеоном. Французская экспансия привела к таким серьезным изменениям в расстановке сил, что изоляция не могла стать серьезным политическим выходом. Потенциальное закрытие европейских рынков для британских товаров грозило обернуться долговременными экономическими издержками. Противники гипотезы о «вытеснении» указывают, что ведение военных действий подняло общий уровень спроса и позволило сконцентрировать рабочую силу и ресурсы, которые иначе оставались бы недоиспользованными. Налоги и займы на ведение войны стали возможными благодаря повышению национального дохода, который, возможно, не имел бы места, если бы не рост государственных расходов в результате войны. Великобритания не обошлась бы без роста населения, составившего в 1791–1811 гг. от 3,7 до 4,3 млн человек; без него экономические затраты на ведение войны могли бы оказаться непосильными. Кроме того, Британия нуждалась в колониальных захватах и случайных приобретениях в смысле усиления колониального проникновения после событий 1807–1810 гг., хотя здесь также существует контраргумент, согласно которому британская заморская торговля с «периферией», то есть 61 с Латинской Америкой, Карибским бассейном, Африкой и Азией обеспечивала не более 15 процентов инвестиций в промышленную революцию. Если этот аргумент верен, то стоила ли британская политика «синей воды» потраченных на нее денег? Опять же, как и в случае с войной на континенте, ответ скорее всего следует искать в контраргументе о том, что проникновение других стран на колониальные рынки впереди Британии и их закрытие для британского экспорта могло привести к серьезным экономическим потерям: например, в 1808 г. британский кабинет полагал, что «промежуток между захватом французами власти в самой Испании и оккупацией ими испанских заморских колоний может оказаться очень коротким…» Что могло случиться с британской долей во всемирной торговле, если бы Британия была вынуждена выпрашивать мир у Наполеона, который, в свою очередь, старался обратить свои военные успехи в континентальной Европе в экономические преимущества? Вполне вероятно, что в самой Великобритании наблюдалось чистое снижение инвестиций, объясняемое эффектом «вытеснения» в военное время, однако экономические выгоды, следующие из устранения угрозы, которую представляло собой самое могущественное из «старорежимных» государств континентальной Европы, явно перевешивали эти убытки: общая стоимость французского экспорта в 1788 г. вновь вышла на тот же уровень только около 1826 г. Не проводя энергичной политики списания долгов, Франция в 1789 г. не могла позволить себе сохранять статус великой европейской державы. Революционный переворот и войны 1792–1815 гг. привели к утрате ею своей относительной позиции как серьезной угрозы для британского экономического господства. Перевод с английского Николая Эдельмана 62 . i i i ¹ k Р услан Хестанов m bb b Интригующее описание математически выверенной организации рынков в Китае (середина xix века) представил в своих лекциях в Университете Дж. Хопкинса Фернан Бродель в 1976 г. Он очертил единую для всей территории Срединной империи структурную матрицу, в соответствии с которой определялось пространственное расположение городов и деревень, расстояния между ними внутри уездов, областей и регионов. Матрица выглядела следующим образом. Небольшой город — вокруг него расположено от 6-ти до 10-ти деревень, причем на таком расстоянии, чтобы крестьянин в течение одного светового дня мог сходить туда и обратно. Такой многоугольник с городским центром образовывал уезд. Но и расположение самих уездов было подчинено аналогичному принципу — они размещались вокруг крупных городов на соответствующем расстоянии. Геометрическая правильность организации рыночной сети обретала характеристики системы благодаря тому, что на эту пространственную конфигурацию накладывался календарь работы городских рынков: расписание их работы составлялось таким образом, чтобы даты не совпадали. Таким образом, торговцы имели возможность переходить с рынка на рынок, из одного места в другое, не пропуская ни одного рыночного дня. Детально эта система иерархии городов и населенных пунктов (в которой административные границы далеко не всегда совпадали с физиографическими), а также алгоритмов китайских рынков, была описана Уильямом Скиннером. Уезды, как «физиографические единицы», и крупные торговые центры образовывали, в свою очередь, девять крупных региональных систем, в каждом из которых находил. Бродель Ф. Динамика капитализма. Смоленск, 1993. С. 35–36. . Ed. by G. William Skinner. The City in Late Imperial China. Stanford: Stanford University Press, 1977. P. 211–252, 275–352. 63 ся столичный региональный центр. Девять главных китайских регионов были относительно автономными и самодостаточными. Каждый из крупных регионов представлял собой систему городов и соответствующих рынков, объединенных общим водным бассейном (системой рек и сетью оросительных каналов). Столь сложная система организации территорий, расписаний работы рынков и коммуникаций складывалась не как результат тщательно разработанного в едином центре плана. Вопреки расхожему мифу о Китае, как о сверхцентрализованной империи, бюрократия здесь была малочисленной. Уильям Скиннер подчеркивает, что у центральной администрации были довольно ограниченные возможности по непосредственному регулированию и управлению. Города уездов представляли собой своеобразные «командные пункты», которые были самым низшим звеном имперской административной вертикали. При этом административные аппараты уездов были всегда предельно малочисленными, если принять во внимание те результаты, которых добивалась имперская бюрократия в контроле и организации территорий. Отсюда возникает вопрос: каким образом, вопреки административно-бюрократическому минимализму, имперская власть добивалась эффективного и системного контроля над обширной территорией и высокой степени хозяйственной координации между территориально-хозяйственными комплексами? Какова природа этой географической и хозяйственной координации и четкости? Общий план этой великой китайской гармонии трудно объяснить с помощью теорий, которые рассматривают креативные, управленческие возможности государства и суверенной власти только через деятельность бюрократических аппаратов, регламентов и правового нормотворчества. В больших государственных формах остается незамеченным, так сказать, «второе дно» — сверхинституциональные (сверхюридические, сверхбюрократические и пр.) техники управления и контроля. Чтобы разглядеть эти сверхинституциональные техники, следует выйти за пределы феноменальной непосредственности — приказа, распоряжения и прочих форм явного принуждения. В этом случае анализ будет сосредоточен не на внутренней рациональности государственного управления, а на арсенале его техник. b k Сверхинституциональный (или глобальный) режим государственного управления Мишель Фуко описал через процесс перманентной этати. Многие известные историки считают китайскую бюрократию в целом довольно эффективной. В особенности потому, что она была малочисленной. «Успехи бюрократического контроля кажутся тем более значимыми, что достигнуты они были сравнительно малыми силами» (Малявин В. Империя ученых. М., 2007. С. 88.) 64 . i i i зации. В самом общем смысле под этатизацией он понимал повышение уровня управляемости общества. Управлять — значит определять структуру возможному полю действий подвластных субъектов, то есть влиять на «поступки», стандартизировать действия и мотивы женщин и мужчин, семей, родов, общин, рынков, производств и пр. Что означает сверхинституциональное управление на более конкретном уровне? Это действие особого аппарата (в терминологии Фуко «диспозитива»), в котором классические государственные институты находят свое продолжение в организационных формах социальной жизни. Там, где директивы (приказы), законы, регламенты не действуют, начинается работа сверхинституционального государственного управления и сфера компетенции «косвенной власти» (так называл Карл Шмитт такие институты, как церковь, муниципальные автономии, цеховые союзы, городские и сельские общины и пр). Именно посредством этих «косвенных властей» государство укоренено, интегрировано в социальном мире и оказывает на него глобальное влияние, незаметное в деятельности органов власти. Примеры формирования таких сверхинституциональных аппаратов мы находим в эпоху династии Мин (1368–1644), когда закладывались основания имперской государственности, просуществовавшей вплоть до начала xx в. Новый имперский стиль правления был предопределен одним важным процессом: формирование того, что сегодня все еще принято называть «традиционной родовой китайской общиной». «Первоначальным китайским хозяйственным строем было, как мы знаем, родовое хозяйство, которое и доныне сохраняет силу в китайской деревне, где каждый род имеет свой маленький храм для культа предков, свою школу, совместно хозяйничает и сообща обрабатывает пашню», — пишет Макс Вебер в своем исследовании «История хозяйства» . То что Веберу казалось «первоначальным китайским хозяйством» стало результатом социальной революции, которую совершили правители династии Мин. До них центрами местных сообществ были храмы и буддистские монастыри, владевшие обширными землями и обладавшими привилегированными отношениями с властью. Население в массе своей отправляло буддийские культы. Только аристократии и высокопоставленным чиновникам позволялось исповедовать конфуцианский культ предков. В районе дельты Жемчужной реки (Чжуцзян), откуда правители Мин распространяли свой суверенитет на территорию всего Китая, существовало разительное отличие между сознанием идентичности правящих элит, Яао («народом гор»), и подвластным населением, Дан («народом воды»). Отсутствие общего культа и общей государственной идеологии препятствовало прочному закреплению власти. Но главная . Вебер М. История Хозяйства. Город. М., 2001. С. 45. 65 проблема проявилась сразу после того, как была первая перепись населения и регистрация земель. Был открыт важный инструмент повышения эффективности налоговых сборов и созданы основы для развития барщины и денежного налогообложения. Между тем в отношениях земельной собственности не было необходимой ясности — за конкретным участком земли трудно было зарегистрировать определенного собственника. Правители Мин решились на радикальные преобразования как в сфере культов и идеологии, так и в хозяйственных отношениях. В 1530 г. простолюдины получили право совершать жертвоприношения «предкам основателям», что стремительно демократизировало идеологию неоконфуцианства. Имперские власти всячески поощряли коллективные жертвоприношения предкам, реальным или воображаемым, деревней или группой деревень. Чувство родовой идентичности и принадлежности быстро проникало в деревню вместе с культом предков. У государства появилась возможность избежать регистрации земли за индивидуальными владельцами, допустив ее запись на владельцев коллективных, а именно на имя предков появившихся родовых общин. С этого момента родовые общины довольно скоро трансформировались в настоящие корпорации. А «семейные предприятия» становились универсальной формой жизни коллективов не только в деревнях, но и в городах. Эта форма производства, жизни и самоуправления оставалась широко распространенной в Китае вплоть до 1949 г. Именно из нее выросли гигантские и богатые роды Южного Китая. Родовые коллективы изменили лицо города и деревни так, что храмы предков стали центральными для всей социальной жизни, в то время как храмы местных божеств были вытеснены на ее периферию. Превращение конфуцианства в традицию, в норму жизни южнокитайского общества совпала с кампанией разрушения народных храмов, в числе которых были и буддистские монастыри (две большие кампании 1489 и 1521). В 1537 министр ритуалов Ху Тао (Huo Tao) организовал погромы даже монастырей Пекина. Беспрецедентное по масштабам распространение неоконфуцианских институтов родства шло параллельно с созданием условий для единства народа и просвещенного чиновничества. А родовое сознание воплощалось как в ритуалах, так и в особых формах коллективного владения землей. Неоконфуцианский род превратился в привилегированный объект управления и патроната государства, удобный в качестве единицы наблюдения, налогообложения и других форм контроля. И хотя в последующем между имперской бюрократией и общинами зачастую возникали серьезные конфликты, между ними не существовало отношений взаимного исключения. Свобода и автономия рода была условием слаженного функционирования имперской власти. . David Faure. Emperor and ancestor: State and lineage in South China. Stanford: Stanford University p ress, 2007. P. 193. 66 . i i i Однако ни творцы, ни участники управленческой революции не исходили в своем социальном творчестве из какого-либо общего плана реформы. Родовая община, как сложившийся аппарат сверхинституционального управления, не была плодом материализации конкретной идеи. Она стала результатом сложной динамики, которая сочетала в себе ситуативную серию выборов между альтернативами, адаптацию к социальным условиям, императив по изъятию прибавочного продукта, а также использование классических инструментов управления — приказ, регламентацию, статистику и пр. Учреждение родовой общины — важный и интересный момент в области китайского администрирования. Хотя новая социальная форма насаждалась жестоким насилием со стороны государства, на первых порах роды получили множество прав в области простейшего администрирования. Малоизвестен факт, что основатель династии Мин император Чжу Юань-чжан запретил чиновникам под страхом смертной казни вмешиваться в дела общин и даже покидать свои города, где были расположены административные управления. Правда, эта новация протянула не очень долго. И все же некоторые его элементы сохранились. Например, малочисленность административных структур. Позже, в xvii и xviii веках, произошло обратное движение — общение между представителями администрации и населением восхвалялись как достоинство, а мобильность глав администраций всячески поощрялась. Похоже, что вопрос о полноте самоуправления и о том, насколько «плотным» должно быть общение чиновников с родовыми общинами, на протяжении последующих столетий так и остался без однозначного ответа. С одной стороны, чрезмерная опека и вовлеченность чиновников в дела общин приводила к коррупции аппарата, а также к невыносимо тяжелым поборам. С другой стороны, недофинансирование аппарата вынуждало администраторов создавать неподконтрольные имперской вертикали дополнительные фонды. Эта так никогда и неразрешенная дилемма красной нитью проходит через учебник для функционеров Хуан Лю-хуна, главы уездной администрации Тэнчэна на юго-востоке провинции Шаньдун (впервые опубликован в 1694 г.) «Мы — другие», — так обращается Лю-хун к своим коллегам. Чиновники — это почти невидимые глазу публики актеры театра Кабуки, одетые во все черное. Лю-хун советует делать все, чтобы отслеживать любые контакты между личной резиденцией управляющего администратора и внешним миром: внутри, как и снаружи, люди стремятся обмануть администратора. Только доверенное лицо может быть посажено у окошечка, через которое передаются разные документы и через которое запрещены всякие разговоры. Но, по определению, сам контакт с внешним миром и населением делает это доверенное лицо кор. Huang Liu-hung. A Complete Book on Happiness and Benevolence: a manual for local magistrates in xvii th century China. The University of Arizona Press, 1984. 67 румпированным. Поэтому резиденция и персонал служащих должны быть максимально изолированы и отчуждены от местного населения. С другой стороны, автор учебника формулирует важное правило — функционер должен знать всех «лично», все проверять и разоблачать всех тех, кто пытается его обмануть. Ему необходимо самому посещать деревни, проводить там уголовные расследования, улаживать конфликты собственности, инспектировать состояние урожая. Должна ли нас смущать возникшая двойственность? С одной стороны, родовая община рассматривалась чиновниками как мир, совершенно отчужденный от аппарата управления и подлежащий опеке. С другой стороны, мы утверждаем, что родовая община, как социальная единица, была интегрированной частью сверхинституционального управления, в которой воплощалось сразу несколько важнейших компетенций и функций: производство, база налогообложения, отправление культа, сознание коллективной идентичности, самоорганизация и самоуправление. Государственное управление, на наш взгляд, эксплуатирует и драматически разыгрывает такую двойственность. На ней основаны все успехи непрерывного процесса этатизации. На всех уровнях имперской бюрократии мы обнаруживаем то же недоверие к другим инстанциям управленческого аппарата. Так, в учебнике Лю-хуна явным образом проводится отождествление «стражей порядка» и бандитов. Во введении к главе «Бандитизм» он утверждает, что полицейские — это преступники: «люди, презирающие закон и зависящие в том, что касается одежды и питания от банд». Нельзя видеть в этом лишь стиль китайского имперского правления. Да, типичной практикой китайских ямэней (уездных администраций) было дробление и фрагментация полицейских сил, учреждение параллельных иерархий, как военных, так и гражданских. Главы низовых звеньев администраций всячески боролись с альтернативными монополиями на силу в своих уездах. Но ровно такая же тактика применялась на уровне провинций и в имперской столице. Та или иная практика отчуждения неизбежно культивируется внутри любых государственных аппаратов. В современных политических теориях она проходит под разными рубриками. Например, «баланса сдержек и противовесов» или «коррупция». И то и другое можно рассматривать как проявления сверхинституционального государственного управления. К той же категории можно отнести даже современные квазинезависимые от государства рыночные институты. Актуальность текущего глобального кризиса требует прояснения последнего тезиса о рынках. Оно и будет нашим заключением. Необычный по масштабам финансовый и экономический коллапс вернул политико-экономические дискуссии к проблеме, которая обсуждалась на протяжении всего прошлого столетия — в какой мере государство должно участвовать в регулировании рынка, насколько ры- 68 . i i i ночные институты способны к автономной навигации и самостоятельной коррекции. Кризис резко изменил вес спорящих сторон в пользу критиков неолиберальной дерегуляции и сторонников активного государственного вмешательства. С точки зрения доктрины Мишеля Фуко об этатизации, развитие рынков всегда отражало стремление к росту управляемости и контроля. Либерализм превратил различие между государством и рынком в политическую универсалию; Фуко разглядел в этой идеологической дизъюнкции конкретную форму схематизации, типичную для современной технологии управления. Рынок в либеральной критике и управленческой практике «сыграл роль „теста“, места привилегированного опыта, в котором можно заметить результаты избыточного государственного управления и даже измерить эту избыточность» . Расположив рынок рядом с государством, либерализм получил принцип критики реальности, с помощью которого он всегда покажет, что действия государственного управления избыточны. Для китайской имперской бюрократии таким же камнем преткновения и формой схематизации технологии управления был вопрос о мере вмешательства государства в родовую общину. Рынок у современных либералов и община в китайских учебниках по управлению в одинаковой степени прошли процедуру доктринальной натурализации и превратились в объекты привилегированного управления и опеки. . Дискуссия о необходимости регуляции или дерегуляции излишне идеологизирована. Ведь даже самые радикальные неолибералы выступали за усиление регулирующих функций государства в области патентного права или авторских прав столь же рьяно, как и за свободный рынок. Они же внесли инициаторами таких изменений в американском законе о банкротствах, которые потребуют еще большего государственного вмешательства в экономику. . Филипп Кун отмечал, что недостаточное финансирование местных властей вынуждает их жить за счет дополнительных налогов и поборов, которые не контролируются и не отслеживаются чиновниками более высокого уровня; такое положение создавало существенные возможности для коррупции, и к концу xviii в. относится изобилие свидетельств о многочисленных проблемах, связанных с этим обстоятельством. Были ли общие проблемы местного управления, характерные для конца xviii и xix вв., свойственны и более ранним десятилетиям династии Цин, еще предстоит выяснить. 69 k : a jb kb Р. Бин Вон b a k Вопросы налогообложения занимают ключевое место в процессе формирования современных западноевропейских государств. С одной стороны, европейские правители xvii и xviii вв. постоянно стремились увеличить свои доходы и ресурсы, чтобы иметь средства для ведения войн и содержания бюрократического аппарата, управляющего подданными государства. С другой стороны, торги в отношении налогов стали тем фундаментом, на котором развивались институты представительной власти. При этом от процесса формирования современного западного государства аналитически оторваны те признаки, традиционно приписываемые современному государству, в число которых входит система налогообложения, управляемая законом и отвечающая некоторым представлениям о справедливости и равенстве, являющимся предметом общественных соглашений. С другой стороны, несомненно, что процесс формирования современного западного государства и признаки системы налогообложения, присущей современному государству, эмпирически связаны с западными образцами. Удастся ли выявить их связи с другими частями света? Иными словами, в какой степени процесс формирования современного государства повлиял на особенности современной системы государственного налогообложения при отсутствии политических изменений, характерных для Западной Европы и Северной Америки? Китай представляется превосходной площадкой для рассмотрения этого вопроса вследствие его долгой истории превращения в современное государство, а также богатых традиций налогообложения. Мы попробуем показать, что происходившие в Китае политические преобразования оказали определяющее влияние и на его современную фискальную систему, или, выражаясь более конкретно — что налоговая 70 . i i i система, созданная в в середине xx века, имела недвусмысленную цель решить фискальные проблемы предыдущего столетия, которые служили косвенным обоснованием определенных идеалов и стандартов государственной деятельности, имеющих еще более давнюю историю. Проблемы фискальной реформы и, в первую очередь, взаимоотношения между центральными, провинциальными и местными финансами, получившие особую остроту в 1980-х и начале 1990-х гг., в аналитическом плане можно рассматривать и как преграду на пути административной рационализации, и как элементы „зависящего от пути“ (path-dependent) набора политических возможностей для изменений, которые переплетаются с новыми способами торга между заинтересованными сторонами в современном Китае. a k b Провозглашенные династией Цин принципы хорошего управления (good governance) включали и облегченное налогообложение. Историки в целом скептически относятся к этим притязаниям, приводя примеры тех областей, в которых налоги однозначно превышали официально установленный уровень . Экономисты и политологи нередко указывают, что государства стремятся повысить свои доходы точно так же, как деловые предприятия стараются увеличить прибыль. Однако эти соображения уводят нас от рассмотрения тех отношений, в которых задача облегченного налогообложения представляла собой и символ, и цель хорошего управления, наделявшего стратегическим смыслом центральное правительство аграрной империи, искавшее способы эффективного поддержания своей власти. Государство Цин в xviii в. зависело в первую очередь от земельных налогов, которые в последние годы династии Мин начали взиматься не зерном, а деньгами. Кроме того, династия Цин получала доходы от соляной монополии и от налогов на внутреннюю и внешнюю торговлю. По сравнению с успешными централизующимися государствами Европы, нуждавшимися во все больших средствах для содержания армий, налогообложение при императорах Цин оставалось скромным. Однако оно не ограничивалось обычными невысокими налогами. Местные власти по большей части финансировались из отдельных источников. Кроме того, центральное правительство прибегало к дополнительным мерам по повышению доходов, включая разовые целевые налоги, продажу чинов и поборы с богатых купцов. Государство неоднократно вводило чрезвычайные налоги, когда начинало какую-либо . Низкое налогообложение входило составной частью в более обширный набор стратегий, включавших экзамены для чиновников, ротацию должностных лиц, запрет на службу в родных местах, а также плановые и чрезвычайные ревизии и проверки. 71 особенно крупномасштабную кампанию, включая военные кампании и чрезвычайные мероприятия в гражданской сфере. Но такая стратегия за первые два столетия империи Цин не стала шаблонной основой для увеличения фискальных поступлений. В противоположность европейским государствам, которые постоянно искали новые способы увеличения своих доходов и создания крупных и стабильных источников поступлений, государство Цин уже располагало широкой стандартной базой налогообложения и, расходуя куда меньше средств на военные цели, имело возможность ограниченно прибегать к экстраординарным мерам для мобилизации ресурсов. Чиновники придерживались конфуцианского идеала умеренного налогообложения, имеющего целью сохранить богатство при народе: ведь если люди останутся при своем добре, они добьются процветания, а материальное благополучие отбивает у людей охоту бунтовать. Напротив, тяжелое бремя налогов может привести к восстанию. Государство имело серьезные политические причины для того, чтобы увязывать легкое налогообложение с социальной стабильностью. Многие значительные вызовы, с которыми сталкивалась аграрная империя, возникали на местном уровне и были связаны с социальным порядком в деревне, на базе которого осуществлялась политическая интеграция. Местная социальная стабильность укреплялась путем создания и сохранения институтов, основанных на конфуцианских представлениях об общественном порядке; в их число входили зернохранилища, школы и другие институты и мероприятия социального вспомоществования. Воспитанные в конфуцианском духе местные элиты помогали чиновникам в организации и финансировании этих проектов; на их осуществление отводилась сравнительно небольшая доля государственных доходов. Таким образом, не тратя значительную часть регулярных налогов на обеспечение местного порядка и социальное вспомоществование, государство Цин тем не менее поддерживало общественный порядок на местах. В сочетании с усилиями по надзору за деятельностью людей и насаждению культурных традиций, государство осуществляло социальный контроль, эффективность которого поражает тех, чьи представления о возможностях и намерениях государства определяются в основном европейским историческим опытом. Легкое налогообложение помогало избегать и другой, менее очевидной проблемы. Система относительно легких налогов, при которой большая часть налогов уходила из уезда под надзором центрального правительства, не позволяла местным чиновникам накапливать значительные ресурсы, которые могли бы стать основой для их притязаний на независимость от центра. Ограничение способности чиновников на уездном и провинциальном уровнях собирать крупные средства и лично распоряжаться ими дополняло правительственную политику по ротации должностных лиц и недопущению их службы в родных провинциях. Цинская фискальная система xviii в. позволяла под управ- 72 . i i i лением центра мобилизовать и использовать доходы для решения различных задач, встающих перед правительством, не провоцируя конкуренцию со стороны местных и региональных чиновников, стремящихся отобрать у центра часть его полномочий. Из этого наблюдения следует, что успешность фискальной системы можно оценивать не только по уровню обеспечиваемых ею поступлений, но и по тому, как она определяет свои задачи и как их исполнение повышает или снижает жизнеспособность правительства. Государство Цин сознательно прибегало к легкому налогообложению. Поэтому максимизация доходов не является ни единственной, ни абсолютной целью для любого правительства. В частности, более изощренные технологии власти обычно связаны с такой идеологией, которая оценивает успешность государства по широкому набору критериев. Богатая традиция политической философии и политического выбора, унаследованная империей Цин, несомненно, не включала в себя требование максимизации доходов. В пространственном смысле цинские чиновники устанавливали интегративные связи в дополнение к тем, которые создавались торговлей. Если торговля соединяла различные части страны посредством важнейших транспортных артерий и способствовала экономическому развитию ключевых регионов, то чиновники налаживали связи с периферией, направляя туда ресурсы и поощряя переселение людей в эти области. В одних случаях речь идет о солдатах, посылавшихся в гарнизоны на северо-западе и юго-западе империи; в других — о гражданских лицах, осваивавших невозделанные земли или занимавшихся торговлей. Держава Цин оказывала содействие людям, селившимся на новых территориях, выдавая им ссуды семенами или деньгами для покупки тяглового скота, а также освобождая от налогов новоосвоенные земли. Кроме того, государство отправляло на периферию зерно, чтобы обеспечить поселенцев запасами продовольствия. Такая помощь не была постоянной, да и не всегда в ней имелась нужда. Тем не менее она представляет собой достаточно небанальный подход к задаче имперской интеграции. Многие политические системы, существовавшие до xix века, включая империи, стремились выкачивать ресурсы и скапливать их в политическом центре; напротив, государство Цин xviii века рассматривало заселение своих окраин как метод укрепления контроля над этими отдаленными территориями и поэтому поощряло отток ресурсов на периферию. Колоссальные масштабы империи в сочетании со стараниями правительства сохранять невысокий уровень налогообложения, но при этом перераспределять ресурсы в рамках государства, приводили к тому, что центральное правительство не обладало всей полнотой контроля над фискальной деятельностью на уездном уровне. Чиновники высших уровней всегда могли предпринять чрезвычайное расследование с целью вскрытия накопившихся проблем, и эта возможность в принципе удерживала местных чиновников от грубого нарушения норм легкого налогообложения. Политическая экономия аграрной империи в целом вынуж 73 дала государство уделять повышенное внимание вопросам водопользования, созданию запасов продовольствия и насаждению прогрессивных технологий в сельском хозяйстве и ремесле. На эту деятельность отвлекалась существенная часть бюрократической энергии и усилий, а порой она требовала и значительной мобилизации ресурсов. Но даже при распространенности «чрезвычайных» кампаний их потребности не обязательно вели к хроническому расширению формальной фискальной базы в китайском государстве xviii века. Фискальные запросы династии Цин фундаментально изменились лишь во второй половине xix века. Оценивая препятствия, с которыми в конце концов столкнулись эти операции, можно увидеть, каким образом усиление налогового бремени и рост расходов в середине xix — середине xx вв. подорвали представления о хорошем управлении и преобразовали китайское государство. a k k abk , 1850–1950 Начиная приблизительно с середины xix века, центральное китайское правительство столкнулось с проблемой многочисленных крупных восстаний, а также с более скромными вызовами его власти в иных сферах. Сочетание неурожаев, истощения земель и роста населения вело к слабой управляемости многих территорий. Попытки навести порядок зачастую лишь усиливали сопротивление центральным властям. В 1850-х гг. не составляло труда предсказать падение династии Цин, оказавшейся перед лицом массовых волнений при отсутствии ясных возможностей по расширению своей фискальной и военной власти, необходимой для сохранения государственной целостности. Хрестоматийный взгляд на цинское государство второй половины xix в. подчеркивает его неспособность стать эффективной силой, ведущей страну в xx век на манер государства Мэйдзи в Японии. Однако империи Цин все же удалось мобилизовать средства и живую силу, необходимые для подавления восстаний. Фискальная экспансия представляла собой ключевой компонент в преобразовании государства, которое включало отказ от прежде успешно применявшегося принципа хорошего управления, основанного на низком налогообложении. В 1849 г. доходы правительства составили около 42,5 млн лянов, причем 77 процентов этих средств было получено благодаря сельским налогам и положительному внешнеторговому сальдо. 36 лет спустя государственные поступления превысили 77 млн лянов, главным образом за счет четырехкратного увеличения торговой выручки. Ежегодный уровень расходов с 1720-х до начала 1840-х гг. сохранялся на уровне в 30–40 млн лянов. Затем он удвоился до 70–80 млн лянов ежегодно в 1860-х — начале 1890-х гг. Способность к такому резкому увеличению доходов и расходов едва ли является признаком слабого государства, даже если сделать скидку на инфляцию и на рост экономики. 74 . i i i Большая часть выросших государственных доходов собиралась императорской морской таможней. Таможенные сборы использовались не только в качестве обеспечения внешних займов, пошедших на подавление мусульманского восстания 1867 г. в северо-западном Китае, но и для строительства железных дорог в 1880-х гг. Расширение контроля центрального китайского правительства над таможенными поступлениями — явный показатель способности государства к созданию новых инфраструктурных мощностей. Если судить центральное китайское правительство конца xix в. не по постигшему его в 1911 г. краху, а в сравнении с центральным правительством xviii в., то мы увидим, что его фискальные возможности явно повысились, в частности, благодаря освоению некоторых зарубежных методов по сбору средств. Но и эти доходы меркнут в сравнении с поступлениями, собранными в 1911 г., последнем году династии, которые составляли почти 302 млн лянов, — сельские налоги возросли приблизительно c 30 до 50 млн лянов, еще 45 млн поступило из различных источников и более 207 млн лянов дали налоги на торговлю. Какими бы ни были слабые стороны позднего государства Цин, сбор средств явно не входил в их число. К несчастью, сумма, равная поступлениям за целый год, была выплачена японцам в виде контрибуции, а контрибуция за Боксерское восстание оказалась еще в полтора раза больше. Эти колоссальные выплаты привели финансы китайского правительства на грань катастрофы и в конечном счете лишили его жизнеспособности. За развитие возможностей государства по расширению доходной базы и увеличению расходов пришлось заплатить высокую цену. Даже если империи Цин и удавалось повышать свои доходы в последнее десятилетие своей истории, она так и не сумела придумать убедительное политическое объяснение того, как и почему взимаются эти налоги. Падение династии Цин в 1911 г. положило конец императорской системы правления, для последних столетий которой было характерно построение вертикально интегрированной бюрократической структуры. Крушение последней династии сопровождалось провозглашением «независимости» провинций от центра, которая в некоторых случаях снова декларировалась в 1913 и 1916 гг. Одним из важных моментов, в которых выражалось неподчинение провинций центральным властям, был отказ передавать в центр собранные земельные налоги. Из некоторых областей земельные налоги не поступали в центр вплоть до середины века, когда к власти пришли коммунисты. На центральном уровне не функционировали ни бюрократическая система xviii в. по сбору налогов, ни разработанная в xix в. стратегия взимания сборов за внутренние перевозки и пошлин на морскую торговлю. В то же время поступавшие из уездов требования выделить средства на строительство новых школ и особенно на содержание полицейских сил ложились тяжелым бременем на государственные финансы. В то время как купцы имели возможность торговаться по вопросу о ставке выплачиваемых ими налогов, крестьяне такого права были 75 лишены. Их основной способ диалога с властями по вопросу о налогах заключался в отказе от уплаты новых налогов, которые, по мнению крестьян, навязывались им в качестве платы за ненужные им услуги. Даже если они в целом поддерживали деятельность нового правительства и соглашались платить новые налоги, нерешенный вопрос о размере этих налогов и о том, сколько будет взамен получено новых товаров и услуг, создавал возможности для разногласий и для протестов. В начале xx в. простые жители Китая не имели институциональной основы для торга в отношении новых налогов — в лучшем случае они могли полагаться лишь на давние традиции коллективного сопротивления сбору налогов и индивидуальный отказ от их уплаты. В то время как простые люди протестовали против множества новых налогов, элиты вырабатывали новые критерии участия в управлении на основе идей и институтов европейского происхождения. Как при поздней империи, так и при ранней республике призывы к созданию представительных органов власти на местном, провинциальном и национальном уровнях приводили к возникновению новых политических институтов, лишенных, однако, четкой и стабильной роли. В первую очередь озабоченность у элит вызывали угрозы военной безопасности государства. Национальное воображение подпитывалось страхами о расчленении страны иностранными державами, но в реальности страна после 1912 г. распалась из-за соперничества милитаристов. Даже после того, как Националистическая партия (Гоминьдан) в 1927 г. на десять лет номинально объединила Китай, сфера ее непосредственного контроля включала лишь провинции вблизи от столицы. В других регионах власть Гоминьдана опиралась на союз с местными милитаристическими группировками, которые включались в государственную структуру. Конкуренция между военными вождями не оставляла гражданским элитам возможности для того, чтобы требовать и добиваться права голоса в политике. Стратегия поборов, применявшаяся милитаристами, не могла привести к созданию новых и взаимовыгодных отношений между ними и торговыми элитами. Милитаристские режимы не смогли обеспечить условия, позволявшие бы гражданским элитам обменивать свою поддержку в фискальных вопросах на участие в политической жизни. Гоминьдановский режим поощрял использование элитами своих ресурсов и организационной энергии для обеспечения порядка на местах, но тщательно дистанцировался от создания новых форм политического представительства и власти. Неспособность Гоминьдана создать себе надежную опору наподобие той, какая имелась у династии Цин, стала еще более явной после японского вторжения 1937 г. При этом, несмотря на то, что ожидания и возможности в сфере фискального администрирования не выходили за рамки стандартов, установленных в прежние эпохи, постоянная необходимость мобилизации дополнительных средств вынуждала гоминьдановское правительство идти на чрезвычайные меры налогообложения, далеко превосходящие все прежние по- 76 . i i i пытки такого рода. Сюда входят и принятое в начале 1940-х гг. решение создать систему государственной монопольной торговли различными потребительскими товарами, и всевозможные внутренние и внешние займы, бравшиеся и центральным, и провинциальными правительствами. Такая практика, как крупномасштабная печать денег ради получения дополнительных доходов, естественным образом вела к ценовой инфляции, которая особенно обострилась в конце 1940-х гг., когда общее расстройство экономики порождало гиперинфляцию. В течение четырех десятилетий раздробленности, японского вторжения и гражданской войны между коммунистами и Гоминьданом связь между налогами и политическим представительством, порожденная ходом европейской истории, в Китае так и не прижилась, и поэтому она не могла стать основой для китайских представлений xx в. о хорошем управлении. В Китае отсутствовали развившиеся в Европе идеологические и институциональные основы для торга по вопросу о налогах. Здесь не было ничего, напоминавшего получение определенных прав и привилегий в обмен на согласие платить налоги, типичное для Франции, где короли торговались с городами, или для Англии с налоговыми полномочиями ее парламента, которыми его в конце xvii в. наделили британские элиты. Идеалы хорошего управления, выдвигавшиеся Коммунистической партией после того, как в октябре 1949 г. она провозгласила Китайскую народную республику, восходили к более ранним представлениям о том, что государство должно поддерживать мир и насаждать материальное процветание. Новое правительство быстро установило централизованный контроль над фискальной системой. С точки зрения китайской истории xx века это достижение не имело прецедента. Но в более длительной исторической перспективе коммунисты практически лишь воспроизводили и развивали старые стратегии. Логика, лежавшая в основе принципов хорошего управления в фискальной и других областях, представляла собой явную перекличку с позднеимперскими практиками, несмотря на внешние признаки революционных изменений в политической и социальной сферах. a k ab Одной из первых фискальных целей нового китайского правительства в начале 1950-х гг. было установление централизованного контроля над финансами. Стандарты этого контроля, если не прямо, то косвенно воспроизводили крайне централизованную систему эпохи Цин, при которой провинциальные и местные власти не имели — по крайней мере, в принципе — каких-либо полномочий по введению налогов. В реальности идеал унитарного государства с централизованным контролем над фискальной системой вел к тому, что после 1949 г., почти как во времена династии Цин, значительная часть местных финансов 77 оставалась вне поля зрения центрального правительства. Столичные власти на практике терпимо относились к наличию неподконтрольных им местных финансов, хотя и не спешили узаконить это положение ни в xviii в., ни после 1949 г. Несмотря на то, что сложившееся после 1949 г. государство колоссально расширило свой бюрократический аппарат и использовало для выражения своих политических представлений коммунистическую риторику, не имевшую очевидных параллелей с конфуцианской риторикой эпохи Цин, фискальная власть центрального правительства на местах первоначально оставалась ограниченной, и одна из стратегий по расширению этой власти — а именно сохранение за собой права на проведение чрезвычайных расследований — представляла собой воспроизведение если не буквы, то духа некоторых принципов, применявшихся двумя столетиями ранее. В республиканскую эпоху местные власти собирали значительные средства, которые никогда систематически не контролировались властями на более высоких уровнях. Можно было бы ожидать, что коммунисты, придя в 1949 г. к власти, предпримут более агрессивные усилия по установлению контроля над бюджетом местных властей. Но такой подход стал заманчивым лишь в 1980-х гг., когда появились новые возможности по сбору местных налогов, сопутствующие широкому распространению городских и сельских предприятий ( tve ). Так наметился коренной отход от прежних фискальных практик, свойственных конфуцианской и коммунистической эпохам. В 1980-х — 1990-х гг. центральные власти приступили к поиску нового механизма мониторинга и контроля над поступлениями, прежде не учитывавшимися в общегосударственном бюджете. К тому времени доходы местных властей многократно перекрыли уровень, дозволявшийся цинским правительством. С точки зрения центрального правительства реформаторской эпохи, главной проблемой, связанной с ростом этих внебюджетных поступлений, было наличие огромного числа лиц, распоряжавшихся этими деньгами всевозможными способами, что сильно затрудняло стандартизированное использование данных фондов. Центральное правительство поставило перед собой цель ввести более жесткий контроль над местными доходами и бюджетами, четко отделив их от своего собственного бюджета. Такое разделение доходов и расходов удачно работает в тех местностях, которым экономические реформы пошли на пользу. Как правило, это те уезды и провинции, в которых стремительно развиваются новые формы производства. Большинство из них находится в восточных прибрежных регионах. С другой стороны, отсутствие быстрого экономического роста на большей части западной половины страны имеет своим следствием слабость фискальной базы, на которую могли бы опираться в своей деятельности местные власти на манер уездных властей в восточной части страны. Экономические причины растущего разрыва между восточным и западным Китаем непосредственно следуют из той легкости, с какой раз- 78 . i i i виваются негосударственные торговые и промышленные предприятия в восточных прибрежных районах, и тех затруднений, с которыми сталкиваются такие предприятия в западных глубинных областях. Инвестиции в более богатые части страны стремительно возрастают по нескольким причинам. Новая финансовая политика поощряет накопление капитала и инвестиции, как государственные, так и частные. Местные и провинциальные власти удерживают у себя часть увеличившихся доходов от налогов с быстрорастущей экономики и инвестируют эти средства в создание условий для дальнейшего экономического роста. Напротив, задача реформирования государственных предприятий тяжелой индустрии ложится непропорционально тяжелой ношей на западные провинции, обремененные этими предприятиями с их колоссальными убытками, которые нуждаются в значительном финансировании со стороны центрального правительства, чтобы остаться на плаву. Растущий разрыв между регионами в 1990-е гг. создал пространственное неравенство, своим уровнем превышающее то, что наблюдалось в бывшей Югославии и Индии. Обозреватели вслед за Дэн Сяопином выражают обеспокоенность тем, что региональное неравенство может стать одной из главных причин для социальных волнений, если правительство не сумеет обеспечить более быстрое экономическое развитие западной части страны. Проблема перевода источников экономического роста из развитых в периферийные регионы в новом тысячелетии оказалась намного более сложной, чем двумя столетиями ранее. Во времена династии Цин чиновники могли инвестировать средства и способствовать насаждению аграрных технологий на периферии, рассчитывая на частичное воспроизведение наилучших технологий, адаптированных к местным условиям. Сейчас же создание различных институциональных инфраструктур, на которые опирается торгово-промышленная экономика, является гораздо более трудным делом, чем при аграрной экономике. Большое значение имеют различия в местных условиях. Задачи политической экономии усугубляются изменениями в налоговой политике. Двести лет назад центральное правительство имело возможность мобилизовать ресурсы развитых провинций и направлять их в менее развитые регионы. Уровень налогообложения в богатых областях был более высоким. Однако в 1990-е гг. самый низкий уровень налогов был характерен для таких приморских регионов, как Гуандун и Хайнань, а самый высокий — в наименее развитых территориях, таких как Тибет и Цинхай. Но несмотря на более тяжелое бремя налогов в бедных регионах, объемы поступлений в богатых провинциях были намного выше, главным образом благодаря высоким объемам внебюджетных доходов в развитых регионах. Фискальные взаимоотношения между центральными и местными властями остаются сложными. С одной стороны, центральное правительство прикладывает усилия к тому, чтобы наделить местные власти известной фискальной автономией. С другой стороны, государство 79 стремится расширить свои возможности по мониторингу за фискальными операциями на всех уровнях; сюда входит и право центрального правительства на аудит местных властей. Фискальные реформы 1994 г. в каких-то отношениях увеличили, а в каких-то уменьшили уровень автономии местных властей. Уровень явно признаваемой автономии в отношении независимых фискальных поступлений повышался одновременно с расширением бюрократических возможностей по мониторингу автономных финансовых операций. Эти происходившие в Китае процессы укладывались в рамки общей глобальной тенденции к усилению фискальной децентрализации, которая наблюдается в самых разных экономических и политических условиях. Фискальные реформы являются одним из признаков государственных преобразований, происходящих по всему земному шару, а в случае Китая они, безусловно, приводят к отказу от давно сложившейся практики. Китайское государство, как и многие другие государства, в своих фискальных реформах стремится к достижению как эффективности, так и большего равенства, но каким образом согласовать эти требования и добиться приемлемого компромисса между ними, не вполне ясно. Собственно, непросто дать определение самому понятию «равенства», хотя общепризнанно, что усиливающиеся диспропорции между «Востоком» и «Западом» в Китае требуют принятия каких-то мер, под которыми многие понимают перевод ресурсов в более бедные провинции, происходящий под контролем правительства. В то время как это явление в последние годы приобретает все более серьезный характер, идея выравнивания региональных диспропорций в политическом плане является очень древней, присутствуя в прежних представлениях об имперской интеграции и о том, как обеспечить единство нации. a k ab k k В дискуссиях о фискальной реформе в прошлом десятилетии упор делался на «научность» и «рациональность». Китайские правящие круги подвергали критике некоторые ситуации, при которых не соблюдались эти требования, и утверждали, что цель реформ состоит именно в их обеспечении. В частности, наблюдатели отмечали, что распределение руководящих полномочий «нерационально», что разделение налогов на разные типы «ненаучно», а сам сбор налогов не стандартизирован. Но вопрос о том, какие средства «рациональны», не всегда ставится с достаточной четкостью; например, призывы к созданию «рациональной системы трансфертных выплат» или «научной системы трансфертных выплат» не обязательно бывают связаны с проблемой определения уровня налогов. Другие авторы утверждают, что на фискальную администрацию возлагается «научная ответственность». Использование подобной риторики превращает щекотливые политические вопросы, в рамках которых 80 . i i i могут сталкиваться интересы различных группировок, в объективные проблемы, подлежащие решению по определенным правилам. Кроме того, такая риторика служит для должностных лиц основой для оправдания их политики, не всегда носящей однозначный характер. Приверженность китайских исследователей и аналитиков к понятиям «научности» и «рациональности» ведет к тому, что выбор в пользу того или иного решения выглядит объективным и необходимым. Тем не менее в Китае развернулись обширные дискуссии по самому широкому кругу фискальных вопросов. В десятилетие 1985–1995 гг. аналитики вели споры о том, каким образом государственной фискальной администрации следует контролировать различные сферы финансов, включая бюджеты, внебюджетные источники, кредиты и государственные предприятия. Кроме того, проходили дискуссии о том, какие именно черты делают эту фискальную систему социалистической. Хотя все исследователи, отвечая на этот вопрос, в первую очередь выделяли отношения собственности, некоторые также были склонны уделять особое внимание использованию государством фискальных механизмов для накопления капитала и руководства экономическим развитием. Постановка вопроса о встающих перед Китаем фискальных задачах как проблемах, требующих рационального и научного решения, включает в себя и исследование условий в зарубежных странах. Предполагается, что практика, используемая в более развитых обществах, более рациональна и научна, а следовательно, достойна изучения и подражания. Китайские аналитики отмечали и глобализацию экономики в 1990-е гг., и развитие национальных систем налогообложения в соответствии с требованиями рыночной экономики. По мнению некоторых аналитиков, обзор иностранной фискальной практики создает общий политический контекст, в рамках которого Китай может делать свой выбор. В зарубежных примерах эти авторы усматривают общую тенденцию к стандартизации разных типов налогов и практики их сбора, а также ко все более рациональному распределению налогов в соответствии с увеличением местных фискальных затрат. Все эти темы служат обоснованием для происходящего в Китае процесса налоговых реформ. Однако чего авторам не вполне удается, так это объяснить, каким образом следует вести торг между различными уровнями власти при отсутствии четких структур для таких дискуссий. Возрождение китайского национального государства после поражения японцев во Второй мировой войне представляло собой возвращение к идеалам единообразия и интеграции, в последний раз успешно претворявшимся в жизнь при династии Цин. Китайское государство уже в xviii веке имело крупную и сложную бюрократическую структуру, а несколькими столетиями ранее решило задачу конкуренции с хорошо организованными элитами наподобие европейской знати, городских элит и духовенства. Принцип хорошего управления в xviii в. опирался на усилия императора и чиновников центрального 81 правительства, агрессивно осуществлявших политику, направленную на воплощение неоконфуцианских принципов социального порядка, и в то же время сохранявших относительно легкое налоговое бремя. Даже когда элита вносила свой вклад организационными талантами и деньгами, бывали времена, когда государству требовалось больше ресурсов и людских рук для осуществления своих целей. В этих случаях проводились так называемые кампании. Когда во второй половине xix века у китайского государства возникла хроническая потребность в финансах, у элит не нашлось характерных для Европы идеологических или институциональных средств для того, чтобы отвергнуть или смягчить запросы центральной власти. В распоряжении простых людей имелось еще меньше возможностей для отказа от новых поборов, что привело к их массовому участию в различных акциях протеста и сопротивления как принципиального способа заявить о нарушении старых норм. В первой половине xx века увеличивающиеся потребности местных общин в ресурсах влекли за собой все более частый отказ отдельных лиц от уплаты налогов и групповое сопротивление посторонним фискальным требованиям. Коммунисты, придя к власти, сумели восстановить порядок, в том числе и фискальный, не столько путем торга с населением, сколько применением такой практики, которая считалась достаточно справедливой и подкреплялась существенными возможностями по принуждению. Сопротивление фискальной политике стало для большинства людей более затруднительным и менее необходимым, чем в предыдущие десятилетия. В эпоху реформ государство по-прежнему однозначно отрицательно реагировало на попытки народа повлиять на правительственную налоговую политику, следствием чего было непрерывное выдвижение требований политического равноправия, а порой и насильственные акции протеста. В позднеимперском Китае не имелось эквивалента представительных органов, посредством которых элиты могли вести с государством торг по вопросам налогов. В свою очередь, государство не сталкивалось с необходимостью постоянно изыскивать все новые средства на ведение войн. Напротив, китайскому государству в xvii и xviii вв. удавалось существовать при относительно невысоком уровне налога на село, который дополнялся различными фискальными механизмами при осуществлении специальных проектов или в условиях чрезвычайных кризисов. Отсутствие как соответствующей идеологии, так и институтов, через которые могли быть воплощены в жизнь принципы торга, определяло иной по сравнению с Европой набор политических возможностей для государственных преобразований. Чиновники де-факто вступили в альянс с местными элитами, включавшими в себя отдельных лиц, прошедших экзамены на получение должности, а также людей, знакомых с уче- 82 . i i i нием Конфуция и получавших значительные доходы от землевладения или от коммерции. Именно эти местные элиты помогали финансировать и содержать такие институты общественного порядка, как школы, зернохранилища и пр., путем «пожертвований», которые формально не учитывались в бюджете центрального правительства. Постимперские власти, включая те, что существовали до и после 1949 г., продолжали вынашивать планы создания элит, приближенных к правительству. Они старались направить чаяния элит и народа, стремившихся к участию в политическом процессе, на решение местных проблем и мобилизовать массовую поддержку, выражающуюся в символическом одобрении административных решений, принятых на высшем уровне. Поскольку экономические реформы начались в 1978 г. с непрерывного усиления активности в сфере принятия решений, связанных с рыночной экономикой, центральное правительство в каких-то аспектах децентрализовало процесс принятия политических решений, а в других аспектах просто устранилось от него. В ходе этих изменений оно какое-то время в принципе продолжало устанавливать все налоговые ставки, передавая местным властям определенную долю поступлений. Однако экономические реформы ставили перед фискальной системой новые проблемы. Как и в других развивающихся странах, где наблюдается быстрый экономический рост, доходы китайского правительства, выраженные в процентах от , сократились. Еще большую тревогу у центрального правительства вызывал тот факт, что доля доходов, достигнув определенного уровня, начала в 1980-е гг. падать. К 1992 г. примерно 19% доходов центрального правительства в реальности передавалось властям более низкого уровня. Более того, наблюдалось увеличение тех доходов местных властей, которые оставались «внебюджетными», то есть не учитывались в национальном бюджете. Перед лицом этих явлений центральное правительство старалось реконсолидировать свои фискальные полномочия, в 1994 г. взяв на вооружение новые налоговые принципы, главная цель которых сводилась к увеличению доходов центрального правительства. С целью обеспечить согласие местных властей центр пошел на то, чтобы не повышать свою долю в существующих доходах, а находить дополнительные средства за счет общего роста поступлений. Впервые в истории Китая во многих местах были фактически созданы бюрократически раздельные центральные и местные налоговые администрации. Местные власти, получив более четко демаркированное пространство для своего общественного бюджета, в потенциале могут выиграть от налоговых реформ. Но и при этом основной целью пакета реформ остается возвращение центральному правительству единого контроля над налогами. Центральное правительство не только старается сохранить свое значение для политической экономии Китая в эпоху реформ, но и стремится ограничить гибкость и экономическое значение местных финансов. Однако в то же время местная фискальная практика осуществляется на арене, на которой мы наблюдаем зарождение некоторых демократических 83 политических практик. Население доказывает, что готово добровольно платить налоги в ответ на удовлетворение растущего спроса на общественные блага. В той степени, в какой люди имеют возможность решать, сколько средств тратить на те или иные проекты, они делают выбор, влияющий на их жизнь, что представляет собой основную черту демократического принятия решений. Можно указать несколько способов осуществления этого принципа. Иногда местные власти приступают к выполнению какого-либо общественного проекта и призывают население к финансовому участию в нем; если люди согласны с тем, что это достойное начинание, они оказывают ему поддержку. По крайней мере в одном городе в южной провинции Гуандун жители основали Совет директоров общественных проектов, который руководит местными усилиями по строительству и ремонту дорог, школ и больниц; существенно то, что в этот Совет не входит ни один чиновник. В целом средства на осуществление местных проектов подпадают под «внебюджетную» категорию, оставаясь вне контроля центрального правительства. Разумеется, центр всегда может попытаться остановить тот или иной проект. Подобные решения, в свою очередь, могут вызвать народное недовольство; например, от жителей уезда в провинции Аньхой начали поступать жалобы после того, как должностные лица прервали выполнение ирригационного проекта, на который уже были собраны средства. Поскольку проекты, связанные с водопользованием, зачастую могут иметь совершенно катастрофические последствия, властям более высокого уровня приходится быть особенно внимательным к начинаниям местного населения в этой сфере. Изменения в местной политической практике тесно связаны с принятием экономических решений. Например, когда в 1990-е гг. система назначений местных руководителей начала заменяться сельскими выборами, люди часто голосовали за тех кандидатов, которые, по их мнению, могли лучше других обеспечить процветание деревни. Это вело к тому, что во многих местах выбирали тех лиц, которые обладали наибольшими возможностями по расширению городского и сельского производства, поскольку промышленные предприятия на селе и в малых городах являются движущей силой экономического роста в провинции. Как и в случае с финансированием местных общественных проектов, демократические возможности оказались привязаны к улучшению материального благосостояния через участие народа в принятии решений. Сельские лидеры могут «представлять» местные интересы в прямом экономическом смысле. Потенциал политических изменений связан с экономическими изменениями. Лишь в тех уездах, в которых существуют городские и сельские предприятия, должностные лица действительно имеют в своем распоряжении средства, которые можно потратить на местные общественные блага, например, образование. Запросы же, наблюдающиеся во всех городах, вне зависимости от их финансового положения, превышают их возможности, что заставляет политологов выступать за продолжение фискальных реформ. 84 . i i i Традиционный подход к историческим изменениям, происходящим в незападном окружении, не способствует выявлению местной динамики перемен. Вместо ее поиска мы предполагаем, что перемены приводят к созданию практик, аналогичных нашим собственным, в результате взятия на вооружение моделей, почерпнутых из евро-американского опыта. Поскольку примеры такого явного заимствования встречаются весьма часто, легко сделать вывод, что тема для разговора исчерпывается подобными явлениями. Такое мнение сторонних наблюдателей нередко разделяется и участниками процесса, которые порой не осознают механизм использования ими существующего диапазона возможностей, в то время как изучение ими иностранных примеров и их адаптация к местным условиям происходят более сознательным и очевидным образом. Мы должны несколько отойти от ограниченной точки зрения самих акторов, чтобы оценить более широкие тенденции и долговременные процессы. В то время как центральное китайское правительство по-прежнему не желает даровать народу право политического голоса в отношении общих вопросов налогообложения, сфера местных общественных финансов дает примеры как принятия решений на основе участия (participatory decision making), так и его отсутствия. Повторимся, что развитие налогообложения и сферы общественных финансов в евро-американском окружении тесно переплеталось с двумя главными аспектами формирования территориальных государств: 1) формирование крупных бюрократических аппаратов и армий, позволяющих государствам выстоять в вооруженной борьбе; 2) торг правителей с элитами — процесс, определявший властные полномочия и их пределы для тех и других, одновременно закладывавший набор практических моделей для последующего демократического развития. Напротив, характерная для поздней китайской империи повестка дня правил и стратегий налогообложения задавала набор практик и ожиданий, которые определяют усилия китайского государства xx века по насаждению социального контроля и мобилизации средств для финансирования расширяющихся сфер государственной деятельности. Последние явления в китайской налоговой практике, создающие как препятствия, так и возможности для политических перемен на местном уровне, демонстрируют существование различий, несмотря на предположения о движении Китая в сторону евро-американской практики. Недавние проблемы, связанные со сферой общественных финансов и в Китае, и в западных странах, могут свидетельствовать о том, что и там, и там утрачена прежняя логика хорошего управления, из чего следует необходимость выдвижения новых претензий государства на легитимность и демонстрации новых возможностей для эффективного отправления им своих функций. Перевод с английского Николая Эдельмана 85 blb Виталий Куренной Общераспространенные дефиниции государства предписывают рассматривать его как институт политический и даже политический по преимуществу («государство — это политическая организация общества»). Такое понимание государства, однако, резко контрастирует с теми процессами, которые мы наблюдаем в современной России. Усиление государства на деле оборачивается тенденцией, которую можно обозначить все более популярным понятием «деполитизация». Последние годы мы наблюдали стремительный процесс деполитизации, который развернулся в культуре, b , обществе, захватив, наконец, саму партийную систему и ритуал выборов. Политическое стремительно маргинализуется, уходя на периферию и освобождая место какому-то иному феномену, в отношении которого распространенные политологические категории представляются не вполне нерелевантными. Объяснений ad hoc этому явлению можно предложить множество — общество устало от потрясений, не стратифицировано, а потому и не может сформулировать свои групповые интересы, индивидуалистично, ориентировано на потребление, управляемо «административным ресурсом» или телевизором. Но здесь предложена попытка проанализировать данную ситуацию в несколько иных понятиях, обратившись к работе Карла Шмитта «Эпоха деполитизаций и нейтрализаций» (1929) . Это обращение не случайно: на наш взгляд политико-правовые категории Шмитта весьма адекватно позволяют описывать и объяснять некоторые существенные особенности современной политической ситуации в том числе и в России . . Далее цитируется по Интернет-версии работы в переводе А. Филиппова Шмитт К. Эпоха деполитизаций и нейтрализаций Å Социологическое обозрение. Т. 1. 2001. № 2. . См., в частности, Куренной В. Мерцающая диктатура: диалектика политической системы современной России // Левая политика. 2007. № 1. С. 17 – 24. 86 . i i i Политическое, как известно, определяется Шмиттом через особую нередуцируемую пару категорий — категорий друг/враг, — лишенных личностного смысла (можно испытывать к кому-то симпатию, но политически быть его врагом). Государство, постольку, поскольку оно является политическим феноменом, а также поскольку оно является действительным государством, обнаруживает себя в том, что именно оно берет на себя прерогативу политической категоризации. Эта категоризация, однако, не является, согласно Шмитту, произвольной, но обнаруживает историческое измерение и определенную динамику. Последняя определяется как смена «центральных областей» культуры и общества, которые в новой и новейшей европейской истории сменяют друг друга как четыре «шага» или четыре «века»: теологический, метафизический, гуманитарно-моральный и, наконец, экономический. В этом вопросе, впрочем, мысль Шмитта колеблется. «Четыре века» у него неожиданно сменяет трехчастная система, включающая в себя религиозно-теологический, национальный и экономический период, каждый из которых резюмируется следующим принципом: «cujus regio ejus religio» (чья власть, того и вера), «cujus regio ejus natio» (чья власть, того и народ) и, наконец, «cujus regio ejus oeconomia» (чья власть, того и хозяйство — принцип советского государства). Таким образом, «государство тоже получает свою действительность и силу от соответствующей центральной области, потому что главенствующие темы споров при разделении на группы друзей и врагов точно так же определяются соответственно главенствующей предметной области». И если мы хотим понять сущность современного государства, то нам необходимо выяснить в каком «веке» мы живем, какова та центральная область, которая питает политическую витальность современного государства. Ибо только таким образом мы можем — применительно к любому «веку» — понять, в чем состоит «очевидность убеждений и аргументов, а равным образом — и содержание духовных интересов, принцип поведения, тайна политического успеха и готовность больших масс впечатлиться определенными внушениями». Государство как аппарат управления является политическим в той мере, в какой оно овладевает управлением именно в «центральной области». Можно сказать, что такое овладение центральной областью политического конфликта создает политическую инстанцию как таковую. Однако такое овладение, если развить логику рассуждений Шмитта, не проходит бесследно: дан- . Разумеется, все это со следующей оговоркой: «Я не говорю о культуре человечества в целом, о ритме мировой истории, я ничего не способен сказать ни о китайцах, ни об индийцах, ни о египтянах. Поэтому последовательность смены центральных областей [здесь] не мыслится также ни как непрерывная восходящая линия „прогресса“, ни как его противоположность, а считать ли эту последовательность восходящей или нисходящей, подъемом или упадком, — это отдельный вопрос» (Указ. соч.). 87 ная область нейтрализуется и деполитизируется, тогда как живительный для политического конфликт переносится в новую область. Чтобы сохранять свое политическое значение центр власти (государство) должно не упустить этот момент, иначе политическим может завладеть другой центр или другая группа. Например, «государство, которое в экономическую эпоху отказывается от того, чтобы самостоятельно правильно познавать экономические отношения и управлять ими, должно объявить себя нейтральным в отношении политических вопросов и решений и отказывается тем самым от своего притязания на господство». В чем, однако, состоит сущность нейтрализующей «деполитизации»? Она заключена в «технике»: «Очевидность распространенной ныне веры в технику покоится лишь на том, что могли поверить, будто именно техника представляет собой искомую абсолютно и окончательно нейтральную почву. Ведь, кажется, нет ничего более нейтрального, чем техника». Специфика позиции Шмитта состоит, однако, в том, что хотя он и выделяет технику как особую область по отношению к другим «центральным областям», однако это ее особое положение отнюдь не означает, что она в самом деле может полностью нейтрализовать политическое, приведя к установлению «вечного мира», в котором политическому в его фундаментальном смысле больше нет места. В конечном итоге, считает Шмитт, «политика достаточно сильна, чтобы совладать с новой техникой, и каковы настоящие разделения на группы друзей и врагов, возникающие на этой новой почве». Описав этот специфический взгляд Шмитта на существо политической динамики современного государства, необходимо двинуться дальше, попробовав извлечь основные выводы, следующие из данной позиции применительно к настоящему времени. Но имеет смысл задержаться на некоторых особенностях того понимания техники, которое предъявляет здесь Шмитт, чтобы несколько лучше понять те границы, которые наложили на него время и место. Во-первых, нужно отметить, что рассуждения Шмитта имеют эскизный и даже не вполне последовательный характер (например, в уже отмеченном вопросе о содержательной исторической периодизации новой европейской истории). Во-вторых, когда Шмитт подводит итог своим рассуждениям, он фактически воспроизводит одну из тривиальностей, получивших широкое распространение среди немецких философских антропологов и ранних «философов техники». Когда он пишет «Техника уже не есть нейтральная почва в смысле вот этого процесса нейтрализации, и ею будет пользоваться всякая сильная политика», — то, очевидно, речь идет о том, что техника есть всего лишь средство, т. е. пусть и необычайно мощный, но все же инструмент. Она не имеет самостоятельного значения, но обречена стоять на службе действительно политических интересов. Именно в этом смысле техника может приобрести какую угодно ценностную окраску — она может быть обращена против любого или во благо любого. Все зависит от того, что овладевает техникой. По отношению к чему 88 . i i i артикулируется данная позиция? — Шмитт пишет: «Так с самого начала двадцатое столетие оказывается не только веком техники, но и веком религиозной веры в технику». Но если речь и идет, действительно, о xx веке, то лишь о самом его начале. Критика «веры в технику» как пацифистской панацеи, безусловно, не является оригинальной в 1929 году, когда Шмитт произносит свою знаменитую речь «Эпоха деполитизаций и нейтрализаций». Вера в научно-технический прогресс, конечно, родовая особенность просвещенческого мышления как такового. Но все же специфически политическое звучание техницизм приобретает именно в xix веке. Последствия Великой французской революции, одним политическим рывком пытавшейся переустроить общество на рациональных основаниях, привело к разочарованию в планах прямой политической инженерии, что вкупе с воспоследовавшей эпохой Священного союза заставило искать обходные пути построения гуманного и рационального общества — и, прежде всего, в русле научнотехнического прогресса. Именно последний должен был косвенно помочь достичь того, что не удалось посредством прямого политического действия. В Германии с ее запаздывающим развитием особое значение имеет в этой связи неудача мартовской революции 1848 года. Неуспех парламентской либерализации вновь уводит политические устремления в отвлеченные сферы — апологетика научно-технического прогресса в форме эпатажного материализма совершенно не случайно вызывает столь напряженные дискуссии, ведь именно эту форму приобретает «религия техники», имеющая прямой политический подтекст. Марксова концепция смены надстройки на основе трансформации базиса — лишь один из протовариантов этого техницистского мировоззрения. Шмитт совершенно точно формулирует основу для такой притягательности технического мышления: «В противоположность теологическим, метафизическим, моральным и даже экономическим вопросам, о которых можно спорить целую вечность, технические проблемы имеют какую-то освежающую объективность, у них есть внятные решения, и понятно, что выход из безнадежно запутанной проблематики всех других сфер попытались найти в техничности. Кажется, будто здесь смогут быстро прийти к согласию все народы и нации, все классы и конфессии, люди всех возрастов и полов, потому что все с одинаковой очевидностью пользуются преимуществами и удобствами технического комфорта». Задержимся, однако, на этом эпизоде духовно-политической истории Германии, чтобы лучше понять интригу, стоящую за логикой размышлений Шмитта. Итак, политическое, лишенное возможности своего публичного развертывания через чаемые институты политического процесса, возвращается вновь в лоно научно-технического проекта. Но наука и техника дают прибежище такого рода мотивам уже не первый раз. В ситуации новоевропейских религиозных войн наука таким же образом рассматривалась как наиболее надежный, убедительный, но в то же время мирный способ разрешения религиозных конфликтов. Коль ско 89 ро старые книги вызывают не просто споры, но непрекращающееся кровопролитие, тогда их следует позабросить и, вслед за Декартом, обратиться к тому, что можно найти «в самом себе» и «книге мира». Изначальным условием, впрочем, при котором религия потеснилась, чтобы дать место самостоятельной науке в интеллектуальном пространстве Европы, была декларируемая религиозная лояльность со стороны науки (тот же Декарт и его онтологическое доказательство бытия Бога — прекрасный тому пример). Позабытые ныне условия контракта между наукой и религией Ф. Бэкон формулирует, например, так: «Прежде всего, науки еще сильнее и эффективнее побуждают нас превозносить и прославлять божественное величие… С другой стороны, философия дает замечательное лекарство против неверия и заблуждения» . И все же данный внешний альянс завершился масштабной секуляризацией, в результате которой наука фактически взяла на себя функции церкви (если следовать известной интерпретации Пола Фейерабенда), когда место клира заняли научные эксперты. Однако то, что вышло с религией, не вполне удалось с политической властью. Разумеется, идеал политика-философа или политика-ученого имеет древние корни, восходя к Платону. И все же именно в Новое время и период модерна этот идеал был разработан как никогда основательно и подробно. Философы Просвещения все еще довольствуются ролью консультантов при просвещенном монархе. Классики немецкой философии, лишенные такого рода влияния на властный центр, были более аккуратны в своих построениях, хотя и здесь в ходе бесконечной исторической аппроксимации предполагается постепенное совпадение позиций «власти» и «разума». Только Гегель, наиболее признанный одно время философ Пруссии, объявил о реализации разума в своем знаменитом тезисе о действительности разумного (во многом отказавшись от либеральных позиций своего доберлинского периода). Однако появляются и более амбициозные проекты, в частности, грандиозный замысел Огюста Конта, в котором обществом должны в конечном счете управлять социальные инженеры, руководствующиеся «позитивной наукой». Эта же идея, хотя и существенно видоизмененным образом, получила воплощение в советской версии марксизма, которая — по меньшей мере декларативно — наделяла политической властью партию как орган, владеющий передовой формой знания об обществе и его подлинных тенденциях. Но все же, если мы посмотрим на общую судьбу науки в xix столетии, мы увидим, что ее институционализированные формы все более и более нейтрализуются, изживая из себя ценностное и тем самым политико-идеологическое содержание. Макс Вебер — наиболее известный, но отнюдь не первый университетский ученый, декларировавший тезис о ценностной нейтральности научного знания («Наука как призвание и профессия» . Бэкон Ф. Великое восстановление наук // Бэкон Ф. Соч. в 2-х томах. Т. 1. М.: Мысль, 1971. С. 128. 90 . i i i (1918)). В русле этой тенденции лежит и идея «философии как строгой науки», опять же более известная по статье Эдмунда Гуссерля 1911 года, но в действительности поставленная на повестку дня уже в 1830-е годы xix в., фактически сразу после смерти Гегеля (Адольф Тренделенбург, Фридрих Эдуард Бенеке и др.). Таким вот образом и возникает та структура, которой оперирует в том числе и Карл Шмитт: техника (научнотехнологическая рациональность) является, по сути, нейтральной сферой, которой овладевают те или иные «политические», «ценностные» силы, «элиты» (М. Шелер) и т. д. Шмитту прекрасно известно о том, что научно-техническая рациональность на самом деле долгое время представляла собой пространство ценностной борьбы. Фактически воспроизводя тезис Вебера, он замечает: «Процесс постоянной нейтрализации различных областей культурной жизни дошел до конца, потому что дошел до техники». Так ли это? — К этому вопросу мы обратимся ниже. А пока вернемся к проблеме нейтрализации и деполитизации. Окинув взглядом современную историю или, точнее, общепринятый способ рассказывания о ней, трудно не согласиться с тезисом Шмитта о нейтрализации. Причем источником нейтрализации и деполитизации выступает именно государство: государство ограничивает безусловность религиозного конфликта, вытесняя саму религиозность в приватную сферу. Затем государство нейтрализует социально-сословный источник конфликтности, упраздняя сословия и вводя понятие равноправного гражданства. Государство смягчает экономический источник политического конфликта (будь то в советском варианте или в варианте «социального государства» всеобщего благосостояния). В своей смешанной форме социально-экономический конфликт является источником формирования партийно-парламентской системы, каковая является нейтрализованным пространством улаживания политической вражды больших социальных групп или «классов». Государство ровно таким же образом снимает этнические и культурные конфликты (посредством гражданско-правовых институтов или же, если брать новейший вариант, посредством социокультурной политики толерантности и мультикультурализма). Государство (в рамках своих учреждений) нейтрализует науку, изживая из нее ценностный элемент и требуя «чистой» науки или столь же нейтральных «образовательных услуг». (Этот список может быть, конечно, продолжен и дифференцирован.) Что же происходит с некоторой областью после того, как она подверглась нейтрализации? — Она теряет общественно-политический смысл, вытесняясь в сферу приватных интересов индивида, производства индивидуальных и индивидуально групповых различий. Или, как определяет это Макс Шелер, имеет место «тенденция к выравниванию при постоянно растущей дифференциации индивидуума „человек“» . . Шелер М. Человек в эпоху уравнивания // Шелер М. Избранные работы. М.: Гнозис, 1994. С. 107. 91 А что же происходит с этой сферой дальше? Не будет большим преувеличением (хотя здесь есть и значимые исключения, например, религия) предположить, что нейтрализация открывает пространство для действия и развертывания второй важнейшей подсистемы современного общества — экономической. Это легко объяснить тем, что экономика как система обмена нуждается в определенного рода гомогенности, гомогенности, допускающей эквивалентную квантификацию и отсутствие непреодолимых ценностных барьеров на пути этого обмена. Действительно, единственная преграда для экономической интеракции — это преграда политическая, безусловная, проводящая границу, пересечение которой не может быть компенсировано никакими «транзакционными издержками». Т. е. политическое столкновение по своей имманентной логике не может быть разрешено посредством экономической калькуляции. Но как только политическое нейтрализовано, открывается пространство для появления новых и расширения старых рынков. В этом пространстве можно сколько угодно множить индивидуальные (или групповые) дифференциации, но они не способны перейти в качественно иной, серьезный политический конфликт. Здесь можно привести следующий, возможно, несколько неожиданный пример. Важнейшим генератором политического является утопия, утопический жанр литературы. Именно утопизм является эмоциональным двигателем политических преобразований современности, без утопий невозможно себе представить ни либеральный западный политический проект, ни социалистическую систему — два основных проекта «современности», определившие политическую судьбу xx в. Как замечает Карл Мангейм в сохраняющей в этом вопросе всю свою значимость работе «Идеология и утопия», появление первой формы утопического мышления в христианской культуре — хилиазма, со всей полнотой обнаружившего свою мощь в протестантизме, — «можно считать началом политики в ее современном смысле слова, если под политикой понимать более или менее сознательное участие всех слоев данного общества в деле преобразования посюстороннего мира в отличие от фаталистического принятия всего происходящего и покорного согласия на управление „сверху“» . В чем состоит существо политического утопизма? Мангейм определил утопическое мышление следующим образом: «Определенные угнетенные группы духовно столь заинтересованы в уничтожении и преобразовании существующего общества, что невольно видят только те элементы ситуации, которые направлены на его отрицание. Их мышление не способно правильно диагностировать действительное состояние общества. Их ни в коей мере не интересует то, что реально существует, они лишь пытаются мысленно предвосхитить изменение существую. Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 181. 92 . i i i щей ситуации. Их мышление никогда не бывает направлено на диагноз ситуации; оно может служить только руководством к действию. <…> Оно отворачивается от всего того, что может поколебать его веру или парализовать его желание изменить порядок вещей» . Все формы утопического политического сознания — за исключением консерватизма, о котором мы скажем ниже, — глубоко нигилистичны (в буквальном смысле слова). Они отрицают наличную действительность, существующие структуры социального бытия. Причем отрицают таким образом, что одновременно служат руководством к действию, которое должно или радикально изменить, или полностью взорвать наличный порядок вещей. Невинная фантазия благодаря политической утопии становится кувалдой, перелицовывающей мир. Политические утопии не возникают на пустом месте и не становятся действенными на основании какой-то эмоциональной или эстетической привлекательности. Политическая утопия — оружие обделенных. Она востребована теми социальными группами, которые чувствуют себя обойденными в социальном, политическом или экономическом плане. Что же происходит, когда этим силам удается достичь того, к чему они стремились? Они становятся радикально аутопичными, превращаются в реалистов, презирающих любую политическую фантазию. Эти группы становятся консервативными, их основная задача заключается в том, чтобы сохранить существующую новую структуру бытия. Чтобы противостоять новым формам утопизма, одухотворяющим стремление к дальнейшим радикальным преобразованиям, консерватизм, однако, все же вынужден прибегать к особым идейным инструментам. По сути, он должен оживить какой-то идеей существующее положение дел. Образцовым примером такой работы и является идеалистическая система Гегеля, которую венчает уже упомянутый вывод: «Все действительное разумно». Сова Минервы консерватизма вылетает в сумерки, когда исторические события уже произошли, и надо только показать, что история подошла здесь к своему концу. Совершенно не случайно новейшее издание формулы о «конце истории» принадлежало Фрэнсису Фукуяме — американскому консерватору. До последнего времени утопия знала две основные разновидности, вышедшие из общей протоформы — хилиастического стремления построить Царство Божье на земле. Это либерально-прогрессивная утопия поступательного прогресса и социалистическая утопия революционного преобразования мира. По своим целям они мало чем отличаются друг от друга — различие только в средствах достижения этих целей. Если проанализировать советскую социалистическую фантастику, то мы, кстати, обнаружим любопытный эффект: в рамках самой социалистической системы фантастика выполняла роль мягкой разновидности либерально-прогрессивной утопии. Будущие граждане . Манхейм. Указ. соч. С. 40 – 41. 93 коммунистического мира, достигшие небывалых высот развития технологии, жили в свое творческое удовольствие, занимались познавательным покорением мира, бороздя на своих звездолетах бескрайние просторы Вселенной. Однако на фоне двухвековой борьбы либерально-прогрессистской, социалистически-революционной и консервативной форм утопизма нельзя не заметить, что в нашей актуальной ситуации мы не замечаем сколько-нибудь значимого присутствия ни одной из них. Все прежние утопические позиции маргинализовались, а их место заняла некая скучная и никого особо не вдохновляющая прозаичность и рутинность . Это легко заметить по выступлениям наших политических лидеров — в задачах удвоения , планах роста конкурентоспособности экономики, развитии правовых институтов и т. д. и т. п. нет ничего волнующе-утопического. Даже попытки вдохнуть некую эмоциональную составляющую в идеологическое сопровождение этой политики, которые не так давно предпринимал Вячеслав Сурков со своей идеей «приватизации будущего», очевидно, никого не заводят ни на труд, ни на подвиг. Карл Мангейм заметил эту тенденцию. Он связывал ее с тем, что современное общество постепенно приходит к состоянию исчезновения всякой «одухотворенности», всякой способности к подлинному «трансцендированию» реальности. Такое состояние вызвано эффектом снятия конфликтов такого рода, в которых существует отчетливо пораженная в своих ожиданиях группа, способная питать общую надежду на изменение ситуации путем утопического преобразования мира. Все социальные задачи рутинизируются, становятся прозаическими, они, как мы можем теперь сказать, нейтрализуются. Утопия тем самым теряет свое политическое значение, конвертируясь в сорт фантастической литературы для чтения на досуге. Она порождает эмоциональную компенсацию, но политически безвредна. Уже само ее многообразие, нарастающая экзотичность и коммерческое назначение свидетельствуют о ее полной политической стерильности. Предложение на рынке фантазий так велико и многообразно, что само это обстоятельство подтачивает ту слабую надежду на возвращение политической утопии, которую еще мог питать Мангейм. Это очень легко понять, пройдя вдоль ломящихся от фантастической литературы полок книжных супермаркетов. Даже если Фредрик Джеймисон способен среди этого уравненного многообразия вычленить те работы, которые . Примечательно, что Шелер в эпоху «уравнивания» связывает свои надежды с новым метафизическим прорывом, основанным на практике феноменологического «сущностного усмотрения». Метафизика для него — это «свободное дыхание человека, которому угрожает опасность задохнуться в специфике своего „окружающего мира“» (Шелер М. Указ. соч. С. 119). . См. Jameson F. Archaeologies of the Future. The Desire Called Utopia and Other Science Fictions. London — New York: Verso, 2005. 94 . i i i способны репрезентировать искомый им политический смысл утопии или утопический «импульс», по большому счету данную сферу в настоящее время можно считать политически нейтрализованной. Простой фактор коммерциализации завершает данный процесс деполитизации, который изначально требовал специальных мер. Например, цензуры, а если взглянуть более широко, то и специальных государственных эстетико-утопических проектов. Борис Гройс, как известно, трактует в качестве такого проекта сталинизм. Художники-авангардисты, выступившие с претензией на политическую власть с целью радикального преображения мира, добились того, что данный проект был принят. Правда, с некоторыми поправками: не художники определяли политику, а политическая власть взялась за эстетическое переустройство мира, тем самым радикально «нейтрализовав» пространство эстетических дискуссий (сведя их в лучшем случае до уровня взаимного доносительства). «По существу, — замечает Гройс, — Сталин был единственным художником сталинской эпохи — и в этом смысле наследником Малевича или Татлина в гораздо большей степени, нежели более поздние музейные стилизации авангарда» . (Иные, но не менее радикальные формы государственного присвоения, а тем самым и нейтрализации утопии мы находим и в противоположном лагере — чего стоит только высадка астронавтов на Луну.) Сталинизм, конечно, радикальная форма контролируемой государством политической утопии, однако если взглянуть на нынешнее положение дел, то нетрудно обнаружить и вполне современные формы столь же радикально нейтрализованного государством утопизма — «План Путина», уже упомянутая «приватизация будущего» и т. д. Все прочие формулы утопизма маргинализованы и не имеют большого значения. Согласно Шмитту, нейтрализация и деполитизация существенным образом связана с техникой. В чем состоит смысл техники? Техника в современном смысле слова — это воплощенная рациональность, наиболее эффективный способ достижения поставленных целей. В русле веберовского понятия «целерациональности» самое понятие цели имеет, однако, существенно ограниченный смысл. Цель здесь (в отличие от «ценностной рациональности») понимается как обмирщенная, посюсторонняя цель, степень приближения к которой может быть измерена. Трансцендентные цели не попадают в этот сегмент рациональности, поскольку в данном случае нет интерсубъективно приемлемых способов оценить степень приближения к ним (мы не можем сказать, например, какая из «техник» религиозного спасения является более эффективной). В этом отношении сфера политического, основанная на безусловном делении друга и врага, на экзистенциальном отрицании врага, является, конечно, нерациональной сферой. Оружие, например, как механизм поражения таких-то целей с такой-то эффективностью, вполне рациональ. Гройс Б. Сталинизм как эстетический феномен // Синтаксис. 1987. № 17. С. 105. 95 ная техника. Но вот когда оружие становится элементом военно-политического столкновения, то эта рациональность оборачивается предельной иррациональностью. Время жизни современного танка на поле боя с равным противником — всего несколько минут, хотя он представляет собой образец технологической рациональности. А, скажем, появление атомной бомбы в конце Второй мировой войны превратило в металлолом гигантские эскадрильи бомбардировщиков дальнего радиуса действия, сформированные к концу войны. Однако политическое, которое продолжает сохранять свою значимость как внешнеполитическое, не считается с очевидной иррациональностью средств, растрачиваемых на преследование неких политических целей. Действительно, сфера международных отношений продолжает оставаться не нейтрализованной сферой подлинно политического, питающей центры государственной политической власти во всем мире, но этот вопрос заслуживал бы отдельного рассмотрения. Но что конкретнее означает деполитизация и нейтрализация определенной социальной сферы, если речь идет о внутреннем пространстве государства? По-видимому, речь идет о том, что место политического столкновения занимает «техника». Но это техника особого рода. Ее можно назвать также «процедурной технологией», технологической схемой, дающей при определенных условиях определенный результат; это рационализированный алгоритм, позволяющий достичь решения или консенсуса, избегая возможности появления значимого политического конфликта. Когда Макс Шелер говорит о формах, лишенных жизни, интернациональных и при этом континуально прогрессирующих исторически, а именно о «позитивной науке, технике, формах государства и управления, юридических правилах», объединяя все это понятием «цивилизация» , то имеются в виду именно такого рода «процедурные технологии», нейтрализующие возможность политической (предельной) дифференциации. Нейтральность таким вот образом понятой техники заключается в возможности ее свободного проникновения через культурные и национальные границы (импорт такого рода чрезвычайно характерен, в частности, для России). Сказанное позволяет нам оставить в стороне вопрос о науке и технике в узком смысле слова, сосредоточившись на проблеме социальной или «процедурной технологии». Технологизация определенной сферы социальной жизни означает, по сути, прекращение спонтанности, грозящей политическими последствиями, и придание управляемого характера процессам, происходящим в этой сфере. Но проблема управляемости, понятая в то же время как проблема технологической рационализации, представляет собой проблему бюрократии. Поэтому Вебер совершенно неслучайно связывал процесс «рационализации» западного мира с процессом распространения рационально-бюрократи. Шелер М. Указ. соч. С. 109. 96 . i i i ческого аппарата. Нет, таким образом, ничего удивительного в том, что процесс нейтрализации имеет своей обратной стороной бюрократизацию — тенденцию, рост которой исторически фиксируется во всех современных обществах. Попутно нетрудно также заметить, что как только государство стремится подогреть в обществе политический дух, апеллируя к спонтанности и жизненности социальных сил, как тут же заводятся популистские речи о дебюрократизации. Итак, размышляя над тезисом Шмитта о нейтрализации и деполитизации, мы пришли к выводу, что сущность нейтрализации заключена в расширении процедурных технологий на те сферы социальной жизни, которые могли породить эффект политического различия. Технологизация как процесс, в свою очередь, означает бюрократизацию, т. е. по меньшей мере контроль над социальными процессами, улаживающий конфликты в соответствии с определенными формально-рациональными процедурами, что, говоря словами Шмитта, «делает возможными безопасность, очевидность, взаимопонимание и мир». «Живой» остаток конфликта уходит в уже упомянутую сферу индивидуального выбора, отданного по большей части на откуп экономическим процессам производства, обмена и потребления, которые разворачиваются в гомогенной среде (здесь, в свою очередь, действуют собственные бюрократии и рациональные процедуры управления производством, логистики, торговли и т. д.). В этой конструкции политическое располагается «над» нейтрализованной сферой бюрократической техники, будучи представлено, например, в форме политического центра или в лице «политических чиновников» (Вебер), каковые (в рамках расхожего определения государства, которым мы начали эту статью) и воплощают собственно политическую сущность государства. Нейтральный технический аппарат является инструментом политического действия, но сам не является политическим. Попробуем, однако, продвинуться немного дальше и задать вопрос, действительно ли, как полагает Шмитт, (бюрократическая) техника и технология не нейтральны только в том смысле, что «ею будет пользоваться всякая сильная политика». При такой постановке вопроса технике действительно отказано в нейтральном характере. Но лишь постольку, поскольку техника обречена на то, чтобы стоять на службе политики, «достаточно сильной, чтобы совладать с новой техникой» и произвести новое разделение «на группы друзей и врагов, возникающие на этой новой почве». А что если конкретный характер нашей политической эпохи заключается как раз в том, что «центральные сферы» жизни утратили свой жизненный характер? Что если политическое не может возникнуть не из религиозного, не из социального, не из экономического? Не остается ли в таком случае техника единственной значимой «центральной сферой», в рамках которой и осуществляется подлинная политическая борьба? Похоже, подобные вопросы ставит и Александр Филиппов, размышляющий о «Диктатуре» Шмит 97 та: «Казалось бы техника в наименьшей степени может быть предметом политической дискуссии, потому что смысл техники — эффективность, а максимизация эффективности сама по себе бесспорна. Но эффективность государственного устройства не поддается нейтральным оценкам. Само применение определенного рода техники имеет политический смысл, более того, определение политических действий как действий технических также имеет политический смысл» . Нейтральность техники поставлена тем самым под сомнение, но, скорее, слишком в духе самого Шмитта, ибо, продолжает автор, «техника — это потенцирование способности действия». Иными словами, техника имеет политический смысл постольку, поскольку (всегда) используется или определяется политически, но само политическое (и ценностное) все же отлично от нейтральной (в идеально-«бесхозном» случае) и деполитизированной техники. Реконструируя последовательность «логического рассуждения» Шмитта, А. Филиппов еще раз фиксирует эту дифференциацию: «1. Существует рутина управления. Она регулируется положениями права. В контексте обычного хода вещей власть означает сравнительно большую компетенцию. Объемы властных полномочий также регулируются правом. Существо власти как таковое не обнаруживается» . Таким образом, смысл техники все же кульминирует в «рутине управления», в котором нет места политическому решению. Этой точке зрения я здесь попробую противопоставить другую, взяв за отправную точку тезис М. Маклюэна «Средство коммуникации — это само сообщение» («The medium is the message»). Развивая свой собственный вариант философии техники, Маклюэн в этом пункте пришел к примечательному выводу: техническое средство коммуникации не является нейтральным проводником смысла, но само производит определенный смысл, который, кстати сказать, непросто опознать и декодировать. В случае бюрократической техники, бюрократического «медиума», наиболее очевидным «сообщением», которое мы можем распознать, является проблема объекта управления. Чтобы контролировать и управлять, необходим предмет управления. Сама «жизнь» во многих (если не во всех) случаях имеет формы, плохо поддающиеся такого рода рационально-управленческим манипуляциям. Отсюда следует политика стандартизации, приведения объектов управления к рационально-наглядной форме, кодификации, формализации, упорядочивании, классификации квантифицируемых показателей и индикаторов. Как результат — перепланировка городов, организация но- . Филиппов А. Техника диктатуры // Шмитт К. Диктатура: От истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы. б.: Наука, 2005. С. 278. См. также ниже: «сама идея нейтрального аппарата является предметом борьбы: как в конце 20-х годов скажет Шмитт, вопрос о том, является ли нечто политическим или нет, сам является политическим вопросом» (Там же. С. 295). . Там же. С. 315. Курсив мой. — В. К. 98 . i i i вых форм хозяйствования , стандарты сертификации услуг и т. д. и т. п. Бюрократическая техника здесь выступает не просто как пассивный проводник «политики», но как активный и далекий от «нейтральности» творец новой реальности, возводимой на месте более или менее интенсивно уничтожаемой старой. Разумеется, «жизнь» пытается избежать этого давления. Тем самым, в частности, возникает тот эффект, который описан применительно к России как «распределенный» образ жизни : испытав на себе могучую длань советского бюрократического аппарата, люди научились жить «между городской квартирой, дачей, погребом, сараем и гаражом» (для некоторых новых социальных слоев таким погребом может быть счет в оффшоре, но суть от этого не изменяется). Но, разумеется, этим дело не ограничивается — существует сложнейший комплекс форм, само появление которых можно понять лишь исходя из «нейтральной» техники бюрократии, включая фиксацию рождения и смерти, создание семей, выстраивание собственной биографии. Причем многие из этих форм живут и развиваются совершенно независимо от всякой «политики», от перемены власти или даже от революции — наиболее масштабной смены всех, казалось бы, общественных институтов. Но при этом они вовсе не лишены определенного ценностного аспекта. «Средство» диктует свой собственный формат для «жизни», отливая ее в новые (авангардные) или уже давно закостеневшие формы, затаптывая при этом прежнюю неупорядоченную и не поддающуюся рациональному контролю и учету поросль. Таким образом, данный процесс «нейтрализации» вовсе нельзя считать таким уж нейтральным, как он может показаться поначалу. Причем есть основания считать, что этот «нейтральный» режим контроля и управления уже давно вышел за рамки какого бы то ни было подчинения со стороны «политической» инстанции. Именно таким образом можно прочитать и мрачный тезис Джорджио Агамбена о нарастающем режиме «чрезвычайного положения» в современном мире: «Это означает, что демократический принцип разделения властей сегодня потерял свое значение и что исполнительная власть фактически поглотила законодательную, по крайней мере — частично. Парламент больше не является суверенным органом, которому принадлежит исключительная власть устанавливать законы для граждан. Парламент ограничивается тем, что ратифицирует распоряжения, обнародованные исполнительной властью. С технической точки зрения республика является теперь не парламентской, а правительственной (gouvernemental). При этом весьма примечательно, что такого рода из- . Блестящим образом ряд аспектов данного процесса описан Джеймсом Скоттом в его работе «Seeing Like a State» (в вышедшем русском переводе — «Благими намерениями государства»). . См. Кордонский С. «В реальности» и «на самом деле» // Логос. 2000. № 5 / 5 (26). С. 53 – 64. 99 менения конституционного порядка, которые в настоящее время с разным размахом протекают во всех западных демократиях, остаются совершенно незамеченными гражданами, хотя они прекрасно осознаются юристами и политиками. Именно в тот момент, когда западная политическая культура стремится преподать другим культурам и традициям урок в вопросах демократии, она не отдает себе отчета в том, что она полностью утратила мерило в этих вопросах» . Если от этого вопроса, заданного западной традицией обсуждения бюрократии, обратиться к отечественной ситуации, то тезис о нейтрализации может получить несколько иное звучание. Но, разумеется, в определенной мере он работает, что в особенности заметно по упомянутой в начале этой статьи деполитизации собственно политической жизни. Политтехнологическое перенапряжение 1990-х гг., требовавшее виртуозной пропаганды от кандидатов, сменилось, вообще говоря, вполне рутинной процедурой голосования за заранее известную партию и известного кандидата. Сфера регулирования и контроля за данным процессом может быть рутинно передана Центральной избирательной комиссии, которая может и далее совершенствовать свои бюрократические методы. Это с одной стороны. С другой же стороны, совершенно не верится ни в какую рационализацию и нейтрализацию на фоне гигантской проблемы коррупции. Если бюрократия является тотально коррумпированной, то ни о какой рутине, конечно, речи быть не может. В такой ситуации фактически любой чиновник является — по крайней мере потенциально — маленьким политиком, способным принимать жизненно важные для граждан решения. Тогда главной политической борьбой становится не борьба в какой-либо внеположенной административно-бюрократическому аппарату «центральной сфере жизни» (будь то общество, экономики, культура или религия), а борьба сугубо внутриаппаратная, внутриадминистративная. Но такой ситуации не предполагает ни теория Шмитта, ни концепция Вебера. Ее фактическому наличию можно дать два объяснения. Одно из них было недавно предложено мной в форме тезиса о несостоявшемся или «несовершенном» государстве . Как нас ни убеждали (в форме апологии или, наоборот, критики) в том, что современное российское государство набирает (чрезмерную) силу, то, что мы наблюдаем, свидетельствует об обратном. Для того чтобы побудить серьезно обдумать этот тезис, приведу два определения государства, принадлежащие двум совершенно разным мыслителям. В «Философии права» Гегель пишет: «Государство есть действительность конкретной свободы; конкретная же свобода состоит в том, что личная единичность и ее особенные интересы получают свое полное разви. Agamben G. Ausnahmezustand. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2004. S. 26 – 27. . Куренной В. Рациональная бюрократия: теория и идеология // Прогнозис. 2007. № 2 (10). С. 177 – 187. 100 . i i i тие и признание своего права для себя (в системе семьи и гражданского общества) и вместе с тем посредством самих себя частью переходят в интерес всеобщего, частью своим знанием и волей признают его, причем признают его именно как свой собственный субстанциальный дух и действуют для него как для своей конечной цели» (§ 260). В совершенно иной исторической ситуации Макс Вебер пишет, что в «современном рациональном государстве» «вся политика ориентируется на объективный государственный интерес, прагматику и абсолютную… самоцель сохранения внешнего и внутреннего распределения насилия» . С точки зрения приведенных критериев государство в России пока не состоялось. В значительной степени оно все еще является ареной действия личных, семейных и гражданских сил (гражданского общества), хотя ареной особой, доступ к которой не является равно открытым для всех. Второе возможное объяснение состоит, пожалуй, в том, что современное российское государство в силу особенностей своей новейшей (советской) истории, а также своей специфической экономики и географии, требующей чрезмерно массивного аппарата перераспределения, конституировалось как некий совершенно специфический феномен, в котором административно-бюрократическое поле, действительно, является единственной «центральной областью». Но тогда возникает кардинальный вопрос: можно ли вообще его нейтрализовать и каким образом этого можно добиться? Или, принимая поправку на вышесказанное о ценностном аспекте «техники» управления, каким образом российское государство можно ввести в те ценностные рамки, которые отвечали бы базовым рациональным ожиданиям его граждан . Вебер М. Хозяйство и общество. Цит. по Филиппов. Указ. соч. С. 292. 101 lk Виктор Мартьянов 1. b Гетерархия рассматривается в статье как разнообразие присущих каждому историческому обществу властных, символических и прочих ресурсов, которые много шире, нежели сфера, поддающаяся регулированию государства, его институтов и агентов. Поэтому как общество в целом является средой, условием государства, так и совокупная гетерархия является материалом для кристаллизации из нее государственной монополии на право производства и контроля наиболее значимых для общества норм, практик и институтов. Каждому историческому типу государства (традиционно-династическому, национально-бюрократическому, децентрализовано-постмодернистскому) свойственен свой особенный способ оптимизации отношений с гетерархией, методов и попыток ее регулирования и кооптации, в том, что хоть отчасти поддается подобному регулированию. Но рано или поздно изменения общества (культурные, экономические, исторические) и, следовательно, расширение пространства гетерархии ведут к необходимости оптимизации и адаптации к этим изменениям различных форм государственных монополий. В противном случае, если воспользоваться биологической аналогией, не адаптируемый к новым общественным условиям вид государства катастрофическим (революционным) способом меняется новым. Актуальность данной темы для современной России обусловлена фундаментальным изменением всей повседневности российского общества, его институтов, норм, ценностей, целей, правил. Онтологическая революция российского социума в результате значительно опередила на актуальном этапе развитие как государства, так и категориального и методологического аппаратов социальных наук. Продолжая зачастую оперировать «вчерашними» представлениями и модернистскими концептами обществознания, современное государство оказы- 102 . i i i вается бессильным перед вызовами будущего, которое осуществляется здесь и сейчас. Случившиеся изменения можно кратко характеризовать как отход от национальной модели общества классического Модерна к формированию нового общества — децентрализованного, сетевого, информационного, постмодернистского, постиндустриального, урбанистического, «общества потребления» и т. п. На наш взгляд, все перечисленные определения скорее суть описательные метафоры и методологические черновики. Поэтому они могут претендовать скорее на описание тенденций и контуров ближайшего будущего, чем на эссенциализм в отношении «нового общества». Безусловно, изменение типа новейшей российской государственности не могло не последовать за шоковыми социально-политическими и экономическими трансформациями, долго и смутно вызревавшими в последней трети ll века. Сегодня, после шока социально-политических реформ и изменения всего привычного уклада повседневности наступила относительная стабилизация. Становится возможным говорить о складывающихся в обществе тенденциях и закономерностях, присущих его новому состоянию. Проблема заключается в том, что нынешняя стабильность статус-кво в России была достигнута во многом ценой прямого подавления гетерархии, свертывания механизмов влияния общества на государство. Отчасти подобное положение стало возможным не только благодаря властным элитам, но и самому «индивидуализировавшемуся» российскому обществу, во многом добровольно отказавшемуся от участия в политике и диалога с государством как инструментом для достижения тех или иных целей. На начальном этапе «тихой революции» обновленное российское государство и его лидеры даже постарались выступить главными локомотивами социальных изменений, следуя хрестоматийной и вполне справедливой мысли о том, что главный исторический агент изменений и модернизаций в России — само государство. Общество в России за последние двадцать лет действительно изменилось достаточно сильно, далеко уйдя от категориальной сетки модернистского обществознания, консолидирующих и легитимирующих институтов и практик Модерна, и эти изменения необратимы. Государство же вместо поиска оптимальных инновационных решений в новой реальности (поскольку традиционные, привычные способы уже не срабатывают, «чужой» и свой исторический опыт здесь неэффективен и бессилен) довольно скоро начало «регрессивную обратную трансформацию» по достаточно простой и архаической модели псевдосоветско-модернистского и даже неотрадиционалистского толка, которая уже сегодня испытывает возрастающие трудности (и еще сильнее будет испытывать их в будущем), связанные с возможностями контроля гетерархии в обновленном российском обществе. А накопление гетерархии, ее «незамечание» и исключение ведут в конечном итоге к прогрессирующей дисфункции государства, которое в настоящее время трансформируется в направле 103 нии прямо противоположном тому, которое выступало ценностным и целевым ориентиром российского общества в самом начале «большого скачка». 2. , lk « k k » Государство определяется нами как вид сложносоставной динамической монополии, которая определяется как совокупность идейных догм и институциональных норм через многообразные исключения, суммируемые в «прóклятой стороне вещей». Государство надстраивается над повседневностью, но его монополия есть процесс, подтачиваемый перманентными центробежными процессами. Монополия государства на мораль и легитимное насилие выполняет важнейшую функцию стабилизации общества, объективации и поддержания неизменных правил игры, удерживающими от постоянного и конфликтного общественного производства анархических альтернатив. В результате монополия позволяет выработать механизмы, которые разрешают альтернативным ценностям и порядкам сосуществовать с данной монополией, являясь в то же время исключением из нее. Это подобно постоянной выработке организмом антител, защищающих от различных инфекций. Но стерильность внешнего мира и отсутствие вредных вирусов в свою очередь не являются абсолютным благом, поскольку лишают социальный организм готовности к отражению внутренних и внешних угроз и выработки искомого иммунитета. Исключения являются не подрывом монополии, но самим ее условием, когда правило нуждается в определении через исключение, а всеобщее становится таковым лишь через преодоление особенного. Монополия формируется от противного, через включение/исключение в/ из своего универсального порядка институтов, практик, символов. Монополия государства пребывает в постоянном историческом процессе инкорпорации исключений, образующих основу реальной гетерархии в виде других ценностей, догм, норм, институтов как возможных источников легитимности государства. Исключение, трансформация и инкорпорация «иного» всегда осуществляется с переменным успехом, а включение исключений в правила никогда не бывает окончательным, так как любая норма всегда определяется через исключение. Отсутствие доминирующей нормы приводит в реальной политике только к войне различий, борьбе всех против всех, партикуляризму и дроблению больших политических форм. Проблема гетерархии норм и институтов таким образом неразрешима. Гетерархия, указывающая на возможные альтернативы и изменения, признается лишь затем, чтобы потом объявить ее злом и осуществить самоидентификацию от противного. Предмет статьи заключается в анализе способов изменений и оптимизаций монополий государства на интеллектуальные нормы, институты 104 . i i i и легитимное насилие через описание случаев, когда монополия в силу разных причин перестает действовать; либо действует не в полной мере, параллельно с другими регуляторами; либо действует с неожиданными результатами. И собственно, как в своей истории государства пытаются преодолеть эти исключения, отграничивая или, наоборот, охватывая нерегулируемое пространство периферии (институциональное, интеллектуальное, географическое, «малые общества», «другого») в порядок универсальной монополии многосоставного «большого общества». Исходная посылка состоит в том, что в современном «большом обществе» всегда есть значительное теневое пространство, институциональные, нормативные, интеллектуальные лакуны, где государство в привычном виде монополий действует не эффективно, либо вовсе не действует. Более того, эти перманентные исключения как раз и обеспечивают стабильность и легитимность государства. Попытка государства установить тотальность монополии, «всё и всех сосчитать» в тех или иных сферах оборачиваются парадоксальным ростом того, что можно назвать «прóклятой стороной вещей». Поскольку окончательное торжество монополии на любом рынке является первым шагом к ее дифференциации и распаду. В результате «прóклятая сторона» неизбежно переносится внутрь самой монополии, благой Катехон оборачивается порочным Вавилоном, а зло начинает гнездиться в самих вещах. Как, например, в свое время не исчезла конкуренция за власть в — она была перенесена внутрь партии большевиков, дискуссии в которой стали в 1920-е годы эрзацем публичной политики как таковой. Аналогичные тенденции развиваются и внутри нынешней российской политической системы с доминирующей партией. Перманентная борьба государства с «прóклятой стороной вещей» есть извечная попытка устранить гетерархию, умножение которой ведет к революционной трансформации государства, подрыву устоявшихся норм. Но с другой стороны, государство как сложная монополия может существовать лишь избегая тотального регулирования «прóклятой стороны» как обратной стороны легального порядка. Поскольку тотальное регулирование в принципе невозможно, ибо строится на отрицании накапливающихся внешних и внутренних изменений во времени. Либо ведет к разрушению монополии, чье повсеместное доминирование неэффективно уже тем, что любое четкое определение границ легального-нелегального, дозволенного-недозволенного, нормального-ненормального ограничивает нормотворцев и агентов государства, лишая возможностей для адаптации к меняющемуся миру. В результате государства-монополии чаще погибают именно потому, что сталкиваются . Смысловой оборот «прóклятая сторона вещей» введен в работе: Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2000. С. 157–164. . Мартьянов В. Многопартийная партия власти // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2007. № 3 (53). С. 12–22. 105 с недостаточно катастрофичными для себя вызовами, а настоящие катастрофы приходят тогда, когда здоровый иммунитет уже потерян ввиду застоя как утери способности к адаптационным изменениям — такова ситуация «имплозии масс», упадка, угасания социальных энергий. Гетерархия в той или иной степени существует во всех политических обществах, тяготеющих либо к большей степени имперской гетерархии (в виде всевозможных неравенств, исключений из права, привилегий, особых законов и областей их применения, учета традиций и обычаев различных групп людей, регионов и т. п.), либо к более универсальному законодательству, единообразным правилам управления, связанным с относительно гомогенными национальными государствами. Нормы и институты государства начинают корректироваться, когда лежащие в их основе ценности утрачивают свою запредельность, привилегированный статус, с помощью которого они легитимировали политику. Равенство сакральных ценностей профанному миру, то есть ситуация их реализации (овеществления) провоцирует ситуацию, где норма=не-норме, а сущее практически отождествляется с должным. Однозначность социального мира размывается, появляется развилка альтернативных возможностей. Как только возникает подобное равенство, в лишившейся «нормативных ценностей» политической системе сразу же начинает зреть ценностная альтернатива воплощенной в социальной реальности и политических институтах норме, взрывающая «естественный» политический порядок вещей рождением новых утопических ценностей и идеалов. Черпаются новые ценности и идеалы, главным образом, в «прóклятой стороне вещей», то есть во всем, что исторически подавлялось и вытеснялось. И здесь «прóклятая сторона» вдруг становится «утопической стороной вещей», открывая в них подавляемое и вытесняемое ранее содержание. «Исключаемые» ранее ценности и смыслы вдруг приобретают характер «исключительных». Монопольный субъект, таким образом, чтобы достичь искомого тождества с истиной, красотой и справедливостью вынужден избавляться от противоречий, то есть выбирать один из вариантов альтернатив в качестве привилегированного, а другие вытеснять. Эта неполнота, «половинчатость», неспособность к синтезу, создает пространство разрыва и «прóклятую сторону вещей», где формируется параллельный мир подавления, принимающий форму «политического другого», различного рода аномалий. Но выведенная за рамки государственного, политического и легитимного пространств социальная энергия никуда не исчезает. Накопленные, но не разрешенные конфликты усугубляются. Террористическая практика показывает, что привести в неравновесное состояние самотождественную систему можно только с помощью энергии катастрофы, которая способна не только побудить систему к изменениям в целом, но и вызвать цепную реакцию, гибельную для системы. 106 . i i i «Прóклятая сторона вещей» проявляется в чрезвычайных ситуациях, в которых и производится установление нормы-патологии и последующая дифференциация. В таких случаях выявляются основания и сам механизм различения, применяемый монополией. Например, в области использования насилия — это хрестоматийное шмиттовское право введения особого положения, в котором не работают обычные законы. Кто им смог воспользоваться, тот и суверен, а его насилие и законы — легитимны. В области идеологии и законов — это право определения границ общественного (публичного), то есть сферы политики как таковой, правил и условий участия в ней. Любое государство само по себе всегда стремится раздвинуть границы публичного и общественного, сделать так, чтобы частная жизнь стала лишь продолжением общественной, объектом контроля и «заботы», в качестве потенциального источника неопределенности, неподконтрольности, а следовательно, опасности. В результате стремление к тотальности государства ведет к стиранию граней между обществом, государством, интеллектуальной и правовой автономией отдельных корпораций и индивидов. Тенденция вторжения государства в привычное лично-интимное пространство личности неизменно вызывает отторжение, даже если именуется в официальном дискурсе экстремизмом, неконструктивной оппозицией и т. п. Когда монополия пересекает невидимые моральные и легальные пределы, она автоматически взывает к социальной энергии, которая будет направлена на коррекцию и ослабление монополии. С другой стороны, расширяя монополию, государство стремится запретить зло другим политическим акторам, но она никогда не может сделать этого в отношении себя. В этом ограничении, имеющем отношение к саморегулированию и самоограничению, заключается слабость любой монополии, обусловливающая их неизбежный крах или, по крайней мере, временную потерю легитимности и конкурентоспособности. 3. a k lk: Одним из наиболее древних и простых (за исключением геноцида, войн, убийств) способов отвода негативной социальной энергии от государства и подавления зреющих вариантов является исключение (отделение, разведение) альтернативных источников власти и норм в географическом пространстве. В xvii – xix веках перенаселенная и модернизирующаяся Европа избавилась от десятков миллионов лишних людей, колонизировавших практически весь остальной мир. Но в настоящее время бежать уже некуда. Мир перенаселен в целом, а ядерное оружие не позволяет перенаселенному Югу вторгнуться в виде прямой экспансии и традиционных войн в территориальное пространство стран Севера. Поэтому способами пространственного исключения не 107 устойчивых элементов является либо высылка, либо апартеид. Более мягкая вариация — оттеснение подрывных элементов на периферию — остракизм, побуждение к эмиграции, ссылка в колонии, в провинцию, провоцирование ухода в подполье, в гетто. Эта стратегия может обрести вид в выстраивании параллельного субгосударства в виде альтернативных социальных сетей — мафии, теневого производства, колоний единомышленников, экологических поселений и т. п. История показывает, что многие такие колонии впоследствии становились ядром будущих государств в Новом Свете. Весьма красочно подобный вариант географического бегства «неблагонадежных» людей от государства, имевшего место в Латинской Америке в 1930-е годы, описывает К. Леви-Стросс: Однажды вечером мы остановились невдалеке от гаримпо (garimро), колонии искателей алмазов. Их силуэты вскоре появились возле нашего костра; старатели (garimpeiros) извлекали из котомок или карманов обтрепанной одежды небольшие бамбуковые трубки и высыпали их содержимое нам в руки; это были нешлифованные алмазы, которые они надеялись нам продать. Но от братьев Б. я был достаточно наслышан о нравах, царящих в гаримпо, чтобы понимать, что здесь вряд ли можно увидеть что-либо действительно интересное, поскольку у старателей свои неписаные, но тем не менее неукоснительно соблюдаемые законы. Эти люди делятся на две категории: авантюристов и беглецов; вторая группа более многочисленна, чем объясняется тот факт, что, однажды вступив в гаримпо, его уже трудно покинуть. Русла рек, в песке которых собирают алмазы, контролируются теми, кто захватил их первыми. У этих людей недостаточно средств для того, чтобы позволить себе ждать крупной оказии, которая случается не часто. Поэтому они организованы в поисковые отряды, во главе с начальниками, громко именующими себя «капитанами» или «инженерами»; они-то и распоряжаются всеми средствами, поскольку должны вооружить людей и обеспечить их необходимым инвентарем: луженым металлическим ведром для выемки гравия, решетом для просеивания, иногда водолазным шлемом и воздушным насосом, — а главное, регулярно снабжать их провиантом. Взамен старатель обязан продавать то, что найдет, только доверенным скупщикам (которые, в свою очередь, связаны с крупными шлифовочными мастерскими в Голландии или Англии) и делиться прибылью с начальником отряда. Необходимость вооружаться объясняется не только частыми стычками между отрядами; это также средство, действен- 108 . i i i ное и до сих пор, оградить гаримпо от вмешательства полиции. Таким образом, зона добычи алмазов становилась государством в государстве и часто находи лась в состоянии открытой войны с легальной властью. В 1935 году можно было услышать о локальной войне, которую в течение нескольких лет вели «инженер» Морбек и его сторонники, valentoes, против полиции штата Мату-Гросу… Закон отряда соблюдается столь неукоснительно, что в Лажеаду или в Пошореу, центрах гаримпо, в трактире часто можно увидеть стол с лежащими на нем алмазами, временно оставленный без присмотра. Внезапно разбогатевший старатель, находясь вне закона, вынужден все истратить здесь же, в гаримпо. Именно поэтому сюда караванами идут грузовики, нагруженные никому не нужными товарами. Если только они довезут свой груз до гаримпо, все будет раскуплено за любую цену — не столько ради удовлетворения потребностей, сколько ради удовлетворения тщеславия. Однако в настоящее время способ географической изоляции потенциальной гетерархии и «социального зла» эффективен все меньше. Как из-за перенаселенности мира, так и в силу того, что «в глобальной деревне» современные коммуникации уничтожили пространство и время как существенное препятствие, способное возвести непреодолимую стену между монополией-государством и всем тем, что (и кто) ее подрывает. В результате современные монополии должны искать более изощренные способы подавления гетерархии внутри собственного же географического пространства. 4. k lk: I bk В современном большом обществе его дифференцированные институты не могут опираться лишь на запреты, силу или веру, потому что государство, основанное на грубой силе и догматах, может опираться только на страх и воспроизводить рабов, а не граждан. Все военные режимы и хунты подобного рода недолговечны, будучи тесно связаны с персонами их породившими. Для современных государств насилие есть крайнее средство. Здесь мы переходим от формальной легальности, требующей соблюдения закона к легитимности, суть которой в разделении большинством граждан тех идей, которые лежат в основании законов и институтов. Легитимные законы (режимы, порядки, правила игры) соблюдаются не из страха наказания и репрессивных санкций, а потому, что гражда. Леви-Стросс К. Печальные тропики. М., 1999. С. 263–265. 109 не добровольно разделяют существующие ограничения, запреты и обязанности в обмен на набор неких прав, считая такой порядок естественным и самоочевидным, справедливым. Это своего рода активное соучастие людей в монополии, путем процедур всеобщих выборов, референдумов, опросов общественного мнения, экспертных и гражданских дискуссий, выплаты налогов, службы в армии. Каждый формально становится миноритарным акционером политической монополии, а значит, изначально может рассматриваться как лояльный субъект, заинтересованный в ее сохранении, хотя и имеющий право возмущаться ее мелкими недостатками. Момент исторического перехода к подобной сложной монополии совпадает с циклом буржуазных революций и победным шествием принципов капитализма. В области политики это привело к разотождествлению государства и общества, когда первое из явления метафизического порядка становится инструментом, а второе получает через всеобщность избирательного права гражданское качество. В результате становится возможной современная (модернистская) политика в форме производства и борьбы «больших идеологий», связанных с рефлексией социально-политической действительности в форме идеологий, разбивкой общества на партии и классы. Единый объективный язык в сфере политики, принадлежавший ранее наследственной аристократии, становится невозможным. Государство разотождествляется с монополией аристократии на власть, монарх перестает быть символом и источником легитимности, обязанности и права по отношению к государству возникают у всего взрослого общества. В условиях распада традиционного общества обнаружилось, что коллективные субъективные реальности не совпадают. Все размышления о политике стали возможны только в форме теории, опирающейся на ту или иную идеологию и групповые интересы. Каждая из этих систем претендует на утерянную универсальность, сознавая при этом свою обусловленность определенной позицией внутри социума. При этом связь идеологий с определенными группами общества позволяет им это общество интерпретировать, но не позволяет встать над обществом. Династическое государство потеряло функцию институционального гаранта универсального миропорядка. Этот процесс был связан с формированием публично-гражданской политики, ее выходом из-за «дворцовых кулис». У Гегеля государство еще выступало как одна из высших стадий развертывания абсолютного духа, реализация сверхчувственного порядка, главенствующая над гражданским обществом из сферы универсального закона истории. Но уже государство Маркса, понимаемое как вполне посюстороннее и земное образование, теряет свою трансцендентность, отражая динамическое соотношение интересов социальных групп, с лежащими в их основании производственными отношениями. Основным итогом трансформации Старого Порядка становится конструкция представительной демократии и общественного договора, 110 . i i i в рамках которой, чтобы предотвратить распад общества, политическая монополия становится ограниченной во времени. Теперь это не более чем баланс сил, интересов, настроений, который может быть ненасильственно и легитимно изменен на очередных политических выборах. Подобное пространство неопределенности становится одновременно и источником слабости государства, и источником его мощного адаптационного потенциала к меняющимся внешним условиям, и, наконец, ключом к новой легитимности. В идеальной модели государство становится не чем-то внешним по отношению к малым общинам, но всего лишь институциональным продолжением и приложением большого общества: «Если, например, в современном ан глийском языке слова «state» и «nation» не только применяются как взаимозаменяемые, но и второе постепенно вытесняет первое, то в российской реальности «государство» и «народ» представляются не только несовпадающими, но чуть ли не противоположными понятиями. О противоречиях между гражданином и государством говорится так, как будто бы граждане не суть часть государства, а чиновники давно уже перестали быть гражданами…» . Политическая модель монополии в виде представительной демократии связана с особым способом диалога, торга с «проклятой стороной», когда другой всегда включается в демократический порядок представлений в качестве контролируемого атрибута, необходимого для самоописания и целеполагания. Более того, другой часто симулируется, обнаруживается там, где его по сути не должно быть (да и реально не существует). Так обычные хулиганы становятся скинхедами (неонацистами), патриоты — фашистами, экологи — террористами, сексменьшинства оборачиваются борцами за права человека, любые бытовые явления легко обретают символико-политический контекст. Гетерархия подменяется внутренним порядком дифференциации монополии. Признание другого предполагает принятие «универсальных» правил, по которым происходит установление порядков отличий. Сопротивление, маргиналы, недовольные, «конструктивная оппозиция» всегда включаются в систему представительной демократии, но на ее условиях. Проблема в том, что гетерархия может быть эффективна, только если бросается вызов монополии в целом, вызов, направленный на ее деструкцию. А здесь невозможен не только диалог и договор, но уже сами переговоры. Поэтому бесконечная дифференциация идеологий, партий, групп интересов в рамках нормативного дискурса капитализма и представительной демократии с их ценностями и сложными институтами является способом монополизации данного социального порядка, контро. Анкерсмит Ф. Репрезентативная демократия. Эстетический подход к конфликту и компромиссу // Логос. № 2. 2004. . Иноземцев В. Л. Вверх по лестнице, ведущей вниз // Le Mond diplomatique (русское издание). № 8. Февраль 2007. 111 лирования «прóклятой стороны», приемом собственного производства полезного «малого зла». Признавая неподвластность символов другого вне себя, большое общество начинает производить символически зло внутри себя, то есть у общества появляется способность к изменению и адаптации. Здесь же возникает новый вопрос: возможно ли в принципе естественное сосуществование монополии и ее противников, не связанное с попытками уничтожить их окончательно? Когда симуляция ценностных и фактических противоречий, провоцирование политической активности производится самой властью с целью артикуляции политического пространства вообще. Кроме того, перенос контролируемого зла внутрь монополии не исчерпывает вызовы извне. В результате исчерпанный внутренний потенциал возмущения не является гарантией стабильности монополии. Реальная трансформация монополии в глобальном мире может состояться и путем воздействия извне как природного, так и идейного, рефлексируемого в альтернативных экологических, террористических, фундаменталистских проектах, которые деконструируют классические дихотомии Модерна. Рассмотрим в качестве примера институциональные трансформации современного российского государства как все более неэффективной монополии. Кризис России как государства-монополии ярко проявляется в умножении институтов. Неформальные институты, становятся паллиативами формальных, непубличные институты вытесняют публично-политические. Возникают особые институты, выполняющие не те или иные оговоренные законами функции, но призванные решать конкретные ситуативные проблемы. Например, нигде нормативно не урегулированный институт поручений Президента a : «Субституты — Госсовет и больше десятка консультативных советов при президенте, Совет безопасности, Общественная палата, полпреды президента в федеральных округах и их администрации, спецпредставители президента, общественные приемные и др. — не могут играть самостоятельной роли и служить каркасом политической системы, структурировать ее, обеспечивать стабильность. Это, скорее, приводные ремни, обеспечивающие президенту контроль над основными сферами жизни общества, но помимо президента не имеющие практически никакого смысла». Отсекая иностранные источники финансирования, постепенно с помощью грантов «приручается» сектор . Во главе с Общественной палатой a создается «правильное» гражданское общество. В виде фи- . Мартьянов В. С. Падение публичной политики в России // Свободная мысль. 2006. № 5. С. 5–18. . Петров Н. Субституты институтов // Отечественные записки. 2007. № 6. О проблеме умножения политических параинститутов в современной России см. также: Иванов А. Ф., Устименко С. В. Самодержавная демократия: дуалистический характер российского государственного устройства // . 2007. № 5. С. 56–67. 112 . i i i лиалов партии власти формируется «конструктивная» оппозиция. Ужесточается политическое законодательство. Контролируются массмедиа. Выборы и соцопросы показывают высокий уровень легитимности политического режима. Но гетерархия вопреки наблюдаемой очевидности не исчезает. Реальная политика вытесняется в непрозрачные, неконтролируемые, маргинальные сферы, трансформируя и свертывая технологически слишком сложный институт представительной демократии к неким более простым и привычным моделям удержания господства. Эти модели влекут умножение «прóклятой стороны», поскольку представлены системой прямых запретов, ограничений и исключений, а не стратегией открытого управления гетерархией в публичной сфере. В результате оппозиция как важный институт адаптации к изменениям и динамического равновесия монополии уходит в политическую тень, поскольку субъекты оппозиции не могут участвовать на равных в поле властной игры, на безальтернативных выборах и референдумах. Получается, что переиграть властные элиты и государство можно лишь по правилам, которые они не контролируют. То есть вне формальных законов. Поэтому в обществе нарастают скрытая гетерархия как двойная система отсчета ценностей (двоемыслие), параинституты и отчуждение повседневных от легального порядка. Российское общество, как и в другие «последние времена», например, период застоя, вновь постепенно привыкает жить с «фигой в кармане», которая иногда становится вполне явной, например, в виде феноменальных успехов отмененного ныне голосования «против всех», которое есть, прежде всего, протест против действующей элиты и политического режима в целом. Аналогичные трансформации переживают и властно-политические институты, превращаясь в способ неограниченной монополизации столь привычной для России «властесобственности». Проблема не в качестве новых институтов государства, которые в России существуют и могли бы функционировать вполне эффективно. Метаморфозами российских политических институтов являют «прóклятую сторону вещей», когда «творческое» переосмысление новых институтов политическими элитами привело к их негативной трансформации. Институты стали выполнять не идеальные, а замещающие функции, которые были востребованы реальной политической практикой. При этом для поддержки монополии плохие и параллельные институты всегда лучше, чем их прямой конфликт или отсутствие, но без идейной легитимации их блага и незаменимости любые институты бесполезны. Для этого требуется нечто большее, то, что сакрализует политические институты, заставляет в них верить по-настоящему. Безусловно, идеальной политической системы или институтов не существует. Каждое государство вырабатывает всей своей историей оптимальные цели и институты с учетом собственной истории, географии, традиций, веры и т. д. Но институты могут функционировать только будучи легитимными, когда большинство граждан разделяет те идеи, ко 113 торые лежат в основании привычных практик и законов. Идеи свободы, справедливости, равенства реализуются в разных политических институтах, но никогда не отождествляются с конкретными национальными образцами. Идеи автономны от реальности, а рецепт отечественного механического внедрения политических институтов демократии, свободы слова, разделения властей, выборов, рынка в случае России и ряда других стран не привел автоматически к установлению реальной либеральной демократии. Проблема в том, что демократические политические институты сами по себе не ведут к производству соответствующего типа ценностей. И идеи, и институты обусловлены социально-политическим, историческим пространством их возникновения. Основной порок реформаторов 1990-х заключался именно в том, что они были не способны даже представить, что реализация «правильной теории», например, либертаристских реформ или эффективного института, например, конкурентных выборов, дающие патологический результат, объясняется не неким несовершенством российской реальности, а наоборот, неуниверсальностью применяемого рецепта. Совершенно непонятно почему, если двухпартийная система исторически сложилась в j и Великобритании, то ее необходимо всеми силами внедрить и в России? Ведь такая система является особым случаем англосаксонских стран, а вовсе не эффективным правилом для большинства современных государств. Поэтому теоретико-механическое копирование любых институтов без предварительного одобрения данным обществом легитимирующих их идей оборачивается фатальными политическими трагедиями целых народов. Институты вместо искомой эффективности начинают порождать «прóклятую сторону вещей». Вместо конкуренции и в политике, и в экономике создается система федеральных и региональных властных и бизнес-монополий, вместо эффективности рынка осуществляется его «ручное управление», равенство уступает место увеличению всевозможных разрывов — региональных, по доходам и реальным возможностям. Таким образом, любые благие институты могут быть обращены во зло и деуниверсализированы, не вырастая из самой практики и готовности общества к их «изобретению» и применению. Как свидетельствуют накопленные антропологами исторические данные, распространение в первобытных племенах огнестрельного оружия часто приводит лишь к одному финалу — самоистреблению диких племен, причем без всякого вмешательства белого человека. Основные сложности, препятствующие эффективности новых политических институтов связаны с явными трудностями их морального и интеллектуального обоснования. В результате в политической системе обнаруживается отсутствие самой основы институционального каркаса — внятного легитимирующего проекта будущего, который ориентирует население на существующие формальные институты, а эли- 114 . i i i ты на служение обществу. Целевые макроэкономические показатели, озвученные В. Путиным на последнем заседании Госсовета a в феврале 2008 года, которые Россия должна достичь к 2020 году, безусловно, не могут быть даже паллиативом подобного целевого проекта. Поскольку любая статистика констатирует факты, но не может породить смысла — ради чего все это, чем выгодны именно эти институты, а не другие? В результате вместо лояльности и поддержания в собственных же интересах формальных институтов монополии граждане в своей массе предпочитают решать проблемы неформально, в обход институтов. Согласно негласным нормам никто не «стучит» на преступающих законы, не жалуется на нарушения. В обществе действует такая же омерта (закон молчания), как на Сицилии, не говоря о распространенной коррупции, взятках и подарках, с помощью которых преодолеваются формальные нормы и санкции: «У англосаксов и немцев люди помогают государству, легко сотрудничают с полицией и доносят на все нарушения, которые замечают. В Сицилии и у нас, в России, доносчиков презирают, как предателей» . Таким образом, конвенциональность монополии в разных обществах сильно отличается. Если в современной Европе установлена высокая степень конвенциональности по поводу институтов государства и практик их поддержания, то на периферии исторической прародины современной представительной демократии, например, в России, Турции или Сицилии на структуры модернистского государства все еще накладываются горизонтальные практики традиционного общества, для которого любое соприкосновение с государством и его агентами расценивалось как нежелательное, а государство предстает как неизбежное и неустранимое социальное зло, соприкосновения с которым следует по возможности ограничивать и избегать. Поэтому любые гетерархические структуры, параллельные государству, до сих пор воспринимаются как более результативные, гуманные, очеловеченные, а государство часто является последним местом куда люди обращаются со своими проблемами, когда все иные возможности уже исчерпаны, будь то правоохранительная система, здравоохранение, местная администрация. Все это свидетельствует о глубоком недоверии к формальным институтам государственной монополии в сложившихся клише массового сознания — суду («действующие органы власти всегда правы»), правоохранителям («от тюрьмы и от сумы»), депутатам («лоббируют только свои интересы»), выборам («победители распределены заранее»), политическим правам и свободам («их невозможно реализовать, от нас ничего не зависит») и т. д. Государственные институты как в традиционном обществе по умолчанию продолжают рассматриваться чуть ли не как неизбежное, некое внешнее для частной жизни зло, с которым можно лишь мириться, но не получать от них какую-то по. Буровский А. Облик грядущего (системное расследование будущего). М.; Красноярск, 2007. С. 49. 115 мощь и пользу. Результат один — усиление гетерархии, когда сохраняется мощь параллельного теневого государства «властесобственности», парагосударственных «сетей доверия», кланово-мафиозных структур, подменяющих собой функции привычных государственных институтов. Проблема в том, что само государство отходит от декларируемых ценностей и целей, подавая обществу примеры, когда монополия не действует. Это слияние власти и собственности, неравенство перед законами, увеличивающийся разрыв реальных возможностей населения, явные противоречия политической риторики и практики. Ничто так не подрывает монополии как нарушающий и дискредитирующий действующий порядок пример тех, кто должен его всячески поддерживать и с кем она отождествляется. 5. k lk: bI b Государство как сложная монополия часто может существовать лишь избегая попыток регулирования ряда феноменов «прóклятой стороны вещей». Государство как монополия имеет в своей основе систему ценностей, правил и ограничений, а любая ценность в основе общественных правил является по своей сути запретом. Даже ценность свободы есть не более чем запрет «отнимать», покушаться на свободу. Проблема в том, что ни одна ценность не может находиться в «естественном» привилегированном положении, поскольку все они логически уязвимы в качестве монопольных норм, предлагающих образцы должного, которыми монополия предлагает человеку руководствоваться в своей жизни, будь то ценности рациональности, эгоизма, коллективизма, чести, здравый смысл, «воля к власти», та или иная вера, традиция, научный эмпиризм и т. д. Ни одна из этих ценностей формально не может быть мерилом для других, поскольку все они являются ограничениями и императивами, разделяемыми людьми «здесь и сейчас» и действующими только в силу данных оснований, а не в силу их вневременной истинности. Объективной сверхценности, являющейся мерилом всех остальных ценностей, просто нет. И государство, и общество являют собой площадку исторической борьбы ценностей, которые время от времени уступают друг другу место «господствующей общественной нормы». Разные люди придерживаются различных ценностей, поэтому проблема их компромисса в обществе является перманентной. Как интегрировать верующих и атеистов, эгоистов и альтруистов, традиционалистов и обновленцев, общинников и индивидуалистов? Каждому свойственно выдавать свои ценности за аксиоматичные, всеобщие, самоочевидные. Но публичная сфера, являющаяся сферой гетерархии и конфликта ценностей, доказывает, что дело сложнее, чем представляется на первый взгляд. И выявить сферу всеобщего интереса, которая выходит за пределы частных, приватных пространств людей, мож- 116 . i i i но только посредством общественных дискуссий и конфликтов, способов выявления господствующих нормативных представлений, которые обычно и закрепляются в законах. Но постоянная трансформация обществ приводит к тому, что любые нормы подвергаются перманентно коррекции, а самоочевидные ранее запреты (например, христианский запрет на ссудный процент или прелюбодеяния) перестают выполняться в новых общественных практиках и соответственно теряют силу те законы, которые были призваны их поддерживать. Если закон нарушается большинством, значит, он более не соответствует общественной морали и нуждается в коррекции или отмене. В идейном основании любого государства гетерархия оформлена в виде целого ряда бинарных оппозиций, которые сводятся к одной: норма/не-норма. И норма-монополия не может существовать без питающего ее пространства ненормальности. Норма выступает как самотождественное, тавтологическое, самоочевидное знание, связанное с привилегией монополии на прерывание общественных дискуссий и определение доминирующих политических истин. Соответственно не-норма проявляется как «объект умолчания», другой («свой иной»), как патологическое, ложное, латентное, подавляемое содержание, за счет которого тем не менее и оформляется привилегия истины нормы. Любые альтернативы трактуются субъектом монополии как антинорма. Но отсутствие альтернативы, даже если последняя симулируется, также ослабляет бинарный код норма — антинорма. Дискурс нормы всегда принадлежит правящей элите, задачи которого связаны не только с онтологическим оправданием и легитимацией действующей власти, но и с «профилактикой» утопических вызовов, грозящих взорвать сложившееся политическое статус-кво. Но любые серьезные политические изменения ведут к разрастанию прóклятой стороны. Нормативная борьба постоянна, и монополия обычно приручает, адаптирует и нейтрализует разрозненные группы — «потенциального Другого» — скорее, чем те смогут (и смогут ли), найдя общие интересы, составить ей действительную альтернативу. Рассмотрим в качестве конкретного примера борьбы с ценностной гетерархией попытки формализовать в российском правовом поле политический экстремизм, связанные с принятием, интерпретацией и правоприменительной практикой Федерального Закона № 114 «О противодействии экстремистской деятельности» (от 25.07.2002 г., с последующими изменениями). Этот закон был призван установить монополию государства на определение области «политического экстремизма». В реальности вместо легитимных и эффективных способов профилактики всего того, что подрывает и опровергает монополию российского государства (а конкретнее — нынешний политический режим) и в силу этого трактуется как экстремизм, произошло умножение юридических сущностей. Оно в итоге не столько укрепило, сколько подорвало легитимность монополии государства на борьбу с экстремизмом, так как но 117 вый закон вошел в потенциальное противоречие с теми правами и возможностями, которые то же государство ранее гарантировало своим гражданам другими законами и, прежде всего, Конституцией a . Экстремизм (терроризм, шовинизм, расизм, политическое насилие) представляет интерес в силу того, что он является «прóклятой стороны вещей» для идеологического консенсуса, достигнутого в том или ином обществе. Составляя те или иные «нормальные» классификации политического, власть и законодатели выносят за ее пределы то, что им реально и символически угрожает. Это моральное неприятие позволяет «от противного» реконструировать те мифы и легитимирующие практики власти, с помощью которых она создает собственные моральные основания, поддерживающие данный политический режим. Поскольку экстремизм бросает наибольший радикальный вызов действующей власти и государству, заключающийся в насилии. Черта между двумя насилиями — государственным и экстремистским — это вопрос нравственной противоположности. Борьба с экстремизмом выполняет две важнейшие функции. Во-первых, она призвана проявлять на конкретных примерах «борьбы» моральную, ценностную монополию государства и всех тех, кто действует от его имени. Во-вторых, она проводит основополагающие политические границы: нормального/патологического, легального/нелегального, закона/насилия, морального/аморального. То есть легитимирует действующий политический проект, одновременно позволяя методами монополии на классификацию политического поля выводить за его пределы все то, что угрожает его дальнейшему существованию. Экстремизм, сколь бы вымышлены ни были его реальные угрозы, составляет наибольшую ценностную угрозу для государства, поскольку является отрицанием его монополии, в виде основ данного общественно-политического устройства и призывом-действием к немедленному насильственному изменению государства, либо его отмене. Экстремизм возникает именно тогда, когда крайние формы политического мышления переходят в «экстремизм действия» — террор, гражданскую войну, нелегитимное насилие, геноцид, этноцид, нарушение прав и свобод человека и прочие формы борьбы с монополией. Дело в том, что государство не может бороться с теми, кто готов умереть во имя неких целей. Любые посюсторонние общественные институции могут требовать от человека многое, но не жизнь, иначе монополия просто рухнет, когда людям станет нечего терять. И люди готовые умереть за надежду, за «иное будущее» не могут быть предупреждены или перевоспитаны, поскольку они выходят за грань тех оснований законов и морали, которые действуют в современных обществах. Когда люди готовы отдать жизнь за свои убеждения, любые законные монополии и общественные конвенции для них перестают действовать. Поэтому террористы как нарушители негласной конвенции современности приобретают воистину дьявольскую эффектив- 118 . i i i ность в сравнении с машиной государства, скованной гуманистической моралью, судами, законами и т. п. «Проклятая сторона» общества, маргинальные группы, которые в силу различных причин не могут либо не имеют возможностей заявить о своих интересах и проблемах, обездоленные и ущемленные слои общества выражают свой социальный протест наиболее доступными, хотя и не легальными способами. В силу этого экстремисты широко используют практику политического шантажа действующей власти и общества в целом, направленную на дестабилизацию основ политического режима. Последовательная реализация экстремистской идеологии ведет к невозможности существования либеральных демократий в современных многокультурных и многонациональных государствах. Дополнительно следует отметить некоммуникативность экстремистской идеологии и практики, даже не пытающейся достичь своих целей в рамках действующих институтов и правил. Субъекты экстремизма отрицают любые формы политического диалога и компромисса со своими оппонентами. Основная проблема заключается в том, что нравственная противоположность действующей власти и экстремистов, устанавливаемая через подобные различия часто стирается, так как границы возможного, приемлемого и табуированного являются легитимными и эффективными лишь тогда, когда устанавливаются в результате широких и гласных общественных дискуссий, а не в одностороннем порядке, теми или иными нормативными актами. Отсутствие общественного обсуждения критериев запрета государством тех или иных организаций и произведений культуры (музыки, фильмов, текстов, изображений), изменение этих критериев, их двусмысленность, субъективность, а тем более избирательность могут привести лишь к одному результату — борцы с терроризмом и экстремизмом сами становятся неотличимы от террористов. А легитимное насилие вместо поддержания законов, общественных установлений и институтов становится кошмарной и повсеместной практикой моральной дискредитации действующего политического режима. Монополия морально упраздняет сама себя. Таким образом, первый краеугольный камень в определении области экстремизма — это определение границ и форм политического насилия и его субъектов, которые являются легитимными и приемлемыми с позиций негласного общественного договора и тех, кто таковыми быть не может. Эта граница всегда относительна и подвижна в перспективе различных моральных, социальных и исторических позиций, присутствующих в том или ином обществе. Исторически реализация прав и свобод угнетенного, бесправного человека часто осуществлялась с помощью насилия, но это насилие имело нравственную легитимность и историческое оправдание, так как восстанавливало для значительной части населения всеобщие основы человеческих прав и свобод. В 18 веке восстание североамериканских колоний про 119 тив Британской империи могло потерпеть неудачу, и отцы-основатели j были бы казнены как обыкновенные террористы. По иному могла повернуться история и оценки ее ключевых субъектов в случае удачи российских декабристов или провала большевистской революции. Поэтому суть экстремистского насилия связана прежде всего с деуниверсализацией принципов, лежащих в основании монополии на легитимное насилие. Если первая шкала в классификации экстремизма связана с критериями разделения легитимного и нелегитимного насилия, то вторая представляет собой необходимость разделения публичной (общественной) и частной (приватной) сфер жизни человека. Представляется, что сфера современной государственной монополии норм совпадает с областью публичного и общественного. Таким образом, экстремизм можно определить как нелегитимное насилие, осуществляемое в публичной (политической) сфере и подрывающее монополию государства. Основные трудности связаны с невозможностью точно определить, где кончается приватное автономное пространство и начинается публично-политическое. Граница всегда условна, субъективна, подвижна и не поддается однозначной формализации. Сколько человек образует (публичное) политическое пространство? Как отличить «разжигание розни» от изложения политических убеждений и взглядов, информирования, комментария, изучения экстремистских доктрин и феноменов в рамках конституционных прав на свободу убеждений, вероисповедания, слова, свободу получения и распространения информации? Наконец, человек, излагающий определенные взгляды, может вовсе их не разделять, занимая позицию воображаемого оппонента. То же справедливо и в отношении хранения и чтения признанной экстремистской литературы, изображений, видеоматериалов, просмотр которых вовсе не производит автоматически человека в «экстремисты». Наконец, может ли экстремизм как вызов существующей политической монополии, выходящий за пределы очерченных ею координат нормального, быть только словом, можно ли судить людей за слова, отражающие их убеждения? Борьба с экстремизмом, профилактика гетерархии, законодательное регулирование «проклятой стороны» неизбежно порождают экстремизм, также как борьба с энтропией способствует ее увеличению. Некоторые вещи не поддаются регулированию, в противном случае государства не эволюционировали бы в качестве все более изощренных и сложных монополий. Поскольку приставка «контр-» к борцам с террористами не дает им автоматически морального права быть лучше, особенно если они используют те же средства, что и экстремисты. Более того, государство теряет последние рычаги регулирования, когда экстремальная практика добровольно обращена человеком на самого себя. Когда он добровольно готов обменять свою жизнь в одностороннем порядке для доказательства неких неприемлемых государством норм. Будь то публичный отказ от тех или иных гражданских прав и свобод, голодовка или даже самоуничтожение в знак протеста 120 . i i i действительно могут быть экстремальной практикой символической борьбы и привлечения общественного внимания. Реализацией законного права человека поступать плохо не в ущерб другим. И степень «глухоты» власти к манифестациям существующих в обществе несправедливостей здесь напрямую связана с уровнем ее легитимности. Таким образом монополия государства на легальное насилие, распространяемая на некие амбивалентные ценности, символы и смыслы, превращается в свою противоположность. Из гарантии безопасности, широких прав и свобод (а только в качестве таковой подобную монополию на насилие в современном обществе можно терпеть и легитимировать) монополия на насилие превращается в монополию на нечто другое — определение добра и зла. Контроль над «проклятой стороной» фактически превращается в повод контроля над обществом в целом. Таким образом, экстремизм является лакмусовой бумагой, разрушителем границ монопольного нормативного поля, практикой, намечающей пределы этой «универсальной шкалы» извне. Практика экстремистов испытывает на прочность общественные конвенции относительно общепринятых норм и возможных легитимных форм борьбы с легитимной монополией. Например, преступный с позиций государства произвол может быть оценен оппозицией и восходящими классами как революционная практика освобождения от несправедливости. Таким образом, нелегальная в аспекте существующих «разумных норм» практика может быть одновременно легитимна в перспективе мировоззрения социальных слоев и классов, чьи интересы не могут быть реализованы иначе как путем «произвольного» изменения данного общества, долговременных общественных конвенций и ограничений в виде морали, прав, свобод и обязанностей граждан. Таким образом, гетерархия большого общества никогда полностью не устранима, являясь одним из его «теневых» фундаментальных оснований. Попытка довести борьбу с гетерархией до логического конца оборачивается тотальным подозрением к любым переменам и альтернативам, связанным с практикой активного несогласия с нормами, законами, институтами и традициями данной политической системы, частными решениями и действиями любых субъектов монополии. Гетерархия может выражать неприятие как решений отдельных должностных лиц относительно частных граждан, так и фундаментальное неприятие общественных законов, практик, институтов, социально-политического устройства общества в целом. Гетерархия бывает активной (бунт, демонстрация, митинг, забастовка, пикет, голодовка, акции гражданского неповиновения) и пассивной, связанной с отказом от публичной борьбы (инакомыслие, сознательный уход в политический андеграунд, абсентеизм, голосование «против всех», подписание петиций и обращений и т. п.). Гетерархия также может быть как конвенциональной, направленной на поиск консенсуса на основе действующих норм права и традиций, так и неконвенциональной, то есть революционной. Некон 121 венциональная гетерархия проявляется в отрицании возможности достижения поставленных целей средствами «парламентской борьбы», прибегании к прямому политическому действию в обход институтов, опосредующих социальные интересы. Гетерархия является чутким индикатором расхождения легального и легитимного, действительного и возможного в сложившейся организации общества. Она является одним из механизмов саморазвития демократических государств, включая в себя критическую рефлексию оснований действующего политического режима, сводов законов и обычаев. Гетерархия может опираться как на нравственность, так и превращаться в политическое насилие. Но в любом случае гетерархия является самим условием возможности отстаивания своих интересов гражданами и их коллективами перед лицом государства. 6. l: - -m b « b» В идеальной модели современности-модерна внешние ограничения государства-монополии сводятся в минимуму, фактически здесь легальна может действовать только самоцензура. Индивидуалистическая модель большого общества основана на проекте Просвещения, которое, по словам Канта, дает каждому взрослому гражданину возможность интеллектуальной автономии, право пользоваться собственным разумом для вынесения любых своих суждений и аргументации любых своих поступков, что плохо согласуется с внешней цензурой. Для этого от человека требуется определенное мужество и смелость, поскольку подобная свобода снимает ответственность за поведение человека с любых внешних регулятивных инстанций, будь то государство, традиция, социальный класс, семья, трудовой коллектив и т. п. Эта свобода имеет оборотной стороной долг нести личную ответственность за все сказанное и сделанное. Однако государство никогда не устроит подобная саморегуляция, поскольку интересы и права отдельных людей имеют свойство пересекаться, а для разрешения конфликтов нужен посредник, хранящий нормы, то есть государство. Современные многосоставные, плюралистичные, урбанистические общества уже невозможно без их насильственной деградации и упрощения свести к традиционной одномерности, когда одно вероучение или система ценностей способны объединить абсолютное большинство. Это возможно лишь в случае, когда народное мнение никто из культуртрегеров и прогрессов спрашивать не будет. Однако подоб. Кант И. Ответ на вопрос: «Что такое Просвещение» // Кант И. Соч. в 6 тт. Т. 6. С. 25–36. 122 . i i i ное ограничение и «регуляция» гетерархии могут иметь лишь единственный эффект — расширение пространства произвола тех, кто возложил сам на себя от имени различных воображаемых конструкций и коллективных общностей (государство, Россия, мораль, бог, истина, пролетариат, «нормальные люди») монополию на определение политической нормы и патологии. Возникает резонный вопрос — а судьи кто? Факт занятия неких государственных, властных постов вовсе не делает их легитимными «прогрессорами» в отношении всех остальных. Легальные основания монополии не самоочевидны. Поскольку в мультикультурном и мультиконфессиональном обществе все ценности имеют право на существование, в том числе если они кому-то не нравятся. Поэтому в современном секулярном мире любые внешние ограничения, адресованные взрослым людям и исходящие от инстанций государства, церкви или иной корпорации, все чаще встречают обоснованное сопротивление, так как представляют не что иное, как попытку превратить любого рационально мыслящего и самостоятельного индивида в ребенка, якобы не способного отвечать за свои действия и нуждающегося в неких «родителях», которые за него и для него будут определять «что такое хорошо и что такое плохо», решать что можно читать, писать, говорить, изображать, а что нельзя. В подобном индивидуализированном обществе человек будет действовать скорее вопреки внешним запретам, отстаивая пространство своей привычной свободы и солидаризируясь с теми, чью свободу пытаются поставить под сомнение путем низведения к искусственному состоянию детской неправоспособности. Любое сокращение прав и свобод, приватно-автономной сферы индивида со стороны государства является динамическим процессом и без сопротивления людей, обозначающих разумные пределы вмешательства общества в частную жизнь, ее огосударствление может зайти весьма далеко. Безусловно, искушение монополии всегда состоит в том, чтобы вместо уговаривания, аргументации, дискуссии, диалога и попыток наладить со своими реальными или воображаемыми оппонентами равноправную коммуникацию просто запрещать, сажать, ограничивать всех тех, чьи убеждения и действия не вписываются в господствующие идеологические представления и нормы, наказывать как провинившихся детей, которые чего-то там «недопонимают». Но эффективность подобной простоты лишь кажущаяся, а в ее основе часто лежит бессилие вертикального классово-идеологическо-индустриального государства перед сетевым, мобильным и все менее связанным национальными границами обществом и его группами, неспособность государства отстоять свою правоту в интеллектуальном поле, не прибегая к системе насилия, пусть и легального, но часто уже не легитимного. Поскольку любое законное насилие становится просто насилием, если к нему прибегают слишком часто и безрезультативно. 123 Поэтому наблюдаемая ныне правотворческая агрессия российского государства в области определения экстремизма, регулирования выборов и информационной повестки, которая исходит из презумпции виновности граждан, ведет лишь к обратному результату. Запретный плод сладок. Лучший способ мотивировать людей что-либо сделать, это запретить данное действие. Тем более что, например, такие занудно-графоманские тексты, как, скажем, «Майн Кампф» А. Гитлера, можно прочитать только вопреки стимулирующему запрету, а вовсе не благодаря его наличию в свободной продаже. Искусственный дефицит зла и отсечение «проклятой стороны», любые ограничения будут тут же восполнены с лихвой параллельными и неформальными каналами информации. В плюралистическом обществе ни одна идеология не может быть в монопольном положении, а общенациональная идеология, как показали бесплодные попытки ее конструирования в России 1990-х годов, вообще невозможна: любая идеология призвана выражать в историческом контексте взгляды части общества, той или иной социальной группы, но не общества в целом. Соответственно не возможна и над-идеологическая, объективирующая позиция, которая могла бы, исходя из собственных внутренних критериев, отделить экстремизм и «проклятую сторону» от «нормальных идеологий». Здесь опора государства на идеологии оказывается нефункциональна. Таким образом, государство как монополия стремительно сокращается, а легитимность способов прямого регулирования в тех или иных сферах общественной жизни постоянно падает. Когда-то оправдание подобного регулирования строилось на великих целях, требующих жертв и самоограничительной аскезы, будь то война, соперничество с другими странами, модернизация, построение коммунизма и т. п. В современном мире подобное алиби государства воспринимается как неудачное оправдание чьих-то корпоративных интересов. Великие цели и «гранд нарративы» по сути нужны в нынешнем мире лишь тем, кто оказывается лишним в «индивидуализирующемся», информационном, сетевом обществе, складывающемся в мегаполисах — это раздутые аппараты федеральной и региональной бюрократии, спецслужбы, армия, b , госмонополии и пр. Поскольку в саморегулирующемся и девертикализированном урбанистическом обществе потребность в них все меньше, они теряют функциональное алиби, легитимность и финансирование. Тем не менее уже ненужные части государственной монополии модернистского образца тоже борются за право на существование. А поскольку былая система сдержек и противовесов не работает, российское государство разрастается тем больше, чем менее общество нуждается в нем. По данным Росстата a к 2006 г. число чиновников выросло до 1,5 миллиона человек, что в полтора раза больше, чем общее количество чиновников в . Фактически адаптационная к новым условиям административная реформа государства провалилась, а российское государство все менее способно выработать новые ме- 124 . i i i ханизмы лояльности граждан, взамен привычным классово-идеологическим. В результате лояльность перестает быть одним из факторов удержания монополии, поскольку должна скрепляться не только удовлетворением текущих потребностей и обеспечением относительно комфортных условий жизнедеятельности граждан, но и некой сверхидеей, которая легитимирует насилие государства и обеспечивает консолидацию общих ценностей и идеалов. Подобных сплачивающих проектов новейшим российским государством за последние 20 лет предложено не было. Возможно, потому, что множественные и разнообразные трансформации Модерна, ускоренные социальными изменениями постбиполярного мира, в особенности опытом развала/распада , не являются окончательными в своих существенных чертах. Происходящие трансформации российского государства как вида монополии не всегда явно выражены институционально. Такие «метаморфозы», как переходы от классового общества к массовому (потребительскому), стирание различий социальных групп и их превращение в виртуальные «группы населения», процессы трансгрессии привычных идеологий и легитимирующих политику ритуалов (выборы, демонстрации, опросы, референдумы и т. д.), индивидуализация и урбанизация постмодернового мира, все еще плохо описываются доминирующим ныне категориальным аппаратом эпохи Модерна. Поэтому популярные теории постиндустриализма, информационного или сетевого общества, «общества без идеологий и утопий», транснационализации во многом является желаемым образом будущего, нежели эффективным способом описать реальность настоящего и интегрировать на более универсальных основаниях растущую «проклятую сторону». Нации-государства все еще остаются ключевыми монополиями мировой политики, сколь бы активно их легитимность ни подтачивали транснациональные корпорации и мультикультуралистские теории. С позиций социальной диагностики скорее можно говорить об усилении «неодновременности» современных сложных обществ, «гетерархии» государств и увеличения вызовов легитимности, стоящих перед нациями в условиях общей транснационализации политического. Представляется, что успешность преодоления критической гетерархии выражается в том, насколько конкретному обществу удается сгладить различные формы неравенства, допуска людей к различным возможностям и «неодновременности». В России гетерархия сегодня, безусловно, растет. И причиной тому — именно методы ее подавления, а не преодоления. Ее фундамент проявляется в имущественном расслоении; растущем образовательном и статусном неравенстве; географическом неравенстве региональных различий; ценностных конфликтах поколений, социальных и этнических групп, проживающих в урбанистических и неурбанистических культурных ландшафтах, граница между которыми является фронтиром прошлого и будущего, синтезировать которые в настоящем становится все сложнее. 125 В 2000-е годы эволюция государственных институтов и их легитимирующих оснований в России двигалась в направлении все большей монополизации и унификации политического пространства. Безусловно, централизация российского государства в 1990-е годы была необходима, чтобы новые политические институты и лежащие в их основе общественные логики вообще возникли и заработали, хоть как-то выполняя свои функции. Однако чем дальше, тем больше централизация и построение функциональных вертикалей власти выполняли функцию алиби для свертывания конкурентной и непредсказуемой публичной политики. Государство фактически начало отказываться бороться с гетерархией и социальной энтропией в публичном политическом поле. Публичное пространство продолжает сокращаться, система формальных сдержек и противовесов постепенно отмирала, сменяясь договоренностями узкого круга лиц, а институты приобретали все более декоративный и номинальный характер. Например, несмотря на федеративное устройство России, были фактически упразднены самостоятельные пространства региональных политик. Экономика постепенно эволюционировала в замкнутую цепочку монополий федерального, регионального и местного масштаба во всех основных сегментах рынка. Контроль над основными b способствовал перемещению общественных дискуссий в более маргинальные пространства (Интернет, круглые столы, экспертные клубы и т. п.). Метод банального огосударствления экономики и разрастания контролируемой публичной сферы в современной России, призванный сократить пространство гетерархии, по сути, возвращает государство и методы его управления к классическому «советскому Модерну». С другой стороны, российское общество данный исторический этап окончательно преодолело в ходе урбанизации, перестройки и последующих институциональных трансформаций, доказав, что возврат в историю невозможен, а государственные и общественные идеологемы и структуры классического Модерна будут работать все хуже. К аналогичным выводам приходит и известный социолог Б. Дубин, обобщающий результаты социально-политических изменений постсоветского периода: «Ни одна из основных проблем постсоветского социума — строительств современных институтов, нормализация процессов воспроизводства общества и систем его управления, интеграция страны в большой мир — не только не решены всерьез, но отодвинуты даже их постановка и обсуждение. Большинство серьезных и неотложных реформ — земельная, армейская, образовательная, жилищно-коммунальная — не сдвинулись с места». Соответственно, наблюдаемые в 1990–2000 годы процессы . См. подр.: Мартьянов В. Метаморфозы российского Модерна: Выживет ли Россия в глобализирующемся мире. Екатеринбург: УрО , 2007. . Дубин Б. Жить в России на рубеже столетий. Социологические очерки и разработки. М., 2007. С. 6. 126 . i i i изменения постсоветского государства описываются Б. Дубиным как «упразднение или кардинальная трансформация собственно модерновых институтов… возвращение и нарастание имперских, ностальгически или остаточно великодержавных моментов в системах коллективной идентификации [выд. авт.] российского населения — мифов об «особом пути» страны, изоляционистских установок в отношении Запада, реакций отторжения и агрессии по адресу этнических «чужаков». Это процессы нарастающей неотрадиционализации социума… воскрешение в массовом сознании мифологии силовых институтов и авторитарных систем (армии, тайной полиции)…» . Более того, как аргументировано утверждает социолог Л. Гудков, «поскольку центральные институты в России, поддерживающие символику и семантику всего социального целого, — это институты государственной власти, вооруженных сил, „органов”, то “насилие”, “агрессия” превращаются в доминантные коды социальной организации населения. Где действуют нормы демонстративного насилия, там вытесняются проблематика и сам язык “понимания“» . Соответственно, наблюдаемое функциональное упрощение оказалось эффективно только во «внутренней реальности» самой власти, способом по преодолению ее собственной гетерархии в виде усмирения региональных элит, формирования механизма «преемничества», обеспечения парламентского большинства, устранения из «большой политики» независимых и несистемных игроков-олигархов, коррекции выборного законодательства и как следствия предсказуемости народных волеизъявлений и т. п. Но общая гетерархия расколотого постсоветского общества, экономическая, региональная, поколенческая и идейная дифференциация вовсе не уменьшились. Наоборот, поскольку общество имеет все меньше механизмов для заявления своих ценностей, целей и требований, все чаще рассматриваемых государством как разрастание «проклятой стороны», происходит определенная деградация обратной связи всей системы механизмов адаптации и самонастройки государства и общества к происходящим внутри и вне его изменениям. В результате, если воспользоваться биологическими аналогиями, государство начинает испытывать явные трудности с приспособлением к внешней среде системы. Поэтому возможные изменения этой среды — экономические кризисы, системные конфликты элит, природные катаклизмы, внешнеполитические вызовы и революции могут привести к элементарному уничтожению системы государственных институтов в нынешнем виде. Чем активней государством изживается «зло» гетерархии в пользу монопольного «добра» — путем замалчивания, исключения, запрета — тем все более опасные и неизлечимые формы начина. Там же. С. 7. . Гудков Л. Д. Невозможность морали. Проблема ценностей в посттоталитарном социуме // Независимая газета. 09.04. 2008. 127 ет принимать «проклятая сторона», угрожая в конце концов разрушить не изнутри, но извне (где, собственно, и оказывается все вытесняемое и исключаемое) доминирующую монополию. Основная проблема заключается в том, что монополия российского государства меняется в сторону воспроизводства и симуляции когда-то бывших эффективными исторических институтов, в направлении «неотрадиционализации», в то время как все более «индивидуализированное» российское общество меняется по направлению к будущему, которое не имеет аналогов в прошлом и настоящем, а следовательно требует не аналогий и применения отработанных временем рецептов и институтов, а творческого изобретения все новых механизмов регуляции общества, основанных на все более универсальных и эгалитарных основаниях, отсылающих не столько к пространству тех или иных исторически и культурно сложившихся национальных политий, сколько к глобальному миру. Поскольку эффективность государства в актуальной миросистеме может быть только глобальной, а национальное — лишь одно из многих мест применения глобальных социальных новаций. Но модернистскому государству все труднее управлять массовым, потребительским, аполитическим обществом. Масса ускользает от определения своей сущности, фиксации своей идентичности, патриотической риторики (потребитель — естественный космополит), всех тех приемов национальных государств, посредством которых ей можно было бы манипулировать как политическим субъектом, единым политическим классом. В свою очередь жесткой стратегий масс является провокация, которая, будучи осуществлена демонстративно, заставляет власть прибегнуть к альтернативе, на угрозе которой строится ее сущность — к насилию. Однако власть, генетически вырастая из насилия, строится затем именно на его исключении и недопущении как на неприемлемой альтернативе, санкционирующей выбор в пользу другого решения. Поэтому необходимость прибегать к насилию дискредитирует власть: «Провокация является вызовом для властителя, требующим от него демонстрации или даже реализации своих альтернатив избежания, что приводит к разрушению его власти им же самим. Это типично детское испытывающее поведение, которое, однако, может быть рекомендовано и как общественно-политическая стратегия». И практика оранжевых революций наглядно показывает, как технологически из подобных провокаций государства произрастают революционные изменения. • В России последних десятилетий активно фундаментально изменяется социальная структура общества, требующая иных целей, институтов и способов организации общества и принципов публичного пространства. Растет производительность труда, сокращается число рабо. Луман Н. Власть. М., 2001. С. 183. 128 . i i i чих и крестьян. Если раньше они составляли классовое большинство, то нынче в меньшинстве. Растет влияние мегаполисов и городского населения, все больше людей с высшим образованием. Расширяется количество занятых в сфере услуг и креатива, а не поточного производства. Все это в виде превалирующей концепции потребительского общества приходит на смену классическому классово-индустриальноидеологическому обществу Модерна. Вместо классов — группы населения и массы. Вместо участия в системе производства основным критерием социальной стратификации становится уровень потребления. Вместо идеологий — прагматизм, представляющий отказ от открытой конкурентной политики, основанной на доказательстве определенных ценностей, вместо партий — лоббистские структуры, исчезающие, как только их разовая функция выполнена или провалена. В актуальных обществах перестают работать такие формы контроля общих правил, как классические партии и идеологии. В условиях ослабления национальных государств, различные меньшинства все успешнее борются за изменение своего положения внутри общества, не будучи способны изменить общество в целом. Усиливающаяся неразрешимость конфликтов групповых интересов, когда потеряны механизмы их вывода на государственно-политический уровень, наносит удар по легитимности государства, вере в его способность руководствоваться всеобщими интересами. Само государство вместо поиска новых технологий легитимации также стремится к апологии своей уникальности, а не к универсальности. В результате в обществе доминируют институты неформальные, непрозрачные и непубличные, разрастается «проклятая сторона вещей», не подчиняющаяся формальным правилам. В результате привычные институты становятся лишь придатками и продолжениями неформальных институтов и практик, лишь оформляя уже принятые решения. В настоящее время критерием роста гетерархии в России служит то показательное обстоятельство, что открытие доминирующим культурным кодом «проклятой стороны» то в одной, то в другой сфере (идеология, культура, экономика, география, климат) оказывается столь неожиданным и болезненным для нормативного сознания властной элиты, что оно уже не прикладывает естественных для монополии усилий, направленных на включение иного во внутреннее содержание системы. Другое впервые предстает как абсолютно иное, не только не включаемое в систему, но даже не вступающее в коммуникацию с ней. В результате единственный вариант, видимый элитами, это подавление или отстранение от элементов и признаков гетерархии — географическое, институциональное, интеллектуальное, законодательное. Это проекты различных изоляций от «проклятой стороны» в виде автаркий , «ост. Паршев А. П. Почему Россия не Америка. Книга для тех, кто остается здесь. М., 2000. 129 рова Россия» , сохранения кода православной цивилизации , «удержания» сакральной география евразийской державы . Логика всех подобных проектов проста — Россия может противостоять гетерархии только путем приобретающего для нее самоценный характер удержания от варваризации и апокалипсиса. Поэтому все в мире может меняться, кроме России, для которой любые изменения пагубны, так как она выполняет незаменимую миссию — удержание равновесия глобального мира. Все это подтверждает необходимость пересмотра оснований монополии современной российской государственности, которые в почти неизменном виде наследуются из имперского прошлого и советского периода, проецируясь и на ближайшее будущее. Проблема в том, что в современной России вновь сформировалась историческая моноцентрическая политическая система, где один центр силы — Кремль, может подавить все вместе взятые остальные центры (регионалов, гражданское общество, «третий сектор», крупные a ) силовым путем. Поэтому формирование общих формальных и публичных правил игры в российской политике оказалось затруднено. Поскольку присущее европейским демократиям искусство компромисса рождается тогда, когда сложносоставное государство формируют несколько равных по своим возможностям центров силы, неизбежно приходящих к выводу, что «война всех против всех» бессмысленна. В результате начинается совместная выработка сценариев, институтов, правил, которые могли бы обезопасить от возможного политического произвола, «игры не по правилам» всех реальных политических субъектов, будь то партии, бизнес, армия, население в целом. Таков был путь многих европейских стран, но не нынешней России, где государство последовательно трансформировало все элементы и институты, генерирующие пространство неопределенности. Например, выборы все чаще предстают не как способ ротации элит, где основная функция — генерировать неопределенности и альтернативы, а как механизм укрепления властвующих. Россия также опровергла тезис, что партии предназначены для конкуренции и захвата власти с целью реализации своих программ. Согласно принятым в современной теории правилам, политические системы, где доминирующая партия набирает более 60 процентов голосов — не могут быть демократическими сугубо по техническим основаниям. При условии соблюдения всех правил равной конкуренции идеальных выборов, ни одна из нескольких партий не способна набрать такое количество голосов естественным путем. Но отечественную власть подобные теоретические изыски не волнуют. В области избирательного законодательства гос. Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. М., 2000. . Дугин А. Апология национализма // Консервативная революция. М., 1993. . Гудков Л. Д. Невозможность морали. Проблема ценностей в посттоталитарном социуме // Независимая газета. 09.04. 2008. 130 . i i i подствуют заградительные цензы и дискриминационные практики: «процессы модернизации в России блокируются центральными, символическими институтами социальной системы, режимом власти. В этом смысле надежды на авторитарный вариант модернизации безосновательны, поскольку латентные функции этих институтов заключаются в систематической девальвации ценностей и подавлении механизмов, могущих инициировать появление более сложных форм социальной организации. Дефицит ценностей компенсируется архаическими и простыми формами регуляции — обрядоверием, имитирующим веру, традиционалистскими ритуалами, фобиями, предрассудками, мифами, санкционирующими те или иные социальные практики. Стерилизации подвергается главный принцип модерности — формирование автономной субъективности… Сегодня мало кто из «элиты» (включая и культурную) готов или хочет, как раньше, идентифицировать себя с защитой бедных и обиженных, нести просвещение, выполнять функции представительства народа перед властью, говорить о своей совестливости, сочувствии, о «добром сердце» и прочем. Эти игры кончились». Известно, что исключительными правами могут наделяться только те, кто берет на себя некие обязанности (служить, воевать, жертвовать собой и т. п.). Поэтому основная характеристика элиты, это исключительность в своей способности к самопожертвованию ради других. Только тогда она имеет моральное право решать за всех остальных, а не обретает это право в силу занятия неких постов во властной и иных иерархиях. В области интеллектуального и морального доминирования следует признать, что отечественные элиты постсоветского периода не имеют морального авторитета, который не стоит путать с популярностью. Поэтому, невзирая на то, что они заняли верхние позиции в социальной иерархии общества, их реальная легитимность чрезвычайно низка. То же правило транслируется на действующие институты. Элиты, олицетворяющие государство, в постсоветский период не сделали ничего, что могло бы укрепить их легитимность, моральный авторитет и «естественное право» находиться там, где она находится. И проблема вовсе не в подмене национальных интересов корпоративными. Она заключается в отказе обществу в какой-либо политической субъектности, отношении к нему как к ребенку, который чего-то там недопонимает или просто капризничает. Но стоит ему «правильно» объяснить и оно согласится с единственно верным выбором, либо будет переведено в разряд адептов иностранного влияния и экстремистов, которых надо «мочить в сортирах». Например, с безальтернативностью преемника или расценками естественных монополий. А еще лучше запретить и наказать все противоречащее своеобразно понятым интересам государства для профилактики будущих несогласий, протестов и цветных революций. Тогда и объяснять не надо будет, за отсутствием инакомыслящих. В результате актуальные институты без опоры на моральный автори 131 тет постепенно деградируют и мутируют, поскольку могут опираться только на угрозу насилия, произвол, административный ресурс. И терпение большинством общественного порядка, на изменение которого они почти не могут повлиять, еще не значит его действительного приятия, то есть легитимности. А реальная угроза нынешнему государству связана прежде всего с возрастанием и реваншем всего того, что последовательно подавляется и вытесняется самим государством из пространства нормы. Поскольку группы гражданских, парагосударственных интересов сегодня слишком искушены и опытны, чтобы вступать в тот или иной конфликт с органами власти, не подготовив стратегию победы. И, как правило, власть всегда прогибается перед организованным выражением гражданского интереса, будь то интерес олигархов и элит (отмена налога на наследство и плоская шкала налогов), владельцев праворульных иномарок, получателей монетизированных льгот и т. п. Общество молчит, но молчание это обманчиво. На самом деле оно все менее предсказуемо в свой кажущейся «имплозии». И это может сыграть злую шутку с политическими элитами. Негосударственные политические акторы отдают себе отчет в том, что уже не могут переиграть властную элиту на ее поле игры, на безальтернативных выборах и референдумах. Но поскольку этими институтами политическое взаимодействие в обществе не ограничивается, вполне возможны успехи групп гражданских интересов за пределами этого свернувшегося как шагреневая кожа пространства публичной политики. Переиграть элиты и государство можно лишь по правилам, которые они не контролируют. То есть вне законов, формальностей и условностей. Безусловно, российское общество все больше нуждается в консолидации посредством новых институтов, легитимирующих утопий и проектов, апеллирующих к будущему и соответствующих уровню развития общества. Иначе более справедливое будущее просто не возникнет взамен слишком многих не устраивающих настоящего. И формирование общества будущего, ценностей и принципов управления им часто осуществляется не через возможности и услуги, предоставляемые «неотрадиционалистским государством», а через отказ от них, некую индивидуально-коллективную автономию от государства и даже аскезу. Поскольку отказ от переоцененных благ актуального государства и нарастающая дисфункция целей, ценностей и институтов, воспроизводящих монополию российского государства, становится отказом от самого государства, по крайней мере, в данном виде. 132 . i i i bj a, bk b ( k 05.06.07, I annales) Жан Ив Гренье и Андре Орлеан bk В оригинальном тексте употребляется много собственных терминов Мишеля Фуко. Некоторые из них здесь переданы иначе, чем в традиционных переводах, что связано с особенностями тематики — политической и экономической — данной статьи, в которой термины заиграли по-другому. В первую очередь это касается неологизма Фуко gouvernementalité: он переведен тоже неологизмом «управительственность». Переводчику кажется, что этот вариант более полно отражает значение, которое Фуко никогда не определял, но которое все же вытекает из контекста: gouvernementalité — нечто вроде «искусства (у)правления» или «ментальности (у)правления» (gouverne + mentalité), — но одновременно в нем слышится существительное, образованное от прилагательного gouvernemental (правительственный), которое в более общем значении переводится старым словом «управительственный». Традиционный перевод gouvernementalité как «управление» или «правление» решительно не годится, потому что «(у)правление» — это gouvernement, и именно в этом смысле он появляется здесь, часто в одной фразе с gouvernementalité. В тексте противопоставляются gouverner и regner, переведенные, соответственно, как «править/ управлять» и «царствовать» (этимологически regner — от латинского rex, regis — царь). Фуко (и авторы статьи) часто употребляют другие, близкие по смыслу слова (gestion, domination, administration, etc.), выделяя в них особые вторичные значения. Переводчик старался передать это через русские синонимы, хотя, возможно, не всегда удачно. Перевод термина souverainité оставлен в традиционном виде — «суверенитет». Этот вариант хотя и не целиком отражает все значения (кроме специфического «суверенитета», во французском это и «верховная власть», и «господство»), но «суверенитет» уже стал в русском «техниче 133 ским термином Фуко». Термин veridiction («говорение истины») не переводился, он оставлен в русифицированной форме — «веридикция». Словарный ряд nature–naturel–naturalite сложно перевести единообразно. Это и «природа–природный–природность (?)» и «естество (?)– естественный–естественность» и «натура (?)–натуральный–натуральность». Соответственно, термины из всех трех русских рядов употребляются для перевода одного вышеуказанного французского. О других сложностях перевода сигнализируется непосредственно в тексте — французское оригинальное слово дается в круглых скобках. Период конца 70 — начала 80-х гг. было временем важных превращений в работе Мишеля Фуко. Проще говоря, интерес философа перешел с дисциплинарных диспозитивов на герменевтику субъекта и заботу о себе, от послушания (assujettissement) к осуществлению свободы. Однако между «Волей к знанию» (La volonté au pouvoir, 1976) и «Использованием удовольствий» (L’usage des plaisirs, 1984) Фуко не опубликовал ни одной книги. Поэтому именно его лекции в Коллеж де Франс становятся особенно важными для понимания этих превращений. В них Фуко сообщает нам о постоянном движении своей мысли, хотя не надо забывать, что он сам их текста не издавал и даже ясно указал в своем завещании, что не желает их посмертной публикации . Можно лишь гадать о причинах, но сам экспериментальный характер этих лекций точно входил в их число. «Безопасность, территория, население» (Sécurité, territoire, population, далее — stp ) и «Рождение биополитики» (La naissance de la biopolitique, далее — nbp ) составляли единый проект все тех же поисков себя самого, который порой приводил автора ко многим перепланировкам, к открытию многочисленных «фальшивых окон», т. е. противоречий, что и усложняет последовательное восприятие этой совокупности . Задачей этих двух трудов было написать историю «управительственности» (gouvernementalité) . Эта долгая и величественная генеалогия, на которой мы не будем задерживаться, стала поводом ввести некото. Указывается у Гийома Лебланка и Жана Терреля (изд.), Guiallume Le Blanc et Jean Terrel (eds.). Foucault au College de France: un itineraire, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, coll. „Histoire des pensees“, 2003. С. 7. . Опираясь на эту идею, заметим, насколько название «Рождение биополитики» далеко от истинной темы курса — либеральной управительственности. Кажется, что по мере своих размышлений Мишель Фуко понял, что перед тем как рассматривать биополитику, необходимо провести предварительный анализ либерализма и это в результате трансформировало его проект. См. введение к лекции 7 марта 1979 г. ( nbp , 191). . Мишель Фуко поясняет в своей лекции 1 февраля 1978 г.: «…Я хотел бы дать курсу этого года более точное название, и, конечно, это не «Безопасность, территория, 134 . i i i рые концепции, которые будут играть существенную роль в дальнейших рассуждениях: правление, поведение, свобода, пасторская власть. Интерес в отношении субъекта конструируется на наших глазах. Все начинается с классической проблемы Фуко — проблемы возникновения в середине xviii в. нового типа власти и механизма контроля, основанных на том, что Фуко называл предохранительными диспозитивами (или «диспозитивы безопасности», dispositifs de sécurité). Далее автор несколько отклоняется от темы, и к первой цели прибавляется, а точнее, заменяет ее, другая — анализ экономического либерализма и его последствий в политике. Это соскальзывание с проблематики и то, как Фуко конструирует либерализм через политэкономию, и являются основными предметами исследования данной статьи. bk b В этих двух книгах Фуко размышляет о генеалогии понятия «(у)правление» (gouvernement). Самый интересный период, по его мнению, — вторая половина xviii в., когда возникли предохранительные механизмы (mécanismes de sécurité), исторически следующие за юридически-правовым и дисциплинарным механизмом. Чтобы понять, что такое предохранительный механизм, Фуко исследует политические шаги, которые предпринимались перед лицом неурожая. Великая трансформация середины xviii в. состояла в том, что начиная с этого времени неурожай стал восприниматься как природное явление. Проводником Фуко служит либеральный экономист Луи-Поль Абей, который объясняет в своем «Письме одному негоцианту о природе торговли зерном» (1763), как следует анализировать неурожай. Нужно отринуть все моральные дисквалификации, потому что речь идет о естественном механизме. Больше не следует противодействовать скачкам от изобилия к скудости какими-либо постановлениями потому, что для того чтобы исчезнуть, феномен должен сначала иметь место. Только работой «в стихии этой реальности» можно ограничить неурожай и даже его уничтожить. Следовательно, речь идет о том, чтобы присоединить некий предохранительный диспозитив к реальности, даже благоприятствуя повышению цен (путем подавления попыток упорядочить все то, что связано с зерном), так как инфляция вызовет двойной эффект, привлекая товары извне и побуждая экстенсифицировать зерновые культуры. Именно в позволении явлению следовать своим курсом и проявляются механизмы автотормоза. Когда дисциплинарные механизмы определяют, что разрешить, и защищают разрешенное, предохранительные механизмы совершают шаг назад, чтобы захватить явления во время их разворачивания. население», выбранное мной ранее. То, что я хотел бы сделать сейчас […], я назвал бы „историей управительственности“». 135 Параллель, проведенная Фуко с вакцинацией от оспы, — движением, развившимся в те же годы, подразумевает общность этих механизмов. В случае с оспой точно так же речь идет не о том, чтобы помешать болезни, задействовав дисциплинарные системы и запретив любые контакты между больными и здоровыми, а, наоборот, чтобы спровоцировать болезнь и дать возможность людям развить в себе средства ее уничтожения. Главная идея — саморегуляция явлений путем зацикливания причин и следствий. Появление предохранительных механизмов порождает общую трансформацию, так как оно касается экономических, социальных и даже биологических аспектов жизни, однако интеллектуальным инструментом, санкционирующим это появление, является политэкономия, которая и сама возникает в качестве самопровозглашенной дисциплины в ту же эпоху. Фуко весьма настойчиво несколько раз указывает на то, что это изобретение является лишь трансформацией технологий власти, характерных для модерных обществ. Тем не менее политэкономия в работе Фуко играет главную роль, не имея реальных конкурентов, потому что ее можно определить как науку о рациональном поведении (предоставление редких средств на альтернативные цели). Разве не все наше поведение рационально? ( nbp , 272). Благодаря этому политэкономия становится не только архетипом предохранительного диспозитива, но и матрицей очень успешного анализа, не только ограничения, но и организации и распределения власти в западном обществе после эпохи Просвещения. Эта центральная роль политэкономии, которую философ находит в самых разных формах — от меркантилизма до самого современного неолиберализма через политэкономию xviii в., парадоксальным образом игнорировалась исследователями диптиха Фуко. Одно возможное толкование для объяснения невидимости этого всепроникающего присутствия таково: политэкономия появляется лишь для того, чтобы вскоре исчезнуть, потому что она сама по себе Фуко не интересует. Верно и то, что удивляет центральная роль, которая ей отдана. Почему Фуко обращается, и столь исключительным образом, к политэкономии? Вопрос тем более оправдан, что это обращение весьма неожиданно. В действительности Фуко концентрирует свое рассмотрение на истории экономической мысли, чтобы найти интеллектуальный инструмент трансформации мотивов управления (raison gouvernementale). Политэкономия и управительственное самоограничение Вопрос ограничения управительственного действия (action gouvernementale) занимал многие умы всю вторую половину xviii в., тем более что это была эпоха расширения бюрократической деятельности, ставшей возможной благодаря развитию монархической администрации, чьи средства действия и сферы компетенции существенно уве- 136 . i i i личились. Впрочем, ее создатели, такие как Морпа, Трюден и Тюрго, часто были приверженцами либерализма. Токвиль, со своей стороны, объяснял Французскую революцию как следствие роста административной централизации. Все более и более автономное и мстительное общественное мнение критиковало эту управительственную деятельность и, чтобы ее ограничить, охотно идентифицировало ее как проявление абсолютизма. И хотя экономическое измерение не было чуждо этим спорам эпохи Просвещения, их центральным вопросом оставался политический либерализм. Однако он не интересовал Фуко, концентрировавшегося исключительно, и порой почти маниакально, на одном управительственном самоограничении. Но ведь с появлением политического либерализма власть находила только внешние принципы ограничения себя. Этот тип ограничения, внешний к управительственным интересам, которые изначально были религиозными, юридическими или политическими, не входит в проблематику рассматриваемых курсов лекций. «Внутреннее ограничение означает такое ограничение, оснований которому никто не ищет… со стороны чего-либо, например, имеющего отношение к естественным правам, предписанным от Бога всем людям, со стороны Священного писания, даже со стороны воли подданных (субъектов, sujets), которым позволяется в какой-то конкретный момент войти в общество. Нет, это такое ограничение, основания которому надо искать не в той стороне, которая является внешней для правительства, но в той, которая внутренне присуща управительственной практике» ( nbp , 13). Кроме исключения из рассмотрения политики, есть еще одно важное последствие этого поиска управительственного самоограничения, и это — отдаление от права, которое проскальзывает везде в строках этих двух книг. Это отдаление происходит к прямой выгоде политэкономии, многократно упоминаемой как фигуры, противоречащей праву. Но последнее никак нельзя упрекнуть в том, что оно внешне по отношению к управительственным интересам, и еще меньше — в его слишком малой способности принудить власть уважать юридические правила или основания, ограничивающие ее поле деятельности. В одном позднем рассуждении (лекция от 28 марта 1979 г., т. е. в предпоследней главе), посвященном homo oeconomicus и «невидимой руке», Фуко противопоставляет юридический субъект, порожденный правовой теорией договора, субъекту интересов, выдуманному политэкономией. Он подчеркивает их различия в том пункте, который считает наиболее важным: в то время как от первого требуется, чтобы он отказался от некоторых прав ради защиты других, от второго никогда не требуется идти против своих интересов. Как показали янсенист Пьер Николь или Мандевиль в «Басне о пчелах», наоборот, для того чтобы экономика приносила благо, важно, чтобы каждый всегда преследовал свой собственный интерес, чтобы он его культивировал и каким-либо об 137 разом интенсифицировал. «Рынок и договор функционируют в точности наперекор друг другу» ( nbp , 279), — заключает Фуко. Эта примечательная разница является второй причиной, по которой политэкономия очаровывает: управительственное самоограничение, которое она оправдывает, ведет к абсолютной свободе каждого преследовать свои индивидуальные интересы. Такая антиномическая конструкция ведет к превращению права и политэкономии в два совершенно не совместимых подхода к миру, а следствием является невозможность существования экономическиправовой науки, отсутствие которой и есть признак этой антиномии. Такая абсолютная гетерогенность политико-правового мира и мира экономики критически важна в диспозитиве Фуко, который настаивает на том, что в этом есть особый умысел: эта гетерогенность усиливает до неотразимости особое положение политэкономии, уникального рационального дискурса, способного заставить правительство само себя ограничивать. Такое отдаление от права не проходит бесследно. Оно ведет, на самом деле, к исключению права собственности — понятия, совершенно отсутствующего в размышлениях Фуко. Причина очевидна: право собственности зависит от тех самых внешних ограничений, которые автора не интересуют. А ведь оно — одна из первых гарантий, которая давалась для защиты индивида от королевского произвола. Многие из тех, кто размышлял о суверенитете, начиная с конца xvi в. и, конечно же, с Жана Бодена, но также и теоретики абсолютной монархии первой половины xvii в., такие как Карден Лебре (Cardin le Bret), подвергают сомнению полномочия короля вводить новые налоги без согласия представителей народа во имя уважения неприкосновенности частной собственности. Но отсутствие этой последней у Фуко еще и парадоксально, учитывая тот факт, что либеральные авторы xvii в. помещали ее в самое сердце своего анализа, делая уважение права собственности центральным принципом и основанием raison d’être политэкономии. Политэкономия, либерализм и натурализм Проблему Фуко с этого момента можно сформулировать следующим образом: как можно создавать политэкономию, когда у нее отнято главное обоснование — частная собственность? Ответ заключается в обращении к всепроникающим понятиям «природа» и «натурализм». Если власть не вмешивается в поступки, то это потому, что они естественны, что придает им как автономию, так и рациональность. Как исторически вырабатывается это понятие «природы» по мнению Фуко? Осознание естественности социальных и экономических феноменов восходит к большому разрыву 1580–1650-х гг. Тогда «появилась природа, которая больше не терпела никакого управления» ( stp , 243). Данное базовое утверждение обозначает следующее: перед этой 138 . i i i трансформацией властитель переносил на землю божественный суверенитет (souveraineté). Фуко здесь ссылается на Фому Аквинского, для которого правление монарха никак не отличается от осуществления суверенитета: царствовать (régner) и управлять (gouverner) — две идентичные и неразделяемые вещи. Если такая преемственность и существует, то только потому, что правитель является частью «этого великого континуитета, идущего от Бога к отцу семейства, проходя через природу и пастырей». Именно этот континуитет и прервался где-то между концом xvi — серединой xvii вв., в самый момент основания классической эпистемы. Хронологическое совпадение с научной революцией явно не случайно. На самом деле, Коперник, Кеплер и Галилей показали, что Бог правит миром через общие законы, которые, раз установленные, не меняются. Бог, следовательно, не управляет миром как пастырь, т. е. как-то индивидуализировано, он суверенно правит через основания, принципы. В ту же эпоху развивалась еще одна тема, весьма отличная, но тесно связанная с предыдущей, так как в ней она имела нечто вроде следствия в политическом плане. Если монарх не может больше (или только) переносить божественный суверенитет на землю, то у него появляется специфическая задача, которую может выполнить только он и которая отлична от функций, предписанных как верховной власти, так и пасторату, хотя он может черпать в них вдохновение: он должен управлять (gouverner). В этом новом диспозитиве мы имеем дело, с одной стороны, с природой, которая отделена от темы управления и которая следует своим принципам (principia naturae), а с другой стороны, с искусством управления, которое должно было заняться этим новым объектом, появившимся в конце xvi в., res publica, общественным делом. Это искусство управления должно было найти себе обоснование, не ссылающееся ни на подражание природе, ни на божественные законы. Этим основанием стали интересы государства, целью которых было поддерживать государство и распоряжаться им в своем повседневном функционировании. И первой характерной чертой этих интересов государства, по отношению к исследовательским задачам Фуко, было то, что они не относились к народонаселению как раньше, т. е. теперь оно представляло собой экономических субъектов, способных на автономное поведение. Эта оппозиция между principia naturae и ratio status доминировала вплоть до середины xviii в., когда произошло некоторое их слияние при посредстве политэкономии. Отныне управление миром опиралось на совсем юную политэкономию, которая сменила природу. Один из парадоксов текста Фуко кроется в том сближении, которое он предполагает у политэкономии и природы. Традиционная история политэкономии объясняет, что именно открытие естественного порядка в физическом мире и подсказало экономистам эпохи Просвещения, что такой же порядок может править в социальном мире, 139 давая политэкономии право провозгласить себя наукой, по крайней мере, начиная с физиократов, и открывать свои законы. Этот аспект не интересует Фуко, в стороне оставляющего научную аргументацию, к которой прибегала политэкономия в 1760-х гг., чтобы оправдать либерализм и в особенности ту идею, что свободный рынок является наиболее эффективной и наиболее справедливой организацией производства и распределения богатств. Если экономика является частью природы, говорит он, только потому, что поведение индивидов было описано экономистами как зависящее от природы. Благодаря открытию понятия «народонаселение» (population) был установлен принцип самоограничения управительственного действия. Этот политический персонаж «абсолютно новый» и совершенно чуждый юридической и политической мысли предыдущих столетий. Фуко противопоставляет идее паноптикума, старой мечты властителя, которая нацелена на тотальное и индивидуализированное наблюдение над людьми, предохранительный диспозитив, интересующийся только естественными механизмами. Народонаселение фундаментальным образом характеризуется закономерностями, которые можно квалифицировать как естественные. Они бывают двух видов. Во-первых, как это с восхищением обнаружили статистики xviii в., существуют константы — постоянные или вероятные пропорции в переменных, характеризующих население (количество смертей, количество больных, закономерности несчастных случаев и др.). Во-вторых, существует поведенческий инвариант, который придает народонаселению, взятому в совокупности, единую движущую силу, желание или, говоря языком экономики, стремление преследовать индивидуальные интересы, которые, если этому не мешать, производит общий интерес всего населения. Этот анализ приводит к двум различным способам ответа на вмешательство правительства, и оба одинаково представлены в самом сердце либеральной мысли. С точки зрения первого народонаселение непроницаемо для властителя, потому что, с одной стороны, переменные, которыми оно определяется, слишком многочисленны и автономны для того, чтобы быть доступными, а с другой — каждый индивид способен понять свои желания и интересы, как и то, какие средства необходимо применить, чтобы эти желания осуществить. И в этом никакая власть не заменит индивида. Впрочем, вмешательство в это особенное поведение производит ситуации чрезмерной сложности для того, чтобы их можно было осознать. Они, следовательно, недосягаемы для управительственного понимания. Эта тема часто поднимается во второй половине xviii в., особенно во время дискуссий вокруг свободы торговли зерном. В xx в. наиболее систематически эту концепцию развивал Ф. Хайек. Согласно второй точке зрения само существование закономерностей делает поведение населения частично предсказуемым и досягаемым для техник управле- 140 . i i i ния. Некоторые из констант и постоянных пропорций можно вычислить, а интерес, поскольку он укрощает страсти, как подчеркивало большинство авторов xviii в., — гарантия того, что индивиды будут, по крайней мере частично, постигаемы властью. Эта двойственность диагноза присутствует и у Мишеля Фуко, когда он размышляет о вмешательстве правительства и его пределах. Пока что следует настоять на оригинальности понятия «народонаселение», которое Фуко развивает в первой части своего лекционного курса. Конечно, все идет от политэкономии, потому что она является наукой о руководстве (gestion) населением, т. е. интеллектуальной моделью, на основе которой и следует осмыслять управление. Но не управительственность, которая вдохновляется гораздо более общим призванием, чем «чистая и простая экономическая доктрина», потому что она направлена на множество аспектов, тем или иным образом связанных с экономическими процессами. Фуко воспринимает ее очень широко, так как эти процессы заключают в себе не только демографию и здравоохранение, но и «способ поведения» (manière de se comporter) ( stp , 24), т. е. все, что исходит от природы и природных феноменов. «Народонаселение, следовательно, это есть все, что простирается от принадлежности к биологическому виду как корневой, до выборки чистой публики на поверхности» ( stp , 77). Это позволяет Фуко заключить, что политэкономия, и в более широком смысле либерализм, есть натурализм. Хотя либерализм исторически порожден прогрессирующим ограничением страстей и интересом к одному только экономическому измерению жизни, т. е. к преследованию прибыли и приобретению материальных благ, Фуко движется в обратном направлении благодаря понятию «народонаселение», делая из знания политэкономии модель расширенной управительственности. И на этой стадии следствием является исключение политического. Подчеркнем, что это открытие авторов xviii в., перепрочтенное и интерпретированное Фуко, важности и естественности социальных феноменов ведет к анализу в двух очень разных направлениях. Первое направление настаивает на понятии биовласти, осуществляемой государством над народонаселением. Это продолжение, но с радикальной точки зрения, проекта Фуко по изучению контроля над индивидами, осуществляющегося с особым упором на тело в его биологическом измерении, направление, которое существует начиная с 90-х гг. и ссылается на наследие философа. Другое направление, напротив, ориентируется на либерализм невмешательства, находящего в себе самом и в автономии народонаселения причины лишь для слабого вмешательства. Оба проекта, без сомнения, интересовали Фуко, как это доказывают, порой лишь через намеки, его первые лекции. Но в этих двух курсах ясно демонстрируется больший интерес ко второму проекту и к исследованию эвристических последствий политэкономии, которые явным образом ставят ее в затруднительное положение. 141 Однако о какой политэкономии идет речь? Фуко очень ясно объединяет политэкономию и слабое управление — две вещи, немыслимые друг без друга ( nbp , 31). Именно поэтому он фокусируется на середине xviii в., а более точно, на десятилетии либеральных эдиктов (1754–1764), времени большого изменения техник власти и появления модернового управительственного интереса (raison gouvernementale). Когда он говорит об «экономическом знании», которое служит моделью управительственности, то ссылается только на один ограниченный корпус текстов. Это заставляет его игнорировать или скрывать другие формы этого знания. Именно таким образом он старается понять рациональность, присущую системе управления зерном ( stp , 35). Он обостряет оппозицию между предохранительными диспозитивами, т. е. либеральной политэкономией, опирающейся на реальность вещей, и другими формами организации социального. «Безопасность, в отличие от закона, который работает в воображаемом мире, и от дисциплины, которая работает в дополнении к реальности, старается работать в самой реальности, заставляя играть […] элементы реальности, одни по отношению к другим» ( stp , 49). Фуко настаивает на этом аспекте либерализма, который действует на объективируемые природные феномены, отталкиваясь от реальности вещей в процессе их производства. Следовательно, оппозиция слаба, так как механизм возникновения неурожая, на котором он основывает свои выводы, а в более широком смысле экономика, являются следствием работы воображаемого. Это показывает Неккер, которого Фуко никогда не цитирует в «Законах о торговле зерном» (Legislation sur le commerce des grains, 1775) и который подчеркивает, насколько функционирование рынка связано с коллективной психологией, расстраивающей планы введения закономерностей и исключающей установление «истинных цен» на товары. В результате, когда Фуко говорит в общем об «экономическом знании», он жестко фокусируется на своей политэкономии, удерживая внимание лишь на том, что имеет отношение к конструированию и принятию идеи народонаселения. Умеренное управление Теперь мы понимаем, что главная роль принадлежит паре народонаселение (естественное) — управление (искусственное). Когда Фуко заявляет, что он в основном размышляет об истории управительственности, в конечном счете его больше всего интересует вопрос о народонаселении, т. е. об автономии общества. Сложность состоит в том, что общее определение, предложенное для управительственности, ничего не говорит о его значении. Прежде всего зачем вмешиваться? Даже если самоограничение точно определяет природу либерального управления, и Фуко настаивает на необходимости «умеренного управления», все равно необходимо вмешательство. Почему? 142 . i i i Первая причина состоит в том, что интересы индивида в рамках народонаселения противоречивы, даже разнонаправлены. Либеральное искусство управления также сталкивается с трудностями при попытке точно определить, до каких пор это расхождение не представляет угрозы общему интересу. Следует гарантировать вместе и свободу и безопасность, что неминуемо предполагает частичную опасность и риск самой свободе, но равным образом и защиту коллективных интересов от индивидуальных (и наоборот). Вторая причина состоит в том, что предохранительные механизмы безопасности, будучи оптовыми «потребителями» свобод ради своего функционирования, должны быть одновременно и «производителями». Этот парадокс, который подчеркивает Фуко, присущ всему либерализму, но усугубляется в случае самоограниченного либерализма. Так, чтобы привести простой пример, свободный рынок нуждается в том, чтобы не было монополий, что предполагает законы, реально ограничивающие свободу действий участников. Следовательно, арбитраж между свободой и безопасностью должен вестись постоянно. Важным следствием либерального искусства управления, понимаемого таким образом, является необходимость в огромном количестве процедур контроля в противовес свободам. В первую очередь управление должно надзирать за общей механикой поведения, но затем, когда этот надзор выявляет какие-либо дисфункции, оно должно вмешиваться. Здесь фигура Бентама, возвышающаяся в «Надзирать и наказывать», появляется вновь, и паноптикум кажется формулой и либерального управления. Это новое искусство управления, которое подразумевает, что либерализм сложным, если не сказать двусмысленным, образом, связан со свободами, так как он должен их производить, но в процессе производства рискует их разрушить. И, если Фуко хорошо видит, что один лишь либерализм не определяет всю практику управления, он не дает никаких зацепок для того, чтобы набросать эскиз точного определения «благого вмешательства». Он много раз подчеркивает: единственное направление, в котором может развиваться рассуждение, — это путь утилитаризма, который по своей сути является не идеологией организации общества, но техникой (ограничения) управления. При утилитаризме расчет становится единственным интересом управления (raison gouvernementale). «Интерес управления должен соблюдать эти ограничения в том смысле, что он должен рассчитывать свои главные функциональные цели и наилучший способ их достижения». ( nbp , 13). Эта рациональность управления (или, лучше сказать, гиперрациональность, учитывая исключительное значение, которое придается расчету) важна, так как она превращает управление практически в прямое следствие естественных феноменов. Она сильно интересует Фуко, который датирует ее возникновение xviii в., находя следы, например, в морском праве или в проектах вечного мира, и именно этой идее «искусства управле 143 ния по-рациональному» он посвящает последнюю лекцию 4 апреля 1979 г. Эти исторические примеры, однако, оказываются менее удовлетворительны, так как они на самом деле иллюстрируют идеи натурализма и естественного порядка. Напротив, отсылка к утилитаризму и расчету ничего не говорит о тяжелом арбитраже между свободой и безопасностью, центральной проблеме либеральной управительственности, которая ведет автора к таким парадоксальным утверждениям, как это изумляющее обращение к паноптической фигуре Бентама в самом сердце предохранительных диспозитивов безопасности, тогда как введение последних в самой книге, наоборот, удаляет его от них. Разрешение этих сложностей отсылает к вопросу, уже поднимавшемуся выше: как определить границы управительственного вмешательства, т. е. как гарантировать автономию народонаселения, уже лишенного защиты в терминах права? Именно для того, в числе прочего, чтобы разрешить эту сложность, Фуко обращается, начиная с лекции 31 января 1979 г., к немецкому ордолиберализму 1930–1950-х гг. и американскому послевоенному неолиберализму. Эти две политэкономии предлагали одно достаточно радикальное решение вопроса о вмешательстве, видоизменяя изначальные гипотезы, от которых отталкивался Фуко. Они, в частности, постулировали стихийное схождение интересов там, где предохранительные диспозитивы безопасности учитывают их возможное противоречие. В Германии 1948 г. более чем где-либо еще в Европе ощущалась необходимость в реконструкции, и, следовательно, в разных видах политики вмешательства, особенно кейнсианских. Однако в апреле 1948 г. отчет Совета по науке и администрации Германии в англо-американской зоне рекомендовал, чтобы «управление экономическими процессами осуществлялась настолько широко, насколько возможно, через ценовые механизмы», в чем видно большое сходство с рекомендацией, которую дал Тюрго в знаменитом эдикте сентября 1774 г., устанавливающем свободную торговлю зерном. Это определение либерализма — дело рук советников Людвига Эрхарда, ответственного за эту администрацию и основывавшего на этом отчете свою линию поведения. Именно эти экономисты-советники и составляли группу ордолибералов, ведущих свое происхождение еще от Веймарской республики. Согласно им, свободное искусство управления начиная с конца xix в. как будто опасалось своих собственных достижений и изобрело технику вмешательства в государственное руководство экономическими явлениями, чтобы ограничить сами последствия либерализма. Их главный «теоретический переворот», прекрасно объясненный такими мыслителями, как Хайек или Рёпке, состоял в том, что они считали нацистскую систему не следствием крайнего кризиса, но его логическим продолжением, конечной точкой эволюции политического вмешательства кейнсианского типа. Урок, который вынесли ордолибералы из опыта нациз- 144 . i i i ма, следовательно, состоял в том, что вместо того чтобы принять свободный рынок, надзираемый и ограничиваемый государством, нужно напротив, генерализировать логику рынка и сделать так, чтобы она была регулятором государства. Тут проявляется разрыв с либерализмом laissez-faire xviii и xix вв., так как речь идет не только о том, чтобы оставить экономику свободной, но и о том, чтобы распространить логику конкуренции и рынка дальше. Но ведь верить в то, что установления свободного рынка достаточно для генерализации механизмов конкуренции, было бы «натуралистической наивностью». Для того чтобы эти механизмы стали действительно центральными в обществе, нужно чтобы либеральное правительство было активным и интервенционалистским. «Конкуренция, таким образом, есть историческая цель искусства управления, а не какая-то данность от природы, которую нужно соблюдать и охранять» ( nbp , 124). Исходя из этого вмешательства публичных властей должны касаться одних лишь условий существования рынка, они должны помогать тому, чтобы этот хрупкий и очень эффективный механизм функционировал полностью. Любая другая цель (полная занятость, покупательская способность, платежный баланс) должны оставаться вторичными. Точно так же правительство не должно постфактум корректировать разрушительные последствия рыночных действий в обществе. Оно должно вмешиваться в само общество, чтобы конкурентные механизмы каждый раз снова играли свою регулирующую роль. Это новаторское рассуждение ведет, согласно Фуко, к изобретению другого типа капитализма, предпринимательского капитализма, в рамках которого каждый экономический агент или каждое хозяйство приравнивается к предприятию, одновременно автономному и ответственному настолько, что индивида больше нельзя отчуждать от его среды обитания и его работы. Эта обобщенная форма «предприятия» отличает ордолиберализм от классического laissez-faire, для которого homo oeconomicus был в основном партнером по обмену. Она, безусловно, нацелена на то, чтобы сделать экономическое регулирование моделью для социальных отношений, но и на то, чтобы поставить в центр социальной жизни всю совокупность ценностей, связанных с предприятием (независимость индивида, этическая ответственность…), противопоставляя ее холодному механизму конкуренции, этому, по выражению Рёпке, «морально и социологически принципу, скорее разлагающему, чем объединяющему». Интервенционализм правительства не должен, таким образом, касаться экономики, а только социальной жизни. Государство проводит Gesellschaftspolitik, чтобы дать сыграть хрупким конкурентным механизмам рынка. Эта «политика общества» способствует и установлению рынка, благоприятствуя, например, доступу к собственности или помогая заменить личные гарантии коллективным социальным обеспечением. В этом либеральном обществе, где конкуренция сталкивает друг с другом не участников об 145 мена, а предприятия, закон не должен быть чем-либо еще, кроме простого набора правил игры рынка. Экономика, таким образом, становится эталоном конструирования для политики — экономика производит легитимность, необходимую государству, а свобода между экономическими партнерами создает политический консенсус, — но также и для социальных связей, т. е. культурных ценностей. Под этим углом зрения и с другими независимыми переменными логическим продолжением немецкого ордолиберализма становится американский неолиберализм, а точнее Чикагская школа, которая развивалась в ответ на Новый курс и социальные программы, проводимые в j от Трумэна до Джонсона. Несмотря на важные отличия, связанные с гораздо более значительной радикальностью американского течения, точки соприкосновения с немецкой традицией многочисленны, и самая выдающаяся из них — то, что обе школы полагают, что анализ в терминах рыночной экономики можно перевести на все аспекты человеческого поведения, а индивид сам по себе при этом считается предпринимателем. Эти экономисты, такие как Гэри Беккер и адепты теории человеческого капитала, т. е. понятия, которому Фуко уделял очень пристальное внимание, распространяли анализ в терминах рыночной экономики на множество сфер общественной жизни. Каждый агент, например, сам решает, делать ли ему инвестиции в образование своих детей, чтобы сформировать человеческий капитал, призванный позже приносить доход, или же он делает выбор между прибылью, получаемой с преступного поведения и рисками навлечь на себя карательные санкции. Этот генерализованный экономический подход неолибералов больше всего интересен тем, что позволяет контролировать правительственные действия и подвергать их испытанию количественной критики. Теперь можно измерить действия правительства мерой их эффективности, касающейся применения игры конкуренции и рынка. Большой аналитический прогресс по сравнению с либерализмом laissez-faire xviii в. состоит в том, что экономика, вместо того чтобы оставаться просто моделью или иллюстрацией более общей управительственности, становится управительственностью по преимуществу. Сразу возможно дать определение и присвоить более точное значение правительственному вмешательству: оно должно создавать условия для функционирования экономики рынка и конкуренции. Его пределы включены в само это определение, потому что описание общества как пространства для свободной конкуренции и слияния интересов предполагает, что правительственное вмешательство заинтересовано только в условиях существования рынка, в его юридической среде, но не в его экономическом содержании или его социальных последствиях. Это, бесспорно, лучше всего определяет «умеренное управление», столь дорогое Фуко, одновременно менее амбициозное и более дистанцированное от общества. Ордолиберализм и неолибе- 146 . i i i рализм в каком-то смысле подновили концепцию народонаселения, но сделали ее более радикальной, назначив публичным властям в качестве цели обеспечение таких условий в обществе, которые гарантируют его автономию и делают так, чтобы им было (почти) не во что вмешиваться. Практики и режим veridiction Для того чтобы написать историю либеральной управительственности, как Фуко много раз говорил, он хотел отталкиваться не от универсалий политической философии (субъекты, государство, гражданское общество…), но от конкретных практик и от того, как они отражаются и рационализируются, согласно методу, уже опробованному незадолго до этого в «Надзирать и наказывать». Этот проект был частично реализован на первом этапе, посвященном xviii в., благодаря, кроме прочего, практикам, свидетельство существования которых он находит в утилитаристском либерализме. Но ему не удалось, как известно, включить то, что его интересовало, и то, чего не было в строгом смысле в том проекте политэкономии, на который он опирался: самоограничивающийся либерализм. Переход от либерализма xviii в. к либерализмам xx в., следовательно, помогает продвинуться в теоретическом разрешении центрального вопроса, поставленного в этих двух книгах, т. е. самоограничения управления, но это представляет проблему по отношению к реальному. На втором этапе, посвященном немецкому и американскому неолиберализму, действительно, видно исчезновение практик за счет разработки того, что является теоретической формой ограниченного управления, дискурсом, отвязанным от «способов делания» (manières de faire). Фуко сделал еще одну попытку закрепить эту историю репрезентаций в истории реальности, обратившись к понятию режима «веридикции» (veridiction, буквально истинноговорения), которое является основным для его более общего проекта «истории систем мышления», касающегося тюрем, психиатрических институций и сексуальности. Говоря кратко, выстраивать историю режимов веридикции — это значит интересоваться эффектами, которыми обладают системы мышления, когда они верят, что то, что они указывают — истина. Фуко также напоминает: «Если вспомнить все ошибки, которые медики высказали по поводу сексуальности и безумия, то какой от этого толк […] Важно только определение режима веридикции, которое им позволило […] заявлять как истинные некоторые вещи, о которых сегодня известно, что они, быть может, и не таковы». Так, Фуко полагает, что начиная с середины xviii в. благодаря различным техникам, разработанным, в частности, для того, чтобы справляться с неурожаями, свободный рынок находится на пути к тому, чтобы стать для современников «ме 147 стом, которое я называю веридикцией» ( nbp , 34). Истина, выражаемая рынком, который был освобожден, согласно политэкономии, заменяет серию неопределенных управительственных вмешательств, предпочитаемых меркантилизмом. Фуко чудесно играет на семантической неоднозначности, потому что экономисты той эпохи использовали именно выражение «истинные цены» для обозначения цен на товары, определенных свободным рынком, которые считали истинными потому, что они оценивали индивидуальное поведение, но также и правительственные практики, подчиненные общим целям, заключавшиеся в сохранении народонаселения во время неурожая или, в более широком смысле, в производстве богатства. Понятно, насколько важны для Фуко эти идеи, так как, с одной стороны, истина рынка была одним из самых мощных аргументов в пользу самоограничения управительственных практик, а с другой — принцип режима веридикции наделял политэкономию эффективностью и инструментом воздействия на ход вещей. Но так ли хорошо применим этот принцип в политэкономии, как это думал Фуко? В этом можно усомниться. Если без сопротивления можно принять, что либеральная политэкономия влияла на экономическую политику и организацию рынка, труднее признать, что последствия такой политики можно измерить по результатам, наблюдаемым на рынке. Здесь есть существенное отличие, например, от психиатрии. Психиатрический дискурс, так как он нормативен, прибегает к критериям истинности для того, чтобы определить принадлежность к безумию и нормальности или к принятым и девиантным сексуальным практикам, исходя из прямых рассматриваемых последствий для социальной жизни. Но политэкономия, если она может предписывать либеральную политику, не способна контролировать последствия. Чем является «истинная цена», как не абстракцией, которая не имеет значения нигде, кроме как в рамках подхода в терминах равновесия рынка, но этой абстракции трудно даже — хотя некоторые экономисты это пытаются сделать — придать эмпирическое содержание, так что же говорить о ее использовании для индексации и ограничения управительственной политики? Утверждение, что рынок является абстрактным принципом веридикции, отвечает амбициям либеральной теории; но то, что рынок производит показатели, выражающие истину, способную сделать из него инстанцию по веридикции и, следовательно, по ограничению управительственных практик, это уже чересчур. Нельзя сказать, какова точка зрения Фуко на экономическую теорию и насколько он ей верит, но он воспринимает всерьез ее последствия, и в этом смысле он плохо улавливает особенность экономического дискурса, который имеет не столь сложную связь с реальностью как когда-либо, так и сегодня. Он даже включает в свои размышления либеральную критику суверенитета, и столь же несдержанно, и делает это потому, что она и раньше играла важную роль в его рассуждениях. 148 . i i i Действительно, критика суверенитета находится в самом центре анализа, который Фуко долгое время посвящал вопросу власти. Его целью было сконструировать рассуждение о доминировании, радикально свободное от модели суверенитета. Он объясняет это много раз и, в частности, в «Нужно защищать общество» (Il faut défendre la société, далее — ifdls ), и на лекциях 14 и 21 января 1976 г., которые эксплицитно представлены как «род прощания с теорией суверенитета» ( ifdls , 37): Вопрос для меня, следовательно, в том, как обогнуть и избежать этой проблемы […] суверенитета и подчинения (obeissance) индивидов, оказавшихся под этим суверенитетом, и поставить на место суверенитета и подчинения проблему доминирования и послушания (assujettissement) ( ifdls , 1976, 24/25). Но что такое суверенитет в глазах Фуко? В основном это юридический вопрос, т. е. вопрос прав: с одной стороны, прав, которые субъекты уступили, от которых они отказались, с другой — прав, которые заполучил суверен, именем которых он и осуществляет свою власть. Много раз Фуко настаивал на этом юридическом измерении, основополагающем для него в модели суверенитета: эта модель касается «власти в юридической форме» (La Volonté de Savoir, 112). Субординация, в юридическом смысле, которую Фуко в ifdls называет подчинением (obéissance) в противоположность послушанию (assujettissement), предполагает, что часть подданных соглашается с притязаниями властей на свою легитимность. Из этого возникает власть очень слабо интрузивная, которая принимает подданных такими, какие они есть, власть, которая не роется в их сознании и не исправляет их души. Эта власть воздействует от случая к случаю в основном на богатства и блага, используя какую-либо систему периодических изъятий, примером которой является налоговая система. Но Фуко интересует власть другой природы, власть дисциплинарная, которая действует не через временные изъятия, но через тесную и непрерывную сеть, направленную на присвоение труда и на производства постоянного повиновения, а также через системы наказания и надзора. Этот способ функционирования радикально чужд власти суверена . В то время как последняя . Гетерогенность этих двух властей будет видна еще сильнее, если вспомнить, что касательно дисциплинарной власти Фуко писал: «Это власть не суверенная, она чужда форме суверенитета, это власть дисциплинарная. Власть неописуемая, неоправдываемая в терминах теории суверенитета, радикально чуждая и даже способная привести к исчезновению этого великого юридического здания теории суверенитета» ( ifdls , 33). 149 ставит в самый центр славу властителя, первая интересуется производством подданных. Более того, отказ от рассмотрения юридического выдает навязчивое стремление Фуко понять власть в ее реальности, не с точки зрения легитимности, приложимой к ее действиям, а ее эффективности в деле трансформирования подданных, вплоть до контактирования с их телами. «Следует изучать власть вне модели Левиафана, вне поля, разграниченного на юридический суверенитет и институцию государства. Речь идет об анализе, отталкивающемся от техник и тактик доминирования» ( ifdls , 30). Как показано в первой части, интенсивность этой критики юридической модели возрастает, когда Фуко приступает к исследованию предохранительных диспозитивов. Мы видим, как он подчеркивает дистанцию, существующую между логикой, присущей этим диспозитивам, и логикой юридической, между рынком и договором. Это приводит его к предположению о гетерогенности договора и рынка, которая дезориентировала либеральных экономистов ( nbp , 278). Но в рассмотрении экономической сферы Фуко движется совершенно по-другому, доходя до утверждений того, что homo oeconomicus никогда ничего не уступает. Он, якобы, продолжает каждый момент оставаться целиком предан своим интересам, которые ведут его от места к месту: «каждый не только может следовать своим интересам […] но нужно, чтобы каждый […] им следовал, вплоть до того, как он найдет средство для их максимальной реализации» ( nbp , 279). Эта обновленная критика юридического приводит не к тотальному исчезновению суверенитета, но к анализу того пространства, где он играет лишь периферическую роль, становясь чем-то вроде фона, уже не вызывающего интереса исследователя. Даже если Фуко пишет: «Проблема суверенитета не снята, напротив, она остается как нельзя более острой» ( stp , 110), в реальности его размышлений, и этого нельзя не признать, от нее ничего не остается. Теперь суверенитет появляется лишь как диспозитив на буксире у правления, целиком призванный ему служить: «учитывая, что искусство правления существует, учитывая, что оно развивается [речь идет о том], чтобы увидеть, какую юридическую форму, какую институциональную форму и на какой правовой основе можно будет придать суверенитету» ( stp , 110). Вот и все, что мы можем сказать об этом. Экономического суверена не существует Однако в nbp Фуко идет дальше. Во время этого лекционного курса он переходит на другой этап, в некотором смысле конечный, своего отрицания суверенитета. Он делает это на основе тезиса, частично вдохновленного мыслью Фридриха Хайека: «Рыночная экономика ускользает от любого обобщающего понимания». Конечно, говорит нам Хайек, можно объяснить абстрактные принципы конкурентного функционирования, но частные факты или практические условия той или иной 150 . i i i экономической конъюнктуры от нас ускользают безвозвратно потому, что рыночная экономика — это комплексная система. Она — результат бесконечного числа локальных приспособлений, которые невозможно охватить умом, потому что полное описание самого простого экономического состояния должно принимать во внимание миллионы взаимодействий, предполагая обращение к информации настолько обширной, что человеческий мозг не может ее воспринять. По этой причине экономический мир непрозрачен. «Он по своей природе необобщаем» ( nbp , 285). Следовательно, государство не располагает когнитивными средствами, чтобы вмешиваться эффективно. Его вмешательство упирается в сложность рыночной экономики. Из этого следует радикальная дисквалификация способности суверена управлять экономическими процессами, и не потому, что он не имеет на это права, но потому, что он этого не может: «ты не можешь [действовать], потому что не знаешь, и не знаешь потому, что не можешь знать» ( nbp , 286). В сущности, ориентиром здесь служит модель стихийного, или кателектического, порядка. Она позволяет Фуко считать конкурентный механизм чем-то фундаментально аллергичным любому вмешательству извне в строго изолированную сферу частных интересов. Рыночная вселенная слишком сложна для того, чтобы быть мишенью каких-либо обдуманных действий. Государственные действия не только не нужны для функционирования конкурентного регулирования, более того, эти действия по своей фундаментальной природе только сбивают регулирование. Фуко завершает свой анализ весьма суровым заключением по поводу бесполезности экономического суверена: «экономика — это дисциплина без тотальности; экономика — это дисциплина, которая начинает демонстрировать не только бесполезность, но и невозможность обращения с ней с позиции суверена, с точки зрения суверена на тотальность государства, которым он управляет» ( nbp , 287). Он заключает, что не существует «экономического суверена» ( nbp , 287). Это проклятие внешнему и преступающему границы не ограничивается одними государственными действиями. Оно также направлено против всех акторов, которые теряют из виду личные интересы, чтобы приписать своим действиям коллективную цель. В первую очередь важно, чтобы каждый исполнял свою роль и строго ее придерживался, т. е. «максимально преследовал свои интересы». Если появляются какие-то акторы, покидающие эту линию поведения и заинтересованные в общем благе, это может быть источником одних лишь отклонений. Весь этот анализ приводит к парадоксальной идее, что в экономике всегда нужно отдавать предпочтение «близорукости» ( nbp , 284/5), следуя Мандевилю. «Неясность, слепота абсолютно необходимы для всех экономических агентов» ( nbp , 283). И так как государство претендует на «дальнозоркость», то, что оно видит, это «химеры». Этот анализ по поводу взгляда и видимости — один из самых своеобразных у Фуко. Нельзя не заметить, если обратиться к размышлени 151 ям Фуко по поводу паноптикума, что там мы видим совершенно противоположную фигуру. Неолиберальная экономика описывает мир индивидов, не только близоруких и воспринимающих других лишь через то, что им может сообщить цена, но и свободных от какого-либо надзора центра, который может их наказать. С одной стороны, мы видим власть, которая контролирует все, потому что она все видит и все знает, с другой — власть чрезвычайно ограниченную, потому что она ничего не видит и ничего не знает. Нельзя представить себе более разительного контраста. Деньги Существует, однако, базовая рыночная реальность, в которую упирается эта либеральная концепция экономики без тотальности и которую ей не удается интегрировать — денежные отношения . Чтобы их понять, достаточно посмотреть на законодательные приспособления, которые окружают деньги. Их характер, нарушающий порядок конкуренции, бросается в глаза. Вспомним, с одной стороны, о монополии на эмиссию, которой обладает один особый институт, центральный банк, о привилегии выпускать монеты и, с другой стороны, о банковском курсе валют, который не дает рыночным акторам принимать последние в своих обменах. Монополии и ограничения, насколько они далеки от базовых либеральных ценностей, которыми являются конкуренция и свободный обмен! Если мы прибавим сюда многовековые связи, которые соединяют деньги и власть, то окажемся перед картиной, способной вызвать отвращение у любого приверженца стихийного порядка. Вместе с деньгами в дело снова входит идея «невидимой руки»: сумма рыночного порядка здесь принимает совершенно ясную и видимую форму, форму монетаристской политики. Также легко увидеть, что большая часть либеральных идей имеет целью «нейтрализовать» деньги. Нужно осознать те концептуальные рамки, которые принимает это столь противоречащее правилам конкуренции институциональное присутствие, но тут же и установить, что это присутствие не оказывает воздействия на экономические отношения: оно не модифицирует их конкурентную природу. Почему? Потому что деньги — это просто условность, как в языке, и они позволяют общаться, не вмешиваясь в содержимое посланий. Если денежная эмиссия увеличивается вдвое, то все цены делают то же самое, и, таким образом, ничто фундаментальное не затрагивается — ни показатели обмена товарами, ни уровень производства или занятости. Если сказать, что деньги нейтральны, это будет вполне точно. Или, по-друго. Вспомним, что сам Хайек тоже сознавал это и настолько, что предложил план реформы, призванной ликвидировать центральные деньги, и заменить их конкурирующими частными средствами оплаты. См. Friedrich Hayek. Denationalisation of Money. London: Institute of Economic Affairs, 1976. 152 . i i i му: деньги — это чистый инструмент, имеющий целью облегчить торговые операции, не изменяя реального положения акторов . Вспомним, кроме того, что самая отточенная формализация рыночной экономики — концепция Вальраса предлагает анализ рынков, в котором деньги вообще отсутствуют. Нельзя найти лучшего примера, иллюстрирующего это глубокое отчуждение, чужеродность денег либеральной концепции конкурентного порядка. Фуко, внимательный читатель неолиберальных трудов, согласен с этим анализом. Ни деньги, ни золото не представлены в алфавитном указателе его книг. Но тесные связи, которые существуют между деньгами и суверенитетом, не ускользают от его внимания. Когда он воображает взаимодействие между экономическими акторами, то учитывает лишь тот мир, который основан только на рынках. Деньги там не являются ни вторичным элементом, ни нейтральным инструментом. Они — специфическая форма, которую принимает суверенитет в экономике. По этой причине и либеральную болезнь постигают именно через них. Однако сейчас нет нужды вступать в теоретическую дискуссию по этим вопросам . То, что мы хотели показать: до какой степени исключительное использование Фуко тематик Хайека ведет его к ошибочному воззрению на ту роль, которую играет суверенитет в рыночной экономике. Анализ рождения a , который он предлагает в лекции 31 января 1979 г., будет удачным примером. Если история возникновения a интересует Фуко настолько, что он посвящает ей почти целиком лекцию, то это потому, что она дает возможность поразмыслить об ограниченном опыте, — ни больше ни меньше, а учреждении сообщества за границами поля действия суверенитета. Не стоит слишком настаивать на теоретическом значении этого события. Нужно видеть в нем своего рода эмпирическое подтверждение тезисов, развитых ранее по поводу бесполезности суверенитета. a дает Фуко пример общества, основанного не на использовании исторических суверенных прав — последствий нацизма, если точнее, ведь немцы более не обладали такими правами — но на институционализации экономической свободы. Пример того, что Фуко резюмировал формулой: «легитимирующее основание государства на гарантированном пользовании экономической свободой» ( nbp , 85). При от. Приходит на память Шумпетер, который давно это выразил так: «Это означает, что деньги, на самом деле, — всего лишь простое техническое средство, которое можно игнорировать каждый раз, когда затронуты фундаментальные проблемы, или что деньги — это занавес, который должен быть поднят для того, чтобы обнажить скрытое за ним. Или, другими словами, это означает, что нет существенной теоретической разницы между экономикой обмена и денежной экономикой», в Joseph Schumpeter. Histoire de l’analyse economique. T. ii : L’age classique (1790 и 1870). Paris: Gallimard, 1983. P. 287–288. . По этому вопросу, см.: Michel Aglietta et Andre Orlean (eds.). La monnaie souveraine. Paris: Editions Odile Jacob, 1998. 153 сутствии исторических прав и политической легитимности именно в освобождении цен и в социальном рыночном хозяйстве Людвига Эрхарда июня 1948 г. следует искать основания нового немецкого государства. Теоретический анализ, касающийся пределов суверенной власти, именно здесь находит свое образцовое выражение. Фуко сократил его до описания общества, которое можно назвать «интегральным экономическим», так как оно производило все вне суверенных ограничений, за счет одной свободы обменов. Но представим себе — а это имплицитно сказано в тексте Людвига Эрхарда — институциональную модель, природа и происхождения которой не важны, институциональную модель x . Предположим, что у этой институциональной модели x есть функции, конечно, не реализовывать суверенитет, потому что при тогдашнем положении вещей юридическая сила принуждения не могла ничего основать, а просто обеспечивать свободу. Следовательно, не ограничивать, а только создавать пространство свободы, обеспечивать свободу и обеспечивать ее именно в экономической области. Предположим далее, что в этой институции x , функции которой не реализовывать суверенную власть, не ограничивать, а просто устанавливать пространство свободы, предположим, что в ней индивиды, некое их число, свободно принимаются играть в эту игру экономической свободы, которая им обеспечена этой институциональной моделью. Что произойдет? Та самая реализация свободы индивидов, которых не принуждают ей пользоваться, но просто дают свободу ей пользоваться, т. е. свободу пользования этой свободой? Что ж, будет согласие с этой моделью, будет согласие со всеми решениями, которые можно будет принять, которые будут приняты, но для чего? Для того чтобы обеспечить действительно эту экономическую свободу или чтобы обеспечить то, что делает возможным эту экономическую свободу. Другими словами, учреждение экономической свободы должно и может функционировать в любом случае, каким-то образом, как магнит, как наживка для образования политического суверенитета ( nbp , 84). Эту удивительную цитату следует читать внимательно. Фуко описывает основание совместной жизни, совершенно не отталкиваясь от акта суверена, который объединяет индивидов в пределах некой области своей властью ограничивать, а основание ради установления экономической свободы. Фуко нам говорит, что именно добровольная реализация этой установленной свободы приведет членов общества к единению. Почему? Благодаря эффекту пользы в терминах экономического 154 . i i i благосостояния, которую породит, как предполагается, конкурентная практика. Конечно, это коллективное единение и согласие примет политическую форму, но, по своим мотивам, у него не будет политической природы. Речь идет о другом — о добровольном согласии на игру свободы. Как покажет следующая часть, речь идет о том, чтобы помыслить гражданское общество, существующее совершенно автономно, без нужды в специализированном политическом приспособлении. Фуко настаивает на том, что эта специфическая и чисто политическая роль экономики с самого ее зарождения остается одной из фундаментальных черт современной Германии: На самом деле, в современной Германии экономика, экономическое развитие, экономический рост производят суверенитет, производят политический суверенитет по установлению и по институциональной игре, которые позволяют точно функционировать этой экономике. Экономика производит легитимацию для государства, которое является ее гарантом. Другими словами, и это, безусловно, очень важный феномен, совершенно уникальным в истории образом и очень особым, по меньшей мере, для нашей эпохи, экономика создает публичное право… ( nbp , 85–86). «Экономика создает публичное право» ( nbp , 86) — разве это не конечная формула либерализма? Или, если угодно, утверждение примата экономики над правом, управительственности над суверенитетом? Экономика производит политические знаки. Она одна оправдана. Другими словами, существование специфического политического приспособления, имеющего в качестве объекта определения территорию, а в качестве цели — обеспечение коллективного согласия граждан и в качестве средства — монополию на легитимное насилие, не является больше необходимым. Можно прекрасно обойтись и без ограничительной власти. Одна экономическая свобода производит достаточно мощные эффекты, чтобы обеспечить социальные связи и коллективное согласие акторов. Она произведет объединение гораздо лучше, чем политика, которая всегда имеет тенденцию разделять своих граждан. Она это сделает, создав нечто более конкретное, более мощное, чем юридическое обоснование: она сделает это, создав социальную связь, доверие, в форме консенсуса, «постоянного консенсуса всех тех, кто может выступать как агенты внутри этих экономических процессов. Агентов в виде инвесторов, агентов в виде рабочих, агентов в виде предпринимателей, агентов в виде профсоюзов. Все эти партнеры по экономике, в той степени, в какой они принимают экономическую игру свободы, производят консенсус, и это консенсус политический» ( nbp , 85–86). Такова новая особенная формула западногерманского государства. Она позволяет нам помыслить государство без 155 суверена, «радикально экономическое государство» ( nbp , 87), объединяющее инвесторов, рабочих, предпринимателей и профсоюзы. Наконец, это «великое юридическое здание теории суверенитета» ( ifdls , 33), исчезновение которого предсказывал Фуко, действительно исчезло, уступив место концепции чисто экономического государства. Здесь — крайняя точка пути, в ходе которого Фуко мало-помалу прекращает мыслить о суверене, чтобы не говорить больше ни о чем, кроме управления: по мере того как я говорил о народонаселении, без конца появлялось одно слово, и это слово «суверенитет». Чем больше я говорил о народонаселении, тем больше я прекращал говорить «суверен»… и правда в том, что управление по сути своей гораздо больше, чем суверенитет, гораздо больше, чем царствование, гораздо больше чем imperium ( spt , 78). Однако более подробное рассмотрение немецкой экономической ситуации в 1948–1949 гг. приводит к совершенно другому анализу. В глазах Фуко именно либерализация цен 24 июня 1948 г. была важнейшим моментом для этого переоснования немецкого государства. Начиная с этого момента была запущена экономическая игра, которая и привела к позитивным последствиям. Этот анализ тем не менее вызывает множество вопросов, сперва исторических, но более всего теоретических. Странно, что при своем анализе немецкого обновления Фуко не упоминает того, что было первым и самым образцовым действием, т. е. монетарной реформы 20 июня 1948 г. Говоря простым языком, новые деньги, дойчемарки ( dm ) были созданы, а старые деньги, рейхсмарки, были отменены, а в воскресенье 20 июня 1948 г. было организовано начальное распределение, каждому по 40 dm . Эта забывчивость тем более странна, что все комментаторы единодушно подчеркивают: именно это начало сыграло чрезвычайно важную роль для реформы. По этому пункту эксперты сходятся во мнении. Именно поэтому 20 июня 1948 г. — это дата основания современной Германии, дата ее рождения. В самом деле, введение dm отмечает поворотный момент для будущей Федеральной республики, гораздо более важный, чем ее официальное признание в 1949 г. К тому же отметим, что первым институтом, который действовал во всех трех зонах западной оккупации, был Bank Deutscher Lander ( bdl ), будущий центральный банк. Другими словами, bdl — это первая форма институционального существования a . Его учреждение обогнало на 18 месяцев создание федерального правительства. И если анализ Фуко фокусируется на законе 24 июня 1948 г., то даже его название — «Закон о принципах управления и политики цен после денежной реформы» (Gesetz uber Leitsatze und Preispolitik nach der Geldreform) — ясно указывает денежную реформу как на самое главное. Либерализация не имела смыс- 156 . i i i ла и не была бы эффективной, если бы не было этой денежной реформы. Именно подавление большой денежной массы сделало эффективной ценовую политику. Денежная реформа была нужна для того, чтобы цены вообще имели какой-то смысл. Однако Фуко об этом не говорит ни слова. Но какое дело нам до денежной реформы 1948 г.? Вспомним, какова была первичная цель? Главную идею можно уловить уже в том, что на самом деле эта реформа не была следствием инициативы немецкой стороны, так как, по справедливому замечанию Фуко, начиная с мая 1945 г. не существовало ни немецкой администрации, ни a fortiori немецкого правительства. Речь идет о продуманной и осуществленной акции державы, доминировавшей в западном лагере, т. е. j , которая навязала ее своим британским и французским партнерам. Говоря иначе, денежная реформа была актом, поддержанным военной оккупационной державой. Ее цель была по своей природе политической: создать новое государство, позволяющее противостоять силе коммунистов. Здесь все проходит по ведомству чистого суверенитета. Все стороны-участницы, впрочем, вполне отдавали себе в этом отчет, и в первую очередь советская сторона, которой и нужно было противостоять. Ее протест опирался на положение Потсдамского договора августа 1945 г., где говорилось, что с Германией «следует обращаться как с единым экономическим образованием». Советские представители среагировали на монетарную инициативу, объявив о блокаде Берлина, конечной целью которой было помешать хождению дойчемарки в Берлине. Как мы видим, в центре денежный вопрос и его запутанные связи с вопросами суверенитета и территории. Отделить одно от другого невозможно. В то же время именно с немецкой денежной реформы начались и разделение Германии, и холодная война. Ничто не иллюстрирует цели этой денежной реформы и ее природу лучше, чем вопрос о Берлине. Прекрасно сознавая, что будет противиться этой реформе, которая приведет к разделу Германии с передачей автономии западным зонам, союзники в первое время оставили Берлин неохваченным. Они надеялись тогда, что смогут достичь четырехстороннего договора, который позволит ввести денежную унификацию Берлина, подтвердит его особый статус и его сложное геополитическое положение. Таким образом, обмен банкнот от 20 июня 1948 г., в ходе которого каждый немец получил первую квоту в 40 dm , не затронул Берлина. Это ограничение не могло не встревожить западных берлинцев, которые, сплотившись вокруг Эрнста Рёйтера, потребовали включения Западного Берлина в западную экономическую систему, что значило и введение тех же денег: «Иметь деньги — это иметь власть» . . Тем более (лат). — Прим. переводчика. . См.: Heinrich a. Winkler. Histoire de l’Allemagne XIX–XX siecle. Le long chemin vers l’Occident. Paris: Fayard, 2005. P. 575. 157 Советским ответом на денежную реформу был, с одной стороны, запрет хождения западногерманской дойчемарки по всей советской зоне, включая Большой Берлин, а с другой — создание новой конкурирующей валюты. Советская военная администрация объявила, что банкноты, распределяемые в западной зоне, не будут иметь ценности в зонах советской оккупации. В результате началась блокада Берлина. Кроме того, было объявлено о создании новой валюты в советской зоне. Тотчас западные представители отказались применять эти решения в своих секторах и в конечном счете согласились на введение новой валюты, обозначенной буквой B, чтобы отличить от dm . Но они же разрешили и хождение советских денег в своей зоне оккупации. Нельзя лучше выразить внутренние связи, скрепляющие деньги и суверенитет: первым полем битвы холодной войны стал денежный вопрос, так как он касался самого существования прозападной Германии. Кто выпускает банкноты — был не просто технический, а политический вопрос. Речь идет об определении, кто является сувереном. Этот краткий анализ ясно показывает, что нельзя считать западногерманское государство радикально экономическим. Оно уходит корнями в интересы Соединенных Штатов, которые были тогда самыми главными, и в их политику «сдерживания» коммунизма. Вопрос умеренного управления, который находится в самом сердце nbp , здесь играл роль вторичную, если вообще играл какую-нибудь. Таким образом, Фуко, кажется, серьезно недооценил то, что касается наиболее классической политики суверенитета, т. е. суверенитета воюющих держав. Из того, что дойчемарка была результатом акта чистого суверенитета, можно вывести и то, что немцы в этом акте не принимали никакого участия. К ним обратились лишь для того, чтобы они осуществили меры по проведению этого решения в жизнь, в соответствии с конклавом Ротвесена, названного так по лагерю военнопленных Ротвесен близ Касселя (Гессен). Также, вопреки Фуко, следует считать, что и вся реформа 1948 г. имела перед собой политическую цель. Это видно еще яснее, если учесть важность последствий перераспределения, которые имела эта реформа вопреки идее денежного нейтралитета. Чтобы не входить в детали, скажем просто, что всё, что было накоплено в денежном виде, потеряло свою цену, в то время как реальное имущество (капитал, недвижимость, средства производства) ее сохранило. Хьюз называет это одной из самых великих конфискаций имущества за всю историю, сравнивая по масштабам с той, которая была произведена при насильственной коллективизации в . Так как Фуко придерживается концептуальных рамок, в которых деньги являются нейтральным инструментом обмена, он оставляет в тени важные политические разногласия, к которым привела денежная реформа в своей перераспределительной части. Также, вопреки предлагаемой картине, в которой экономические действия вызывают коллективное единение акторов (инвесторов, рабочих, предпринима- 158 . i i i телей, профсоюзов) по поводу выражения их интересов, ставших гармоничными благодаря силам конкуренции, денежная реформа вызвала весьма яростные споры и разногласия, сильно разделившие политический корпус Западной Германии. Реформа воспринималась как особенно несправедливая из-за того, что она не коснулась недвижимости, а обесценила лишь деньги. Так что до автоматического согласия, о котором говорил Фуко, было далеко. Более того, когда он интересуется конкуренцией, то никогда не говорит о том, что она может привести к спорам, например, по поводу заработной платы. А ведь что касается экономической конъюнктуры, важные сомнения возникли уже на следующий день после либерализации цен. Инфляция, которую она вызвала, нанесла удар по покупательной способности наемных работников, и 12 ноября 1948 г. более девяти миллионов немцев прекратили работать на 24 часа по призыву dgb , чтобы выразить свой протест против удорожания жизни. Идею вечного консенсуса, следовательно, не могли приветствовать в самый период образования a . Потом, конечно, хорошие экономические результаты возымели важные политические последствия. Они вызвали сильное коллективное сплочение вокруг модели социального рыночного хозяйства. Бад-Годесберг и либеральный суверенитет Важная роль, которую играют аналитические разработки ордолибералов в западногерманской концепции политической легитимности, уже появлялась в анализе Мишеля Фуко, когда он заинтересовался обращением spd к социальному рыночному хозяйству на знаменитом конгрессе в Бад-Годесберге в 1959 г. Фуко начал, дистанцировавшись от классической оценки этих событий в терминах предательства, оценки, которая превалировала в левой и крайне левой среде в тот момент, когда он об этом писал. Эта оценка не видела в оправданиях, которые выдвинула spd , касающихся возможности «справедливого социального устройства» в рамках социального рыночного хозяйства, ничего, кроме лицемерия, маскирующего свое предательство. Но это не был случаем самого Фуко: Для того кто слышит те же самые фразы другим ухом, или исходя из другого теоретического «background» , эти слова — «справедливое социальное устройство», «условия истинной экономической конкуренции» — звучат иначе, по- . Deutscher Gewerkschaftsbund — Немецкое объединение профсоюзов. — Прим. переводчика. . Sozialdemokratische Partei Deutschlands — Социал-демократическая партия Германии. — Прим. переводчика. . Непременное условие (лат.) — Прим. переводчика. 159 тому что они указывают на подтягивание к целому доктринальному и программному блоку, который является не просто экономической теорией по поводу пользы свободного рынка. Это подтягивание к чему-то, что является одним типом управительственности и что было как раз средством, благодаря которому немецкая экономика послужила базой для легитимного государства ( nbp , 90–91). Фуко анализирует это подтягивание spd к неолиберализму в свете анализа, который он только что провел для немецкого федерального государства. Его тезис следующий: ситуация Германии — это перевернутая ситуация, в том смысле, что там «экономика радикальна по отношению к государству, а не государство первично как историко-юридическая рамка к тому или иному экономическому выбору» ( nbp , 91). Но если основания политической легитимности нужно искать в правилах той же экономики, т. е. либеральной управительственности, то и принять эту логику — значит, установить условие sine qua non участия в политической игре. Также в Бад-Годесберге для spd речь шла о том, чтобы согласиться с тем, что уже начало функционировать как немецкий основополагающий политико-экономический консенсус, консенсус экономического роста, для того чтобы включиться в игру управительственности, которая развивалась в Германии с 1948 г. Фуко, впрочем, идет еще дальше в 1979 г., когда французские левые оказались на пороге политической власти, потому что он настаивает на том, что вообще не существует социалистической управительственности ( nbp , 93 и 95). Он признает за социализмом «некую историческую рациональность, экономическую рациональность и административную рациональность», но, по его мнению, автономной социалистической управительственности нет. В его глазах, чтобы существовать, социализм вынужден цепляться за разные типы управительственности. Он пытается перенести эту схему и на Европейский союз. Действительно, там наблюдается то же переворачивание экономики и политики, и даже роль основателя играют денежные законы. Впрочем, как снова показал проект конституционного договора, конкурентная норма играет структурирующую роль, и не только потому, что это экономика, но более всего потому, что это концепция самих политических . «Я уже говорил раньше, что нельзя понять возникновение либеральных идеологий и политики в xviii в., не учитывая, что тот же xviii в. так мощно требовал свобод, нагруженных дисциплинарными техниками, которые, беря детей, солдат и рабочих там, где они были, значительно ограничивали свободу и при этом давали какие-то гарантии самого использования этой свободы. Что же, сейчас я полагаю, что я ошибался. Я полагаю, что важно совсем другое. То, что эта свобода […] должна восприниматься внутри мутаций и трансформаций технологий власти. И, более точно, свобода — не что иное, как коррелят возникновения механизмов безопасности» ( stp , 50). 160 . i i i институтов. Как писал Фуко о a , вопрос больше не стоит так: какую свободу государство предоставит экономике? Но: как получается, что экономическая свобода сможет получить функцию и роль огосударствления, в том смысле, что она сможет эффективно обосновать легитимность государства ( nbp , 95–96). В конечном счете либеральная управительственность — это, безусловно, ключевая концепция для рассмотрения европейской ситуации. b Это критическое прочтение в целом ряде аспектов неудовлетворительно, потому что остается ощущение, что, может быть, оно не касается самого главного в рассуждениях Фуко. Но основные вопросы, впрочем, бесспорны. Откуда у философа этот интерес к столь специфической форме, каковой является либерализм? Откуда это обращение, в конечном счете мало критичное и поэтому удивительное, от такого мыслителя, как Фуко, к немецким и американским неолибералам? Зачем это исследование, столь опасное, экономики и политики без суверенитета? Хозяин и власть В третьей лекции Фуко объясняет аудитории, что после изучения в предшествующих книгах особенностей отношения дисциплинарных механизмов к системе права он намерен во время этого курса подумать о различиях между дисциплиной и предохранительными механизмами безопасности. Цель, которую он указывает, — «оборвать повторяющиеся призывы к хозяину и столь же монотонное утверждение власти» ( stp , 57). Это заявление свидетельствует, во-первых, об осознании ограниченности и недостаточности размышлений о социальном порядке только в терминах дисциплины и ограничений, так как оно не учитывает недавно появившиеся формы управления людьми . Кроме того, в таких размышлениях свобода ошибочно представляется в современном понимании этого слова, которое в ходу с xviii в., как идеология и универсальная концепция, одно из прав человека, завоевание которого увенчает собой борьбу против дисциплинаризации общества. Свобода, уточняет Фуко, — это другое: это техника власти, отношение между управляющими и управляемыми. Тут возможны два политических прочтения. Первое, фуколдианское, в узком смысле слова, принимает это утверждение за уведомление. Мы не ошибаемся, действительно, свобода, оставленная народонаселению, используется властью для контроля, и внутри этой свободы существует дисциплина, которую даровала нам современная управительственность. То, что диспозитивы безопасности являются производителями свободы, которую они потребляют, иллюстрируется среди прочего этим базовым доказательством: свободы зависят от власти. Второе 161 прочтение, наоборот, настаивает на том факте, что управительственность является необходимым защитником свободы, она составляет ту модальность власти, которая заслуживает обдумывания и даже может вызвать некоторую симпатию. Оба прочтения возможны, и также возможно предположить, что Фуко рассматривал и то и другое. Но мыслительная напряженность, которая проходит через оба течения, заставляет нас думать, хотя неопределенность в этом вопросе останется навсегда, что их автор вел поиск во втором направлении. Указание дается в размышлении, которое он предлагает по поводу государства. Верный своему методу, Фуко отказывается прибегать к общим категориям политической философии. Государство не универсально, оно не имеет сущности: чтобы его понять, нужно «выйти наружу» и оценить его через практики, т. е. через общую технологию власти. И именно для того чтобы избежать риска «онтологического круга», нужно исследовать генеалогию государства, отталкиваясь от истории управительственного интереса (raison gouvernementale). Это утверждение имеет лишь видимость чисто методологического. Оно позволяет Фуко начать критику отвергающих государство только под предлогом того, что оно пытается заполучить безграничную власть или что его экспансия исторически необратима. Эта концепция слишком редукционистская, так как она возвращается к тому, чтобы гипостазировать государство, воспринимать его как сущность. Фуко находит истоки этого подхода у немецких либералов первой половины xx в., дискурс которых был перенят много позже и неосознанно критикой левых — гошистов 1970-х гг., которые относили все утверждения роли государства к авторитаризму, т. е. фашизму. Эта позиция неприемлема для Фуко по двум причинам. Первая состоит в том, что вмешательство государства в дела общества изначально лимитировано конфигурацией, предложенной либеральной управительственностью. Вторая такова: его вмешательство необходимо для установления свободы. Автономия субъекта и либерализм Подлинной целью Фуко в этом генеалогическом анализе управительственности, без сомнения, является скорее не сама управительственность, а возможная разработка автономии субъекта. Путь, который он выбрал, проходит через либерализм, а точнее через его конкретное проявление, либеральное самоограниченное управление. Эти два направления можно прочесть, как уже было сказано, как попытку установить их основания. Зачем был нужен такой специфический путь? Затем, что Фуко надеялся найти в этой модальности власти лучшие гарантии для сохранения автономии субъекта. Причин тому множество, и они рассеяны по страницам книги и никогда не представлены систематически. Экспериментальный и подготовительный характер такой аргументации не мог не призывать Фуко к осмотрительности. 162 . i i i Первая причина такова, что притязание на научность, которую высказывала политэкономия, впоследствии трансформировало отношение между знанием и властью. Меркантилизм же никогда не претендовал на статус науки и не был связан с государственными интересами, т. е. с тайнами управления, недоступными простым смертным, и поэтому экономическая наука может быть основана или верифицирована любым, даже если он не является правителем, потому что наука по своему определению есть общее знание. Власть, следовательно, не располагает монополией на знание и истину, напротив, требования знания таковы, что они ограничивают изнутри компетенцию власти. Но главная причина касается зависимости политического от экономического, которую устанавливает самоограниченный либерализм. Ведь примат экономики над политикой, при котором нет нужды обращаться к разрушительному притеснению, — лучшая из возможных гарантий сохранения независимости субъекта. Эта тема возникает в рассуждениях Фуко постепенно, но как только она появляется, то становится все более и более значимой. Основная аргументации опирается на тот факт, что экономика — это дисциплина без обобщений. Фуко находит два принципиальных основания для своего анализа у Хайека и у мыслителей xviii в. о том, что политэкономия «отвергает […] паралогизм политического обобщения экономического процесса». Ослепление государства, следовательно, заметно, но оно само выбирает эту слепоту не ради каких-либо политических целей, всегда наличествующих, а просто потому, что его понимание экономических феноменов всегда ограничено. Государство не может вмешиваться напрямую и назойливо, и не потому, что у него нет прав или оно связано каким-то договором по этому поводу, а, что более радикально, потому, что оно этого не умеет. Важное следствие из этого, выделенное Фуко в предпоследней лекции, состоит в том, что на коллективное благо не может нацелиться, а еще менее может его заполучить какой-либо агент, в том числе и государство. Это последствие предполагает нависающую позицию, невозможную ни для суверена, ни для какой-либо институции: никто лучше индивида не может понять, каковы его интересы и каково должно быть его поведение. Фуко настаивает на абсолютной радикальности, не подлежащей обсуждению, этой позиции, важность которой объясняется тем фактом, что, согласно его мнению, интерес и своеобычность каждого, возможностями выражения и защиты которых он должен располагать, переводится с поля экономики в поле обычного поведения. Именно с этой точки зрения его интересуют американские неолибералы. Во-первых, из-за того, что если эти авторы вслед за Хайеком полагали, что любое экономическое обобщение невозможно, они равным образом настаивали на том, что понятийная сетка управления по отношению к индивиду целиком представлена в виде мыслей в терминах затрат и приобретений, т. е. в экономической форме. Homo 163 oeconomicus — термин, к которому Фуко прибегает лишь в самом конце, но который вполне в логике его исследования самоограниченного управления — является уникальным интерфейсом между властью и индивидом. Это, конечно, не означает, что человек сводится лишь к одному своему экономическому измерению, но означает, что это последнее и только оно мобилизуется для анализа всех типов поведения. Хорошей иллюстрацией этого является криминалистический анализ. Американские неолибералы подходят к нему с тем же набором инструментов, который они используют для понимания поведения всех других индивидов («Преступник — не что иное, как абсолютно неважно кто», nbp , 258), потому что понятийная сетка, которую они употребляют, — целиком экономическая, и они анализируют поступки и проявления преступника в терминах подсчета выгоды, т. е. тематик, идентичных тем, к которым они обращаются, когда оценивают рациональность индивида в целом. Где придумать лучшую защиту для идентичности каждого, более уважительное к различиям и самым разным предпочтениям внимание, если не при такой системе, где политика при оценке общества ограничивается экономическим аспектом? Завершая свои рассуждения, Фуко находит в самом конце в понятии гражданского общества, предложенного Фергюсонов в An Essay on the history of civil Society (1762), пропавшее звено между экономикой и политикой. Итак, теперь он может обратиться к первичному вопросу: как управлять обществом, состоящим из экономических субъектов? Фуко видит в работе Фергюсона аналог в сфере политического тому, что предложил несколькими годами позже Адам Смит в сфере экономического. Согласно шотландскому философу, гражданское общество покоится на двух основаниях. Во-первых, оно является продуктом стихийного синтеза индивидов, без отсылок к какому-либо эксплицитному договору или установлению суверенитета через пакт о подчинении. Этот синтез обеспечивается целым комплексом бескорыстных чувств по отношению к другому, такими как симпатия, благожелательность, сострадание (но и любопытство к бедам других), или чувством принадлежности к одному и тому же сообществу. Далее, второе основание таково же, как и в естественном праве, и оно говорит, что власть и господство одних людей над другими — свойство природы, первичное во всех политических институциях. «Система субординации, — говорит Фергюсон, — столь же присуща отдельным людям, как и самому обществу»; и это базовое утверждение, потому что оно позволяет указать на сложности, свойственные теории договора. Именно в рамках гражданского общества учреждается то, что составляет экономические связи. Так разрешаются одновременно и вопрос власти, и вопрос объединения общества, и все благодаря принципу сцепления, результату стихийного совпадения интересов. Куда вписывается в такой конфигурации государство? Какое место оно может занять перед лицом уже установленного, уже данного об- 164 . i i i щества? Фуко осмотрительно не отвечает на этот вопрос или, более точно, он делает это весьма изощренным способом, отсылая к фразе Томаса Пейна, произнесенной в обращении к американскому народу: «Не следует путать общество и правительство. Общество — это продукт наших нужд, а правительство — наших слабостей […] Правительство всего лишь необходимое зло, в худшем же случае его не следует терпеть» ( nbp , 313–314). Лекция Фуко на этом заканчивается. Мысленный эксперимент завершается этим почти полным исключением и власти, и управления. Условия, при которых такой эксперимент может осуществиться, конечно, невероятны: Фуко не воспринимает всерьез экономические измышления Рёпке, Хайека и прочих Беккеров. Но он исследует, бесспорно отдавая себе отчет в ограниченности применения результатов, абстрактные условия, при которых такой либеральный проект может реализоваться. Эксперимент не остался без последствий — он оставил следы. «Жесткий» либеральный путь непримиримых экономистов ведет к чему-то достаточно милому, тому, что заменяет дисциплинарное общество политикой уважения различий, к чему-то, что невозможно запланировать, даже с чисто теоретической точки зрения. И это уважение к неортодоксальности Фуко, без сомнения, учитывает больше всего прочего в своих политических рассуждениях. На это он намекает в конце лекции 21 марта 1979 г., когда пунктирно описывает перспективы анализа: В перспективах такого анализа, как этот, видится вовсе не идеал и не проект исчерпывающе дисциплинарного общества, в котором правовая сеть, охватывающая индивидов, будет продолжена и протянута изнутри механизмов, скажем так, нормативных. И это вовсе не то общество, в котором нужен механизм общей нормализации и исключения ненормализуемых. Напротив, в перспективе — образ или идея, или тема-программа общества, в котором будет проведена оптимизация систем различия, в котором будет оставлено свободное поле для колебательных процессов, в котором будет терпимость к индивидам и практикам меньшинств, в котором действие будет проводиться не с игроками, а с правилами игры, и, наконец, в котором вмешательство будет проводиться не во внутренний мир для подчинения индивидов, но во внешний мир ( nbp , 265). Этот великолепный аналитический фрагмент, который резко перемещает из экономической сферы в сферу поведения, в конденсированном виде выражает политическую философию обоих лекционных курсов. Итак, тема оставлена открытой и оставлена не без волнения: 165 Либерализм всегда предоставлял социалистам заботиться о производстве утопий, и историческая мощь и динамизм социализма многим обязаны именно этой его утопической или утопизирующей деятельности. Что же, либерализму тоже нужна утопия. Нам предстоит сочинить либеральные утопии, нам нужно думать о форме либерализма, а не представлять его как альтернативную технику управления ( nbp , 225). Программный характер последней цитаты резко затушевывается в самой середине лекции, как будто для того, чтобы он был меньше заметен. К чему такая скрытность? Можно ли ее отнести на счет неоспоримой экспериментальной природы размышлений Фуко и того, что их выводы плохо обосновываются? Скорее всего, она объясняется провокативным и иконоборческим характером этих выводов. Либеральный эксперимент Фуко, хотя он и свидетельствует об удивительно свободном разуме, способном освободиться от одной формы мысли, которую он же сам по большей части и установил, может объявить о себе лишь пунктиром. Перевод с французского Андрея Лазарева 166 . i i i b b k b Артур Цуциев l , cb « I l» Отношения между Россией и (ее) кавказской периферией нельзя свести к отношениям динамичной исторической силы и пассивной массы, инициативного центра и инертной периферии. Российская интеграция Кавказа не может быть исчерпана субъект-объектными отношениям, где Россия выступает активным геополитическим, формирующим игроком, а кавказские общества/политические образования — театром его игры. Напротив, внутренняя динамика местного политического и социального ландшафта способна придавать российскому вовлечению некоторую объектность и функциональную заданность. В пространной иллюстрации мы обратимся к «ситуации старта» и некоторым структурным исходникам-предпосылкам установления российской государственности на Кавказе. Институциональный профиль имперского государственного продвижения в регионе не может быть адекватно прослежен без понимания того, в какие именно функциональные ниши втягивалась Россия на кавказском политическом ландшафте в xviii – xix веках. Каким образом вовлечение поднимающейся или кризисной российской государственности использовалось и используется в собственных кавказских социальных и политических стратегиях? Какие внутренние кавказские противоречия и устремления создавались, проговаривались, преодолевались в категориях российского властного присутствия? Решительный успех российской экспансии был бы невозможен без таких ниш — отчасти готовых, отчасти успешно или драматически созданных в ходе самого российского геополитического наступления. Кавказ стал русским приграничьем после инкорпорации Астраханского ханства (1556), когда Москва унаследовала от Астрахани ее южную притеречно-каспийскую периферию и каспийско-персид 167 ские морские коммуникации. Овладение Кавказом, тем более — Северным Кавказом, никогда не было самостоятельной целью или «самоценным призом» в русской имперской геополитической игре. Регион выступал то «левым флангом» (как Кабарда — в противостоянии Москвы и Бахчисарая в xvi – xvii в.), то «правым флангом» в Петровском персидском проекте (1722), то «нейтральным барьером» (в противостоянии России и Османской империи, 1739–1772/4), «порогом — преддверием» (в греческом проекте Екатерины ii ), наконец — «крепостью-барьером», отделяющим Россию от ее закавказских провинций (1801–1864). Сегодня регион идеологически определен как внутренняя приграничная периферия-барьер на пути распространения «международного терроризма» и извне провоцируемой нестабильности. Другое определение — поле испытания новейшего российского нациестроительства на состоятельность. В экономическом отношении Северный Кавказ был, есть и, видимо, останется статьей расходов, а не доходов российского государственного строительства и внешнеполитического позиционирования. Николай i писал своим кавказским чиновникам: «[помните] — не побед ищу, но спокойствия». Но «победы» и война оказывались «способом достижения спокойствия», а итоговое овладение кавказской крепостью оказалось во многом вынужденным шагом. Этот синдром вынужденных побед пронизывает всю историю инкорпорации Кавказа в Россию вплоть до путинского военного разгрома Ичкерийской республики. Вынужденность побед над северокавказским сепаратистским движением в новейшее время помогает отчасти понять и вынужденность, обусловленность сдвигов в русской политике на Кавказе в xviii – xix веке — как перехода от стратегии «заинтересованного вовлечения и избирательного протежирования» к стратегии «сдерживания и репрессалий» и далее — к инкорпорации, колонизации и интеграции региона. Мы исходим из тезиса, что государственные институты на Северном Кавказе (а в значительной степени и на Кавказе в целом) являются продуктами противоречивого укоренения в локальных властных режимах имперских военно-административных практик — от хазарских, арабских и иранских в Дагестане до иранских в Картли-Кахетии, от советских — в горских социалистических автономиях и до новороссийской — в современной Чечне. Под государством в данном случае понимается три связанных процесса: (а) возникновение групп/процедур регулярной и эксклюзивной аккумуляции платы за протекцию («добровольных приношений») или дани («никому другому подати не платите»), из которой вырастают отношения систематической и обязывающей протекции-подданства и соответствующие направления лояльности; (б) формирование института рекрутации/принудительного наемничества. Становление этих двух «силовых» институтов вызывает к жизни и соответствующие инструменты своей нормативно-правовой регуляции и духовной легитимации. 168 . i i i Различные формы имперского укоренения, будь то протекция или оккупация, военно-народное управление или советская автономия, могут быть рассмотрены как результаты текущего военно-политического и административно-управленческого приспособления к сложному социальному и политическому ландшафту региона и одновременно как инструменты упорядочения и перекройки этого ландшафта внутри государства. К чему же должна была адаптироваться империя? Грубо говоря, к необходимости отчуждения или, при отсутствии, формирования всех условных треков этатогенеза — принудительной протекции (в различных ее формах), рекрутации (права собирать войско и вести войну) и «вынутого из самого общества» суда. Отметим, что государство, как вычлененный из общества институт принуждения, было излишним в горском общинном, ландшафтно-сегментированном пространстве образца xviii века. Здесь преобладал другой устойчивый тип самоорганизации и политико-правовой регуляции — потестарный, в котором функции обеспечения внешней безопасности и соблюдения обычаев, отправления власти, суда, исполнения наказаний, разрешения конфликтов оставались в решающей мере еще слитыми с обществом. Система норм обычного права, а также существующие институты регуляции межсословных и межобщинных отношений — аталычество, куначество, аманатство , институты представительных собраний (Хасэ, Мехк-Кхел, Ныхас, Тёре) — создавали сети персонифицированных взаимных обязательств и фамильно/сословно-сопряженных нормативных ожиданий. Через них могли осуществляться функции надобщинной интеграции, межсословной нормативно-правовой регуляции, вырабатывались меры безопасности, разрешались конфликты или конструировались схемы консолидированного действия. Адат оставлял право легитимного насилия в прерогативах самого общества. И до тех пор, пока община пребывала внутри системы отношений, эффективно регулируемых адатом — государство, как легитимное отчуждение права общинников на насилие, оставалось и остается внешним, чужим проектом. Чем богаче и изощренней, полнее и детальнее были адаты в кавказских ландшафтно-сегментированных обществах, тем оставалось меньше внутренней функциональной потребности для развертывания специализированной и внешней самому обществу структуры насилия. Именно в специфическом кризисе общины и адатной нормативной регуляции определяется и «ниша» для государства и государственного отчуждения самого права на легитим- . Аманатство — это своеобразный институт межобщинных гарантий, который не тождественен заложничеству, как следовало бы из буквального перевода понятия «аманат». Аманат являлся не столько заложником, ожидающим выкупа, сколько был персонифицированной гарантией выполнения данных обязательств или достигнутых соглашений. Аманат был даже почетен в качестве таковой гарантии и находился на попечении стороны, ее получающей. 169 ное насилие (и для последующего сужения адата чуть ли к комплексу норм горского этикета). В xviii веке — ко времени российского наступления — на Северном Кавказе сложилась противоречивая ситуация, связанная с формированием нескольких нуклеусов, потенциальных площадок этатогенеза. Кратко обратимся к анализу нескольких типологических сюжетов, отражающих внутрирегиональные различия. Кабардинская феодальная полития выступает доминантой в центральном Предкавказье в xvii – xviii вв. Перспективы этой площадки этатогенеза в xviii веке определяются возможностями централизации власти, поглощением слабых княжеств сильными и эффективным переходом от режима сезонно-экономической, а нередко и эпизодически-номинальной, зависимости горской периферии Кабарды (от абазин и Карачая до ингушей и карабулаков) к режиму устойчивого взимания дани и сословной инкорпорации горских верхов. Кабардинская аристократическая траектория этатогенеза имеет серьезные ограничения. Феодальная раздробленность Кабарды усиливается сильным поляризующим геополитическим влиянием Москвы и Бахчисарая/Порты. Получив в послебелградской ситуации (1739) статус «нейтрального барьера», Кабарда встречает и вызовы централизации — консолидированное противодействие в конфликте с Москвой из-за Моздока (1864–1869), усиление давления на горскую периферию, признаки поглощения Малой Кабарды Большой (точнее, Талостанея — Кайтукиными, 1753) . Однако в целом отношения протекции-зависимости горцев от Кабарды просто не успели, да и не могли сложиться в устойчивые сюзеренно-вассальные отношения. Напротив, в xviii веке возникли факторы, которые сделали эндогенную феодально-государственную траекторию Северного Кавказа по «кабардинскому сценарию» невозможной. К этим факторам можно отнести нарастающий демографический дисбаланс между кабардинской плоскостью, особенно по ее восточной периферии, и горскими обществами; обрушение военных преимуществ княжеской дружины над горским ополчением по мере распространения в регионе доступного огнестрельного оружия. Российская экспансия фактически синхронизирована с нарастающим конфликтом кабардинских княжеств между собой и с горскими обществами. Этот конфликт в некотором смысле купирован уже внутри российского имперского пространства (правда, за счет территориального сворачивания Малой Кабарды к западу от Курпа). Траектория этатогенеза, связанная с Аваристаном как ядром, опирается на «вытягивание» ханством горских ополчений в практику организованного военного похода/набега. Его цели — скот и рабы, один из основных экспортных товаров тогдашней экономики региона. По. Кабардино-русские отношения в xvi – xviii вв. Документы и материалы. Т. ii . С. 198–199. 170 . i i i ход есть систематическое, хотя и сезонное действо, превращающееся в надобщинный институт, надобщинную систему отношений (в широком спектре — от имущественных до политических, полагая, кстати говоря, нормативную нишу для инфильтрации в адатные нормы элементов права другого уровня). Стоит отметить, что именно формационно-силовое тяготение феодальных политий Дагестана, стремящихся вовлечь вольные общества в систему устойчивых вассальных отношений, становится каналом для формирования режима стратифицированного, разделенного правового поля — разделенного между обычным правом (регуляция ответственности за преступления против личности/фамилии, т. е. уголовные преступления) и шариатом (регуляция брачно-семейных отношений и, отчасти, имущественных отношений). Военные походы дагестанских обществ на Грузию — как форма организованного грабежа (читай — упорядоченной и систематической подготовки к нему) — становятся одновременно и формой этатогенеза. Однако эта траектория оказывается функционально вынесена за границы самого горского пояса. Грубо говоря, такой поход мог бы обратиться в государство, только включая территорию похода — Грузию ли, ее отдельные части или же, скажем, сектора казачьей линии на севере. При этом сама структура государства обретает специфическое двухядерное измерение — централизованная и иерархизированная полития на равнине, как результат завоевания, и сегментированная общинная полития в горах. Государство на равнине обладает как бы «заякоренными» вне общин институтами консолидации и формирования соответствующих новых систем нормативно-правовой регуляции. Очевидно, что присоединив Грузию (1801), империя вынуждена решать и проблему дагестанского горского давления на нее. Кроме того, нанося удары по нелояльным феодальным политиям Дагестана (1818– 1820), российские власти фактически усиливают вес их региональных соперников — горских вольных обществ и расчищают площадку для непосредственного, прямого с ними столкновения. Имамат, возникший позже на основе аварского ханского нуклеуса, был его продолжением и преодолением. Продолжение — в том смысле, что главным способом «вытягивания общин» на траекторию горского этатогенеза, оставался поход/противостояние России, ставшее функциональной и идеологической базой этого государства. Преодолением — в том смысле, что в имамате была сброшена прежняя феодально-сословная структура аварского ханского нуклеуса и определена подчиненная ниша адатного права. Вольные общества, казалось бы, стали основой имамата (как антисословная и антиимперская доктрина шариатского движения — его идеологией). Но в последующем именно генерирование в имамате сословной (в данном случае — . Дагестан присоединен к Российской империи (в международно-правовом отношении) по Гюлистанскому договору с Ираном (1813). 171 военно-управленческой) структуры, без которой невозможно функционирование государства, создало напряжения и в самой несущей конструкции имамата, какой была горская община. Угроза новой сословной гегемонии плюс экономические издержки военного противостояния с Россией заставила горские общины (и, прежде всего, чеченские тейпы) усомниться в резонности дальнейшей активной поддержки Шамиля. Чеченская траектория также связана с горско-равнинным взаимодействием, но разворачивается она — как эффект иного баланса силы — не по сценарию усиления феодального давления на горы, а, напротив, связана с горской вайнахской колонизацией равнины. К xviii веку сложился демографический и силовой дисбаланс между соседствующими горскими вайнахскими обществами и крестьянским населением периферийных кабардинских и кумыкских феодальных вотчин. Этот дисбаланс открыл возможности для горцев к переходу от «арендного» (разрешительного, адатно-обрамленного) права землепользования/выпаса скота к отложению от феодала-землевладельца и к превращению территории хозяйствования в территорию расселения. Миграционный сдвиг вайнахских тейпов на равнину, сопровожденный сначала княжеской протекцией, а затем вылившейся в острый конфликт между самими «протекторами» и этими общинами (читай — их сильными фамилиями), приводит к следующему: происходит итоговое усиление общины — в качестве инструмента противодействия феодальным рейдам и претензиям — и ее трансформация из родовой в территориальную. В межлесных «проталинах» чеченской плоскости определялись не только новые ландшафтные ниши для хозяйствования и расселения общин. Сама структура перехода и расселения на новых территориях с неизбежностью сопровождает и надстраивает тейповую ячейку-основание — характеристиками «территориальной», соседской общины. Однако в этих военно-колонизационных общинах-соседствах фамильно-родовые отношения были не отброшены, но стали функциональными основаниями, ядрами расширенных сетей соседских, надтейповых отношений. Динамика межсословных и межобщинных отношений отразилась в кризисе нормативно-правовых систем регуляции. Прежде всего, нарастание дефицита покосных и пахотных земель в горной полосе способствовало эскалации применения права сильного — в ущерб адатному праву. Грубо говоря, адат эффективен в условиях баланса силы, но уязвим в быстро меняющихся «силовых контекстах», в ситуациях, когда усилившиеся фамилии ищут повод для избирательной трактовки адатных норм или вовсе для их игнорирования. Вероятно, кризис общины и адата обозначился тогда, когда в вольных обществах укрепились тейпы, фамильные группы, способные бросить вызов — и эгалитарным нормам своей собственной общины, и сословным претензиям феодала — своего ли горского или чужого «плоскостного». 172 . i i i Нарастание массива межобщинных контактов также привело к становлению новых деперсонифицированных контекстов, плохо регулируемых адатным правом. Вырастание горских общин из своих ландшафтных ниш сделало адатное право ограниченным, заложило новые возможности для надстраивания шариатского права над адатом и для становления институтов власти, осуществляющих это проникновение — устойчивое и систематическое надстраивание «советов страны» над тейповыми/джамаатными представительными советами. Обосновавшийся на плоскости агломерат территориальных общин, ячеисто-сетевая структура становящейся общечеченской политии в своем противодействии феодальным владельцам вступила в острый конфликт с их имперским патроном. Выражаясь современным языком, колонизация в xviii веке чеченцами плоскости фактически привела к уничтожению небольших кабардинских и кумыкских княжеств — российских протекторатов, основным населением которых стали чеченцы. Но для такой революции чеченцам не потребовалось какой-то централизованной власти, так как обрушение княжеств произошло изнутри: тейповая верхушка общин просто сбросила феодальные дома как ослабевших конкурентов своей власти над общиной и территорией ее хозяйствования. Главное здесь — успех общинной экспансии оказался почти тождествен ее кризису. Именно в победе фамильной верхушки горских общин над равнинными, или «своими», феодалами обнаруживается вероятный исход стратегической дилеммы, стоящей перед старшинами сильных фамилий — какой должна быть траектория их власти — сословно-господской (траектория феодализации) или общинно-представительской. Ячеисто-сетевая общинная траектория этатогенеза по чеченскому сценарию была успешной в смысле экспансии, но ее выход к формированию централизованных институтов власти (уже в движении Ушурмы, 1785) оказался ограниченным и был в итоге блокирован ударами русской армии. Но если противодействие российских властей движению Ушурмы мотивировано стремлением сохранить «княжеские протектораты», то в начале xix в. все более явственно определяется новая конфликтная ситуация: становление набеговой практики против русских поселений на Тереке и развертывание военно-казачьих линий как выдвигающихся плацдармов — сначала для коллективных репрессалий против горцев, а затем и для завоевания и колонизации залинейных территорий. На причинах набегов/походов как «культурной матрице» горских обществ мы остановимся подробнее. « l» Проблема набегов все еще фигурирует как ответ на политически-спекулятивный вопрос: кто виноват в Кавказской войне 18[17]–1864 годов? — сами горцы (так как русское завоевание Кавказа — есть вынуж 173 денный ответ на набеги горцев) или Россия (и тогда набеги — это форма справедливой борьбы против русского завоевания) . Исторические сюжеты о «культуре насилия», абречестве, «набегах» находят очевидные созвучия в постсоветскую кризисную эпоху на Кавказе. Пока нужно отметить, что набеги, очевидно, были формой и инструментом борьбы против русского государственно-пограничного обустройства в степном Предкавказье. Так, кабардинские княжеские рейды на возводимые крепости пограничной Азово-Моздокской линии в 1764–1770-е годы — очевидная и организованная, я бы сказал, политическая реакция на отчуждение земель, которые использовались кабардинцами под пастбища и которые воспринимались ими как основной источник дохода и ресурс укрепления хозяйственной, а с нею и политической, гегемонии над горскими обществами. Сокращая эти «гипотетические» пастбищные ресурсы Кабарды, Россия тем самым сокращала возможности для кабардинского доминирования над горскими обществами. Почему «гипотетические»? Потому, что само русское возведение крепостей — итог той самой экспансии России, которая собственно и обеспечивала кабардинцам надежное прикрытие против кочевого давления ногайцев и калмыков, в том числе — и обещала, казалось бы, гарантированное пользование этой самой территорией. С другой стороны, сам институт набега, его возникновение не были реакцией на российскую экспансию и развертывание казачьих линий, как это нередко трактуется. Горский и шире — общинный поход/набег есть самостоятельный и более древний феномен, не связанный с имперской экспансией как своей причиной. Набеги практиковались и против Грузии (о «колонизации гор» не помышлявшей со времен царицы Тамары), и против соседних горских или плоскостных политий. Набеги практиковались и казачьими вольными общинами, но о какой-то «реактивности» здесь вряд ли уместно говорить. Набег очерчивается как одна из типологических характеристик горских обществ. Этот «атрибут горской цивилизации» сложился вероятно в поздне- и постмонгольский период как адаптированный к горской среде институт кочевого набега степняков (форма сбора дани на контролируемой периферии степных империй). Отчасти он был, вероятно, привнесен в горную полосу феодальными группами/культурами алан и кипчаков, которые массами отходили сюда под ударами монголов в xiii – xiv веках. Позже, в xvi – xviii вв., этот институт питался социально-политическим и культурным влиянием кабардинцев с их княжеской дружиной. Горский поход — одновременно акцепция и преодоление степного феодально-княжеского похода и способ изоморфного . Критика известной «набеговой теории» М. Блиева до сих пор мотивирована, скорее, вненаучными «правилами гражданской политкорректности» или общим антиформационным трендом постсоветского кавказоведения. См. Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007. С. 321–324. 174 . i i i (по военно-организационной структуре) противостояния княжеской дружине феодалов. Такая акцепция была облегчена, вероятно, и более глубоким изоморфизмом — между самим характером политогенеза в горских общинах (военно-аристократическая модель, узурпация функций военной организации общины) и военно-иерархической структурой степняков в их набеговых кондициях. Но этот институт, превративший горскую общину в гражданское войско, обрел собственные хозяйственные основания в горских обществах. Вырастая из военно-организационного противостояния давлению степи, набег обрел формационную почву в хозяйственных занятиях горцев, основным из которых было отгонное скотоводство. «Партии всадников» вырастали из сопровождения перегонов скота, охранения скота на чужих равнинных зимних пастбищах, формировали свой боевой этос в захватах чужого скота (в некоторых случаях — гораздо более успешной хозяйственной стратегии, нежели мирное пастушество). Эта военно-хозяйственная практика превращала группы «погонщиков» в функциональных носителей военно-сословной культуры и создавала начальный смысл «похода». Погонщик скота и воин-общинник — две ипостаси, вырастающие из одного занятия. Вторым важным фактором становления набеговых практик и их социально-организационных оснований в горских обществах было, по-видимому, наемничество, то есть приглашение феодалом в свой поход групп горской молодежи. Однако кроме военных и хозяйственных функций, генерировавших институт похода как атрибут горских культур, постепенно сформировалась еще одна — собственно социальная функция. Поход (и «военные братства», «военные союзы молодежи» как организационная форма похода) есть важнейший способ социализации и канал вертикальной социальной мобильности, обретения статуса в контексте расслаивающейся общины. Поход был возможностью преодоления внутриобщинных барьеров, возникающих в связи со все большим доминированием сильных фамилий, тейпов, и являлся формой воспроизводства единства общины. Можно сказать, реальная община сворачивается в общинности как организационной и идеологической практике, удерживающей фактически сословное общество в рамках плотных сетей фамильно-родовой протекции и эксплуатации. Экономическим основанием такой политической коллизии было внутренне противоречивое, динамичное состояние горской общины: уместно говорить о неком формационном синкретизме, даже синтезе, который определился в горской общине и который предполагал параллельное развитие частной (частно-фамильной) и общинной формы собственности. Сочленение этих форм собственности не было раз и навсегда данным, было относительно устойчивым, но эта устойчивость всегда находилась под угрозой: демографический рост населения, усиление влиятельности сильных фамилий приводили к дефициту угодий и конфликту между частной и общинной формами собствен 175 ности. В условиях зреющего напряжения институт набега, как и право первозахвата незанятой земли, становится сподручным, функциональным способом трансляции конфликта во вне. Малоземельные фамилии получают легитимный канал статусной мобильности. Сильные фамилии получают институт воспроизводства войска как ресурс давления/ торга с феодальными политиями и их претензиями. Наконец, сама община — уже с выраженными фамильными ядрами — получает возможность укреплять фамильно-частное землевладение, не опасаясь разрушительной сегментации или угрозы обрушения самих этих фамильных ядер-оснований. В набеге функционально и символически преодолевалась траектория внутриобщинной гегемонии отдельных родов/фамилий. Здесь молодежь из беднеющих фамилий общинников могла обрести себя как статусную ровню представителей сильных фамилий и даже, в конце концов, княжескому узденству. В походе коренилась идеология военного равенства как общинного узденства, взламывающего только еще становящиеся феодальные сословные иерархии. Важно также и то, что поход оказывался институтом, скажем так, обусловленной родовой мобильности: не статус фамилии влиял и тянул за собой статус ее представителя, но наоборот — организованные на неродовой основе «братства», составленные из представителей разных фамилий общины, «тянули» за собой статус этих фамилий, были «лицом» их нерутинной, альтернативной и стремительной состоятельности. Поход есть канал такой альтернативной состоятельности, параллельная траектория воспроизводства общины. Престиж, статус фамилии оказывался, таким образом, менее жестко привязан к ее имущественному положению. Итак, учитывая региональные и формационные различия, обратим внимание на некоторую инварианту горской общины, связанную с ее статусным, военно-организационным измерением, ее позиционированием как войска. Речь идет о такой устойчивой характеристике горской общины как ее способность к воспроизводству своей целостности параллельно процессам социального расслоения и сегментации. Рост населения и нарастание дефицита земельных ресурсов (номинально общинных, но фактически контролируемых сильными фамилиями, все более подминающими саму общину) — казалось бы, неминуемо выводят последнюю на траекторию «горского феодализма» со все более глубокой институциализацией гегемонии сильных фамилий в сословноправовую, иерархическую «отчужденную» структуру власти. В определенных случаях так и происходит — там, где общины относительно слабы и где развернута устойчивая и давняя традиция привнесенного феодального доминирования. В этих случаях периодически развивается типичный классовый конфликт между феодалами и общинниками с различными сценариями его исхода. Однако во многих случаях эта траектория стратификации общины воспроизводится в свернутой форме, не позволяющей общине 176 . i i i разваливаться. Сам характер «центрированной территориальной общины», пронизанной фамильно-родовой гегемонией, состоит в том, что слабые фамилии оказываются не просто под патронажем сильных, но их частью. Социальное расслоение не блокируется полностью, но специфически купируется насыщенной системой родственных связей. Община уже расслоена, но расслоение успешно обрамлено и погашено насыщенными сетями клановой протекции и лояльности. Эта специфика «свернутого», «откамуфлированного», «купированного» расслоения лучше всего просматривается на характере имущественных отношений. Формально общинная собственность выступает на деле как правовой камуфляж, как форма частно-фамильной собственности. Сильные фамилии и их верхушки удерживают эффективный контроль над «общинным» сегментом (пастбища, лес) и даже замахиваются на чужие выгонные и пахотные участки. Но главное в том, что сама модель этого контроля, опирающаяся на разветвленные сети фамильно-родовой инкорпорации, делает функционально излишним превращение этой фактически частной собственности в сословный, отчужденный от общины надел, к которому общине предстояло бы затем «прикрепляться». Одновременно со способностью поглощать риски социальной сегментации, в горских общинах воспроизводится ключевой элемент, который не просто усиливает военные кондиции горских обществ, но создает «политико-экономическое основание» для становления военной культуры как атрибута горской цивилизации. Это военная культура узденства и связанный с ней алгоритм обретения смысла состоятельности-успеха. Имущественный статус фамилий и ограниченный горизонт имущественной состоятельности оказывается доступен преодолению военным походом, славой воина. Массификация набеговых практик в xviii веке отражает несколько одновременных процессов. Относительная стабилизация в xvii веке отношений между плоскостными феодалами (кабардинскими, кумыкскими), с одной стороны, и горскими политиями (как феодализированными, так и нет) привела к тому, что горцы более активно могли пользоваться равнинными землями для воспроизводства своего отгонно-скотоводческого хозяйства. Хозяйственный подъем и увеличение количества скота приводит одновременно к росту населения в горских ландшафтных нишах и к имущественному расслоению в размещенных здесь общинных политиях. Начался быстрый рост дефицита земли, возникает практика огораживаний и превращения общинных выгонов в фамильные. Все это приводит к значительному увеличению «социальной базы» набеговых практик — слоя безземельных и малоимущих общинников. . В этой связи мне представляются неверными тезисы о том, что ко времени выхода на равнину горские общества находились на грани вымирания. 177 В xviii веке горские политии начинают практику «отложений» от феодалов. Здесь сильные горские фамилии активно используют горскую молодежь для предварительного и, скажем так, военно-барражирующего давления на «чужое» население княжеских вотчин. Цель — вытеснение феодалов с равнинных территорий, увеличение земельных ресурсов для ослабления внутриобщинных противоречий и добыча скота — как прямое вознаграждение за участие в набеге. В принципе, в смещении фокуса кавказской войны — от кабардинского («аристократического») на чеченский и черкесский («демократические»), видна преемственность и различие двух типов набеговой практики — княжеских дружин и вольных общинников. Разгром русским оружием части кабардинских княжеских домов и сословная инкорпорация в русское дворянство другой части — привела к тому, что княжеские дружинные осколки фактически стали частью или периферией общинной (черкесской — на западе и вайнахской — на востоке) набеговой практики. Это поглощение — не без проблем и сословного высокомерия — тем не менее оказалось возможным именно потому, что горец-общинник функционально был уже узденем. В то время как кабардинский крестьянин-вотчинник даже оружия не носил, горский крестьянский сын был частью «набеговых партий», «мужских союзов», иначе говоря, был вооруженным всадником/джигитом. Горская община фактически становится синонимом «войска». В горской эгалитарной акцепции кабардинского рыцарского этоса произошли, конечно, важные сдвиги (скажем, в тактике ведения боя, в определении целей набега), но существо было сохранено — это культура военного похода, осуществляемого за статусом и как его подтверждение-удостоверение. Здесь важно обратить внимание и на различия в организационных кондициях похода. С одной стороны, это масштабные военные экспедиции, требующие развитых организационных навыков и устойчивой системы привлечения и координации нескольких самоуправляющихся обществ (такая государственная основа для походов формировалась на площадке Аваристана — в ханский ли период, или во времена имамата). С другой стороны, возникает спорадическое и всесезонное набеговое барражирование по русской пограничной линии или алазанским селам отдельных набеговых партий, представляющих форму активности отдельных горских обществ. Разворачивание русской терской границы цепью городков, крепостей и станиц, идущей от Кизляра к Моздоку, Екатеринограду и дальше к Азову, способствовало следующей «структурной инновации». К началу xviii века на северо-востоке региона сформировалась, скажем так, политико-экономическая система отношений, включающая как свой подчиненный элемент нелинейный массив спорадических взаимных набегов. Преобладающий вектор военно-хозяйственного давления отражал сдвиги в демографическом и силовом балансе. Однако набеги были рутиной, имели привычный социальный и хозяйственный смысл, 178 . i i i хотя и вырастали на разных формационных основаниях (общинных, кочевых, княжеских, даже имперских, если учесть «визиты» крымскоосманских отрядов). Становление русского фронтира создает новый «линейный эффект». Общая набеговая практика (условно «все против всех») окончательно превращается в линейную, двухполярную: горские общества против приграничных княжеств-протекторатов и встроенных в границу казачьих общин. Стоит учесть, что именно на среднем Тереке возникает первый участок непосредственного соприкосновения русской границы и расселившихся на плоскости горских обществ. Новый линейный характер взаимных набеговых практик — это поначалу спорадические и хозяйственно-привычные «микропоходы» горцев и военно-казачьи репрессалии. Но первые начинают постепенно воспроизводиться в расширенной форме по мере наращивания хозяйственных возможностей русских поселений на линии. Что же касается казачьих репрессалий как военно-организованных практик набегового возмездия и нередко превентивного силового барражирования, то здесь также обозначается качественный сдвиг. Хозяйственные и социальные функции рейдов уходят в тень политических функций. Вольные казачьи общины превращаются в служилое (государственное) войско. Оно отходит от «общепринятой» для региона набеговой практики, где главной целью являются захват скота и людей. Войсковые репрессалии обретают новую ведущую цель — возмездие и нанесение максимального ущерба «немирным горцам». Хозяйственно-формационная черта набеговых практик получает иное политическое звучание и смысл. Такие «бессмысленные» — с точки зрения прежних формационных оснований — рейды русских определяют в свою очередь и формирование новой «политической» мотивации набеговых практик горцев. Набеги и горское сопротивление в целом начинают мыслиться в категориях «войны с неверными». a j b k Выраженная набеговая практика есть сумма нескольких факторов. Она характерна для (а) преимущественно скотоводческих обществ; (б) втягивающихся в фазу классообразования, «предсословного кризиса», где фамильно-родовые ядра соседских общин, сильные фамилии решают дилемму — господство или «представительство»; (в) испытывающих внутреннее демографическое давление, связанное с малоземельем увеличивающегося числа фамилий вольных общинников; (г) где уже развернута организационно-культурная традиция «мужских . Целью набега обычно не было уничтожение врага и разрушение его имущества. Объекту набеговой практики необходимо было сохранить сами возможности для хозяйственного воспроизводства и, таким образом, для возможностей повторения продуктивного набега в будущем. 179 союзов». Но само это наличие социальной базы набеговой практики и ее культурной санкции не выступают автономно. Характер и направленность общинной социальной динамики связаны с развитием того внешнего, напрягающего контекста, в котором находится община — своего рода «пятого элемента горских общин». Этот внешний контекст задает своего рода «рынок спроса» на определенные траектории общинных трансформаций, прочерчивает вектора трансляции социальных противоречий и обусловливает переход к новому качеству организованного насилия. Пятым элементом является та среда, где набеговые практики могут быть востребованы в военном и формационном отношении (как форма воспроизводства-трансформации общины и способ преодоления внутриобщинных трещин). Чаще всего такой целью оказывается формационный соперник сильных фамилий — феодал, на «чьих» землях расселяется или может расселиться община или же государство, стоящее за спиной феодала. Так, поддержка русскими властями феодальных кабардинских и кумыкских владетелей против чеченских общинников-переселенцев в xviii веке привела к формированию пролога к длительному конфликту между имперскими структурами и этой частью горских обществ Северного Кавказа. Аналогичный кризисный процесс начинает развиваться в конце xviii века по новой кубанской границе, где российские войска вовлечены в социальный конфликт между феодальными домами (главным образом бжедугскими), с одной стороны, и вольными обществами (преимущественно шапсугскими и абадзехскими) — с другой. И напротив, поддержка Россией горских общинных и феодализированных политий — уже против равнинных кабардинских феодалов (как это имело место в случаях кабардино-осетинских и кабардино-ингушских противоречий середины xviii века) — способствовала значительно более эффективному имперскому присутствию в центральном секторе Кавказской пограничной линии. Наивно полагать, что формирование комплекса внутренних противоречий в северокавказском поясе есть результат искусственного внешнего провоцирования. В регионе разворачиваются эндогенные конфликты, а вместе с ними определяются и функциональные ниши для имперского военно-политического вовлечения. (1) Функция внешней протекции и обеспечения безопасности/идентичности. Это роль влиятельного союзника в разрушительном противостоянии с уже существующей имперской властью или противостоянии внешней имперской угрозе. Пример таких треугольников: <Кабарда — Крым — Москва>, <Шамхальство Тарковское — Иран — Россия>, <Картли-Кахетия — Иран — Россия>. И Кабарда, и Шамхальство ищут в xvi – xviii в. русской поддержки в борьбе между собой и против своих имперских центров — Порты/Крыма и Ирана, соответственно. Меж- 180 . i i i имперское или периферийное положение многих кавказских политий привело к формированию здесь института и культуры «двойной лояльности». Этот запасной стул никогда не выбрасывался и всегда хранился в чуланах политической культуры многих кавказских элит. Заинтересованность в xvii – xviii вв. кавказских политий во внешней протекции, в балансире между геополитическими центрами силы выражает стремление к поддержанию прагматической дистанции с имперскими властями Ирана или Порты, препятствующей полному поглощению ими периферийных элит/политий. Таким образом, функция внешней протекции опирается на способности обеспечивать или формировать более надежные политические ниши периферийных элит. Только в последующем, уже в эпоху национальных государств, такая прагматическая функция рефлексируется и развивается в способность государства поддерживать групповую культурную отличительность (identity). В современном мире функция «коллективной групповой безопасности» уже непосредственно связана с институтами производства идентичности/духовного производства, «этоса», «культуры». (2) Функция укрепления локальных элит в отношении их внутренних оппонентов. Из этой функции вырастает способность государства к созданию cohesive elite, контролируемого превращения местных элит в группу, способную эффективно влиять на местное общество и быть проводником обратных влияний. Так возникает институционально поддержанная извне внутренняя легитимность местных элит. Призывы к российскому престолу об установлении протекции были обусловлены не только внешними рисками тех или иных кавказских политий, но их внутренней нестабильностью. Яркий пример такой институциональной ниши — это соперничество «баксанской» и «кашкатауской» кабардинских княжеских «партий» в xviii веке. Местная элита укрепляется и прямым снабжением ресурсами (вплоть до военной силы и новых видов оружия — «Государь, пришли ратных людей с вогненным боем»). Чем более выраженными и более внутренне нестабильными были кавказские элиты, тем выше институциональная потребность и устойчивее оказывалась затем российская администрация. Косвенно эта функция показывает, что политии со слабо выраженной концентрацией власти, с не-пирамидальной, ячеистой, потестарной структурой властных институтов не особенно нуждались в каких-либо внешних институциональных «якорях». Россия им была структурно не нужна (если не было внешней угрозы, а ресурсный горизонт России был еще неясен). Напротив — она обещала проблемы, обещала неизбежное отчуждение властных функций — вместо их укрепления. Что касается пирамидальных/аристократических политий, то их извне-усиление было эффективно сопровождено сословной инкорпорацией и последующим упразднением самих владетельных прав (Идарова Кабарда, Картли-Кахетия, Мегрелия, Имеретия и т. д.). 181 При отсутствии подобной функциональной ниши империя создает, взращивает альтернативные элиты, формирует новые социальные группы, а вместе с тем и каналы мобильности, втягивающие политию в империю. (3) Функция преодоления внутренних социальных конфликтов, которые не могут быть устойчиво разрешены с помощью наличных политических и правовых институтов. Скажем, существующие нормы обычного права не могут устойчиво регулировать внутренние конфликты в процессе колонизации горцами плоскостных земель. «Право первозахвата» фактически разрушает экономическую основу общины на плоскости. Функция востребованной внешней политико-правовой надстройки может быть прослежена и в ситуациях, например, неадекватности норм обычного права при регулировании хронических конфликтов кровомщения. Хотя в «своде» этих норм присутствуют ритуалы примирения, но отсутствие обязывающей социальной поддержки этих ритуалов приводило к взаимному истреблению целых фамилий. Неадекватность норм обычного права новым реалиям открывает институциональную нишу для включения общества в поле властного применения других правовых норм (например, шариата в имамате Шамиля). Удар Шамиля по обычному праву был впоследствии противоречиво использован российской администрацией в судебно-правовой интеграции региона. (4) Функция ресурсного поля. Внешняя власть нередко ассоциируется с контролем над каналами и формами доступа к жизненно важным ресурсам — от кабардинских равнинных пастбищ до выгодной торговли на русской линии. Прагматическая лояльность следует в направлении властных центров, контролирующих источники такого ресурсообеспечения. Обрушение этих каналов или, еще больше, обретение гипотетической возможности самим поставить их под контроль с помощью альтернативных властных центров приводит к кризису прежнего направления лояльности. Скажем, ключ к российскому доминированию в центральном северокавказском секторе, примыкающем к доступным перевалам в Грузию, состоял в обеспечении политической крыши выхода осетин и ингушей на малокабардинские равнины. Позже в другом секторе можно было наблюдать, как государство Шамиля оказалось обречено, когда чеченские общества стали чувствовать экономические издержки от затянувшегося противостояния с Россией и воспринимать выгоды от замирения. Очерчивание иного, более широкого ресурсного поля постепенно меняет однозначность, а затем и направление их политических солидарностей. Грубо говоря, чеченцы устранились от поддержки, и имамат рухнул. (5) Функция уммы/цивилизации — траектория «духовного пути», метафизического совершенствования и «конечной, фундаментальной со- 182 . i i i лидарности». Эта функция постепенно заявляет о себе — сначала как вторичный эффект сословного прагматизма (и превращения Кайтуки Кончокина в Андрея Иванова), затем — как все более массовый тренд рутинного резонирования простых обывателей, которые оказываются в состоянии «пограничной повседневности», «фронтира» — не только в конкретно-историческом смысле, но и в своем повседневном рутинном мире. Способность православной России быть одновременно частью уммы для «своих мусульман», быть «евразийским горизонтом» с «уникальным созвучием православия и ислама», ее способность быть «землей обетованной» (как это было для меннонитов при Екатерине ii ) — эта способность к многообразию и «сохранительству» изоморфна возникающей многосоставной, многоплеменной, многоязычной повседневности кавказского поля. Возникновение имперского поля оказывается функционально потребным в процессах вырастания горских обществ из своих моноэтничных анклавов, возникновению городов, этих межэтнических перекрестков. • Функциональный профиль государства (профиль его укоренения на Кавказе) — от характера регионального самоуправления до состава местных элит и их габитуса — определялся не только русским завоеванием и имперскими стратегиями, но композицией эндогенных противоречий, структурой самого кавказского пояса и составляющих его обществ с их культурным репертуаром. При этом устойчивость и основательность государства как легитимного отчуждения права на войну и суд зависит от того, каким образом в своих идеологических и политических институтах государству удается отвечать этим функциям. В частности, каким образом институты власти обслуживают эндогенные социальные процессы, куда и как направляется кардинальный внутренний конфликт самой горской общины/«цивилизации», как трансформируется, в частности, культура горского похода за состоятельностью. Региональные режимы выступают одновременно как режимы интеграции местных обществ в российское государство/общество. Функцией режима является, в конце концов, производство лояльностей/солидарностей, — этих «полей», на которых и через которые возможно властное оперирование с общими проблемами и интересами. Производство лояльностей/солидарностей создает структурированный властью, то есть ресурсооснащенный и потому определенным образом «энергетически напряженный» контекст, в котором разворачиваются человеческие идентификационные стратегии. Среди них и этничность как способ оперирования культурными различиями и, таким образом, способ производства ключевых параметров культурного пространства — самого нагруженного смыслом человеческого мира. 183 Кризис таких режимов априори связан с обрушением или проблематизацией сложившихся связок между властно-предлагаемыми треками лояльности/солидарности и практиками производства этничности. «Вдруг» обнаруживается, что прежние конфигурации не работают, и доминирующие «картины мира» (скажем, с «нормализованной», «конвенциональной» общей историей, принятыми иерархиями горестей или славы) поиздержались в убедительности. Точнее говоря, возникают или расширенно воспроизводятся социальные группы, круги, носители неких «цивилизационных субкультур» и соответствующих паттернов действия, для которых эта убедительность сомнительна. Многоликость этих групповых носителей и их культурных шаблонов, неочевидная динамика их влиятельности и перерождения иногда вводит в заблуждение при анализе того, как же интегрирована кавказская периферия в российское ядро. b k k « » Итак, в горских культурах исторически сложился институт [статусного] похода как средство вертикальной социальной мобильности. Эта культурная калька присутствует и сегодня. Но и внутри российской истории-пространства изменились сами границы «успеха» («состоятельности»). Потребовались новые категории престижных занятий, треков состоятельности — иносказаний похода, его паллиативные формы. Вместе с институциональной историей горских элит (по образному ряду Дерлугьяна: «князья — партаппаратчики — помидорщики) менялась и сама структура престижности. Пресловутая «культура насилия» — есть на деле частный случай определенной культуры состоятельности. Насилие — форма социального и политического активизма в безгосударственных обществах или в обществах с обрушенной легитимностью институтов государства. В горских общинах постоянная готовность к войне/походу являлась статусным атрибутом. Отчуждая этот престижный статусный лифт в пользу государства, горские общества формируют новые «треки состоятельности», выстроенные в контексте новых политических и социально-экономических реалий. Горские общества оказываются перед необходимостью трансформации своих культурных паттернов, обретая российское пространство как новый горизонт состоятельности или, напротив, несостоятельности. Культурная калька «похода», конечно, сублимирована, трансформирована, но ее обертоны угадываются в современных ценностно-мотивационных комплексах и организационно-групповых ипостасях горских обществ. В определенном статусном смысле «походом» оказываются любые социальные стратегии, имеющие своим эффектом прорыв рутинных занятий и обретение социального капитала с помощью модель- 184 . i i i ных карьер. В свою очередь эти модельные карьеры — от активистов национального движения — до участников «деловых движений», гипотетически сцеплены с неожиданно открывающейся ресурсной базой — идеальной персональной и групповой состоятельностью, выраженной языком актуальной политической повестки или экономической конъюнктуры. Сегодня кавказский рыцарь-джигит находит себя в целом спектре новых модельных занятий, среди которых, в частности, и тип буржуа, для которого бедность стала пороком, признаком несостоятельности, достойной презрения соплеменников. Важный культурный аспект здесь — относительная демилитаризация треков состоятельности. Однако и в новой, экономической, реинкарнации «горского похода» отчасти сохраняются некоторые характерные реликты — клановые «ядра» многих предприятий, сохранение высокой готовности к насилию в репертуаре средств «конкурентной борьбы», ориентация на экономический мейнстрим и доминирование в зонах хозяйствования, определенные временные параметры. Если обратить внимание на массовый характер определенных социальных практик, насыщенных мотивацией модельных карьер, то становится очевидным — «поход» есть не только путешествие в пространстве, но и в занятии. Смутная престижность «ребят, которые в свое время были в лесу», еще долго будет волновать воображение не только подростков в чеченских селах. Нас здесь интересует более широкий контекст: как работает культура похода в двух важнейших кавказских ипостасях в России — «титульных нациях» (национально-территориальных автономиях) и внутрироссийских «диаспорах». Мы исходим из того, что имперскую институциональную историю превращения homelands в республики (то есть от военно-народного управления до сегодняшних субъектов федерации) и возникновение массовой кавказской «диаспоры» можно описать как становление специфических площадок/групп интеграции-в-Россию. Сегодня на этих площадках размещены своего рода вторичные организационно-групповые реплики первичных горских социальных миров — будь то в армейских казармах или студенческих землячествах, в титульных элитах республик или группах старателей на магаданских приисках. За формальными стратами, профессиональными занятиями и функциональными иерархиями проступает насыщенное первичными связями социальное пространство, ячеисто-сетевая структура фамильно-родственных кланов и городских социальных кластеров. Вы «натыкаетесь» на присутствие этих сетей в разнообразной динамике формальных организаций, властных групп, персональных профессиональных карьер. Такая комбинированная структура обусловлива. Еще до учреждения системы военно-народного управления в 1864–1866 годах, избранными имперской властью контрагентами/«категориями» управления на Северном Кавказе становятся «племена», «народности». 185 ет тенденцию, когда капитал фамильно-родственных групп напрямую зависит от состоятельности, складывающейся из персональных успехов их представителей. Семья выталкивает персону в «поход за состоятельностью», а история предоставляет лишь вариации того, каков может быть этот поход, определяет процессуальность и содержание «похода» и «возвращения». Мы говорим о «походе» и «возвращении» в фигуральном смысле, но эти образы помогают прояснить ту культурную мотивационную основу, которая связывает прошлое и настоящее, симптоматическую преемственность горского активизма и современных походов за состоятельностью-успехом. Косвенным эффектом обозначенного поведенческого «программирования» кавказских культур является стремление к позиционному доминированию. Даже в диаспорах (как своих вторичных групповых репликах) кавказские общества стремятся уйти от рисков попадания в маргинальное пространство непрестижных экономических ниш/занятий, но нацелены на включение в хозяйственно-экономический (или криминальный) мейнстрим принимающего (обычно русского) общества. Функцией вторичных реплик является превращение каналов индивидуальной вертикальной мобильности («персональных лифтов») или резервированных властью каналов групповой мобильности (коренизация, квоты и другие меры из арсенала affirmative actions) в площадки гарантированной преференциальной мобильности. В том числе — гарантированной от издержек в изменениях самой официальной политики (скажем, от метаний между преференциями для «нацменов» и их удержанием вне некоторых стратегических ниш). Фокус в том, что, будучи созданы как формы групповой интеграции и являясь таковыми, вторичные реплики превращаются в формы воспроизводства групповой вертикальной мобильности, использующей традиционалистские культурные паттерны. Начинается постепенный дрейф от критериев и ценностей, уместных для профессиональных или служилых субкультур принимающего общества, к критериям и ценностям, уместным для ячеисто-сетевых, первичных субкультур материнских общин/обществ исхода (в нашем случае — обществ «похода»). Внутри этих реплик — еще раз повторю, что таковыми являются и микрогруппы типа землячеств, и эшелонированные бюрократические элиты национальных автономий, — внутри этих реплик постепенно и неизбежно падает требовательность к одним критериям и нарастает спрос к другим. Вторичные реплики постепенно становятся переизданиями ячеисто-сетевого, традиционалистского общества, готовыми организационными формами для политизации и массификации некоторых «практик описания реальности», готовности к определенным типам целеполагания и действия. Среди практик описания реальности ведущая роль принадлежит этничности. Для понимания типов и роли этничности важно то, в каком институциональном контексте воспроизводится этот операцио- 186 . i i i нальный навык. Является ли она «этничностью аморфной диаспоры», «внешней категорией», «консолидированной и компактно проживающей городской общиной», «титульным народом». b k Сегодня кавказские общества, грубо говоря, это общества коллективного неуспеха, хронического и усиливающегося отставания, профанации массового образования и снижения компетенции во многих профессиональных секторах — от здравоохранения до государственного управления. И не российская «национальная политика» является причиной этого положения, и даже не длинная тень чеченского кризиса. Базовые вопросы — каким образом формулируются критерии состоятельности/лифты престижной мобильности в этих обществах? Как социально организованы, ресурсно обеспечены и политически сопровождены эти треки состоятельности? Невнятица нынешней стабилизации связана с тем, что ее несущей процедурой выступает даже не силовая накачка региона и не выстраивание властной вертикали, а сама парадигма развития как «освоения выделенных средств» и «распоряжения предоставленными функциями/ активами». Речь не идет о метаниях федерального законодательства и постоянном пересмотре правил, по которым осуществляется взаимодействие центра и регионов. За возможными масштабными вливаниями («больше средств — больше развития, меньше средств — меньше развития») и расцветом психологии «дойки России» (в некоторых регионах-реципиентах — чуть ли не «репараций») упускается качество развития. Укрепление властной вертикали и очередная зачистка площадки публичной политики от национал-сепаратизма оказались не сбалансированы становлением процедур и институтов гражданского общества. Качество политического развития, характер региональных политических режимов, асимметрично замыкающихся на властную вертикаль, создают в общем комфортный ландшафт для воспроизводства определенного типа культур. Имитационно высокий уровень лояльности — есть показатель расцвета и комфорта этих культур и соответствующих полити ческих и социальных стратегий «на местах». Высокие бюрократические издержки/коррупционные риски для предпринимательства и сложный инвестиционный климат — только одно из явных атрибутов такого развития. Если выйти за рамки «государственного дискурса», где развитие — будь то успех, стабилизация, кризис и т. д. — есть функции политики, следствия институционально веских политических решений, то всегда обнаруживается, что успех/ неуспех есть функция культуры. Процедурные издержки висят тяжким грузом не только на предпринимательских стартах, блокируемых . См. рекордные показатели явки в избирательных кампаниях 2007–2008 годов. 187 властной коррупцией. Можно сказать, что все социальные лифты, треки состоятельности организованы через сети первичных связей, «проложены» в плотной паутине сложившихся неформальных обязательств и преференций. Эти сети и обслуживающие их процедуры преференций не властью создаются. На Северном Кавказе все более явственно определяется новый уровень исторического конфликта между массовой «культурой активизма» (персональной состоятельности, хозяйственного или иначе обретенного и статусно-значимого успеха), с одной стороны, и родной ей — как «формационно», так и «цивилизационно» родной — общинной культурой, с ценностями внутригрупповых преференций и обязательств, с повсеместной практикой использования этих обязательств и созданием эдаких кластеров «близкого круга» в сколько-нибудь престижных социальных секторах. Это не совсем и даже вовсе не «кланы», так как организованы они далеко не всегда вокруг фамильно-родовых ядер. С кланами их роднит кулуарно-избирательный характер кооптации, непрозрачность оперирования, иерархичность, предпочтение «первичного статуса» (врожденного, примордиального — «свой») над «вторичным» (достигнутым, чаще всего сконструированным в процедурах профессиональной состоятельности). Отличие в том, что кластеры уже есть во многом продукты урбанизации, и в них инкорпорированы представители разных фамильных, территориальных, этнических групп. Если клан — продукт сельской общины, то кластер здесь — кумулятивный продукт фамильной общины, городского двора и городского школьного класса. Доминирование «первичных статусов» оказывается опосредованным, отчасти снятым, но ясно сохраняется. Кавказское социальное пространство покрыто этими кластерами, расположенными в доходных властно-хозяйственных площадках — от местных администраций до вузов, от строительных компаний до поликлиник. Кланово-кластерный характер социальной реальности может быть очень комфортным, открытым и весьма сподручным для вертикальной социальной мобильности. Но эта мобильность должна быть оснащена и сопровождена ресурсами первичных связей. В этом случае кластер выступает как готовый трек состоятельности. И все бы ничего, но в своей совокупности такая система неизбежно работает на понижение критериев профессиональной состоятельности и в итоге оказывается основной причиной общей социальной стагнации. Профессиональные навыки выступают необязательным сопровождением критериев «примордиальной принадлежности». Первичные социальные сети «обволакивают» каналы вертикальной мобильности и работают не как опора социального роста, но как явственное социальное препятствие такого роста. Возникает эффект, скажем так, склеротизации каналов вертикальной мобильности, — эффект особенно болезненный на фоне все более популяризируемых шаблонов престижного потребления и в контексте «культур зримого успеха». 188 . i i i Настоящая паранойя кавказских культур — боязнь несостоятельности. Нельзя сидеть дома — идите, езжайте, ищите, думайте, двигайтесь. Результаты ваших «движений» должны быть видны. Но куда идти безработному на родине, где все возможные каналы престижных занятий присвоены фамильными кланами или кластерами «близкого круга», где нет механизмов неотягощенного первичными связями соперничества? Масса безработной молодежи, нередко уже с высшим образованием, расщепляется между несколькими неравновесными «карьерными» траекториями — отходничество (в широком смысле) в собственно Россию, устройство по связям на какую-нибудь местную «площадку», зависание в статусе безработного, перебивающегося на эпизодических заработках и «коммерческих движениях». Есть еще альтернативные треки состоятельности, связанные с распространением религиозных субкультур и отчасти политическими движениями. Идеологии внероссийского политического развития, с их репертуаром вспоминаемых исторических травм и претензий, сегодня воспроизводятся в суженном, маргинальном поле. Но их позиция — standby, ожидания ситуации, когда претензии могут быть предъявлены как «козыри» в торге за активы/распорядительные полномочия или как основания для новой антироссийской мобилизации. Как организованы политические риски, связанные с нарастающей склеротизацией каналов вертикальной мобильности в северокавказских обществах? Конечно, создание рабочих мест, наращивание государственных программ по Северному Кавказу позволяет отчасти решать проблему относительной бедности, невнятности социальных перспектив значительных групп населения. Но в долгосрочном плане это увеличение пирога не меняет характера обществ, основу их политической культуры и соответствующие повадки элит. Увеличение пирога и государственные инвестиции в регион могут отчасти изменить формальную социальную структуру, статистическое соотношение формальных категорий занятого населения. Проблема в том, как влияют институциональные изменения — от новой процедуры формирования власти и административной реформы до процедуры — на рутинное воспроизводство властно-хозяйственных площадок, на характер кластерного междусобойчика в обслуживании многообразных лифтов социальной мобильности. Много ли прибавит в профессиональной мотивации и конкурентной оснащенности выпускников школ та же процедура , уже нагруженная «культурно-оправданными» издержками? В том случае, если институциональные напряжения окажутся недостаточными для культурного сдвига — а профанация избирательных прав под прикрытием укрепления вертикали власти есть не что иное, как движение в противоположную сторону, — в этом случае генеральным виновником в постоянном дефиците доступных треков состоятельности будет всегда сама власть. 189 Кавказские общества с формами коррупции, рутинизированной до состояния культурной нормы, обнаруживают главную проблему не в собственной социальной практике. Эта практика кластерного обустройства, «нагруженного» преференциальными связями воспроизводства жизненных шансов, не узнается как качественный фактор отставания. Обнаруживается другой, количественный, фактор — сама бедность, скудность бюджетов, дефицит ресурсов. Источником бедности, естественно, выступает государство или организованная государством система межгрупповых (вариант — межэтнических) отношений. • Объявление борьбы с пресловутой «кавказской клановостью» и неким, якобы особым даже для общероссийских условий, уровнем коррупции — одно из информационных событий 2005 года. В июне 2005 года опубликованы части известного «доклада Козака Путину». Доклад анализирует причины неэффективности государственного управления на уровне республиканских властей, и он был воспринят как своего рода «черная метка» региональным правящим группам. Приведем одну цитату из доклада: «сформировавшиеся во властных структурах корпоративные сообщества монополизировали политические и экономические ресурсы. Во всех северокавказских республиках руководящие должности в органах власти, наиболее крупных хозяйствующих субъектах занимают лица, состоящие в родственных связях между собой. В результате оказалась разрушенной система сдержек и противовесов, что приводит к распространению коррупции». Однако, как представляется, основным фактором высокой коррупционной опасности — как на уровне местных/муниципальных, так и республиканских властей — является все же не особая культура северокавказских обществ, не их насыщенность первичными родственными связями и не дотационность республик, но постепенная и неуклонная деградация каналов общественного влияния на различные властные этажи. Иными словами, создается режим все более ограниченного влияния на властные инстанции снизу, все большей закрытости, защищенности этих инстанций от организованного и пристрастного общественного интереса, действующего вне «первичных неформальных сетей», которые лишь связывают руки такому пристрастному интересу. Неспособность обществ эффективно и регулярно влиять на доступные им властные этажи обостряет спрос на «государево око», которое должно держать эти инстанции в узде. Но проблема в том, что создание режима «закрытости»/«сверху определенности» местных властей оставляет в целом более комфортные условия для воспроизводства в этой местной власти отношений именно кланового типа, — условия более комфортные, нежели режим реальной, хотя бы и эпизодической, зависимости от волеизъявления электората и столкновения местных и трансрегиональных властно-хозяйствующих группировок. При этом 190 . i i i смещаемость местных руководителей по решению федеральных властей окажется лишь сменой кланов/кластеров, но не борьбой с клановостью и коррупцией. Тема клановости и коррупции в регионе — это вопрос о том, как возможна оппозиция на региональном уровне в обществах со значительной насыщенностью неформальными, первичными связями, которые в контексте служебных отношений выступают как «примордиальные» (вечно и неизменно обязательные для учета)? Как возможна реконструкция системы «сдержек и противовесов» — в смысле создания более выраженного и автономного от местных властей канала влияния общества на события в регионах. Будет ли федеральный центр и его региональные ипостаси единственным «противовесом клановости», или же он не будет узнан в качестве такового и станет обвиняться северокавказскими обществами в качестве главного реципиента клановых услуг? 191 a kb b xvi–xvii . Василий Жарков Российская государственность окончательно оформилась почти ровно пятьсот лет назад, когда в конце xv — начале xvi в. усилиями Ивана iii и Василия iii к Москве были присоединены основные крупные феодальные центры Северо-Восточной Руси. Тогда же благодаря Софье Палеолог, супруге великого князя Василия iii , в геральдике нового государства стал использоваться византийский двуглавый орел, в те же годы оформился общий облик современного Кремля, вскоре появилась и концепция «Москва — Третий Рим». Либеральные историки домарксистской школы считали, что это и был тот момент, когда у России появилось собственное государство . Предшествовавший этому так называемый удельный период (период феодальной раздробленности) рассматривался как время формирования государства, не более. Новое государство сразу стало самым большим по территории в Европе (ни европейцы, ни московиты, впрочем, не считали его европейским). Однако даже в относительно заселенных районах средняя плотность населения страны не превышала десяти человек на один квадратный километр. С природно-климатической точки зрения Северо-Восточная Русь не была обетованным краем, ее самая южная точка географически совпадала с крайним севером Франции, континентальная удаленность от теплых вод Гольфстрима делала русские земли зоной рискованного земледелия. Не меньшую трудность представляли колоссальные по тем временам расстояния: чтобы добраться из какого-нибудь бывшего удельного центра в новую столицу единого государства, порой требовались сутки, если не недели. Не говоря уже о том, что два раза в году — во время весенней и зимней распутицы — какие-либо коммуникации отсутствовали вовсе. . Павлов-Сельванский Н. П. Феодализм в России. М., 1988; Пресняков А. Е. Образование великорусского государства. М., 1998 и др. 192 . i i i Если в большинстве стран не только Западной, но и Центральной Европы внутренняя колонизация в целом закончилась к xiv – xv вв., то применительно к России в это время можно говорить только о начале данного процесса. В летописных свидетельствах xiv в. можно встретить упоминания, что «в лесах» живут и ведут свое хозяйство люди, которые податей никаких не платят и власти никакой не признают, и сколько их числом, никто не ведает. Фактическое отсутствие границ на юге и востоке делало практически беспрепятственным отток и без того немногочисленного населения в поисках более пригодной для жизни территории. Слабым было городское торгово-ремесленное население — традиционная опора централизации европейских государств. Великие географические открытия, пришедшиеся как раз на момент становления Московского царства, положили конец транзитной торговле между Европой и Азией через Балтику, Поволжье и Каспий, что привело к экономическим потерям и упадку не только Ганзейских городов, но и их традиционных партнеров в Северо-Восточной Руси. Потеряв возможности евро-азиатского торгового транзита, будучи удаленной от соединявших континенты новых трансатлантических торговых путей, не имея освоенных запасов золота и других металлов, Московия превратилась в экономическую периферию Европы раннего Нового времени. Негативный географический фактор требовал от нового государства ведения внешней экспансии, с одной стороны, с целью прорыва выхода к «теплым морям» (В. О. Ключевский), а фактически к трансатлантическим торгово-экономическим путям. С другой стороны, для приобретения территорий, богатых природными ресурсами (Урал, Сибирь) и более пригодных для эффективного земледелия (Поволжье, Юг, Украина). Однако удаленное от тогдашних центров «производства идей и технологий» Российское государство xvi – xvii вв. существенно уступало в военном отношении своим основным европейским соседям — Польше и Швеции. Весьма существенной и реальной была угроза с Юга — со стороны Османской империи и ее вассала Крымского ханства. Безусловно удачным в этот период можно считать лишь восточное направление экспансии Москвы — в отношении находившихся в депрессии остатков Золотой Орды в Северной Евразии. Все названные факторы: протяженность территории, неразвитость коммуникаций, низкая плотность населения, незавершенность внутренней колонизации, недостаточно производительное сельское хозяйство, слабые торгово-ремесленные города, трудности в охране границ государства, необходимость внешней экспансии в поисках лучших земель — существенно усложняли управляемость страной. Борьба за традиционные государственные монополии — право на насилие, сбор налогов, денежную эмиссию — требовала дополнительных усилий. В результате давление государства на общество оказывалось значительно более жестким и деспотичным, чем в аналогичных династических го 193 сударствах Западной Европы. Перманентный дефицит управляемости провоцировал государство к сверхмобилизации и сверхцентрализации, что в свою очередь время от времени приводило к острым социальным кризисам и конфликтам. vs b : « a k» k Как политический феномен опричнина (1564–1572) возникла примерно через полстолетия после образования централизованного Российского государства. Ей предшествовал период относительной политической либерализации, когда после Московского восстания 1547 года власти в лице молодого царя Ивана iv и его реформаторски настроенного окружения, объединенного в Избранной Раде, пытались ввести в стране институты сословного представительства (Земские соборы) и местного самоуправления (Губные и земские избы) . Как конкретноисторическое явление опричнина просуществовала менее десяти лет, однако это, безусловно, одно из главных событий в истории России. В историографии ее принято рассматривать как один из этапов борьбы за централизацию государственной власти. Однако с точки зрения борьбы за монополию на насилие ее методы и результаты выглядят достаточно сомнительно. В декабре 1564 г. на фоне неудач в Ливонской войне и обострившихся противоречий с бывшими соратниками (именно в тот год князь Андрей Курбский уехал в Литву), царь Иван Грозный покинул свой двор в Кремле и удалился в Александрову Слободу, чтобы навсегда отказаться от управления никак не желающей ему подчиняться страной. Власть в лице Ивана «обиделась» на общество и элиту. Страна и элита, однако, покаялись и попросили царя вернуться. В результате возникла система управления, аналогов которой трудно найти в практике централизации государств. Борясь прежде всего за монополию на насилие, верховная власть решила ее «диверсифицировать», создав по сути два конкурирующих между собой «аппарата насилия». Страна была условно разделена на две части: земщину, где формально сохранялась прежняя система управления с Боярской думой, приказами, местными выборными губными избами и т. п. И опричнину — особый удел, не подчинявшийся никому, «опричь» (кроме) царя, соответственно, со своей властной вертикалью и силовыми структурами. Тогда же было создано специальное опричное войско, набиравшееся по принципу личной преданности государю. Вскоре опричнина фактически объявила войну земщине: по подозрению «в измене» разорялись родовые вотчины и поместья, угонялись крестьяне, увозилось имущество, хозяев, лишив всего, жестоко пытали и казнили, так что карти. Подробнее об этом см. Жарков В. П. Деревянная демократия // Русская жизнь. 2008. № 8. С. 22–26. 194 . i i i ны Страшного Суда в русских церквях казались невинными детскими рисунками. Учреждение опричнины было направлено не исключительно против боярства, но против всего старого государева двора, олицетворявшего государство как таковое. Характерно, что большинство репрессированных в годы опричнины принадлежало не к родовой боярской аристократии, а к дворянам . Иван iv не просто натравил одну часть госаппарата на другую, но и «заповедал», т. е. приказал опричникам насиловать, грабить, убивать всех, кто мог быть заподозрен в «измене». Новый, как представлялось Ивану iv , более эффективный аппарат насилия в виде опричного двора фактически объявил войну собственной стране. «Конкуренция» между опричниной и земщиной фактически привела к массовому террору, затронувшему почти все слои населения. От опричного террора страдали все обитатели земщины: и бояре, и дворяне, и их крестьяне, и жившие в городских вотчинах ремесленники, и даже целые города (Клин, Новгород). Любой вельможа или обыватель, у которого было что отнять, рисковал попасть в поле зрения опричных «силовиков». Стоит учесть при этом, что дисциплина в опричном войске постоянно падала, и с течением времени «опричник стал вырождаться в простого разбойника». Результат не заставил себя ждать. И без того негусто населенная страна в отдельных районах была доведена практически до полного запустения. Голод и эпидемии стали привычным явлением, население разбегалось в Литву, на южные и восточные окраины — подальше от агрессивной власти. В 1569 г. в Клинском уезде оставалось только два населенных пункта . Не говоря уже о том, какой ущерб экономике страны нанес разгром торговопромышленного Великого Новгорода. Создавая опричнину и развязывая массовый террор, Иван iv , очевидно, стремился решить проблему управляемости и чрезвычайными мерами обеспечить, доказать собственную монополию на насилие. Однако кромешная жесткость с точки зрения укрепления государства дала совершенно обратные результаты. Будучи раздробленной на две противоборствующие системы, власть теряла и без того слабые функции контроля. Можно ли назвать государство сильным, если оно не в состоянии выполнять своих основных функций: гарантировать закон и порядок, обеспечивать безопасность и неприкосновенность имущества обывателей, защищать внешние границы страны? Увы, опричнина не смогла обеспечить решения возложенных на нее задач. Опричное войско прежде всего грабило и убивало подданных московского царя, но в критический момент не смогло противостоять возникшей внешней угрозе: в мае 1571 г. опричники бежали от конницы крымского хана, в результате чего татары практически безнаказанно разграбили и сожгли . Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 155. . Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. С. 389, 401. 195 Москву. На следующий год Иван iv , разочаровавшись в своих по-собачьи преданных и по-собачьи бездарных слугах, уничтожил опричнину и под страхом жестокого наказания запретил всякое упоминание о ней. Раскол в элите и обществе, неразбериха и путаница в управлении, продолжение неудач во внешней политике, экономическое разорение и запустение страны, общая политическая и социальная нестабильность — таким выглядело Московское государство по итогам опричного эксперимента. Опричнина, по мнению значительной части историков, стала одним из важнейших факторов, благодаря которому Россию постигла первая гражданская война — Смутное время начала xvii в. Став несомненным кризисом династического государства (род Даниила Московского, правивший на протяжении трех с половиной столетий, прервался после смерти сыновей Ивана Грозного), Смута во многом была вызовом деспотизму как таковому. Это был период расцвета деятельности Земских соборов, утверждавших не только царские указы, но и саму царскую власть — все претенденты на престол в конце xvi — начале xvii вв. проходили процедуру утверждения представителями «всей земли» . Однако ослабление деспотизма вскоре привело к окончательной утрате управляемости, включая и монополию на насилие. В начале 1610-х гг. под вопросом оказались суверенитет и территориальная целостность страны. В результате, Второе земское ополчение К. Минина и Д. Пожарского (1612 г.), избрание на царство Михаила Романова (1613 г.), сворачивание деятельности Земских соборов и возвращение к практике прежнего централизованного управления под влиянием патриарха Филарета в 1620-е гг. во многом оказались результатом общественного консенсуса, сформированного на опыте как государственного терроризма опричнины, так и безвластия Смутного времени. Произвол государева слуги оказался предпочтительнее «озорству и разбою лихих людей». Так государство в конечном итоге сумело обеспечить монополию на насилие. На очереди было решение вопросов, связанных с налогами и денежной эмиссией. a xvii Относительная стабильность Российского государства, установившаяся к 1630-м гг., была нарушена в середине xvii столетия. Вместе с тем нельзя не учитывать глобальный характер очередного проблемного периода. Как писал Эрик Хобсбаум, «европейская экономика в xvii в. прошла через общий кризис, последнюю фазу перехода от феодальной к капиталистической экономике» . К 1645 г. в России назрел острый со. Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в xvi – xvii вв. М., 1978. С. 273. . Северный архив. 1912. № 1. С. 156. 196 . i i i циально-экономический кризис, связанный прежде всего с неэффективностью существующей системы сбора налогов и дефицитом государственных финансов. Первоочередной проблемой, которую пришлось решать правительству (его возглавил боярин Борис Иванович Морозов, фаворит молодого царя Алексея Михайловича), стало преодоление бюджетного дефицита. С целью увеличения суммы собираемых налогов правительство попыталось отменить льготы, позволявшие вести беспошлинную торговлю монастырям. Однако подобная политика натолкнулась на решительное сопротивление церковных иерархов. В результате за многими крупными монастырями льготы были сохранены в виде исключения. Другим важным шагом стало введение новых пошлин на импортные товары, предполагавших отмену льгот для иностранных, прежде всего английских, купцов — иностранцы должны были платить столько же, сколько и русские. Одновременно в России, по сути дела впервые, была создана таможенная служба. Раньше корабли, приходившие в Архангельск не досматривались, иностранцы указывали приблизительное количество ввозимого товара, а казна не дополучала значительные суммы денег. Теперь плата взималась с реального объема поступавшего импорта, а таможня приобрела гораздо большее значение. Однако новые таможенные правила негативно отразились на внешнеторговой ситуации: иностранцы начали сворачивать свою деятельность в России. Сборы от новых таможен стали еще меньше. Русские купцы лишились возможности получать от иностранцев кредиты. Не добившись поставленных целей, правительство пошло на уступки. Отчасти это произошло из-за коррупции — иностранцы платили взятки крупным государственным чиновникам. В качестве наиболее известной фискальной меры на внутреннем рынке в этот период следует упомянуть новый налог на торговлю солью, введенный вместо нескольких изживших себя пошлин, предусматривавший трехкратное увеличение суммы, взимавшейся в пользу государства при совершении торговой сделки по купле-продаже соли. Расчет был сделан на то, что добавочный налог на товар первой необходимости, каким была соль, принесет казне доход. Но и здесь правительство потерпело фиаско: соляная торговля оказалась парализованной. Торговые склады были забиты отсыревшей солью и сгнившей рыбой. В начале 1648 г. этот налог пришлось отменить. Другим косвенным налогом стали так называемые конские деньги, взимавшиеся при торговле лошадьми. Фискальными соображениями было продиктовано и введение новых обязательных эталонов длины — «аршинов», которые в принудительном порядке распространялись среди купцов. . . Т. 1. № 124; . Т. 3. № 23. . Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. 1906. С. 264–265. 197 Фискальная политика, проводившаяся в 1645–1648 гг., ударила по интересам средних и нижних городских слоев. Новые налоги и пошлины разоряли внутреннюю торговлю страны. Русские купцы становились неплатежеспособными и теряли доверие иностранных партнеров. В выигрыше оказался лишь узкий слой московских гостей, связанных с правящей верхушкой и пользовавшихся ее покровительством. Не имея возможности в полной мере добиться желаемых результатов путем реформирования системы налогообложения, государство решило расширить круг налогоплательщиков за счет ликвидации «белых слобод» — частных владений крупных светских и духовных феодалов в городах, жители которых обладали податным иммунитетом. Новое посадское строение, предусматривавшее ликвидацию частновладельческих слобод в городах, в порядке эксперимента начало проводиться во Владимире, Суздале и других центрах . Окончательно «белые слободы» были ликвидированы по Соборному уложению 1649 г. Важной мерой в рамках режима жесткой экономии стали так называемые правежи недоимок. Правительство решило во что бы то ни стало вернуть все долги по уплате налогов и податей. Только в одной Устюжской четверти на 1646 г. недоимок значилось на сумму в 35 тыс. руб. Все эти огромные деньги государство буквально выколачивало из своих подданных. После отмены соляной пошлины в 1647 г. были восстановлены прежние прямые налоги, причем в тройном размере, т. к. власти заставляли платить и за те годы, когда они не действовали. Долги были записаны на воевод и других служащих местных приказных изб, а они, в свою очередь, выбивали их из тяглого населения. В историографии уже отмечалось, что финансовая политика русских властей середины xvii в. содержала элементы меркантилизма, который был неотъемлемой частью экономической системы большинства абсолютных монархий на европейском континенте. Не исключено, что правительство Б. И. Морозова руководствовалось идеями меркантилизма. Цель реформ состояла в как можно большем пополнении бюджета страны. Соляной налог и конские пошлины не что иное, как классический пример введения косвенных акцизных сборов с продаж. Совершенствование таможенной службы и отмена льгот для иностранцев были вызваны стремлением увеличить поступления в казну. Наконец, известно, что в период правительства Б. И. Морозова на российском рынке начинается засилье торговых монополий. В экономической политике 1646–1648 гг. можно обнаружить многие черты, присущие меркантилизму. Судя по всему, меркантилист- . Смирнов П. П. Посадские люди и их классовая борьба до середины xvii в. М.; Л., 1948. Т. 2. С. 67. . Базилевич К. В. Элементы меркантилизма в экономической политике правительства Алексея Михайловича // Московский университет им. М. В. Ломоносова. Ученые записки. История. М., 1940. Вып. 41. С. 3–7. 198 . i i i ские идеи были заимствованы из Нидерландов — советником и компаньоном Б. И. Морозова был голландец А. Виниус, сохранились составленные им аналитические записки с конкретными рекомендациями. Стараниями «морозовской партии» на русской почве был впервые проведен экономический эксперимент с использованием западных экономических рецептов. Однако уровня развития страны явно не хватало для того, чтобы передовой опыт раннебуржуазной Европы мог успешно прижиться на просторах Московии. Трехлетний период реформ правительства Б. И. Морозова закончился Московским восстанием 2 июня 1648 г., когда возмущенной толпе горожан, на сторону которых перешли стрельцы и часть дворян, удалось прорваться в Кремль. На несколько дней власти фактически потеряли контроль над ситуацией в городе. Разгрому подверглись богатые дома, принадлежавшие близким к правительству боярам и крупным купцам. Некоторые особо ненавистные представители элиты были жестоко убиты разъяренной толпой. Историческим итогом 1648 года в России, впрочем, снова стало торжество «старого прядка». Созванный по требованию восставших Земский собор принял Уложение 1649 г. — своего рода антиконституцию, окончательно закрепившую неограниченное самодержавие и крепостное право в стране. Проблема дефицита финансов, однако, только усиливалась. Начавшаяся в 1654 г. война с Польшей за украинские земли увеличила и без того немалые военные расходы государства, которые не могли покрыть даже чрезвычайные дополнительные налоги. С целью выправления финансовой ситуации было решено наряду с серебряными выпустить в оборот медные деньги: предполагалось перечеканить имевшиеся в казне запасы немецких мелкий медных монет в русские монеты крупного достоинства . Из фунта меди чеканилось монеты на десять рублей. Планируемый доход правительства от фактической подмены серебряных денег медными должен был составить четыре миллиона рублей. Внешнеторговые расчеты продолжали производиться в серебряных деньгах, долги по уплате налогов также взимались серебром, а жалование находившемуся в литовском походе войску платили медными деньгами. На самом деле фактически произошла порча монеты — медные деньги никак не могли стоить столько же, сколько аналогичного номинала серебряные, и начали обесцениваться. Серебряные деньги практически исчезли из внутреннего финансового оборота, новых медных денег было выпущено слишком много, к тому же была существенно подорвана государственная монополия на денежную эмиссию — чеканку медных денег быстро освоили фальшивомонетчики, в том числе среди . Северный архив. 1812. № 1. С. 151–152. . Базилевич К. В. Денежная реформа Алексея Михайловича и восстание в Москве в 1662 г. М.; Л., 1936. С. 7–83. 199 представителей высшей придворной аристократии. Резко поднялись цены на товары первой необходимости. Учитывая инфляцию, правительство было вынуждено вернуться к сбору натуральных налогов и фактически ввести монополию на экспортную торговлю. Товары, составлявшие основу тогдашнего российского экспорта, скупались у русских купцов за медные деньги, а за границу продавались — за серебро. Это позволило частично ликвидировать дефицит серебряной монеты. Очередной финансовый эксперимент властей не обошелся без социальных потрясений: в 1662 г. в Москве произошло очередное крупное восстание, после которого медные деньги пришлось отменить. Дальнейшее развитие Российского государства требовало усиления его основных функциональных монополий. Окончательное завершение этот процесс получил в результате реформ Петра Великого первой четверти xviii в. Ужесточение крепостного права и введение механизмов его реализации (органы сыска, паспортизация), введение подушной подати, создание регулярной армии, формировавшейся на основе рекрутских наборов, особая роль тайной полиции, абсолютная власть монарха, собственно, олицетворявшего собой государство, стали основой той общественной модели, которая была сформирована в России в эпоху раннего Нового времени. Борьба, продолжавшаяся на протяжении нескольких столетий, закончилась триумфом государства. Оплот «старого порядка» в Европе, система государственного управления в России, основанная на крепостном праве и политическом деспотизме, смогла просуществовать без существенных изменений до второй половины xix в. 200 . i i i