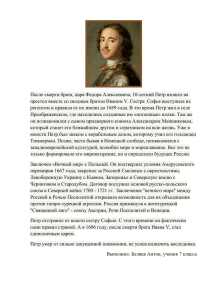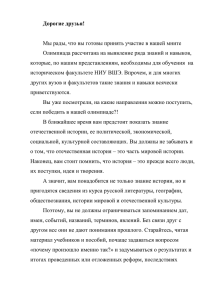ИДЕЯ ГОСУДАРСТВА И ГЛАВНЕЙШИЕ МОМЕНТЫ ЕЕ
реклама

От редакции. Есть ли некая фатальная закономерность в том, что в самые сложные для отечества времена общественная и научная мысль России всякий раз обращается именно к анализу государственной идеи? Какую роль вообще играет идея государства в судьбах нашего общества? Для того чтобы ответить на эти вопросы, звучащие ныне отнюдь не риторически, хорошо бы выяснить, что сохранилось из прошлых веков в концепциях государства века XX с его — теперь уже, на исходе столетия, можно сказать — тремя вариантами государственности: абсолютно-монархической и советской империями и нарождающейся нацией-государством современности. Мировой опыт показывает: даже в новейших конструкциях государства с неизбежностью остаются элементы традиции, причем далеко не всегда благотворные. Стремление искоренить их вместо того, чтобы попытаться адаптировать к духу времени и развивающимся интересам общества, скорее всего, утопия. Между тем история политических идей и ретроспективный анализ их применения на практике могут помочь определить как опасное, так и полезное для современного российского общества наследие. Судьба российской государственной идеи претерпела несколько поворотов, причем один из самых значительных происходил в период, начавшийся во время Смуты и завершившийся в эпоху реформ Петра I. Основу этой рубрики "Источник" составил очерк известного русского историка политики и права, культуролога А. С.Лanno-Данилевского, появившийся на страницах журнала "Голоса минувшего" зимой 1914 г. Позади было празднование 300-летия царствующей династии, впереди, в XX веке, — войны, революции, смены политических режимов. Действительный член Петербургской Академии наук, почетный доктор права Кембриджского университета Александр Сергеевич Лanno-Данилевский (1863—1919) — заметная фигура в гуманитарной науке России. Все его творчество, по мнению коллег и учеников, было отмечено жаждой полноты и цельности, определенным научным максимализмом, а "его философствование всегда служило целям и интересам истории" (И.М.Гревс). Републикуемое в "Полисе" исследование российской государственной идеи как бы оборвано автором на правлении Анны Иоанновны, хотя впоследствии несколько раз, причем дважды при жизни самого Лаппо-Данилевского, радикально изменялось содержание этой идеи. Политолог АИ.Щербинин, во многом намеренно использовав принятое Лаппо-Данилевским соотношение исторического и логического, попытался в наиболее общем виде наметить очертания развития концепции российской государственности в XIX—XX вв. ИДЕЯ ГОСУДАРСТВА И ГЛАВНЕЙШИЕ МОМЕНТЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ В РОССИИ СО ВРЕМЕНИ СМУТЫ И ДО ЭПОХИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ "Голоса минувшего", 1914, № 12, с. 5-38. Републикуется в сокращении (1). А.С.Лаппо-Данилевский В сущности, идея государства отличается нормативным характером: она содержит понятие о том отношении, которое должно быть между государем и подданными, а не только понятие о принудительной власти, которую государство имеет над частными лицами (...) Эволюция идеи русского государства получила в то время направление, которое легко определить: в начале XVI века она была скорее религиозной, чем светской; в начале XVIII века она становится скорее светской, чем религиозной (...) Религиозная идея государства, сложившаяся в Византии, была уже несколько известна в Киеве в эпоху Владимира Св. и его преемников, но она утвердилась лишь в Москве, где многие обстоятельства содействовали ее развитию, в особенности те, которые в их совокупности вызвали падение Византийской империи и образование Московского государства, его единства и его независимости. Впрочем, при рассмотрении того значения, какое эти теории получили в последующее время, достаточно принять во внимание их принципы, не вдаваясь в изучение их генезиса, происходившего, вероятно, под влиянием старинных преданий, а также просительных посланий восточного духовенства, произведений и грамот некоторых писателей и князей из югославянских земель и т.п. В одной из таких теорий Филофей, старец Елеазарова монастыря, развивал мысль, которую митрополит Зосима уже высказал в 1492 году. Филофей формулировал свои взгляды с религиозно-провиденциалистической точки зрения, основанной на Св.Писании: все его послания проникнуты идеей Промысла, благодаря которому все, что ни случается в мире, происходит лишь по воле Божией и на благо человечества. С такой именно точки зрения, подкрепленной аллегорическими толкованиями Апокалипсиса, Филофей и писал свои послания к великому князю Василию III и к царю Ивану Васильевичу. В них он предлагает так же, как и в своем послании к дьяку Мунехину, учение о предначертанном Промыслом перемещении центра христианства из Рима в Византию и из Византии в Москву, где он окончательно утвердился, и излагает свои размышления о провиденциальной миссии этого нового очага православного мира. Филофей выводит из нее предопределенную историческую роль Московского государства как центра различных царств православного Востока; прерогативы избранника Божьего — царя, самодержавного представителя власти, хранителя и защитника православных традиций; его обязанности и его права относительно подданных и т.п. Теория Филофея не лишена была некоторой широты: с православной точки зрения ее можно прилагать и к международным, и к внутренним отношениям; но она не содержала развитого учения о принципах управления и подданства, получивших дальнейшее обоснование в более специальных доктринах. В числе таких теорий учение Иосифа Санина, например, основанное на строго православных началах и отражавшее несколько византийских идей, признавало царя Божиим избранником и верховным блюстителем православия и выводило отсюда его обязанности и права, а также и его ответственность перед Богом. Игумен Волоколамского монастыря уподоблял власть царя Божьей власти и повиновение ему подданных той покорности, какую люди оказывают Богу или с какою они подчиняются монастырским уставам; в доказательство своих положений он ссылался на византийских императоров, в особенности на Константина и Юстиниана. Другая теория, менее строгая, была развита Максимом Греком: она касалась справедливости или правды, главным образом, в области суда. Подобно Фоме Аквинскому, Максим Грек отличает богословские добродетели от моральных и ставит во главе последних справедливость или правду. Хотя Максим Грек не дает точного определения своего понятия о правде, которую он рассматривает то с религиозной и метафизической, то с нравственной точки зрения, он выводит из него обязанности и права государя, особенно в области суда: государь должен соблюдать правду и защищать ее на суде, что и ведет к водворению "мира" в государстве и "крепости", оберегающей его от внешних врагов. "Праведный" государь "сущего надо всеми Бога имать невидимо соустрояюща себе и соправяща сие земское царство", что и придает его власти сверхъестественное значение и нравственную силу, а также предоставляет ему право требовать от своих подданных безусловного повиновения. Теория Филофея, а также учения Иосифа Санина и Максима Грека, которые они высказывали, впрочем, не без некоторых ограничений, долго пользовались большою популярностью среди московских книжников: сам царь Иоанн Грозный многое почерпнул из их рассуждений. Хотя эти взгляды подверглись некоторому развитию и кое в чем изменились в следующее время, но они не были заменены какими-либо новыми учениями. Иван Пересветов, например, дал, конечно, иное понятие о "грозной" власти государя над его подданными и уже указал, подобно Остророгу, на некоторые задачи, которые предстояло решить государству в новое время: он признавал значение правила: "комуждо по делом его" и необходимость писаных законов; он стоял за выслугу и предлагал "пооброчить судей из казны жалованием"; он настаивал на организации финансов и войска. Несмотря на большое практическое значение таких идей, проекты Пересветова не получили той известности, какой пользовались теории Филофея и его преемников: они господствовали в XVI веке и перешли в XVII, что, впрочем, не помешало водворению, наряду с ними, и официального учения о более самостоятельном значении православного московского царства, развитого в известных сказаниях о том, что Русь приняла православие от апостола Андрея, а не из Византии, что московские государи сами происходят от царского корня, а именно от Пруса, брата римского кесаря Августа и т.д.; эти политические фикции были также использованы царем Иваном Грозным и перешли в некоторые официальные акты позднейшего времени. Вышеизложенные православные учения о государстве давали, впрочем, лишь трансцендентную идею об отношении между государем и подданными; они подверглись, сверх того,некоторым ограничениям со стороны ревностных приверженцев церкви, которые высоко ставили духовный авторитет и требовали, чтобы царь повиновался увещаниям его представителей;они, в сущности, не согласовались с записями, которые московские цари давали боярам вСмутное время; они не предвидели той роли, какую земские соборы должны были сыграть вначале XVII столетия. В Смутное время русские люди, правда, почувствовали то различие, которое существует между государством и формой правления; но они полагали, что Московское государство может сохранить свое единство и свои силы, лишь оставшись верным традиционным формам управления: царь Михаил Федорович нашел поддержку в земских соборах для того, чтобы восстановить порядок в стране, и старинные теории продолжали пользоваться в ней некоторою популярностью даже во второй половине XVII столетия. Царь Алексей Михайлович, например, охотно обращался к этим учениям, вызвавшим в то время критику Крижанича, хотя и подчинился известному постановлению церковного собора 1667 года: оно сохранило за царем верховный авторитет в государственных делах, предоставляя его патриарху в делах церковных. Впрочем, после низложения Никона такое раздвоение власти не могло продолжаться: оно грозило государственному единству и было окончательно упразднено Петром Великим (...). В Московском государстве переходного времени, предшествовавшего эпохе преобразований, наряду с теориями о православном государе стали прививаться и те учения, которые исходили из среды иезуитских коллегий: они распространялись в России благодаря схоластике и тому покровительству, какое сам царь Алексей Михайлович оказывал его представителям. Как замечено было выше, православная вера не воспрещала пользоваться латинской схоластикой, и ее стали употреблять в Киеве прежде всего для защиты прав православной церкви; между тем, латинская схоластика, пересаженная из польских иезуитских коллегий в Киеве, а из Киева в Москву, содержала несколько принципов морали и права, которые таким образом и проникли в среду московских книжников. В сущности, эти принципы восходили к доктрине Фомы Аквинского, а через его посредство — и к некоторым учениям Аристотеля; они характеризовали в Москве переход от религиозной идеи к светской идее государства (...). Теоретическое обоснование этой идеи, в сущности, опиралось на естественное право, но оно несколько утвердилось лишь благодаря некоторой секуляризации, тесно связанной с доктриной государственного интереса и обнаружившейся в полицейском государстве Петра Великого (...). Впрочем, утилитарная идея государства прошла в России несколько стадий развития, прежде чем приобрела свойственный ей светский и политический характер. В самом деле в XVII и в начале XVIII века можно указать несколько смешанных доктрин, отличавшихся православным и вместе с тем утилитарным характером; таковы, например, воззрения Ордина Нащокина и Посошкова. Ордин Нащокин, выдающийся государственный деятель времен Алексея Михайловича, придерживался довольно разнородных взглядов: он пытался комбинировать понятия о Москве — центре православного мира и о правде с понятием о государственном деле, которое он отождествляет с государственною пользою ("государственными делами"). С такой утилитарной, а не только религиозной точки зрения, Ордин Нащокин предпочитал монархию республиканскому строю, порождающему всяческие заблуждения и возмущения; с той же точки зрения он смотрел на отношения государя к подданным, требовал большей самостоятельности для подчиненных властей и более инициативы в городском самоуправлении, рекомендовал введение некоторых европейских учреждений и т.п. Не один Ордин Нащокин высказывал подобного рода идеи: аналогичное смешение разных начал можно заметить и в известных трудах Посошкова. В то время доктрина государственного интереса начинала, однако, обособляться от других. Виниус, которому, может быть, принадлежит составление любопытного проекта об общественном призрении в России, излагает здесь некоторые из ее элементов: с точки зрения "прибыли великого государя", которую автор понимает, главным образом, в меркантильном смысле, и общенародной пользы, он требует, чтобы подданные учились и работали, дабы они "туне хлеба не ели". Вообще, в этом проекте выражены мысли, которые развивал и Петр Великий: он хорошо усвоил себе такое же утилитарное понимание государства и много содействовал его утверждению в России. Петр Великий, разумеется, не мог порвать с старинными московскими традициями: в своих указах и других документах он ссылается на теории о православном царе и о православном государстве, а также рассуждает о правде, особенно в приложении ее к юстиции; но всего чаще он выдвигает идею светского и утилитарного характера, а именно понятие о государственном интересе. В самом деле, Петр Великий полагал в основу своей политики понятие о государственном интересе, тесно связанное с понятием о "полиции" в широком смысле, не отожествляя, однако, понятие о ней с более узким понятием о "рации стата". Идея полицейского государства, затронутая предшественником полицеистов XVIII века — Секкендорфом, наглядно обнаружилась в абсолютной монархии Людовика XIV и осуществлялась на практике Кольбером; она стала развиваться и в прусском "Polizeistaat'e" в особенности после указа короля Фридриха Вильгельма I от 2 июня 1713 года; она была уже несколько знакома и русским государственным деятелям XVII столетия. Естественно, что при таких условиях Петр Великий познакомился с утилитарной идеей о государстве скорее из практики чем из теории: он положил ее в основу своей системы и ссылался на этот принцип, соответствовавший его деятельной природе и его стремлениям к преобразованиям, для того, чтобы мотивировать большинство из них. Петр Великий не различал пользу государя от пользы государства и отождествлял эти понятия с понятиями об интересе государя и государства. Главный регламент выясняет, например, что следует разуметь под этим термином: интерес есть "прибыток и польза государя и государства". Согласно вышеуказанному принципу, Петр Великий признавал, что царь с его правительством должен заботиться о благосостоянии и населения, полезного государству; что ввиду общей пользы он должен издавать законы, управлять и водворять благоустройство в своем государстве, а также оберегать и судить своих подданных; что, вместе с тем, приказания, исходящие от него и опирающиеся на ту власть, какою он располагает относительно своих подданных, становятся тем более обязательны для всего населения, так как они провозглашаются во имя того же принципа, и что, значит, подданные должны беспрекословно повиноваться им. Впрочем, усиливая традиционную власть московских самодержцев, которой он имел возможность пользоваться без всяких стеснений, Петр Великий не мог признать интерес государства юридическим принципом его устройства; истолковывая его в том смысле, в каком он сам понимал его, он, в сущности, превращал его в правило своей политики; во имя государственного интереса и подчиненного ему общего блага царь устанавливал свои отношения к подданным, даже в мелочах их частной жизни. Впрочем, питая интерес скорее к протестантской, чем к католической культуре, Петр Великий сам благоприятствовал распространению некоторых понятий о естественном праве, в составе которого можно было, конечно, найти и несколько элементов, пригодных для образования юридического понятия о государстве: он повелел, например, перевести на русский язык маленький трактат Пуфендорфа об обязанностях человека и гражданина и содействовал распространению некоторых идей Гоббса, согласных с его политическими целями. Один из сотрудников Петра Великого, киевский губернатор кн. Д.М.Голицын, организовал даже целую серию работ, состоявших в переводах главнейших произведений по части естественного права и политики. Феофан Прокопович принимал участие в этих работах вместе с некоторыми из воспитанников Киевской Академии. Благодаря этой организации, знаменитые трактаты Греция, Пуфендорфа, Локка и других политических писателей XVII и XVIII вв. появились в русских переводах. Эти переводы не всегда полны: в них встречаются пропуски или сокращения, сделанные, однако, не без некоторого соответствия с той целью, какую переводчики предлагали себе, а именно — дать общее обозрение той, а не иной доктрины (...) Предварительная заметка, находящаяся во главе русского перевода опыта Локка о гражданском правлении, представляет некоторый интерес для выяснения того, что разумели тогда под естественным правом: она содержит рассуждения о том, что каждый обязан знать те. принципы, согласно которым он должен жить в гражданском обществе в соответствии с естественными законами. Согласно традиционной схеме автор записки считает нужным различать несколько родов гражданских отношений, а именно: отношения между мужем и женой, между родителями и детьми, между господами и рабами и, наконец, между несколькими семьями, живущими вместе и подчиненными одному и тому же закону; он замечает, что многие авторы писали об этом предмете, но новейшие из них лучше обработали его, чем древние, так как выяснили и обосновали принципы морали и гражданской жизни. Греции и Пуфендорф стоят во главе их; многие другие последовали за ними, но в своих мнениях не вполне согласны друг с другом; все они признают, однако, обязанности, какие каждый имеет относительно самого себя и других, за основание морали и гражданской жизни. Составитель записки выясняет далее, что обязанности каждого относительно самого себя опираются на принцип: "познай самого себя"; а обязанности каждого относительно других основаны на положении: "не делай того, чего ты не хотел бы, чтоб тебе делали". Таким образом, выяснив, в чем мнения писателей согласны между собой, сочинитель предисловия переходит к рассмотрению тех различий, которые обнаруживаются в рассуждениях об установлении гражданского общества, о его законах и правителях: в самом деле, одни полагают, что люди были принуждены подчиниться наиболее сильному и жить, согласно предписанным им законам, для того, чтобы избавиться от нападений и гибели; другие думают, что люди самопроизвольно образовали общества, ввиду общей пользы и спокойствия, для сохранения своей свободы, собственности и жизни от всяких нападений и насилий, для чего они, по общему согласию, выработали себе законы и избрали себе хранителя их, обязанного жить согласно с ними и лишенного власти над свободою, жизнью и собственностью граждан; третьи, наконец, приходят к заключению, что люди, собравшиеся ввиду этих целей, представили хранение установленных ими законов не одному человеку, а нескольким, так как один человек более склонен ошибаться, чем многие. Итак, естественное право стало распространяться в России в начале XVIII столетия в виде двух различных учений: Петр Великий и его сотрудник Феофан Прокопович особенно высоко ставили теорию Гоббса, которую легко было приспособить к самодержавной власти царя; князь Д.М .Голицын и В.Н.Татищев предпочли теорию Греция и его последователей и воспользовались ею, впрочем, с довольно различных точек зрения, в проектах 1730 года (2). Петр Великий и Феофан Прокопович изложили свою доктрину, главным образом, в трактате, озаглавленном "О правде воли монаршей в определении наследника державы своей". Принципы этого трактата основаны на "слове Божьем", раскрытом в текстах Священного писания и на "разуме естественном", преимущественно в том его истолковании, какое было предложено Гоббсом. Влияние последнего легко заметить, например, в рассуждении о происхождении самодержавной власти, установленной от Бога: "сама наследная монархия, по словам его составителя, имеет начало от первого в сем или оном народе согласия, всегда и везде по воле своей, премудро действующу смотрению Божию"; при учреждении наследной монархии народ "воли общей своей совлекается" и отдает ее монарху своему для того, чтобы он владел им "к общей пользе", причем обязуется "аще и не словом, но делом", "единожды воли своей совлекшися", никогда не употреблять ее и повиноваться монарху и его наследникам "во веки". Облеченный такою верховною властью, абсолютный монарх ответственен лишь перед Богом; он не подчинен законам, которые он дает своим подданным, и исполняет их без принуждения, но по доброй своей воле; и даже, в случае нарушения их, он не может подлежать суду своих подданных, если только он не был избран под условием соблюдать некоторые ограничительные статьи, на которые он явно изъявил свое согласие. Так как русский монарх наделен абсолютной властью, которая не была ограничена, то "Правда воли монаршей" приписывает ему "Summam potestatem", которую Феофан Прокопович определяет, согласно формуле Гроция, как такую, "деяния которой ничьей власти не подлежат, так чтобы они могли быть уничтожены изволением другого человека". В формуле автократизма, которую дают воинские артикулы и морской устав Петра Великого, можно найти сходные элементы, выраженные в форме известного постановления шведского риксдага 1693 года. Впрочем, русская формула дает не вполне буквальное воспроизведение шведской: наши уставы провозглашают, что русский монарх имеет силу и власть управлять по своей "воле и благомнению", тогда как постановление риксдага говорит о том, что шведский король имеет силу и власть облагать своих подданных и правит своим государством по своему усмотрению ("efter sit behag"). Составители вышеприведенной формулы могли разуметь под термином "благомнение" или общее проявление власти "христианского" монарха, или несколько более определенное понятие, сходное с тем, какое уже формулировали некоторые из авторитетных писателей того времени. В самом деле, Гоббс, например, признавал, что государь может пользоваться своею властью так, как он это считает наиболее подходящим для сохранения мира и общей безопасности; да и Пуфендорф выражал аналогичную идею, когда говорил, что монарх располагает абсолютной властью, благодаря которой он может управлять, согласно собственному своему разумению... в той мере, в какой современное положение дел того требует. Между тем, с такой именно точки зрения Петр Великий и мог связать теорию абсолютной власти монарха с учением о государственном интересе. Легко было бы вывести из только что приведенных положений несколько дальнейших заключений касательно прерогатив монарха, подчинения церкви государству, а также подчинения самодержавной власти учреждений, которые могли бы стеснять ее, т.е. боярской думы, земских соборов и т.п.; но здесь нет возможности подвергнуть такие выводы более подробному рассмотрению. Впрочем, кроме прав монарха, включенных в вышеприведенную формулу, надлежало разъяснить и его обязанности. "Правда воли монаршей" выводит последние из законов, начертанных "Творцом в душах людей", что и давало возможность возводить их к законам естественным; регламенты же и указы связывают их скорее с утилитарным понятием о государстве. С такой точки зрения, основываясь на естественном богословии, и в особенности на утилитарной политике, можно было выработать понятие о монархе как о первом слуге государства. Петр Великий довольно ясно выразил эту мысль, заявив, что "для общей государственной пользы он персоны своей не щадит". В силу аналогичных принципов, Петр Великий рассуждал и о правах и обязанностях своих подданных: государство представляет им права, из которых кое-какие восходят даже к "естественному закону", а большая часть соответствует тем услугам, какие они оказывают государству; ведь они должны беспрекословно служить на благо государству; они становятся его слугами, т.е. в сущности, слугами государя, представляющего государство, и ответственны перед ним. Такое же смешение рационалистических и утилитарных идей можно заметить и в некоторых других понятиях, усвоенных Петром Великим, например, в начале законности. Понятие о "разумном порядке", может быть, оказало некоторое влияние и на тот принцип законности, который Петру Великому не удалось, однако, систематически развить в цельном своде законов: он производил некоторое различие между вечными законами и временными, между управлением и судом, между различными органами администрации и т.п.; но учение о государственном интересе придавало еще большую силу этому принципу: "нет ничего более необходимого для государственною управления", говорил Петр Великий, как соблюдение законов; в соответствии с такой именно утилитарной доктриной он провозглашал необходимость своей системы фискального надзора и административной юстиции, которую он начинал отличать от суда, ведавшего частные обиды. Тот же принцип законности, очевидно, требовал обязательного соблюдения законов всеми частными лицами, которые не могли отговариваться незнанием их. Впрочем, Петр Великий не был в состоянии вполне обосновать свой принцип законности: как самодержавный монарх, он имел возможность всегда вмешиваться во все дела и подвергать давлению своего бюрократического режима всех частных лиц. Вышеуказанный принцип мог получить более самостоятельное значение лишь в области юстиции. Известное "изображение" судебного процесса, составленное под влиянием саксонского кодекса, ссылается даже на естественное право как на его основание, ибо, согласно естественному закону, каждый имеет право на самосохранение и на самозащиту от посягательств сторонних лиц; но этот принцип не получил здесь дальнейшего развития, например, в его приложении к понятию о собственности. Утилитарная доктрина полицейского государства предоставляла большую самостоятельность юстиции: царь предпочитал давать общие правила судам, чем вмешиваться в обсуждение частных случаев, которые они должны были решать согласно этим правилам; но, признавая все, что вредно государству, преступлением, он давал возможность применять утилитарную и политическую точку зрения и к уголовному судопроизводству; в конце концов он оставался для многих случаев верховной инстанцией, например, в своей тайной канцелярии, и всегда мог подвергнуть собственному своему суду все, что он считал нужным, и решать дела, согласно с теми политическими целями, которые он признавал наиболее подходящими для государства. Впрочем, принцип законности в области суда несколько обеспечивал неприкосновенность личности и имущества, а также право ее "защищаться от чужих посягательств", но с теми ограничениями, вышеуказанным политическим режимом. какие сами собою предполагались Итак, учение о государстве, основанное на естественном праве Гоббса, заключало в себе существенный пробел, который его приверженцам не удавалось заполнить понятиями, выведенными из утилитарной идеи о государстве: эта теория не устанавливала того правоотношения между государем и подданными, которое Гроций уже предпосылал в своих рассуждениях о "corpus voluntate contractum", и которое его последователи попытались выяснить в своих трактатах. С большим вниманием отнеслись к этому понятию некоторые из русских политиков, придерживавшиеся другого направления: кн. Д.М.Голицын и В.Н.Татищев воспользовались им в своих проектах конституции 1730 года, хотя и придавали ему различный смысл. Голицын стал заниматься изучением естественного права лишь после довольно продолжительного предварительного ознакомления с трудами других писателей, идеи которых нет возможности подвергнуть здесь подробному рассмотрению: во время пребывания своего в Италии он мог несколько ознакомиться с некоторыми взглядами Макиавелли, Паруты и Боккалини, сочинения которых могли быть доступны ему в оригиналах, и с некоторыми традициями венецианского "совета десяти"; но он заинтересовался известными трактатами Гроция, Пуфендорфа и Локка скорее в Киеве и, может быть, не без влияния Феофана Прокоповича. [...] Голицын просматривал, например, перевод трактата Гроция, впрочем, неполный: некоторые тексты рукописи отмечены крестами, сделанными чернилами. Подобные же заметки встречаются и на полях рукописного перевода известного трактата Пуфендорфа, хотя и не оригинального, но все же систематически излагавшего учение о естественном праве. Этот перевод, сделанный не без некоторых сокращений, впрочем, довольно удачных, помечен крестами как раз в тех местах, которые могли интересовать такого человека и политика, каким был Голицын: поля седьмой книги, которая трактует о происхождении и об устройстве гражданских обществ и государств, о правах и обязанностях государя, о различных формах правления и о различных способах приобретения государственной власти, например, усеяны крестами. Впрочем, тексты, касающиеся учения о двух общих договорах, лежащих в основе гражданского общества, представляют любопытную особенность: крестами помечены не седьмой параграф, т.е. тот, который содержит рассуждения о соглашении, в какое каждый из граждан вступает с другими, а параграф восьмой, соответствующий седьмому параграфу перевода; последний трактует о "втором" договоре, т.е. о том, который возникает после того, как каждый согласился с остальными вступить всем вместе и навсегда в один цельный союз, и который состоит в том, что, по избрании одного или нескольких лиц, наделенных властью, они, с своей стороны, обязуются заботиться об общем благе, а остальные в то же время обещают оставаться их верноподданными. Теории Пуфендорфа об отличии между властью верховной и абсолютной, об ограниченной монархии, которую он связывал торжественными и честными обещаниями, какие государи делают, принимая на себя такую власть, об ограничительной клаузуле, согласно которой государь объявляется лишенным короны, если он преступает законы, об учреждении совета, без согласия которого государь не может действовать относительно предметов, распоряжение коих не предоставляется его устремлению, а также многие другие учреждения могли, конечно, интересовать Голицына; он был пропитан аристократическими традициями; он, вероятно, сочувствовал той роли, какую бояре, и в частности его предки, играли во время избрания Василия Шуйского и Михаила Романова; он стремился к власти, которую члены совета иногда захватывали, и готов был составить договор, который, по его мнению, Анна Иоанновна должна была заключить с народом, представленным верховным советом, причем он, вероятно, и снабдил его, в окончательной его редакции, "ограничительной статьею . Итак естественно предположить, что теория, подобная известному учению Пуфендорфа о "втором договоре", а не доктрина о народном верховенстве и законодательной власти Локка, трактат которого также был переведен для Голицына, оказали некоторое влияние на проект конституции 1730 года. Впрочем вышеизложенную теорию можно было приложить к изучению не одного только происхождения общества, но и такого междуцарствия, какое предшествовало избранию Анны Иоанновны в 1730 г.: в самом деле, Голицын хотел доказать членам верховного совета, собравшимся в ночь с 18 на 19 января, что наступило междуцарствие. В своих проектах Голицын не говорит о первом договоре: он и не имел намерения созывать народное собрание для того, чтобы установить форму правления, а ограничился тем, что, вероятно призывал совет верховников, подобно совету курфюрстов Германской империи, представляющим народ русский. Во всяком случае статьи 1730 года были выработаны советом (при участии трех лиц, которые не принадлежали к его составу), и высшие государственные сословия были вызваны лишь для того, чтобы решить вопрос, следовало ли вручить власть Анне Иоанновне. Тем не менее Голицын полагал, что предполагаемое соглашение между Анной Иоанновной и всеми государственными сословиями должно быть облечено в форму договора. Этот договор сводился к торжественному и особому обещанию государыни соблюдать статьи, которые ограничивали ее монархическую власть между прочим, и "ограничительную клаузулу" и обещания сословий быть ее верноподданными. Этот договор должен был быть укреплен двумя соответствующими актами: кондициями, подписанными Анной Иоанновной, и присягой (в шестнадцати статьях), принесенной ее подданными [...] Итак на основании по крайней мере отчасти усвоенной им юридической идеи о государственном договоре Голицын и выработал те кондиции_1730 года, которыми он хотел воспользоваться для осуществления своих политических целей. Впрочем, теория Голицына могла вызвать существенные возражения: он исходил из предположения, что верховный тайный совет представлял собою народ; но это положение требовало доказательств, а шляхетство, собравшееся в Москве для того, чтобы принять участие в праздненствах по случаю бракосочетания Петра II, не хотело принять его на веру; оно опасалось олигархии верховников, и не могло питать доверие к Голицыну, несмотря на некоторые уступки, которые он вынужден был сделать ему. Один из наиболее просвещенных противников Голицына—известный Татищев попытался доказать на основании разума и естественного права основную ошибку теории своего политического противника. Татищев был несколько более систематически знаком с естественным правом, чем Голи-цын: он знал принципы, установленные Гроцием и Пуфендорфом, и сверх того усвоил себе несколько идей Вольфа Томазия, причем мог читать и немецкие их трактаты в подлинниках. Возводя к Творцу людей врожденный им естественный закон, Татищев почерпает, например, основной свой принцип — разумную любовь к самому себе и некоторые его приложения, главным образом, из доктрины Томазия, изложенной Вальхом. Вообще Татищев отличает естественное право от гражданского закона, которому оно должно служить основанием, рассуждает о "главном обществе", "состоящем из власти и подданных", и о договоре, который имеет место между людьми для его образования; впрочем, он лишь слегка касается того "общественного согласия", в силу которого "многие" устанавливают известную форму правления ввиду "общего блага" "для защищения своего от нападения сильного" и упоминает о нем, например, в своих рассуждениях о переменах, каким правление подвергается в течение своего исторического развития, в замечаниях о правильных и неправильных, а также о смешанных его формах и т.п.; но в записке, составленной им в 1730 году, вероятно, не без влияния шведской "формы правления" 1720 года, он основывается, подобно Голицыну, на учении о "втором договоре", т.е. о том, который возникает между государем и его подданными; несколько строже, однако, прилагая его к данному случаю, он приходит к другим заключениям. В своей записке о государственном правлении Татищев рассуждает о том, что "мы присягаем в верности и послушанием обязываемся избранному или наследством престол приявшему государю" и "уступаем" ему по его смерть законодательную власть; значит, если монарх умирает, не оставив наследника, кончина его освобождает подданных от их присяги; в таком случае, следовательно, верховная власть возвращается обществу, которое только и может, по своему соизволению, "переменить закон или порядок", а граждане становятся равными в отношении друг к другу, так же, как и в естественном состоянии. Смерть государя прекращает и полномочия посредствующих властей: пока новый государь не подтвердит прежние или не установит новые, никто не имеет власти над другими. Так как государство, однако, не может существовать без правительства, даже в течение краткого промежутка времени, общество предоставляет своим органам власть, которой каждый из них располагал, согласно предшествовавшим законам; но без явно выраженной воли общества эти органы не могут присвоить себе высшей власти и, значит, не могут пользоваться властью законодательной, которую она уступает лишь государю. Ввиду подобного рода соображений, Татищев приходит к заключению, что только общество, представленное — частью непосредственно своими членами, частью выборными, — согласно естественному закону, избирает себе государя, что совет верховников не имел права самовольно обнародовать закон касательно государственного устройства и ограничивать абсолютную монархию кондициями, и что, значит, составление их четырьмя или пятью лицами нельзя не признать актом произвола. Впрочем, Татищев не возражал против избрания Анны Иоанновны: он даже мог подыскать некоторые основания для того решения, какое приняли государственные сословия и которое никто не оспаривал. В самом деле естественное право допускало в таких случаях возможность молчаливого согласия общества, и Татищев, надо думать, имел в виду нечто подобное, когда говорил, что никто не оспаривает избрания Анны Иоанновны. Таким образом, Татищев принимал ее избрание, но он возражал против ограничительных статей Голицына и противопоставлял им свой проект созыва учредительного собрания представителей от шляхетства. Татищев обнаружил в нем, однако, предпочтение монархии, как форме правления, наиболее полезной для России, и высказался, главным образом, в пользу расширения политических прав шляхетства, которое должно было, по крайней мере, отчасти и временно ["доколе нам Всевышний мужскую персону и престол дарует"] принять участие в "сочинении" законов и верховном управлении страною, а также получить значительные привилегии. В прениях, возникших по поводу проекта и, в особенности, касательно выгод или невыгод монархической формы правления, Татищев продолжал, однако, настаивать на повиновении подданных своему монарху, даже "несмысленному", если, говорил он, на престоле окажется такой государь, который "ни сам пользы не разумеет, ни совета мудрых не принимает и вред производит, то можно принять за божеское наказание". Вообще проект Татищева, заслуживающий одобрение многих из представителей шляхетства, показывает, однако, что он делал в сущности такую же ошибку, какую он усматривал в плане Голицына: для того чтобы правильно пользоваться учением о договоре, ему надо было доказать, что шляхетство имело право представлять собою все общество и точнее определить статьи договора. Оба публициста, как видно, приспособляли, каждый по своему, естественное право кдостижению своих политических целей и пытались оправдать их этой теорией: они были почтичужды идеи народного суверенитета и хотели воспользоваться понятием о "втором договоре"лишь в довольно узких пределах, намеченных ими согласно с интересами руководящих классовобщества; тем не менее, они уже усвоили себе юридическую идею государства и понималиотношения между государем и подданными, по крайней мере в теорий, как договор, имманентный государству. Таким образом, припоминая историю государства в России за вышеуказанный период времени, можно придти к заключению, что она уже стала обнаруживать некоторое развитие. В эпоху преобразований история этой идеи в России, правда, еще не получила характера непрерывной и прогрессивной эволюции: звенья этой цепи почти не входили друг в друга; каждое из них скорее зависело от общего и соответствующего движения европейских идей, чем от предшествующего ему звена, и лишь довольно слабо определяло следующее за ним звено. Эта эволюция была, значит, не непрерывной, а иногда даже довольно случайной, без достаточно ясно выраженного индивидуального характера; но все же она была развитием и даже своего рода прогрессом. В самом деле, идея отношения между государем и подданными, слагавшаяся в России в эпоху преобразований, подверглась некоторым изменениям, которые свидетельствуют о том, что русские люди того времени уже начинали представлять себе это отношение имманентным, а не трансцендентным государству и почерпали элементы такого понятия из естественного права; что они интересовались преимущественно учением о договоре и могли уже судить о том, что он должен быть, о его формальной ценности и юридическом значении, а не только об его реальном содержании и его утилитарной цели; и несмотря на самодержавный режим, получивший дальнейшие свои определения в уставах и регламентах того времени, некоторые из наших политиков уже пытались осуществить эту идею на практике, впрочем, с разного рода ограничениями и непоследовательностями, которые дискредитировали самую теорию и тем легче вызывали решительное противодействие со стороны их противников. 1. Очерк написан на основе научного доклада, с которым А.С.Лаппо-Данилевский выступил в 1913 г. на Международном историческом конгрессе в Лондоне. Более полное представление о поэтапном исследовании государственной идеи в России читатель может получить из репринта труда Лаппо-Данилев-ского "История русской общественной мысли и культуры XVII—XVIII вв." (М., 1990). См. также: Пресняков А.Е. Александр Сергеевич Лаппо-Дапилевский. Пб., 1922. 2. См. об этом подробнее в историко-публицистическом очерке: Янов А. Драма смутного времени (Дело 1730года). — "Полис", 1994, № 1. — (Ред.). Публикация А.И. Щербинина.