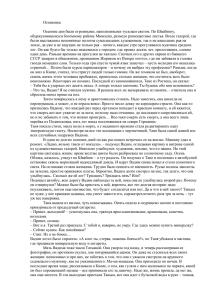ПОВЕСТЬ О ТАНЬКЕ Воспоминания детства Они не слышат
реклама

ПОВЕСТЬ О ТАНЬКЕ Воспоминания детства Они не слышат. Они ничего не слышат. Танькина мать, красная, в разорванном халате, бежит, и горлышко бутылки щерится в ее руке. - Не подходи! – кричит она, выбегая на балкон. Хлопает дверь, стекла, звеня, опадают, а она стоит на балконе, размахивая горлышком бутылки. Дядька, пошатываясь, идет на нее, прищурив левый глаз. - Не подходи! – кричит мать, перегибаясь через перила. – Я тебе не позволю, не позволю… - Сама принесешь, - цедит он, отворачивается и уходит. - Я тебя посажу, посажу! В записке все рассказано, все рассказано! - Дура, ни одна экспертиза не докажет, - доносится издалека. - А вот и докажет! – и мать резко переваливается через перила. - Ты смотри, и правда кинулась… Дядька смотрит вниз, потом говорит спокойно и трезво: - Пойду за милицией. Танька прокралась к балкону. Тихо и мокро. Там, внизу, на асфальте, пятно. Две бабки и дед в фуфайке долго размахивали руками, потом разошлись. Подъехала белая машина и милицейская с мигалкой. Люди в халатах и без халатов, с погонами и без погон заходили в комнату, дядька что-то долго объяснял, потом достали простыню, что-то в нее завернули и уехали. Хочется есть. На столе остались раздавленные помидоры и хлеб мокрый. А дядька все сидит посередине комнаты. - Нихрена себе, - бормочет он, мотая головой, и громко хлопает дверью. Тихо. Голая лампочка качается под потолком. Шевелятся оборванные обои. Есть хочется, глаз слипаются. Все путается: хлеб мокрый, а мать бросилась; хлеб бросился, а мать мокрая… - Танька, пошли, - вдруг услышала она голос. – Ну его нахрен, это чмо болотное. И они вышли из квартиры в город – Танька в ночнухе и мать в разорванном халате. - Идем, идем… Квартиру снимем. Они сели в трамвай. Трамвай громыхал, как гром, ветки хлестали по его стеклам. Они прижались друг к другу, чтобы согреться, но только тепло, чуть появившись, куда-то уходило. - А куда мы? – спросила Танька. - Ничего, ничего, все хорошо, - сказала мать и помахала кому-то рукой с красным лаком на грязных ногтях. Они вышли на конечной остановке. Гроза утихла, и жирная луна плавала в лужах. Они долго шли под луной между маленькими приземистыми домиками, а потом по длинной низкой тропинке через кукурузное поле. Несколько раз Танька теряла мать из виду, пока не кончилась ночь, и они неожиданно оказались в центре города, возле платного туалета. - Вот здесь мы и будем жить, - сказала мать и встала в очередь. Очередь тянулась вдоль длинной лестницы, и мать уходила все вперед и вперед, а вокруг Таньки толкались, рвались, не пускали ее, и какая-то тетка вцепилась ей в волосы и закричала, что она лезет не в свою очередь, и вынырнув из очередного водоворота, Танька совсем потеряла мать и в отчаянье бросилась туда, в черную дыру. - Мать твою за ногу, - остановил ее голос. – А кто деньги платить будет? - Ну и ладно, - сказала Танька. – За ногу – так за ногу. … Она проснулась. Хотелось есть. Горела лампочка. С балкона тянуло сквозняком. Сочинение. Пралюбофь. На асфальти лижал арбус. Это я ево опустила, когда увидила тибя. И он расбился. А жалко. Можно было сесть. А потом седела в бисетки. Седела с твоей кампанией и ждала тибя. Но они смиялись. Говорили я вшивая и искали у миня вошей. Ничево не нашли но обарзели и поткрутили мне руки. И цыпочку сняли. Потом скозали вот едет твой Славик. Я пошла а их уже нигде. Смылись. Я их искала по подъездам, за горажами и на дескотеки. Нигде нибыло. Пошла на улицу. Видила пьяных дядек и карявых тетек, только ни тебя. А адин сказал, девочка, можна тибя провести? И провел. Но я вырвалась и побижала на химзавот. Там я их и нашла на химзавоте. Сидели и балывались. И стали смиятся что у миня плате разорвато. А я сказала чтоп вас так разорвало. А ани сказали получиш по тычке. И дали по тычки сколько нибуть рас. А вошей не нашли потамушта темно… Я лишала на химзавоте и думала про тибя. Как ты с дефками цилуешся пот фанарем. Фанарь светет, а ты стаиш в черной рубашички, с гласками, с гупками и сручками красивыми . Ани пришли апять и цыпляюца до миня. А я ждала кагда прийдеш ты и даш им всем па морде. Ты пришел сказал пустити миня, я тоже хачу. …Дописав сочинение, Танька легла в постель. Ей приснился автобус, длинный, тряский, набитый битком. Он едет по чужой стране, и за окном начинается утро. И маленькие чужие домики с крышами набекрень… Серая мышь. Ад был длинным, как асфальт, как больница или нарсуд. В узких коридорах воняло вечным ремонтом. - Где он? – спрашивала я. - У себя. Вот и комната в конце коридора. Дядька, веселый и потный, в пижаме с полковничьими погонами, улыбается в дверях. - Явилась, не запылилась?! – кричит он. – Где мое маслице? - Я не знала…Я в следующий раз… - Ты, дура… зачем тогда приходишь? - Проведать … - Радости мне от твоего проведывания, если без масла жопа к сковороде прилипает! – орет он мне в ухо и тут же всхлипывает. – Знаешь, как больно… - А как вас тут кормят? - Регулярно. Олово надоело, а алюминий редко бывает… - Почему? - Тугоплавкий он. Пока расплавят… - А тебя в какое отделение определили? - В стационар. - Это как? - Сажают и едешь. А потом разрезают и опять зашивают. Если кто хочет амбулаторно, то приезжает со своими ножницами. Но колоться запрещают и шило не дают. - А развлечения есть? - Конечно. Выполнишь дневную норму – и на зубной гармошке играешь. - Как – на зубной? - Губы срежут, зубы вставят – и играешь. И, щелкнув себя подтяжками по оттопыренному животу, он сунул чтото в рот и заиграл. Что-то заскрежетало, зацокало, защелкало, запищало. Танька проснулась и поняла, что праздник продолжается, гудит, верещит и бьет копытами. Медленно, но верно она стала приходить в себя. Вначале увидела, что из опрокинутой чекушки выливается «Пшеничная», и восстановила бутылку. Потом взяла косметичку и нарисовала себе выражение лица. Один фрайер спал, засунув голову под диван, а другой, высунувшись из окна, блевал на улицу и в перерывах кричал: - Я вас научу науку любить! Я вас научу…патриотизму. Врубившись, Танька стала гнать его от окна, но он брыкался, а потом сел в лужу посреди комнаты и запел: …И Ленин, такой молодой, И юный Октябрь впереди… Сидя на полу, Танька только головой качала, глядя на него. - Что ж вы делаете? - сказала она с чувством. – Прессу не читаете, в кино не ходите, только в носу ковыряете. - В этом есть своя правда, - отозвался фрайер из-под дивана. Говорил он, не высовывая головы, и от этого голос его звучал гулко, как из царства мертвых. - Пальцем в носу ковырять тоже нужно качественно, - включился в дискуссию сидевший в луже. - Сначала вращаешь по часовой стрелке, потом обратно, а потом углубляешься на полпальца, - бубнил голос из-под дивана. Почему-то она оказалась на площадке, скатилась по лестнице и, запихивая под пальто полы новой ночной рубашки, перешла через улицу и подалась в магазин. В магазине было пусто, в молочном отделе копошились люди, возле прилавка стояла в драбадан пьяная девка в разорванной от колен до пояса юбке. Танька ей посочувствовала и встала в очередь. Что-то зачесалось под лопаткой, зацарапалось, защипало, начало ползать, тыкаясь в спину мокрым и противным носом. Танька стала шарить по спине, поймала шевелящийся комок и бросила его на прилавок. Это была большая серая мышь. - Женщина, уберите вашу гадость, - заверещала продавщица. – У нас своих хватает. - Это серая, - сказала Танька. – Разрешается. Если белая – тогда конечно. И, развернувшись, пошла домой. Христос – твой лучший друг. Муж Таньки сгинул между спицами колеса обозрения. Он был еще, когда их вытурили из халабуды с игральными автоматами, и когда забирались на это самое колесо, все время плюхаясь мимо сидения, и вверх поехали тоже с ним – он еще плевал с высоты, пытался попасть хоть куданибудь. Но на втором или третьем круге он исчез бесследно. И Танька, вздохнув, сказала дочке: - Нет у нас больше папы. И вскинув голову, гордо добавила: - А мне – в облом. Был праздник – день шахтера. Из нор выползало предместье, по парку Горького колыхалась толпа, визжала музыка, перекатывались бумажки от мороженого. Дергая дочку за руку, Танька пошла впереди, а следом волочился муж. Вместе они трюхались на цепочной карусели, потом летали по кругу на самолете, потом еще на чем-то ехали и постоянно ухали вниз, а потом пришли на колесо обозрения, и тут он исчез. За покосившимся заборчиком звякал оркестрик. Толпа стояла вокруг, пересмеивалась. По танцплощадке прыгал, выламываясь, бритый и пьяный мужичок, весь в черном. И Танька запрыгала вместе с ним. А рядом дергался, истекая слюной, дебил с серебряными зубами. Но вдруг оркестр затих, и на эстраду стали выходить мелкими шажками озабоченные, тихие, как мышки, женщины в розовых платочках. - Церква пришла, - зашелестело в толпе. Длинный иссохший парень запикал на синтезаторе что-то умиротворяющее, а женщины сквозь зубы запели: Христос – твой лучший друг, Он с нами навсегда, Излечит твой недуг И не изменит никогда. Пока они пели, Танька успела смотаться за пирожками с капустой, а дочка между тем танцевала под пиканье синтезатора, поддергивая на впалом животе спадающую юбку. Потом выскочил ихний проповедник и, откинув прядь на лысину, закричал в микрофон: - Моисей в Египте претерпел семь казней египетских. Он все-таки добился своего и увел оттуда евреев. Это случилось потому, что он посоветовался с Богом. И Бог посоветовал Моисею увести евреев не просто так, а с женами, рабами и скотами, и их тогда оказалось так мн6ого, что Египет сразу же вымер. Так точно и мы призываем вас всегда и во всем, как Моисей, советоваться с Богом, и тогда мы вас поведем в Царство Его, как евреи своих жен, рабов и скотов. И, сделав широкий приглашающий жест, воскликнул: - Кто хочет служить Богу, прошу подняться ко мне. По шатким деревянным ступенькам к нему стали подниматься два подгулявших солдатика из ближней части, несколько помятых стариков и старушек, две тетки с кошелками, красные и торжественные, детвора. И Танькина дочка тоже потянулась за ними. Их пересчитали и поставили в круг, и женщины в розовых платочках закрыли их от толпы. - Вот! – крикнул в микрофон проповедник. – Эти люди открыли свои сердца Богу. Они, так сказать, пригласили Его к себе в гости. И Бог сейчас войдет в их сердце и решит все их проблемы. Он всегда теперь будет у них и все их проблемы порешает. А мы помолимся за них. Одну руку он возвел к небу, а другой крепко прижал ко рту микрофон. - Отче наш, - читал он, - существующий на небесах, пусть святится Имя Твое, пусть придет Царствие Твое… Женщины в розовых платках повторяли за ним, а высокий парень наигрывал на синтезаторе что-то расслабляюще-меланхолическое. Окончив молитву, пастор долго объяснял новообращенным, как найти их церковь и к кому обратиться за отпущением грехов. Дочка вернулась к Таньке и сказала: - Пойдем в гости к этому дядьке? - Да хоть прям счас, - ответила Танька. - Он сказал, что манкой небесной всех накормит, - задумчиво сказала дочка. И они пошли домой. Навстречу им шли грязно-пестрые цыганки, покуривая на ходу «ватру». Дома Танька посадила дочку в ванну и стала выводить вшей. Когда она заканчивала вытаскивать гнид, дочка вдруг сказала: - Давай, мама, молиться… - На фига? - Ну.. чтоб так не сидеть… а то скучно… - Да не помню я… - Ну, вспомни… - Ладно, хрен с тобой, повторяй. Отче наш, живущий на небесах… Опять тут все гнидами обсыпано… - Отче наш, живущий… пусть светится Имя Твое… пусть поскорей придет Царствие Твое… Ах ты, черт, опять пропустила целую кучу гнид… Вот… Вот… - Хлеб наш насущный подай нам… Живучая гнида, шевелится… И прости нам долги наши, как мы Тебя прощаем… Сейчас я их всех к ногтю, к ногтю…Чтоб знали, с кем имеют дело… И не введи нас во искушение… Снова заскрипела вошь. Дочка так и заснула на подгнившем трапике ванной, обернутая дырявым полотенцем. Тут вошел пропавший Танькин муж, не очень пьяный. - Обовшивела? – сказал он, кивнув на дочку. И взяв ее на руки, осторожно отнес на кровать, прикрыв истертым халатом. - А церкви там никакой нет, - сказал он Таньке. - Почему? - А хрен его знает. И лег спать. Ушибленная рана. Кровавые бинты извивались на полу вместе с огромным куском ваты, тяжелым, пропитанным кровью, похожим на содранное заживо мясо. Кровь текла по лицу, заливала рубашку, просачивалась сквозь пальцы и капала на пол. И они пошли в травмпункт. Ночная жизнь клубилась по закоулкам, выдавая себя лишь пронзительным свистом и стуком последнего трамвая. Они долго шли в темноте, спускались по крутым железным лестницам и переходили по деревянному мостику с вырванными досками какую-то неизвестную реку. Кровь пропитала повязку и опять заливала лицо. Саня поднял с земли пожелтевшую грязную газету и утирался ею. Так он вошел в травмпункт – шатаясь, окровавленный и с кровавой газетой в руках. - Она меня убила, - сказал он и закрыл глаза. - Только не дыши на меня,- сказала медсестра, снимая с него бинты. - Надо зашивать?- спросил хирург. - Три сантиметра, - ответила медсестра. И Саню увели. А Танька зарыдала. Она рыдала в длинном коридоре с тюремными сводами. Ветер гулял по коридору вместе с дежурными милиционерами, бродячими собаками и кошками. - Передаю сигнал, - говорил между тем по телефону хирург. – Записывайте. Банщица шахты №9-Капитальная Забужко Т. Н. избила своего сожителя, нигде не работающего Якерсона С.С. Диагноз: ушибленная рана головы и гематома левого глаза. Танька перестала рыдать и вошла в кабинет. - У него всего три сантиметра,- сказала она тихо. - Что? - Три сантиметра. Рана. - Ну и что? - А то, что мне ничего не будет. Три сантиметра – мало. Если больше – тогда другое дело. И ушла, хлопнув дверью. Немного посидела в коридоре, поглаживая приблудного котенка, и опять пошла в кабинет. - Запишите, что он меня душил и колол. Душил шарфом и колол лыжными палками. Это много. А три сантиметра – мало. - Возьмите справку, - сказал врач. Она взяла со стола бумажку, повертела ее в руках, посмотрела на свет и положила обратно. - Знаю я ваши бумажки, погрозила она пальцем хирургу. В приоткрытую дверь операционной вошла собака. - Что с тобой? – спросил у нее хирург. - Вскрытие покажет, - ответила она, глядя на него преданным влажным взглядом. …И ноги матери моей. - Падла! Эй, падла… Тетка Наташка запахивает халат, завязывает под грудью грязные тесемки. - Чего тебе?- говорит она. - Воды дай. - Нет тебе воды. - Тогда это… музыку поставь какую-то. Лучше «Не сыпь мне соль на рану»… или романс… - Я тебе сейчас такой романс поставлю… Из развороченной постели появляется голова. Тихо. Только тетка Наташка шаркает разбитыми шлепанцами. Вдруг она подпрыгивает и звонко хлопает в ладоши. - Ты что, мать? - Моль убила. - Точно убила? - Не совсем. Вот она, проклятая, летает. Тетка Наташка опять подпрыгивает и хлопает. - Мимо? - Вставай, корова, помоги. Она ж теперь все пожрет. - Уже пожрала. Нехрен прыгать. Из постели медленно восстает длинное выцветшее существо, совершенно голое. - Ты где сиськи попекла? - Не твое, мамаша, дело. Танька натягивает давно уже не махровый халат и смотрит сквозь тетку Наташку. - Ты думаешь, Танька, я не вижу, перед кем ты гузном крутишь? Он же тебе дедушка! - А ты ему – бабушка! - Да ложил он на тебя… - А на тебя уже положил. Танька смотрит в зеркало и смачно плюет в пол. - А ты прибирала? – заводится тетка Наташка. – А где мое кольцо? Ты мне ножки должна целовать, я тебя кормлю, пою, одеваю, а ты мне западло такое творишь! - Да пошла ты… Чего захотела. Ты у бабки Маринки трусы свистнула, а я ноги целовать тебе буду?! - И поцелуешь! - Ага! - Целуй! – ревет тетка Наташка и бросается к Таньке, чтобы нагнуть ее морду к своим ногам. Танька кричит и норовит боднуть ее головой в живот. Наконец, она прорывается к ляжке и впивается в нее зубами. - Укусила… Ах ты, гадюка… Танька запускает в тетку подушкой, в ответ летят чайник и щипцы для завивки. - А ху-ху не хо-хо? – бормочет тетка Наташка, снова подминая Таньку под себя. - Пусти, - пищит Танька, синея лицом. - Чего это? - Писять хочу. - Да пошла ты. Они поднимаются, отряхиваются. По длинному узкому коридору Танька идет в туалет. Журчит вода, выливаясь из бочка. - У меня голова чешется, - говорит Танька, входя в комнату. - Вши, должно быть, - отвечает тетка. – Давай посмотрю, а? Танька садится к окну, и тетка перебирает ей волосы. - И точно, вши, - говорит она через некоторое время. – И гниды. Раздается скрип раздавленной вши, и опять она перебирает Танькины волосы. - А он мне лифчик подарил, - говорит вдруг Танька. - Покажи. - На работе забыла. Палата патологий. Напротив больницы, на крыше девятиэтажного дома, сидел пьяный и болтал ногами. - Упадешь! – кричала Танька, высовываясь в форточку больничного окна. – Слезай! - Не заманишь, отвечал пьяный и мотал головой. Танька слезала с подоконника, колыхая огромным животом, ложилась в постель и отворачивалась к стене. Больница пахла лекарствами и скисшим супом. Хилый больничный уют из тумбочки, кружки, ложки и голых стен. Все было проштемпелевано и пронумеровано, и Танька сама себе казалась пронумерованной, подшитой к делу и пришлепнутой печатью. В палате патологий беременности она лежала уже вторую неделю. К ней никто не приходил, и долгими осенними вечерами она ходила туда-сюда по длинному больничному коридору и, облокотившись на стол медпоста, чесала свой патологический живот. Живот бурчал, но ребенок не бился еще с тех пор, как очередной муж загнал ее в туалет, запер там и ушел. Танька сидела там до ночи, пока не вышибла двери, и когда через три дня вернулся муж, не осталась в долгу – сломала об него швабру. Приходила врачиха, спрашивала: - Как дела, девочки? - Да какие у нас дела? – говорила худая и прокуренная администраторша ресторана. – Тошнота и рвота – кажется, беременные. И все смеялись. Потом они ложились на спины, выставляя животы. Врачиха ходила между животами, щупала их и качала головой. Около Таньки она останавливалась дольше, слушала ее живот холодной костяной трубкой. - Глухо, как в танке, - бросала она и уходила. Потом Танька долго и непонимающе смотрела на свой живот, думая, когда же ее отсюда выпустят, и начинала дремать. … Проснулась она от гомона и скрипа дверей. - Простыни! Простыни! Менять простыни! – кричала сестра-хозяйка, и простыни летали по палате, оседая на полу. - Одной не хватает! - Но мы все сдали! - Все равно не хватает! Танька встала. - Дрыхнешь! Простыни давай! - Нет у меня ни хрена, - огрызнулась Танька. - Как нет? Тут же была… - Вот она была и нету, - пропела Танька и легла лицом к стене. - Так она ее, наверное, засунула… - захихикала администраторша. - Приличная женщина не станет простынь никуда засовывать. - А вы посмотрите на нее… Сестра-хозяйка посмотрела на Таньку и ушла, ничего не сказав. А Танька полежала немного и решила сматываться. Вещи у нее отобрали в санпропускнике, но она плюнула на них и ушла в больничном халате, прихватив кружку и ложку. Было темно и холодно. Танька свернула в глухой переулок. Навстречу ей шел мальчик и, задрав голову, выл на луну. Выл он потому, что ему было одиноко и страшно. А на другой стороне улицы люди оборачивались и удивлялись, откуда в городе волки. Плач. …Она нашла себя в туалете около дворца пионеров, у зеркала. Сырые стены, на потолке штукатурка вспухла от воды. Зеркало было желтым и потрескавшимся. Оттуда смотрело лицо, непонятные глаза и нос в черных точечках. Она подняла руку и подергала себя за щеку. Потом потерла нос, но черные точки остались на том же месте. Тогда она плюнула в зеркало и вышла на улицу. А там ничего не было – ни земли, ни неба. Все слиплось в чем-то слизком и мокром. То ли шел дождь, то ли снег, то ли то и другое вместе, и огромный ветер шатал дома, а они стояли, как вкопанные. Она пробиралась, держась за стенку, но стенка кончилась. Асфальт ушел из-под ног, налетел весенний ветер, повалил ее. Она встала, но проходящий автобус облил ее холодной грязью. «Так вот откуда у меня эти черные точки», - подумала она. Чтобы спастись от всего этого, она спустилась в подземный переход. Там было тепло и шумно. Играли бродячие музыканты, два кришнаита продавали свою Кришну, и старушка, покачиваясь, просила свою копеечку. А в самой середке толпился народ и слышался плач. Она подошла поближе. Плакал, всхлипывая и подвывая, парень лет тридцати, с виду культурный и чистый. Около него стояла пустая кроличья шапка и табличка: «Плач без всякой причины в любом месте и в любое время. Цена 50 копеек». Парень ей понравился своей шапкой и чистотой, она стала подмигивать ему, и даже перевязала свой платок в виде чалмы, чтобы быть привлекательнее. Он посмотрел на нее и затрясся, и зарыдал глухо, захлебываясь от слез. И у нее слезы потекли сами собой, но тут в голове вспыхнуло: «пятьдесят копеек». Она испугалась и вышла на улицу. Там опять что-то творилось. Но она уже точно знала, что надо идти домой. - Я хочу домой, - говорила она самой себе. – А где мой дом? Не знаю… И тихо капали слезы на булыжники мостовой. И все мешалось в голове, и слезы текли по лицу, и голова от слез распухла и размокла, и помнилось смутно, что где-то у нее есть дом, который стоит пятьдесят копеек. Она остановилась на узком железном мостике. Внизу кружился и шумел ручей. На перилах моста сидела косматая и страшная бабка, и каждую минуту рискуя свалиться. - Эй, сюда нельзя! – закричала бабка. - Почему это? - Грибы здесь, - сказала бабка, вцепившись в воротник ее пальто. - Какие? - Бледные. - Ну и что? - Наступишь – умрешь! – закричала бабка, повиснув на ее руке. - А пошла ты вон, пьянь несчастная,- сказала она, отрывая бабку от себя. И пошла по бледным грибам, наступая на них, подпрыгивая и умирая на каждом шагу. Святочный рассказ. Рождественская ночь была сырая и теплая. С крыш капало, и густой туман закрыл звезды. Фонари стояли вдоль дороги, как нищие. По телевизору в который раз показывали «Вечера на хуторе близ Диканьки», и страшный кузнец, скривившись, дергал черта за хвост, и черт убегал от него, косолапя и подпрыгивая, по глухим заснеженным улицам, косматый, маленький и жалкий. Накануне Танька целый день стояла в очереди за водкой. Водку давали по спискам, продавщица кричала, требовала паспорта, долго читала адреса, потом долго искала улицы, дома, фамилии, шелестя полосатыми листами, потом отрезала купоны и считала деньги. Поэтому очередь двигалась медленно, и Танька уже задремала стоя, как лошадь, и ей приснилась комната со свежевыбеленными стенами и дырой в потолке. - Этого дома нет в списках, - сказала продавщица, полистав толстую книгу. - Как это, нет в списках? - не поняла Танька. - Нет – и все. Забыли, пропустили. Следующий! - Найдите мой дом! – закричала Танька, вцепившись в прилавок. – Пожалуйста, найдите! Куда вы дели мой дом? Но ее быстренько оттеснили. Танька долго стояла в конце очереди и думала. - Как это может быть – нет дома? – бормотала она, глядя перед собой. Одна старушка ей ласково объяснила, что дом обязательно должен быть и его найдут в райисполкоме. Танька пошла в райисполком. Дверь была открыта, в пустых коридорах пахло сыростью и опилками. Танька долго ходила по гулким лестницам, соображая, куда бы ткнуться. Наконец, она нашла дверь с надписью «Отдел питания» и решила, что ей туда. Но сколько она ни колотила дверь кулаками, никто не отзывался. Вдруг кто-то тронул ее за плечо. - Вы чего, женщина? Это был старичок в чистом ватнике и при галстуке. - Водку по спискам дают, - зачастила Танька, не выпуская дверную ручку, - а моего дома в списках нету. Как это так – дома нету? - Тут не только дома, тут люди пропадают. - Найдите мой дом, найдите! И даже не в бухле дело, а просто как же так… - Иди, милая, домой, иди, празднуй. А после праздников придешь и найдешь себе домик. Старичок похлопал ее по плечу и подвел к двери. И Танька пошла домой. Дома было тихо и пусто. Сгущался вечер. Танька достала из кухонного шкафа давно припрятанную флакушку тройника, кусок старого сала за тридцатник, кислую капусту, помятый маринованный перец и, вздохнув, села праздновать. Но заколебали звонки в двери. - Колядовать можно? – спросили у нее в тринадцатый раз. - Обойдешься, - отвечала она, хлопая дверью. Пацан в раскисших валенках, с толстыми, обметанными лихорадкой губами встал посреди комнаты и запел на жутком суржике: Ты, коза, дереза, Пучеглазые глаза, За три копы куплена, На три бокы луплена. Он закружился по комнате, а Танька вскочила с дивана. - Ты на кого намекаешь? Сам ты залупленный. Она кричала, кружась следом за ним, растопырив руки, пока не схватила его, сгребла в охапку и выпихнула за дверь. Потом она села на диван и вытерла пот. И заплакала. А потом заснула. Ей приснились ее три бывших мужа в одном лице, они тоже колядовали, подпрыгивая посреди комнаты, а она сидела на диване в новом халате и смеялась. Любовь домового. Во всех магазинах холодно и пусто. Сбившись в кучку, шушукаются продавщицы. Только в «Бедном гусе», бывшем «Белом лебеде» огромная очередь за детскими рубашками. Забит весь отдел, впереди толкаются, наседая друг на друга, а сзади люди, распахнув шубы, терпеливо сидят на приступках прилавков, разглядывая серые плиты пола. - Соседи у меня хорошие – дерутся молча. - Это правильно. Я своей жабе всегда говорю: ну чего ты орешь. Вокруг же всегда люди, они отдыхают, может быть, они пожилые, может быть, им рано на работу… - А ты ее головой об стенку – тогда поймет. - Узнайте, много у них еще рубашек? - Вроде еще три ящика осталось… - Так лучше не занимать? - Занимайте, все равно делать нечего. - Баба Зина хорошо умирала, с улыбкой. Улыбалась и умирала. У нее саркома желудка была. - Чего ж не вылечили? - Это такая саркома – она не лечится. Злокачественная. Нормальные люди перед смертью худеют, а бабка растолстела так, что и в гроб не влазила. И все время улыбалась. - Царство ей Небесное. - Ага, а как на кладбище принесли, батюшка ей и говорит: «Улыбаешься? Сейчас предам земле – не будешь улыбаться». И точно – перед тем, как гроб забивали – стала такая серьезная… - Не понравилось, значит. - А я мертвецов боюсь. - А чего их бояться? Такие же люди, как и все… - Я боюсь, когда умирают. Вот пойду в больницу санитаркой, только не знаю, в какое отделение. Я хочу в такое, где бы не умирали. - Что ты, деточка, разве ж так можно? Везде умирают. - Слышите, больше двух в одни руки не давать! - А там остались только зеленые с цветочками и розовые с буратинами… - И те кончаются… - А если у меня трое? - Нечего рожать и нищету разводить! - У моей Настеньки тоже трое. И все черненькие. А как забеременела – и сама не знает. А когда узнала – уже поздно было. - Надо было искусственные роды делать. - Так она боится. Боится, что сердце не выдержит и детей не будет. - Женщина, вы напрасно ко мне пристраиваетесь. Когда я тут стояла, вас и близко не было. - Ничего подобного! У меня и номер на руке сто десятый. - Не надо нас дурить. Написала себе номер и приперлась нам мозги компостировать. - Кончаются! Кончаются! - Было пять ящиков, один куда-то уволокли! - Сволочи… - Себе припрятали. - Их убивать надо, на месте. - В ЦУМе одной продавщице откусили ухо. И правильно – не воруй! - Уже и чулки разворовали. Нигде нет… Я себе на смерть две пары отложила, а теперь одну взяла. И что мне за это будет? - Значит, зря стояли… - Не зря. Если завтра привезут, мы будем первыми. - А если не привезут? - По одной рубашке в одни руки! - Я многодетная мать. - А где удостоверение? - Вот мое удостоверение, дайте мне две рубашки, детей мне в гроб ложить не в чем, двое их у меня сгорело, вот мое удостоверение, дайте мне две рубашки. - Отсчитайте, женщина, пять человек, как положено, и берите, так и быть, две рубашки. - Не могу я отсчитать пять человек, похороны завтра, а я по магазинам шляюсь. Дайте мне две рубашки, я мать-героиня. - Да смотрите, она пять берет! Аферистка несчастная! - Все! Кончились! Больше нету! - Пускай отдадут ящик! Я видела ящик! И люди стали разбредаться. На улице стемнело, под ногами чавкала каша из снега и дождя. - А потом мы бабы Зинину могилу разрыли, чтобы дедку Лешку к ней положить. - Ну и что? Осталось от нее что-нибудь? - Да почти ничего. Клок волос и черная косынка. Косынка хорошая была, с лавсаном. Вы спросите, причем здесь Танька? А ни при чем…