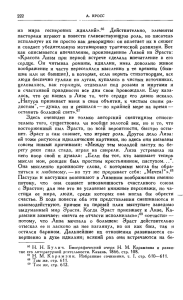реклама

Бочаров Дмитрий Геннадьевич (Дмитрий Бакин) родился в 1964 году в Донецкой области. Работает шофёром. Дебютировал в 1987 году. Изредка печатал рассказы в журналах «Октябрь», «Огонёк», «Знамя» и после 1998 года ни разу не публиковался. Самый загадочный из современных авторов Бакин никогда не появлялся в редакциях и ни разу не присутствовал даже на церемониях вручения ему литературных премий. Но среди знатоков он котируется чрезвычайно высоко. Во Франции после выхода там сборника его рассказов Бакина называют «русским Камю», нашим рецензентам обычно приходят на ум сравнения с А.Платоновым, а по словам К.Степаняна, “у тех, кто читал Фолкнера, в первую очередь возникают ассоциации с автором Бакин — «узкий» писатель, его проза основана на реальном человеческом опыте, но ему не тесно в рамках «очень личных» сюжетов, где самыми важными жизненными обстоятельствами оказываются отношения в семье, в кругу родных, а зависимость человека от близких — отца, матери, братьев, сестёр, жены, ребёнка, любимого человека — становится главным предметом писательского внимания. Именно в сфере семейных связей Бакин ищет ответа на вопрос о том, как гармонизировать хаотическую реальность, как разглядеть хоть что-то светлое во мраке жизни, найти опору или хотя бы оправдание своего существования. Таковы рассказы сборника «Страна происхождения», таковы «Стражник лжи» и «Сын дерева». Персонажем часто становится человек с травмированным сознанием или физическим недостатком, лишённый возможности вести полноценную жизнь. Мытарства такого искалеченного сознания в трансформированной им же реальности и рисует Бакин в своих рассказах.” СТРАЖНИК ЛЖИ Рассказ День для нее начинался с неистового убеждения себя в том, что у нее есть сын, который на сорок втором году размеренной жизни, в минуту накатившего безумия, покинул электрические сферы, где, растворившись в таинственном треске, творил свою тихую работу, уткнувшись носом во внутренности выпотрошенного радиоприемника или сгоревшего утюга, покинул для того, чтобы совершить умопомрачительный поступок, а именно - продать собственную квартиру, получить огромные деньги, без конвоя, хотя бы из двух автоматчиков, отнести их в коммерческий банк и положить на счет под трехсотпроцентный годовой доход - иными словами полностью утратить реальность происходящего и ступить на тернистый, рискованный путь обогащения, который был открыт вихрем инфляции и идти по которому имеет смысл разве что человеку, одной ногой находящемуся в могиле. Еще до того, как ее сын, слизывая пот с верхней губы, втащил к ней массивные напольные часы, отбивавшие время без малого сто лет, - как она узнала впоследствии, единственное из того, что он не продал, - Алла Сергеевна, лелеявшая свою непогрешимую интуицию, как некогда молодость, предчувствовала неотвратимую катастрофу, масштабов которой она, разумеется, не представляла. И тогда, когда он поведал о содеянном, слова ее покойного мужа, отца ее сына, который сказал, будучи в добром здравии, - вот увидишь, наш сын еще удивит мир, увидишь! - приобрели жуткий смысл. Между тем, сын, покончив с установкой часов, обыденно принялся доставать из сумки предметы, которыми он дорожил, - это были средних размеров сова, искусно вырезанная иглой из ребра кашалота, глиняный человечек в шляпе с растянутым аккордеоном в руках и лампа-раковина на дубовой подставке, не горевшая более десяти лет, потому что лампочку в ней невозможно было заменить, - все то, что прежде стояло у него на книжных полках, а ныне напоминало ей маленькие корабли, из-под которых убрали воду, ввергнув в недолгий полет на камни дна. И тогда, с трудом выталкивая из себя слова, она спросила - и что теперь? что ты будешь делать теперь?; а он спокойно, веско сказал - терпеть; она спросила - ну, а потом, что же будет потом, господи?; он ей сказал - а потом куплю новую - и добавил - и не такую халупу, что была; она спросила - и ты веришь? веришь им?; он улыбнулся и сказал почему бы нет? - и добавил - какой же дурак продаст квартиру, не веря, что это выгодно? Прошли недели, пока Алла Сергеевна вновь научилась направлять мысли в нужное русло и разумно пользоватьс ими, скрупулезно двигаясь по нити дознания. И плоды трезвых размышлений не замедлили явиться, но вывод, к которому она пришла, отнюдь ее не обрадовал, а, напротив, чуть было не вверг в недавнее состояние шока, потому что у нее не осталось никаких сомнений, что поступок сына неразрывно связан со смертью его бывшей жены - что случилось немногим больше трех месяцев назад. Она была поражена, насколько легко он отнесся к этому событию, не попытавшись даже остановиться во времени, тогда как прежде, в годы их совместной жизни, каждый скандал, каждая перебранка оборачивалась для него сознательным временным тромбом - он словно растопыривал все свои конечности, расправлял каждый сантиметр своего большого тела в отчаянной попытке остановить собой готовое хлынуть дальше время, а время, не замечая его зубовного скрежета, треска его костей, струнного гула его натянутых до предела жил, текло сквозь него, внося все больше изменений в организм, обтекая, как вечную материю, лишь непобедимый, непонятный, наглухо замкнутый для мира мозг, имевший наглость заставлять тело удерживать поток истории, точно поток этот - хлещущая из маленькой пробоины вода. Вспомнила она и свою попытку возмутиться по поводу того, что ее и сына не позвали на похороны, даже не поставили в известность о смерти; она тогда сказала - ведь ты же был ее единственным мужем - и сказала - пятнадцать лет - а потом, набравшись смелости, резко сказала - у меня такое впечатление, что они думают, будто бы это ты загнал ее в гроб - вот истинная причина; он сказал - они не позвали нас по другой причине - и сказал - они не позвали нас потому, что никого и не хоронили - а потом он твердо посмотрел на мать и с нажимом сказал - я решил к ней вернутьс - и сказал - для этого многое нужно сделать, но я сделаю. Именно эти дикие, непонятные слова и были обещанием безумных действий, апофеозом которых стала продажа квартиры, но и это отошло на второй план, когда она наконец поняла, что сын ее попросту не верит в смерть своей бывшей жены и не поверит никогда, если ее не выкопают и не предъявят ему как единственное, неопровержимое доказательство, чего, ясно, никто делать не станет, и он всю жизнь будет из кожи вон лезть ради женщины, которой больше нет, движимый своей безумной любовью и несбыточными мечтами, он будет носиться с искусственно взращенной, достигнутой целью, как с короной для несуществующей головы, которая в конце концов должна будет по справедливости пасть на червя. Он сказал ей, что вечерами ходит в кинотеатры, на французские фильмы, дабы воочию - хоть на экране - увидеть, как живут люди, обремененные большими деньгами, с тем, чтобы брать у них уроки, сказал, что билетерши кинотеатров смотрят на него, как на бродягу, одного из тех, кто зимой ходит греться в бесплатные музеи, и Алла Сергеевна, вглядываясь ему в глаза, увидела в них нечто похожее на взрыв голубого ледника с птичьего полета, когда, взнуздывая ярость, он сказал - вот, как они на меня смотрят, мать, а ведь я миллионер, - и сказал - в банке у меня столько денег, сколько этим дурам не заработать за полвека, даже если у них пуповины завязаны морским узлом. И вечерами она стала просиживать за кухонным столом до глубокой ночи, в мягком свете абажура, положив перед собой черно-белую фотографию сына, чувствуя себ огромной, точно праматерь заката, мучительно вглядываясь в непроницаемое маленькое лицо, представляя, как он устраивается в первом ряду пыльного гулкого кинозала, вытягивая длинные ноги в изношенных ботинках, достает из кармана пиджака неизменный пакетик сухого картофеля, громко шурша, вскрывает и на протяжении всего сеанса методично, кусочек за кусочком, отправляет в рот, с хрустом пережевывая, но не отрываясь от экрана, как делал это раньше, сидя у телевизора, в то время, когда жена его Ольга была еще жива. Также он сказал матери, что говорит со своей женой про себя, и сказал, что хоть и говорит с ней про себя, зная, что она никак не может его услышать, но говорит абсолютно честно и откровенно, как будет говорить ей вслух, когда они вновь окажутся вместе. Тут-то Алла Сергеевна, доведенная до изнеможени импульсивными переживаниями, в сердцах спросила - ну почему это происходит с тобой? именно с тобой?; он ей сказал - потому что мне совсем не смешно; собравшись с духом, уже спокойнее она сказала - ну, а что будет, если ты никогда не встретишься с ней, попросту не найдешь ее?; он усмехнулся и с издевкой сказал да стоит мне получить кучу денег, как она сама мен найдет и будет говорить, что никуда и не уходила; она тихо, ненавязчиво, как бы в раздумье сказала - но ее смерть...; а он презрительно сказал смерть - микроб перед моей Верой; и на это ей нечего было возразить, оставалось лишь посторониться, не мешать и смотреть, как, закупорив в себе гремучую смесь долга, чести и гордости, он будет двигаться в киселе мира, высокий, несуразный, точно ледокол в океане дерьма, выискивая вдруг пропавшую единственную женщину, чтобы привязать ее к себе, как к твердой опоре, действуя с тем же пресловутым упорством, с каким в детстве несколько лет пытался заглянуть в глаза муравью. Худшие опасения Аллы Сергеевны, однако, не оправдались, потому что сын, хоть и отказался наотрез разделить с ней ее однокомнатную квартиру, понимая, видимо, что не предложить этого она никак не могла, но вовсе не собирался порывать с ней отношения, что явилось некоторой компенсацией за тот леденящий кошмар, который она испытала по его милости, все еще пребыва в немалом удивлении, что ей удалось все это пережить. Таким образом, когда пришло время варить варенье - а в этом кропотливом деле ей не было равных - и консервировать овощи, он, как и прежде, приносил ей сахар и ягоды, помидоры и огурцы, патиссоны и сладкий перец, - все это она неустанно закатывала в дважды стерилизованные, ревностно хранимые однои двухлитровые банки и аккуратно расставляла по кладовкам, нередко замирая перед стройными стеклянными рядами, чтобы полюбоваться делом своих рук. Настораживало ее то, что сын приносил всего понемногу и гораздо чаще, чем в прошлом году, так прежде он мог принести две сумки огурцов, каждую из которых ей не под силу было оторвать от пола, тогда как теперь подобный груз он приносил захода за три, а то и за четыре. Поначалу она подумала, что он появляется у нее чаще просто для того, чтобы поесть, но, убирая за ним со стола, она стала замечать, что ест он мало, часто неохотно, сидит за столом напряженно и прямо, точно к туловищу его крепко привязана доска, а когда подносит ко рту ложку или вилку, почти не наклоняет голову, как это делают все нормальные люди, если, конечно, на голове у них не стоит кувшин с водой. И по-прежнему, стоило ей спросить, где он нынче живет, как тотчас рот его закрывался, он кивал ей на прощанье и, не оглядываясь, уходил, оставляя после себя резкий въедливый запах мужского одеколона и неумолимое презренье к рутинному быту, повисавшее в воздухе, как дым. Алла Сергеевна знала, что, перед тем как продать квартиру, сын сменил место работы, устроившись электриком на телефонную станцию, а ей он объяснил - я не желаю видеть знакомые лица, потому что из этих лиц соткана картина моих былых заблуждений. Однако ей было известно, что, помимо незыблемого убеждения, что в природе не существует ничего более могучего, более прекрасного и более устрашающего, нежели электричество, эта профессия привлекала его тем, что позволяла иметь приличные побочные заработки, зачастую покрывавшие положенную месячную зарплату, но парадокс заключался в том, что иметь побочные заработки позволяли ему именно знакомые лица, на протяжении многих лет имевшие возможность убедиться в его бесспорном профессиональном мастерстве, которое теперь ему придется доказывать заново. Титанических трудов стоило Алле Сергеевне вразумить, уговорить сына дать согласие на прописку у нее в квартире, - она убеждала, что это абсолютно ни к чему его не обязывает и никогда не будет ставиться ему в вину. И только сделав основательный упор на возможные неприятности на работе, она получила его неохотное согласие. В течение месяца, чуть ли не каждый день она вешала на руку потрепанную авоську, где документы лежали вперемешку с дешевыми шоколадками для подарков многочисленным чиновникам и секретаршам, и на гудящих ногах начинала обход жилищных учреждений. Униженно улыбаясь и кланяясь, прижимая к груди пенсионное удостоверение и удостоверение инвалида второй группы, пожелтевшие грамоты с бывшей работы и фотографии у переходящих красных знамен, она за месяц добилась того, чего многие не в состоянии добиться за полгода. Покончив с этим изматывающим, но необходимым делом, вернувшись домой уже под вечер, не сознавая до конца, что все позади, она в полном одиночестве выпила рюмку старого выдохшегося шампанского, которое сын принес ей утром того далекого памятного дня, когда ей исполнилось шестьдесят семь лет. Четырехэтажный дом был полностью заброшен и являлс именно тем временным убежищем, которое требовалось Кожухину ночью, потому что ночевать в подвалах или на чердаках жилых домов, пропитанных сыростью, он более не мог, что объяснялось жестокими приступами радикулита, которые, впрочем, он готов был терпеть для достижения цели. Мысленно он твердил себе - нет такой болезни, которую нельзя было бы вылечить, имея большие деньги, - твердил - если, конечно, богу не угодно будет послать мне рак, - и твердил - но это было бы самым несправедливым, самым вопиющим его деянием со времен сотворения мира, и на это он не пойдет. Между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи, пробираясь через строительные леса, обходя большие кучи мусора, цепляясь ногами за обрывки проволоки, он смотрел на вспыхивающие в свете луны осколки стекол, на черные окна дома, в котором он отходил ко сну, вычеркивая еще один день бедности. Цементная крошка хрустела у него под ногами, когда он, пробравшись внутрь дома через один из оконных проемов, уверенно двигался в кромешной темноте по направлению к комнате, в углу которой он оборудовал себе временное пристанище, где стояла довольно крепкая еще кровать, какие ставят в казармах для солдат; на кровати лежал рваный матрац, два одеяла и подушка без наволочки, пахнувшая старой половой тряпкой. Здесь же стояли потрескавшаяся белая тумбочка, несколько стульев, которые он собственноручно надежно скрепил гвоздями, и некое подобие тяжелого старинного шкафа. Стены в этом углу он обтянул брезентом, предварительно проложив толстым слоем ветоши, дабы не чувствовать костями исходивший от них губительный холод. Сюда не проникал свет, но время от времени проникал неверный звук. Он зажигал керосиновую лампу, ставил ее на тумбочку и поочередно доставал из сумки банку шпрот или лосося, нарезанный черный хлеб, который покупал в столовой, и бутылку водки. Неспеша откупоривал водку, доставал из тумбочки граненый стакан и размеренным точным движением правой руки наливал ровно полстакана. Выпив, он закуривал и, глядя на банку консервов и черный хлеб, на медленно плывущий сигаретный дым, он негромко говорил - вот так-то, Ольга. Прежде чем открыть консервы, он выпивал еще полстакана водки, а затем задумчиво ел, громко глотая, часто потирая ладонью свободной руки щеку, заросшую густой бородой отшельничества, а потом, ссутулившись, снова курил, глядя на огонек керосиновой лампы, просиживая так до тех пор, пока из задумчивости его не выводил посторонний звук - это мог быть лай бродячих собак или далекий автомобильный сигнал. И тогда он вставал, снимал пиджак и ботинки, выпив водки, ложился на кровать и укрывался двумя одеялами, не обращая внимания на затхлый запах, свыкшись с ним, как с темнотой. Главное для него было защитить поясницу от холода, сквозняка, и он долго ворочался, выбирая положение, зная, что в той позе, в какой заснет, - он и проснется. Эту способность он приобрел еще в юности, и она показалась ему настолько важной и практичной, что, единожды проделав это, он принялся тренировать тело, контролировать несознательные движения во сне, что сперва превратило ночи в жестокую пытку, умопомрачительную дрессировку плоти, лишенной естественных движений, но потом своим неимоверным упорством, мыслью, что это жизненно необходимо, - как выяснилось после сорока лет, необходимо главным образом для того, чтобы заработать хронический остеохондроз, - он добился полного успеха и полной необратимости этого успеха ныне, оставаясь неподвижным до утра, врастая в густую темноту ночи корнями, прочно, как в землю, чтобы проснуться окостеневшим, точно лишенный воды коралл. Жизнь и выбранное для жизни место способствовали его раннему пробуждению, и первые полчаса после сна он тратил на то, чтобы вернуть членам гибкость. С лицом застывшим, мрачным от муки и глубокого нутряного упрямства мстящего, в мутном сыром воздухе раннего летнего утра он, раздевшись по пояс, сгибался в пояснице, уперев руки в бока, поворачивал корпус до предела, до суставного хруста влево и вправо, приседал, возвращая природную смазку коленным чашечкам и силу икрам, а потом лишь чистил зубы, прихлебывая воду из бутылки, разжигал примус и заваривал крепкий чай, добавляя в него листья мяты. Практически каждый день он задерживался на работе и успевал лишь на последний сеанс в кинотеатрах, куда ходил по заведенной привычке отнюдь не потому, что хотел убить время, а для того, чтобы изучить, вникнуть в мир богатых людей, будь то французы или американцы, понять, чем они живут и как двигаютс в ослепительном блеске созданного, и, методично отправляя в рот кусочки сушеного картофеля, он впитывал, запоминал неожиданные хитрости дизайна, поражаясь интерьерам своей мечты и пугающей достижимости особняков; и он думал - главное - сохранить себя для всего этого, во что бы то ни стало сохранить себя, Ольга. Однако в душе его присутствовала некоторая неудовлетворенность, смутное понимание того, что познаваемый, априори восхищавший его мир имеет тщательно завуалированные свойства синильной кислоты и все эти люди, словно не замечая того, растворяются в нем, перестают существовать индивидуально, становятся неким расплывчатым, затерянным ингредиентом раствора, имея им - не я, но - мир, ибо мир не приемлет имен. Прошло довольно много времени, прежде чем регулярные посещения кинотеатров и просмотр подобных лент вселили в него сначала досаду, а затем устойчивую ненависть, котора засела под языком, как холодный, острый леденец, и на короткое время поколебала его решение стать богатым, так как он сделал вывод, что люди, возведенные им в ранг учителей, в большинстве своем не значительнее выдохнутого воздуха и несут в себе слишком мало веса и слишком много невесомых болезней, чтобы в них нуждалась земля. И он говорил про себя - но ты ведь не такая, Ольга? не ты ли мне говорила, что родилась не в свое время, что должна была родитьс раньше, гораздо раньше, а ведь раньше, думается мне, люди были попрочней, раньше в людях было больше веса, и вес этот им придавало достоинство, углубленность в себя и опыт, вера в опыт предков, вот вес, что был в них, Ольга, даже если они и сумасбродничали, смеялись и пели среди блестящей мишуры, их наполняла, не отпускала от земли тяжелая мудрость крови, - и он говорил про себя, - но это было давно, не век и не два назад, но мы-то в настоящем, и тела наши - часы настоящего - вот кожа, вот кровь и вот вены, по которым струятся секунды двадцатого века, - значит ли это, что во мне слишком много веса, чтобы стать богатым и окунуться в эту муть? что же, я должен уподобитьс этим дуракам, которые жрут суп из ласточкиных гнезд? что же, они не знают, что ласточки их лепят из собственного дерьма? смотришь на них и думаешь - сердце лопнет у них от избытка денег, а оно, напротив, становится маленьким и твердым, как рисовое зерно; богатый человек, думается мне, должен походить на мощное вторжение, они же напоминают мне тайное поползновение, разве на так, Ольга? они напоминают мне ночной прилив, и кажется мне, что не они имеют деньги, а деньги имеют их, как своих детей. Раз и навсегда прекратив посещение кинотеатров, выбравшись из паутины привычки, он вдруг оказался в середине октября, и сознанием его безраздельно завладели мысли, связанные с поиском крова на зиму. Неожиданно он столкнулся с проблемой, которую требовалось срочно решать, и он думал - вот ведь, Ольга, как можно засорить себе голову кинематографом, оторваться от природы, жить в октябре, как в июне. Алла Сергеевна, пытаясь понять, уловить глубинные течени его настроений, незамедлительно отметила в нем рассеянность и внутреннюю тревогу, и в душу к ней закрался страх, потому что, по ее мнению, все это говорило о том, что на сына падет наконец прозрение, и один Господь ведает, как сможет он примириться с реальностью, если именно с ней вот уже полгода ведет столь бескомпромиссную, отчаянную войну. Но вскоре, даже с некоторым облегчением, она убедилась в своей ошибке, и произошло это во время пространных ее монологов, когда она упорно пыталась расшевелить зашедшего сына разговорами, сделав в этом направлении беспрецедентный шаг, а именно прочитав специальную брошюру об опытах в области электродинамики, чем рассчитывала сразить его наповал, но он, как и прежде, отвечал невпопад, преследуемый неумолимым гоном зимы, думая о том, что уже сейчас, под двумя одеялами, во мраке заброшенного дома, погружаясь в тяжелый изнурительный сон, он чувствует себя землей, в недрах которой зарождается землетрясение, и чувство это предшествует бунту костей, и попрежнему невпопад, перебив мать на полуслове, он вдруг резко спросил - почему же ты не сказала мне, что уже октябрь? Осень посеяла в нем мелкую раздражительность. Веяния мороза и сморщенные листья, хрустевшие под ногами, как тонко нарезанный сухой картофель, и струи холодного воздуха, стеклившие края луж по утрам, превратили его обычную нелюдимость в мрачную угрюмость, сковали, уменьшили лицо, грубую кожу которого наполовину затянул рот, отчего все рельефы черепа, не заросшие волосами, выступили гладкими валунами мельчающей реки. Но, поглощая время, как сгорающее топливо, он двигался к началу зимы, словно бесшумный паровоз, тащивший за собой все возрастающий пустой состав дней. Любыми путями он старался избежать вынужденного переселения в квартиру матери, без обсуждения отвергая ее уговоры, несмотря на то, что она предлагала пожить у нее только до следующего лета. Довольно быстро она разыграла свою козырную карту, принявшись жаловатьс на нехватку денег, исподволь подводя его к тому, что, проживая с ней, он мог бы платить за квартиру и тем самым снять гору у нее с плеч, на что он заявил, что никакой горы на плечах уже нет, и заявил - сегодня я заберу все твои расчетные книжки, и выброси это из головы. После долгих препирательств, закончившихся тем, что он силой отобрал у нее расчетные книжки, мать спросила - но где ты будешь их хранить? - и спросила - ты что, будешь всегда носить их с собой?; он ей ответил - они будут лежать у меня на работе; тогда она ему сказала - ты, может, и жить будешь на работе?; он задумчиво посмотрел на нее и медленно сказал - возможно. А на следующий день, перекладыва расчетные книжки в нижний ящик верстака, который стоял в узкой каморке, расположенной в двух метрах от щитовой на последнем этаже телефонной станции, он думал - а почему бы и нет, Ольга, почему бы и нет, пусть думают, что хотят, да и похоже на то, что другого выхода у меня нет, нужно будет только предупредить этих бабок из ВОХРа - и думал - день-два на окончательные раздумья, и я, пожалуй, переберусь жить сюда. Этому событию предшествовала ночь, когда Кожухин выбирал положение тела для сна дольше, чем обычно, и, видимо, вследствие этого выбрал неправильно - он понял это, еще пребыва во сне, увидев сноп света проектора, воспроизводившего изображение на огромном боку бегущего носорога, - это были вальсирующие женщины, похожие на миражи белых парусников, перенесенные с полотна экрана на мерно двигающиеся в тяжелом беге окостеневшие бородавчатые латы. Рано утром - к счастью это была суббота - при попытке встать его едва не спалила огненная боль, словно позвоночник подожгли, как сухую жердь, и он вынужден был пролежать полтора часа в полной неподвижности, слыша тяжелый топот виденного сна. Лишь по истечении этого времени, все еще накрытый облаком желтых мух, он попробовал пошевелить пальцами рук и понял, что может сделать это без того, чтобы не угодить на тот свет. Приступ сковал его на двое суток, но, предвид подобное, он держал в тумбочке сухари и воду, до которых мог дотянуться, не вставая с кровати. По истечении первых суток приступа в пелене раннего утра, после бессонной ночи и проведенного в неподвижности дня, в течение которого он только и думал, как бы в доме не появились любопытные дети или, того хуже, пьяные рабочие с соседней стройки, он, судорожно шаря рукой, нашел в тумбочке недопитую бутылку водки, с трудом откупорил ее и осторожно, избегая резких движений, поднес горлышко к губам и попытался сделать глоток лежа, но, поперхнувшись, почувствовал резкий внутренний толчок, от которого содрогнулось все тело, и рот его взорвался, как распылитель, нос обожгла волна спиртного, и ему показалось, что из ушей ударили горячие, тугие фонтаны жидкой серы. Придя в себя, он прохрипел - а, черт, Ольга, ведь говорил же мне отец, чтобы я никогда не пил лежа, - и прохрипел даже молоко, даже лекарство. И весь долгий, наполненный неясным шумом день у него перед глазами плыли видения - то были отрывки бесчисленных кинолент, которые он просмотрел за последние месяцы, отдавая предпочтение тем картинам, где присутствовала богемная жизнь, особенно остро чувствуя повсеместный, равномерный упругий нажим, с каким бурлящий век вытеснял его, ибо был бессилен переварить камень его веры. Первое, что он обнаружил, когда сумел встать, - было отсутствие керосина в лампе, и он глухо пробормотал - ничего, Ольга, знаю, где взять солярку. Стараясь не сгибаться в спине, с деревянной неподвижностью корпуса, он, точно эквилибрист, на плечах которого в полный рост стоят как минимум два человека, двинулся прочь из дома, шаркая, прочно ступая, особенно старательно выбирая дорогу среди насыпей строительного хлама и ям, прикрытых отслужившими деревянными поддонами. Покинув территорию запустения, он пошел в сторону стройки, где видел трактор и экскаваторы, сжимая в руке дребезжащий чайник и толстый резиновый шланг. В темноте, переходя дорогу, он увидел черную, неподвижную массу задавленной собаки, которая лежала на белой разделительной полосе, и, возвращаясь с полным чайником солярки и со стойким привкусом ее во рту, он вдруг остановился посреди дороги и подумал - вот ведь что мне нужно, Ольга, вот ведь собачья шерсть. И он пошел к заброшенному дому, все так же шаркая ногами и прочно ступая, гляд перед собой, угадывая, куда следует ступить, чтобы не провалиться под землю, и бормотал - хорошо еще, что я не устроился на втором этаже, как задумывал вначале, - и бормотал - ведь по лестнице мне бы сейчас не подняться, Ольга, ни за что не подняться. И тут он подумал, что ему придется возвращатьс к дороге, и глухо застонал. Он не стал заливать солярку в примус, потому что тот стоял на полу и ему пришлось бы нагнуться, но залил в керосиновую лампу, стоявшую на тумбочке, чиркнул спичкой и зажег фитиль, а затем, уже взяв нож и не пряча его в карман, пошел обратно, с громким свистом пропуска воздух сквозь стиснутые зубы, превозмогая боль, вслушиваясь в костные позывы, точно стержнем его тела был ствол время от времени выстреливающего в небо ружья. Добравшись до дороги и остановившись под тополем, выждал, пока скроютс из вида габаритные огни двух разминувшихся автомобилей, он со всей быстротой, на которую был способен, достиг середины дороги и, не сгибаясь в спине, упал на колени, схв выбросил нож в котлован, а потом медленно двинулся к своему убежищу, предвкушая скорое облегчение. атил правой рукой задавленную собаку за жесткую, густую от грязи холку, так же, не сгибаясь в спине, исхитрился встать и поволок с дороги, упрямо раздвигая собой мир с его дрожащими, расплывчатыми строениями и прыгающими огнями. Он не стал оттаскивать собаку далеко от дороги и остановился, едва миновав невысокие кусты. Стоя на коленях и гляд прямо перед собой, он сделал два глубоких вдоха, а на третьем задержал воздух в легких и быстро сделал четыре надреза в форме квадрата на собачьем боку, чувствуя, как лезвие ножа соскальзывает с ребер. Потом он, крепко сомкнув кулак, захватил шерсть в середине вырезанного квадрата и, не рассчитав силы, резко дернул и тут же взвыл, закусив губу, закрыв глаза, по которым словно хлестнули еловой веткой, и вынужден был выдохнуть задержанный воздух, чтобы не лопнула голова, и вдохнуть новый - и запахи осени были вытеснены запахом псины, крови и свежего мяса. Тогда он процедил - ничего не получается, Ольга, надо снимать шкуру, подрезая сбоку, и все время тянуть на себя, иначе не снять, никак не снять. Пальцы его слиплись от густой, вязкой крови, когда, сжимая в одной руке кусок шкуры, а в другой собачью холку, с треском ломая кусты, он потащил ее обратно на дорогу. Предварительно осмотревшись, нет ли поблизости машин или людей, он приволок собаку на место, где она была сбита, и бросил на разделительную полосу. Он слишком устал, слишком измучился, чтобы пытаться из куска шкуры делать бандаж, как задумал вначале. И, действуя в полусне, наполовину отключившись, он прицепил к брюкам старые подтяжки и подсунул под них кусок шкуры, шерстью к своей коже, закрепив его таким образом на пояснице, а поверх натянул свитер. И, повалившись на кровать, он на мгновение почувствовал себя так, точно упал на выводок мокрых ежей. И впоследствии он не в состоянии был вспомнить, заснул в ту секунду или потерял сознание, погрузившись в темную путаницу. Ему пришлось возвратитьс на стройку, где он приметил металлическую бадью, предназначенную для жидкого цемента, которая была наполовину заполнена дождевой водой. Опустившись перед ней на колени, не сгибаясь, он тщательно промыл кусок собачьей шкуры и нож, но затем, поразмыслив, Кожухин и не предполагал, что перенесенный приступ оставит в нем столь тягостное беспокойство, породившее некую неудовлетворенность собой, заставившее думать, что совершена ошибка в самом главном или, по меньшей мере, что-то крайне важное он не учел. И мысленно он возвращалс в заброшенный дом - именно там склонный искать истоки ошибки, - пуска память, как натасканного пса, шарить по гулким, холодным комнатам бурого убежища в надежде выяснить, докопаться до того, что же он мог забыть, но все усилия оказались тщетными, и тогда он подумал значит все дело в тебе, Ольга, только в тебе, но будь спокойна, я разберусь и с этим. Однако еще долгое время после того, как, гонимый зимой, он перебрался жить в узкую теплую каморку рядом со щитовой, где спал на больших забетонированных трубах отопления, махнув рукой на то, что может подумать о нем обслуживающий персонал телефонной станции, у него перед глазами струилось пламя костра, разведенного им в последний день нахождения в заброшенном доме, костра, во избежание пожара обложенного им со всех сторон камнями, кирпичами и отколовшимис частями стен, на котором он добросовестно сжигал, уничтожал следы своего пребывания, не пощадив даже старинный разваливающийся шкаф, оставив лишь нехитрую кухонную утварь и бритвенные принадлежности. С той же регулярностью, с какой он прежде посещал кинотеатры, но не с той частотой - он заходил домой к сестре своей бывшей жены, которая еще год назад, улыбаясь, принимала его и Ольгу, выставляя перед ними большой английский поднос с фрагментами королевской охоты, нагруженный печеньем, вафлями, конфетами и кубиками соленых сухарей, которые она сушила и подавала специально для него, а теперь она открывала ему дверь только потому, что не было дверного глазка, невысокая, издерганная, порывистая, и тут же, заслоняя собой дверной проем, раскинув руки, сузив глаза, она клялась, что уже сегодня наймет плотника, который сделает так, что она будет видеть, кто звонит к ней в дверь, и тогда он, Кожухин, будет торчать перед дверью хоть до второго пришествия. Он ей спокойно говорил - ты не пускаешь меня в дом, потому что Ольга у тебя, да? как она поживает? - и говорил - или ты мне скажешь, что она еще не воскресла?; а она тихо, заикаясь от ярости, говорила - бог мой, что это за мир, где молния бьет в сухие деревья, когда с высоты видно темя этого подонка?; тогда он спокойно говорил - мое темя выше ваших молний - говорил - вижу, вам еще не надоело меня дурачить, ну ничего, ничего, я посмотрю, насколько вас хватит, вы и не знаете, что такое настоящее терпение. После коротких раскаленных разговоров с родной сестрой Ольги он, усмехаясь про себя, думал - что же ты хочешь сделать, Ольга, чего добиться, неужели ты хочешь изменить меня, или ты хочешь изменить себя, но ведь наша земность неизменна, и, что бы ты ни делала, как бы ты ни старалась, в моей душе была, есть и будет ниша, до миллиметра подогнанная под тебя, и любому другому человеку в этой нише будет либо тесно, как роялю в скрипичном футляре, либо просторно, как смычку. Но своими постоянными визитами к сестре бывшей жены Кожухин добился-таки некоторых результатов и как-то раз, зайдя к матери, он, с безошибочностью профессионального электрика, почувствовал в ней ненормальное нервное напряжение и спросил, в чем дело, и она сказала, что ей звонила Ирина, а он спокойно, отстраненно спросил - какая Ирина? - спросил, еще не понимая, потому что был способен забыть имя, не забывая свояченицы; а мать ему сказала - родная сестра Ольги; тогда он поднял голову и молча посмотрел на мать, предотвращая, усмиряя горячий гейзер истерики; мать, всхлипывая, сказала - я же не знала, что ты ходишь к ней, а она мне не поверила, она сказала, что мы с тобой заодно, что мы хотим загнать ее в могилу, как загнали Ольгу, а теперь делаем вид, что ничего не случилось, что никто и не умирал, и она была вне себя, и ей кажется, что ты преследуешь ее, врываешься к ней в дом, где она живет одна, а у нее нет дверного глазка; он сказал - я ни разу не переступил порога ее дома с тех пор, как Ольга ушла от меня, - а потом сухо, жестко сказал - они сумасшедшие, чтоб мне сдохнуть, они сумасшедшие, потому что только сумасшедшие способны затеять подобную игру, а теперь они не знают, как прекратить это, как от этого откреститься, как воскреснуть из мертвых, не умерев перед этим; мать смотрела на него не дыша, широко раскрытыми глазами, и слова его, голос, невероятна могучая убежденность гремели у нее в голове, как десятки колоколов, призванных крепить веру, и потом лишь она смогла пробормотать - я сказала ей, что ты не веришь и тебя невозможно переубедить; тогда он ей сказал - да будь я проклят, как же я могу поверить, если знаю, что Ольга жива? ради чего мне поступаться честностью? - и сказал - зачем мне верить? чтобы подыграть им в этой безумной игре? Все чаще и чаще на больших сдвоенных батареях отопления он слушал глухой забетонированный шелест воды и, глядя на блестящую оцинкованную поверхность огромной вытяжки у себя над головой, задумывалс о неуемном стремлении людей к легкости. Он подносил к лицу пальцы, кончики которых омертвели от постоянного зажимания твердых оголенных проводов, и думал - легкость во всем, Ольга, легкость во всем - в еде и одежде, в походке и отношениях, в жизни и несчастии легкость для них новый бог, еще немного, и к ним придется привязывать свинцовые болванки, чтобы они не воспарили к птицам, - их там не ждут; они, чего доброго, нарушат соотношение между силами ветров и человеческой тяжестью и будут жить, влекомые воздушными потоками, как риниафиты, - и думал - как можно так легкомысленно отталкивать землю, противиться ей меня же они обвинят в пресмыкании, потому что отрываю ногу от земли для того, чтобы тут же на нее ступить, и в этом коротком промежутке, в этом коротком отрыве я слышу ее зов, и я ей за это благодарен; они взяли на вооружение все мыслимые и немыслимые мифы и сказания древних, но я не уверен в их подлинности, вполне возможно, кое-что они выдумали сами, подняв, возвеличив выдуманное до легенды в своем неоглядном стремлении летать; но если птицы - видимые, осязаемые слова, исторгнутые горлом земли, и им должно парить, как звукам, то мы есть глаза земли, но не взгляд, и не должно глазам покидать глазницы - пусть заговорят те, кто прошел через подобную казнь, и так уж в этом мире у земли множество слепых глаз - и он думал наверное, будущее за ними, но за мной прошлое, и кто знает, так ли велико их будущее, как огромно, грандиозно мое прошлое, заметь, Ольга, ведь будущее имеет тенденцию к таянию, мое же прошлое с каждой минутой растет. Уходил он в эти раздумья путями, проторенными отвлечением и усталостью, как уходят из города, нуждаясь в отдыхе от знакомых строений и дорог, но, вернувшись, вновь и вновь сталкивался с неотступным чувством, которое лишало его покоя, вновь толкало к скорейшему выявлению важного просчета, допущенного в последнее время. Он ловил себя на том, что, погружаясь в работу, не может больше растворяться в сложнейшей электрической сети, не может двигаться и растекаться, как ток, в колоссальном замкнутом лабиринте смертоносного напряжения. Он покрывался испариной оттого, что его покинуло безошибочное предвидение, магическое чутье, выручавшее в тех случаях, когда ему недоставало знаний, чутье, которое позволяло уверенно существовать в электрическом организме наравне с проводами и пластинами, ионами и электронами, самостоятельно открывая, познавая, но не формулируя труднодоступные законы и положения физики. И вот однажды, наведавшись к матери, чьи глаза светились радостью, измотанный тревогой, которая неуклонно вела его к необозримому рву поражения, поглотившему несметное количество боевых колесниц, он вдруг натолкнулся на тленную бумагу завещания, вмиг создавшую прочнейший мост, и, не веривший в подарки судьбы, он с благодарностью подумал - вот ведь, Ольга, не иначе, это ты даешь мне важнейшее в этой трудной жизни - шерсть дохлого пса и лист бумаги - и думал - теперь-то мне остается самое малое - получить деньги и увековечить то и другое в золотых рамках. А потом он посмотрел на мать и подумал - как молодеет человек, составив завещание. Она ему сказала - я не хотела тебе говорить, но раз ты увидел, то будешь знать - и сказала - я сделала это вчера; он сказал - а я сделаю это завтра. Тогда он и сказал матери, что немедленно пойдет к сестре Ольги, только купит по пути дверной глазок и зайдет на работу за электродрелью и удлинителем, и сказал - больше я туда ходить не буду, потому что после составления завещани не вижу в этом смысла, приду лишь тогда, когда получу на руки деньги - и пояснил - когда приду, чтобы забрать Ольгу, а то, неровен час, ее сестра еще что-нибудь придумает, - потом сказал - все-таки я думаю, это ее идея, Ольге бы такое в голову не пришло; мать спросила - что? - какая идея?; он спокойно сказал - да с этой дурацкой смертью, какая же еще. Сразу после его ухода Алла Сергеевна позвонила Ирине и тихо сказала - он идет к тебе; Ирина сказала - зачем? у меня полно работы, а вместо этого я должна слушать изощрения его садистского языка? что еще ему нужно? он не успокоится, пока меня не похоронят?; Алла Сергеевна сказала - он идет к тебе, чтобы вставить дверной глазок. Полтора часа спустя, в промежутках между включениями электродрели, визг которой звонко разносился по лестничным пролетам подъезда, Кожухин сказал ей - не иначе тебе позвонила моя мать; она сказала - да; он удовлетворенно хмыкнул и сказал то-то я и гляжу, ты успела спровадить Ольгу, - и сказал - не беда, я потерплю, теперь спешить не буду, вот только составлю завещание, закреплю за Ольгой свой банковский вклад, а завтра отпрошусь с работы и заверю его у нотариуса, - он опустил дрель и повел рукой в сторону - здесь недалеко, через два дома есть нотариальная контора, чтобы вам, в случае моей смерти, удобней было добираться, а чтобы вы с Ольгой не бежали туда наперегонки, скажу - о тебе там не будет ни слова, но это, повторяю, в случае моей смерти, что практически исключено слишком тяжкое бремя мне приходится с вами нести, чтобы бог убрал из-под вас мои плечи, и вряд ли он допустит, чтобы бремя это пало, проломив землю прямо посреди нашего города. Она стояла в узком маленьком коридоре, прислонившись к основанию массивной вешалки, кутаясь в широкий домашний халат, наблюдала за точными движениями его рук, молча проглатывая его слова, точно зачерствевший, царапающий нёбо хлеб, перед стеной его неколебимого, уверенного безумия, безумия, способного убедить мягким, неторопливым вхождением в чужое сознание, способного подмять чужую волю, замутить ясность кристального знания, посеять короткую неразбериху в памяти, чтобы изъять оттуда любое событие навсегда. Покончив с дверным глазком, как бы не замечая, что ею овладел легкий столбняк, Кожухин повернулс и двинулся по коридору к розетке, намереваясь отключить дрель и вывернуть сверло, и его взгляд, бесцельно скользивший по письменному столу, пишущей машинке, заваленной внушительными кипами бумаг, вдруг натолкнулся на фотографию Ольги в черной рамке. И от бешеного, стремительного рывка, от грохота брошенной дрели, от волны воздуха, поднятой большим, прыгнувшим к фотографии телом, от далекого хруста рамки Ирина, не сознавая, что происходит, медленно и ровно, как капля дождя, стекла на пол. Над ней нависло отяжелевшее лицо, налитое бурлящей кровью, похожее на перезревший, готовый лопнуть, фантастический плод, и перекошенный, наполовину парализованный неудержимой злостью рот вколачивал в дрожащее пространство сваи слов, не замечая, что они летят в пустоту, как болиды, слов, из которых она запомнила лишь одно - зависть. Потом она слышала долгий шум воды, пущенной в ванной комнате, плеск в голове, и вновь расплывчатые очертания его крупной фигуры надвинулись на нее, надвинулось изменившееся лицо, потому что разрывавшая его мимика была усмирена железной волей, отчего кожа на нем натянулась, как на крепко сжатом костистом кулаке, и она, одновременно, почувствовала и услышала громкий отрезвляющий шлепок, когда он с размаху бросил ей в лоб мокрый носовой платок, как крупицу необходимого холода. Затем, увидев, что она начинает приходить в себя, чеканя звук, сказал - двадцать пятого мая следующего года в шесть часов утра я приду, и Ольга должна полностью - до последней нитки - быть собрана на выезд. Не дожидаясь, когда смолкнут на лестнице его шаги, на внезапно открывшемс втором дыхании разума Ирина бросилась к телефону, набрала номер его матери и сбивчиво, голосом, переходящим с крика на шепот, сказала, да, наконец она поняла, что он не шутит и он верит, тупо верит в свою незыблемую правоту, противопоставив себя всему сущему, и его необходимо остановить любым способом, благо, он указал нотариальную контору, в которую собирается обратиться, и сказала, что немедленно пойдет к нотариусу, отстоит любую очередь, представит ему свидетельство о смерти, все объяснит и уговорит его что-нибудь сделать, как-нибудь отказать, избегая прямого отказа, потому что нотариус официальное лицо, он, в отличие от них, беспристрастен, и, по ее мнению, только нотариус способен убедить Кожухина своей официальностью - здесь ему уже никак не отвертеться, сказала, что рано или поздно, так или иначе этот страшный узел должен быть разрублен, сказала - потому что еще одного прихода вашего сына мне не пережить. Кожухин узнал об этом во второй половине следующего дня, как только опустился на стул напротив одного из тысячи людей, которых не запоминал, стирая в памяти, как пыль со стекла, дабы они не оскверняли ясную чистоту дали. Он выслушал от начала до конца все, что ему было сказано, в полном спокойствии, ни на минуту не забывая, что нотариусов не может быть мало. На свидетельство о смерти Ольги он даже не взглянул. Потом, глядя в непроницаемые глаза нотариуса, отливавшие перламутром, как ухоженные ногти, он сухо сказал - есть множество того, что я ненавижу, и ничего существенно не изменится, если это самое множество пополнится одним нотариусом, дл весов моей ненависти - это ничтожнее щепотки пуха. В это время Алла Сергеевна, заняв руки вязальными спицами, не зажигая свет, сидела у окна лицом к надвигающемуся сумраку осеннего вечера, опустив веки под давлением жалости, она представляла, как сын бежит к ней, захлебываясь мутным миром, чтобы сказать то, что она и так знала. Вместо этого почти сразу после шестикратного боя часов она услышала резкий щелчок замка, короткий скрип входной двери, твердые шаги в темноте, увидела высокую черную фигуру. Он включил свет, повернулся к ней и презрительно сказал - этот гад мне попросту не поверил. КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННЫЙ Рассказ Родился в Омске Оренбургской области. Окончил механикоматематический факультет Московского университета. Десять лет отдал высшей математике. Литературный дебют - роман «Прямая линия». Первый этап творчества связан с традициями романтической «исповедальной» прозы 1960-х. Позже вместо сосредоточенности на своём «я» повествователь Маканина всё больше отождествляет себя с другими, вследствие чего отказывается от позы «судьи» по отношению к своим героям (рассказы «Гражданин убегающий», «Человек свиты», и другие, повести «Голубое и красное», «Предтеча», «Отставший», «Утрата»). Новый период творчества Маканина нацелен на подведение итогов прожитой жизни, осмысление русской истории. Он начинается с повести-романа «Стол, покрытый сукном и с графином посредине», которую можно рассматривать как своего рода заявку на роман «Андеграунд, или Герой нашего времени» - самое на сегодняшний день значительное произведение писателя. В его тексте стирается граница между «литературой» и «жизнью». Начиная с заглавия, он полон литературных, живописных, музыкальных цитат, бытовых подробностей. Таким образом, текст Маканина сориентирован на узнавание читателем примет реальности. 1 Солдаты, скорее всего, не знали про то, что красота спасет мир, но что такое красота, оба они, в общем, знали. Среди гор они чувствовали красоту (красоту местности) слишком хорошо — она пугала. Из горной теснины выпрыгнул вдруг ручей. Еще более насторожила обоих открытая поляна, окрашенная солнцем до ослепляющей желтизны. Рубахин шел первым, более опытный. Куда вдруг делись горы? Залитое солнцем пространство напомнило Рубахину о счастливом детстве (которого не было). Особняком стояли над травой гордые южные деревья (он не знал их названий). Но более всего волновала равнинную душу эта высокая трава, дышавшая под несильным ветром. — Стой-ка, Вов. Не спеши, — предупреждает негромко Рубахин. Быть на незнакомом открытом месте — все равно что быть на мушке. И прежде чем выйти из густого кустарника, Вовка-стрелок вскидывает свой карабин и с особой медлительностью ведет им слева направо, используя оптический прицел как бинокль. Он затаил дыхание. Он оглядывает столь щедрое солнцем пространство. Он замечает у бугра маленький транзисторный приемник. — Ага! — восклицает шепотом Вовка-стрелок. (Бугор сух. Приемничек сверкнул на солнце стеклом.) Короткими перебежками оба солдата в пятнистых гимнастерках добираются до вырытой наполовину (и давно заброшенной) траншеи газопровода — до рыжего, в осенних красках бугра. Они повертели в руках: они уже узнали приемничек. Ефрейтор Боярков, напившись, любил уединиться, лежа где-нибудь в обнимку с этим стареньким транзистором. Раздвигая высокую траву, они ищут тело. Находят неподалеку. Тело Бояркова привалено двумя камнями. Обрел смерть. (Стреляли в упор — он, похоже, и глаза свои пьяные не успел протереть. Впалые щеки. В части решили, что он в бегах.) Документов никаких. Надо сообщать. Но почему боевики не взяли транзистор? Потому что улика. Нет. А потому, что слишком он старенький и дребезжащий. Не вещь. Необратимость случившегося (смерть — один из ясных случаев необратимости) торопит и против воли подгоняет: делает обоих солдат суетными. Орудуя плоскими камнями как лопатами, они энергично и быстро закапывают убитого. Так же наскоро слепив над ним холмик земли (приметный насыпной холм), солдаты идут дальше. И вновь — на самом выходе из теснины — высокая трава. Ничуть не пожухла. Тихо колышется. И так радостно перекликаются в небе (над деревьями, над обоими солдатами) птицы. Возможно, в этом смысле красота и спасает мир. Она нет-нет и появляется как знак. Не давая человеку сойти с пути. (Шагая от него неподалеку. С присмотром.) Заставляя насторожиться, красота заставляет помнить. Но на этот раз открытое солнечное место оказывается знакомым и неопасным. Горы расступаются. Впереди ровный путь, чуть дальше наезженная машинами пыльная развилка, а там и — воинская часть. Солдаты невольно прибавляют шагу. Подполковник Гуров, однако, не в части, а у себя дома. Надо идти. Не передохнув и минуты, солдаты топают туда, где живет подполковник, всесильный в этом месте, а также во всех примыкающих (красивых и таких солнечных) местах земли. Живет он с женой в хорошем деревенском доме, с верандой для отдыха, увитой виноградом; при доме есть и хозяйство. Время жаркое — полдень. На открытой веранде подполковник Гуров и его гость Алибеков; разморенные обедом, они дремлют в легких плетеных креслах в ожидании чая. Рубахин докладывает, запинаясь и несколько робея. Гуров сонно смотрит на них обоих, таких пропыленных (пришедших к нему незвано и — что тоже не в пользу — совсем незнакомых ему своими лицами); на миг Гуров молодеет; резко повысив голос, он выкрикивает, никакой подмоги кому бы то ни было, какая, к чертям, подмога! — ему даже смешно слушать, чтобы он направил куда-то своих солдат выручать грузовики, которые по собственной дурости влипли в ущелье!.. Больше того: он их так не отпустит. Рассерженный, он велит обоим солдатам заняться песком: пусть-ка они честно потрудятся — помогут во дворе. Кррругом — аррш! И чтоб разбросали ту гору песка у въезда. И чтоб песок по всем дорожкам! — к дому и к огороду — грязь всюду, мать ее перемать, не пройдешь!.. Жена подполковника, как и все хозяйки на свете, рада дармовым солдатским рукам. Анна Федоровна, с засученными рукавами, в грязных разбитых мужских ботинках, тут же и появляется на огороде с радостными кликами: пусть, пусть еще и с грядками ей помогут!.. Солдаты развозят песок на тачках. Разбрасывают его, сеют лопатами по дорожкам. Жара. А песок сырой, брали, видно, у речки. Вовка водрузил на кучу песка транзистор убитого ефрейтора, нашел поддерживающую дух ритмичную музыку. (Но негромко. Для своего же блага. Чтоб не помешать Гурову и Алибекову, разговаривающим на веранде. Алибеков, судя по доносящимся тягучим его словам, выторговывает оружие — дело важное.) 2 — Даю десять “калашниковых”. Даю пять ящиков патронов. Ты слышал, Алибек, — не три, а пять ящиков. — Слышал. Транзистор на песчаном бугре еще раз напоминает Рубахину, какое красивое место выбрал себе Боярков на погибель. Пьяненький дурак, он в лесу спать побоялся, на полянку вышел. Еще и к бугру. Когда боевики набегали, Боярков толкнул свой приемничек в сторону (своего верного дружка), чтобы тот сполз с бугра в траву. Боялся, что отнимут, — мол, сам как-нибудь, а его не отдам. Едва ли! Заснул он пьяный, а приемник попросту выпал у него из рук и, съехав на чуть, скатился по склону. Убили в упор. Молодые. Из тех, что хотят поскорее убить первого, чтобы войти во вкус. Пусть даже сонного. Приемник стоял теперь на куче песка, а Рубахин видел тот залитый солнцем рыжий бугор, с двумя цепкими кустами на северном склоне. Красота места поразила, и Рубахин — памятью — не отпускает (и все больше вбирает в себя) склон, где уснул Боярков, тот бугор, траву, золотую листву кустов, а с ними еще один опыт выживания, который ничем незаменим. Красота постоянна в своей попытке спасти. Она окликнет человека в его памяти. Она напомнит. Сначала они разгоняли тачки по вязкой земле, потом догадались: покидали по дорожкам доски. Первым шустро катит тачку Вовка, за ним, нагрузив горой, толкает свою огромную тачку Рубахин. Он разделся до пояса, поблескивая на солнце мощным и мокрым от пота телом. — Но чтоб к первому числу провиант... — Я, Петрович, после обеда немного сплю. Ты тоже, как я знаю. Не забыла ли Анна Федоровна наш чай? — Не забыла. За чай не волнуйся. — Как не волноваться! — смеется гость. — Чай — это тебе не война, чай остывает. Гуров и Алибеков помалу возобновляют свой некончающийся разговор. Но вялость слов (как и некоторая ленивость их спора) обманчива — Алибеков прибыл за оружием, а Гурову, его офицерам и солдатам, позарез нужен провиант, прокорм. Обменный фонд, конечно, оружие; иногда бензин. — Харч чтобы к первому числу. И чтоб без этих дурацких засад в горах. Вино не обязательно. Но хоть сколько-то водки. — Водки нет. — Ищи, ищи, Алибек. Я же ищу тебе патроны! Подполковник зовет жену: как там чай? ах, какой будет сию минуту отменный крепкий чай! — Аня, как же так? ты кричала нам с грядок, что уже заварила! В ожидании чая оба неспешно, с послеобеденной ленцой закуривают. Дым так же лениво переползает с прохладной веранды на виноград и — пластами — тянется в сторону огорода. Сделав Рубахину знак: мол, попытаюсь добыть выпивки (раз уж здесь застряли), стрелок отходит шаг за шагом к плетеному забору. (У Вовки всегда хитрые знаки и жесты.) За плетнем молодая женщина с ребенком, и Вовка-стрелок тотчас с ней перемигивается. Вот он перепрыгнул плетень и вступает с ней в разговор. Молодец! А Рубахин знай толкает тачку с песком. Кому что. Вовка из тех бойких солдат, кто не выносит вялотекущей работы. (И всякой другой работы тоже.) И надо же: поладили! Удивительно, как сразу эта молодуха идет навстречу — словно бы только и ждала солдата, который ласково с ней заговорит. Впрочем, Вовка симпатичный, улыбчивый и где на лишнюю секунду задержится — пустит корешки. Вовка ее обнимает, она бьет его по рукам. Дело обыкновенное. Они на виду, и Вовка понимает, что надо бы завлечь ее в глубь избы. Он уговаривает, пробует с силой тянуть за руку. Молодуха упирается: “А вот и нету!” — смеется. Но за шагом шаг они смещаются оба в сторону избы, к приоткрытой там из-за жары двери. И вот они там. А малыш, неподалеку от двери, продолжает играть с кошкой. Подполковник Гуров продолжает неторопливый торг с Алибековым, жена (она вымыла руки, надела красную блузку) подала им чай, каждому свой — два по-восточному изящных заварных чайника. — Хорошо заваривает, умеет! — хвалит Алибеков. Гуров: — И чего ты упрямишься, Алибек!.. Ты ж, если со стороны глянуть, пленный. Все ж таки не забывай, где ты находишься. Ты у меня сидишь. — Это почему же — я у тебя? — Да хоть бы потому, что долины здесь наши. — Долины ваши — горы наши. Алибеков смеется: — Шутишь, Петрович. Какой я пленный... Это ты здесь пленный! — Смеясь, он показывает на Рубахина, с рвением катящего тачку: — Он пленный. Ты пленный. И вообще каждый твой солдат — пленный! Смеется: Рубахин тем временем с тачкой. Где не проехать, он, перебрав с прежних мест, вновь выложил доски в нитку — он осторожно вел по ним колесо, удерживая на весу тяжесть песка. — А я как раз не пленный. И опять за свое: — Двенадцать “калашей”. И семь ящиков патронов. Теперь смеется Гуров: — Двенадцать, ха-ха!.. Что за цифра такая — двенадцать? Откуда ты берешь такие цифры?.. Я понимаю — десять; цифра как цифра, запомнить можно. Значит, стволов — десять! — А что? Европа и есть Европа. Старики говорят, не так далеко. Старики недовольны. Старики говорят, куда русские, туда и мы — и чего мы друг в дружку стреляем? — Вот ты и спроси своих кунаков — чего?! — сердито вскрикивает Гуров. — Двенадцать. — О-о-о, обиделся. Чай пьем — душой добреем... — Десять... Алибеков восхищенно вздыхает: — Вечер какой сегодня будет! Ц-ц! — До вечера еще далеко. Они медленно пьют чай. Неторопливый разговор двух давно знающих и уважающих друг друга людей. (Рубахин катит очередную тачку. Накреняет ее. Ссыпает песок. Разбрасывая песок лопатой, ровняет с землей.) — Знаешь, Петрович, что старики наши говорят? В поселках и в аулах у нас умные старики. Какое-то время они молчат. Алибеков снова рассуждает, неторопливо подливая из чайника в чашку: — ...не так уж она далеко. Время от времени ходить в Европу надо. Старики говорят, что сразу у нас мир станет. И жизнь как жизнь станет. — Когда еще станет. Жди! — Чай отличный. Ах, Анна Федоровна, завари нам еще. Очень прошу! Гуров вздыхает: — Вечер и правда будет чудный сегодня. Это ты прав. — Что ж они говорят? — А говорят они — поход на Европу пора делать. Пора опять идти туда. — Хватил, Алибек. Евро-опа!.. — А я всегда прав, Петрович. Ладно, десять “калашей”, согласен. А патронов — семь ящиков... — Опять за свое. Откуда ты берешь такие цифры — нет такой цифры семь! Хозяйка несет (в двух белых кастрюлях) остатки обеда, чтобы скормить пришлым солдатам. Рубахин живо откликается — да! да! солдат разве откажется!.. “А где второй?” И тут запинающемуся Рубахину приходится тяжело лгать: мол, ему кажется, у стрелка живот скрутило. Подумав, он добавляет чуть более убедительно: “Мается, бедный”. — “Может, зелени наелся? яблок?” — спрашивает сердобольно подполковничиха. Окрошка вкусна, с яйцом, с кусками колбасы; Рубахин так и склонился над первой кастрюлей. При этом он громко бьет ложкой по краям, гремит. Знак. Вовка-стрелок слышит (и, конечно, понимает) звук стучащей ложки. Но ему не до еды. Молодая женщина в свою очередь слышит (и тоже понимает) доносящееся со двора истеричное мяуканье и вслед вскрик оцарапанного малыша: “Маа-ам!..” Видно, задергал кошку. Но женщина сейчас вся занята чувством: истосковавшаяся по ласке, с радостью и с жадностью она обнимает стрелка, не желая упустить счастливый случай. Про стрелка и говорить нечего — солдат есть солдат. И тут снова детский капризный крик: “Ма-ааам...” Женщина срывается с постели — высунув голову в дверь, она цыкнула на малыша; и притворяет дверь плотнее. Босо протопав, возвращается к солдату; и словно вся вспыхивает заново. “Ух, жаркая! Ух, ты даешь!” — восхищен Вовка, а она зажимает ему рот: “Тс-сс...” — Зачем вам? — В уплату. Дорогу нам заперли. — А чо ж вы, если портвейн нужен, к подполковнику пришли? — Дураки, вот и пришли. Молодая женщина вдруг плачет — рассказывает, что недавно она сбилась с дороги и ее изнасиловали. Вовка-стрелок, удивленный, присвистывает: вот ведь как!.. Посочувствовав, он спрашивает (с любопытством), сколько ж их было? — их было четверо, она всхлипывает, утирая глаза уголком простыни. Ему хочется порасспросить. Но ей хочется помолчать. Она утыкается головой, ртом ему в грудь: хочется слов утешения; простое чувство. Разговаривают: да, бутылку портвейна она, конечно, купит ему, но только если стрелок пойдет с ней к магазину. Она сразу же купленную бутылку ему передаст. Не может она с бутылкой идти домой, после того что с ней случилось, — люди знают, люди что подумают... Во второй кастрюле тоже много еды: каша и кусок мяса из консервов, — Рубахин все уминает. Он ест не быстро, не жадно. Запивает он двумя кружками холодной воды. От воды его немного знобит, он надевает гимнастерку. Шепотом Вовка излагает ей нехитрый солдатский наказ: просит молодую женщину сходить в сельпо и купить там дрянного их портвейна, солдату в форме не продадут, а ей это пустяк... — Отдохнем малость, — говорит он самому себе и уходит к плетню. Он делится с ней и главной заботой: им бы сейчас не бутылку — им бы ящик портвейна. Он прилег; впадает в дрему. А из соседнего домика, куда скрылся Вовка, через открытое окно доносится тихий сговор. Вовка: — ...тебе подарок куплю. Косынку красивую. Или шаль тебе разыщу. Она: — Ты ж уедешь. — Заплакала. Вовка: — Так я пришлю, если уеду! Какое тут сомненье!.. Вовка долго упрашивал, чтобы она стоя согнулась. Не слишком высокий Вовка (он этого никогда не скрывал и охотно рассказывал солдатам) любил обхватить крупную женщину сзади. Неужели она не понимает? Так приятно, когда женщина большая... Она отбивалась, отнекивалась. Под их долгий, жаркий шепот (слова уже становились неразличимы) Рубахин уснул. Вовка сыплет словами. Торопит: — На разоружение идут. Нам бы с ними. Прихватим чурку — вот бы и отлично! Ты ж сам говорил... Рубахин уже проснулся. Да, понял. Да. Будет как раз. Да-а, нам скорее всего там повезет — надо идти. Солдаты тихо-тихо выбираются из подполковничьей усадьбы. Они осторожно забирают вещмешки, свое оружие, стоявшее у колодца. Они перелазят плетень и уходят чужой калиткой, чтобы те двое, с веранды, их не увидели и не окликнули. Их не увидели; и не окликнули. Сидят. Жара. Тихо. И Алибеков негромко напевает, голос у него чистый: Возле магазина, едва получив портвейн из ее рук, Вовка сует бутылку в глубокий надежный карман солдатских брюк и — бегом, бегом — к Рубахину, которого он оставил. Молодая женщина так его выручила, и кричит, с некоторой опаской напрягая на улице голос, кричит вслед с упреком, но Вовка машет рукой, уже не до нее — все, все, пора!.. Он бежит узкой улицей. Он бежит меж плетней, срезая путь к дому подполковника Гурова. Есть новость (и какая новость!) — стрелок стоял, озираясь, возле их заплеванного магазинишки (ожидая бутылку) и услышал об этом от проходивших мимо солдат. Все здесь замерло-ооо до утра-ааа... Тихо. — Люди не меняются, Алибек. — Не меняются, думаешь? — Только стареют. — Рубаха, слышь!.. Дело верное: старлей Савкин пойдет сейчас в лес на разоружение. — Ха. Как мы с тобой... — Алибеков подливает тонкой струей себе в чашку. Ему уже не хочется торговаться. Грустно. К тому же все слова он сказал, и теперь правильные слова сами (своей неспешной логикой) доберутся до его старого друга Гурова. Можно не говорить их вслух. — А? — Рубахин заспанно смотрит на него. — Вот чай хороший совсем исчез. Перепрыгнув плетень, он находит спящего Рубахина и толкает его: — Пусть. — Чай дорожает. Еда дорожает. А время не меня-я-яется, — тянет слова Алибеков. Хозяйка как раз вносит на смену еще два заварных чайника. Чай — это верно. Дорожает. “Но меняется время или нет, а прокорм ты, брат, привезешь...” — думает Гуров и тоже слова вслух пока не произносит. Гуров знает, что Алибеков поумнее, похитрее его. Зато его, Гурова, немногие мысли прочны и за долгие годы продуманы до такой белой ясности, что это уже и не мысли, а части его собственного тела, как руки и ноги. Раньше (в былые-то дни) при интендантских сбоях или просто при задержках с солдатским харчем Гуров тотчас надевал парадный мундир. Он цеплял на грудь свой орденок и медали. В армейском “козлике” ГАЗ-69 (с какой пылью, с каким ветерком!) мчал он по горным извилистым дорогам в районный центр, пока не подкатывал наконец к известному зданию с колоннами, куда и входил не сбавляя шага (и не глядя на умученных ожиданием посетителей и просителей), прямиком в кабинет. А если не в райкоме, то в исполкоме. Гуров умел добиться. Бывало, и сам рулил на базу, и взятку давал, а иногда еще и умасливал кого нужно красивым именным пистолетом (мол, пригодится: Восток — это Восток!.. Он и думать не думал, что когда-нибудь эти игривые слова сбудутся). А теперь пистолет ничто, тьфу. Теперь десять стволов мало — дай двенадцать. Он, Гуров, должен накормить солдат. С возрастом человеку все тяжелее даются перемены, но взамен становишься более снисходителен к людским слабостям. Это и равновесит. Он должен накормить также и самого себя. Жизнь продолжается, и подполковник Гуров помогает ей продолжаться — вот весь ответ. Обменивая оружие, он не думает о последствиях. При чем здесь он?.. Жизнь сама собой переменилась в сторону всевозможных обменов (меняй что хочешь на что хочешь) — и Гуров тоже менял. Жизнь сама собой переменилась в сторону войны (и какой дурной войны — ни войны, ни мира!) — и Гуров, разумеется, воевал. Воевал и не стрелял. (А только время от времени разоружал по приказу. Или, в конце концов, стрелял по другому приказу; свыше.) Он поладит и с этим временем, он соответствует. Но... но, конечно, тоскует. Тоскует по таким понятным ему былым временам, когда, примчавшись на своем “газике”, он входил в тот кабинет и мог накричать, всласть выматерить, а уж потом, снисходя до мира, развалиться в кожаном кресле и покуривать с райкомовцем, как с дружком-приятелем. И пусть ждут просители за дверью кабинета. Однажды не застал он райкомовца ни в кабинете, ни дома: тот уехал. Но зато застал его жену. (Поехав к ним домой.) И отказа тоже не было. Едва начинавшему тогда седеть, молодцеватому майору Гурову она дала все, что только может дать скучающая женщина, оставшаяся летом в одиночестве на целую неделю. Все, что могла. Все, и даже больше, подумал он (имея в виду ключи от огромного холодильника номер два, их районного мясокомбината, где складировали свежекопченое мясо). — Алибек. Я тут вспомнил. А копченого мяса ты не достанешь?.. 3 Операция по разоружению (еще с ермоловских времен она и называлась “подковой”) сводилась к тому, что боевиков окружали, но так и не замыкали окружение до конца. Оставляли одинединственный выход. Торопясь по этой тропе, боевики растягивались в прерывистую цепочку, так что из засады — хоть справа, хоть слева — взять любого из них, утянуть в кусты (или в прыжке сбить с тропы в обрыв и там разоружить) было делом не самым простым, но возможным. Конечно, все это время шла частая стрельба поверх голов, пугавшая и заставлявшая их уходить. Оба затесались в число тех, кто шел на разоружение, однако Вовку высмотрели и тотчас изгнали: старлей Савкин полагался только на своих. Взгляд старлея скользнул по мощной фигуре Рубахина, но не уперся в него, не царапнул, и хрипатого приказа “Два шага вперед!..” не последовало — скорее всего, старлей просто не приметил. Рубахин стоял в группе самых мощных и крепких солдат, он с ними сливался. огонь из засад, боевики сами собой устремлялись по тропе, что вроде бы все сужалась и уводила их в горы. — А вот этот будет мой — лады? — сказал Рубахин, привставая и ускоряя шаг к просвету. — Ни пуха! — Геша наскоро докуривал. Оказалось, “этот” не одиночка — бежали двое, но уже выпрыгнувший из кустов Рубахин упускать их права не имел. “Сто-оой! Сто-оой!..” Он кинулся с пугающим криком за ними. Стартовал Рубахин неважнецки. Ком мускулов развить скорость сразу не мог, но уж когда он разгонялся, ни кривой куст, ни осыпь под ногой значения не имели — летел. А как только началась стрельба, Рубахин поспешил и уже был в засаде; он покуривал в кустах с неким ефрейтором Гешей. Солдаты-старогодки, они вспоминали тех, кто демобилизовался. Нет, не завидовали. Хера ли завидовать? Неизвестно, где лучше... Он мчался уже метрах в шести от боевика. А первый (то есть бежавший первым) шел резвее его, уходил. Второго (тот был уже совсем близко) Рубахин не опасался, он видел болтающийся на шее автомат, но патроны расстреляны (или же боевик стрелять на бегу был неловок?). Первый опаснее, автомата не было, и значит, пистолет. — Шустро бегут, — сказал Геша, не подымая глаз на мелькавшие в кустах тени. Рубахин наддал. Сзади он расслышал поступь бегущего следом — ага, Гешка прикрыл! Двое надвое... Боевики бежали сначала по двое, по трое, с шумом и треском проносясь по заросшей кустами старинной тропе. Но кого-то из одиночек уже расхватывали. Вскрик. Возня... и тишина. (“Взяли?” — спрашивал Геша глазами Рубахина, и тот кивком отвечал: “Взяли”.) И вновь нарастал треск в кустах. Приближались. Стрелять они еще худо-бедно умели (и убивать, конечно, тоже), но бежать через кусты с оружием в руках, с патронташем на шее да еще под выстрелами — конечно, тяжко. Спугнутые, натыкаясь на Нагнав, он не стал ни хватать, ни валить (пока с ним, упавшим, разберешься, первый наверняка уйдет). Сильным ударом левой он сбил его в овраг, в ломкие кусты, крикнув Геше: “Один в канаве! Возьми его!..” — и рванул за первым, длинноволосым. Рубахин шел уже самым быстрым ходом, но и тот был бегун. Едва Рубахин стал его доставать, он тоже прибавил. Теперь шли вровень, их разделяло метров восемь — десять. Обернувшись, убегающий вскинул пистолет и выстрелил — Рубахин увидел, что он совсем молодой. Еще выстрелил. (И терял скорость. Если б не стрелял, он бы ушел.) — Пошли, — сказал Рубахин, помогая ему (со скрученными за спиной руками) подняться. Когда шли, предупредил: Стрелял он через левое плечо, пули сильно недобирали, так что Рубахин не пригибался каждый раз, когда боевик заносил руку для выстрела. Однако все патроны не стал расстреливать, хитрец. Стал уходить. Рубахин тотчас понял. Не медля больше, Рубахин швырнул свой автомат — по ногам. Этого, конечно, хватило. Бегущий вскрикнул от боли, дернулся и стал заваливаться, Рубахин достал его прыжком, подмял, правой рукой прихватывая за запястье, где пистолет. Пистолета не было. Падая, выронил его, тот еще боец!.. Рубахин завел ему руки, вывернув плечо, конечно с болью. Тот ойкнул и обмяк. Рубахин все еще на порыве извлек из кармана ремешок, скрутил руки, посадил у дерева, притолкнув несильное тело к стволу — сиди!.. И только тут встал наконец с земли и ходил по тропе, отдыхиваясь и ища в траве — уже внимательным глазом — свой автомат и выброшенный беглецом пистолет. Снова топот — Рубахин скакнул с тропы в сторону, к корявому дубку, где сидел пойманный. “Тихо!” — велел ему Рубахин. В мгновенье проскочили мимо них несколько удачливых и быстроногих боевиков. За ними, матюкаясь, бежали солдаты. Рубахин не вмешивался. Он дело сделал. Он глянул на пойманного: лицо удивило. Во-первых, молодостью, хотя такие юнцы, лет шестнадцати — семнадцати, среди боевиков бывали нередко. Правильные черты, нежная кожа. Чем-то еще поразило его лицо кавказца, но чем? — он не успел понять. — И не бежать. Не вздумай даже. Я не застрелю. Но я сильно побью — понял? Молодой пленник прихрамывал. Автомат, что швырнул Рубахин, поранил ему ногу. Или притворяется?.. Пойманный обычно старается вызвать к себе жалость. Хромает. Или кашляет сильно. 4 Обезоруженных было много, двадцать два человека, и потому, возможно, Рубахин отстоял своего пленного без труда. “Этот мой!” — повторял, держа руку на его плече, Рубахин в общем шуме и гаме — в той последней суете, когда пленных пытаются построить, чтобы вести в часть. Напряжение никак не спадало. Пленные толпились, боясь, что их сейчас разделят. Держались один за другого, перекрикиваясь на своем языке. У некоторых даже не были связаны руки. “Почему твой? Вон сколько их — все они наши!” Но Рубахин качал головой: мол, те наши, а этот — мой. Появился Вовка-стрелок, как всегда вовремя и в свою минуту. Куда лучше, чем Рубахин, он умел и сказать правду, и задурить голову. “Нам необходимо! оставь! Записка от Гурова... Нам для обмена пленных!” — вдохновенно лгал он. “Но ты доложи старлею”. — “Уже доложено. Уже договорено!” — продолжал Вовка взахлеб, мол, подполковник сейчас чай пьет у себя дома (что было правдой) — они вдвоем только что оттуда (тоже правда), и Гуров, мол, самолично написал для них записку. Да, записка там, на КП... Вовка заметно осунулся. Рубахин недоуменно глянул в его сторону: как-никак через кусты за длинноволосым бежал он — ловил и вязал он, потел он, а осунулся Вовка. Пленных (наконец построив) повели к машинам. Отдельно несли оружие, и кто-то вслух вел счет: семнадцать “калашниковых”, семь пистолетов, десяток гранат. Двое убитых во время гона, двое раненых, у нас тоже один ранен и Коротков убит... Крытые брезентом грузовики вытянулись в колонну и, в сопровождении двух бэтээров (в голове и в хвосте), с ревом, набирая все больше скорости, двинулись в часть. Солдаты в машинах возбужденно обсуждали, горланили. Все хотели есть. По прибытии, едва вылезли из машины, Рубахин и Вовка-стрелок вместе со своим пленным тут же отбились в сторону. К ним не цеплялись. С пленными в общем-то делать нечего: молодых отпустят, матерых месяца два-три подержат на гауптвахте, как в тюрьме, ну а если побегут — их не без удовольствия постреляют... война! Бояркова, быть может, эти же самые боевики застрелили спящего (или только-только открывшего со сна глаза). Лицо без единой царапины. И муравьи ползли. В первую минуту Рубахин и Вовка стали сбрасывать муравьев. Когда перевернули, в спине Бояркова сквозила дыра. Стреляли в упор; но пули не успели разойтись и ударили в грудь кучно: проломив ребра, пули вынесли наружу все его нутро — на земле (в земле) лежало крошево ребер, на них печень, почки, круги кишок, все в большой стылой луже крови. Несколько пуль застопорило на еще исходящих паром кишках. Боярков лежал перевернутый с огромной дырой в спине. А его нутро, вместе с пулями, лежало в земле. Вовка заворачивал к столовой. — ...на обмен взяли. Подполковник разрешение дал, — спешил сказать Вовка, опережая расспросы встретившихся солдат из взвода Орликова. Солдаты, сытые после еды, выкрикивали ему: мол, передавай привет. Спрашивали: кто в плену? на кого меняем?! — На обмен, — повторял Вовка-стрелок. Ваня Бравченко засмеялся: — Валюта! Сержант Ходжаев крикнул: — Молодцы, хорошо поймали! Таких любят!.. Их начальник, — он мотнул головой в сторону гор, — таких очень любит. Чтобы пояснить, Ходжаев еще и засмеялся, показав крепкие белые солдатские зубы. — Два, три, пять человек на одного выменяешь! — крикнул он. — Таких, как девушку, любят! — И, поравнявшись, он подмигнул Рубахину. Рубахин хмыкнул. Он вдруг догадался, что его беспокоило в плененном боевике: юноша был очень красив. Пленный не слишком хорошо говорил по-русски, но, конечно, все понимал. Злобно, с гортанно взвизгивающими звуками он выкрикнул Ходжаеву что-то в ответ. Скулы и лицо вспыхнули, отчего еще больше стало видно, что он красив — длинные, до плеч, темные волосы почти сходились в овал. Складка губ. Тонкий, в нитку, нос. Карие глаза заставляли особенно задержаться на них — большие, вразлет и чуть враскос. Вовка быстро сговорился с поваром. Перед дорогой надо было хорошо поесть. За длинным дощатым столом шумно и душно; жарко. Сели с краю — и тут же из вещмешка Вовка извлек ополовиненную бутылку портвейна; скрытным движением он сунул ее под столом Рубахину, чтобы тот, зажав бутылку, как водится, меж колен, незаметно для других ее допил. “Ровняк половину тебе оставил. Цени, Рубаха, мою доброту!..” Поставил тарелку и перед пленным: — Нэ хачу, — резко ответил тот. Отвернулся, качнув темными локонами. Вовка придвинул к нему ближе: — Хотя бы мясо порубай. Дорога долгая. Пленный молчал. Вовка заволновался, что тот, пожалуй, двинет сейчас локтем тарелку и столь трудно выпрошенная у повара лишняя каша с мясом будет на полу. Он быстро разбросал третью порцию по тарелкам себе и Рубахину. Поели. Пора было идти. 5 У ручья они пили, зачерпывая по очереди воду пластмассовым стаканчиком. Пленного, видно, мучила жажда; стремительно шагнув, он, словно рухнул, упал на колени, гремя галькой. Он не дождался, пока развяжут руки или напоят из стаканчика, — стоя на коленях и склонившись к быстрой воде лицом, долго пил. Связанные сзади посиневшие руки при этом задирались кверху; казалось, он молится каким-то необычным способом. Потом сидел на песке. Лицо мокро. Прижимая щеку к плечу, он пытался сбросить без помощи рук нависшие там и тут на лице капли воды. Рубахин подошел: — Мы бы дали тебе напиться. И руки бы развязали... Куда спешишь? Не ответил. Рубахин посмотрел на него и ладонью отер ему воду на подбородке. Кожа была такой нежной, что рука Рубахина дрогнула. Не ожидал. И ведь точно! Как у девушки, подумал он. Глаза их встретились, и Рубахин тут же отвел взгляд, смутившись вдруг скользнувших и не слишком хороших мыслей. На миг насторожил Рубахина ветер, шумнувший в кустах. Как бы не шаги?.. Смущение отступило. (Но оно только припряталось. Не ушло совсем.) Рубахин был простой солдат — он не был защищен от человеческой красоты как таковой. И вот уже вновь словно бы исподволь напрашивалось новое и незнакомое ему чувство. И, конечно, он отлично помнил, как крикнул тогда и как подмигнул сержант Ходжаев. Сейчас предстояло быть и вовсе лицом к лицу. Пленный не мог самостоятельно перейти ручей. Крупная галька и напористое течение, а он был бос, и нога распухла у щиколотки так сильно, что уже в самом начале пути ему пришлось сбросить свои красивые кроссовки (на время они лежали в вещмешке Рубахина). Если при переходе ручья раз-другой упадет, он может стать никуда не годным. Ручей потащит волоком. Выбора нет. И понятно, что Рубахин, кто же еще, должен был нести его через воду: не он ли, когда брал в плен, броском своего автомата повредил ему ногу? взрывался незнакомой речью. Вовка, как и всегда, полагался на опыт Рубахина, за километр слышавшего камень под чужой ногой. Чувство сострадания помогло Рубахину; сострадание пришло ему в помощь очень кстати и откуда-то свыше, как с неба (но оттуда же нахлынуло вновь смущение заодно с новым пониманием опасной этой красоты). Рубахин растерялся лишь на миг. Он подхватил юношу на руки, нес через ручей. Тот дернулся, но руки Рубахина были мощны и сильны. Когда зоркий старлей изгнал его из числа тех, кто пошел на разоружение, Вовка от нечего делать вернулся в домишко, где жила молодая женщина. (Домишко рядом с домом подполковника. Но Вовка был осторожен.) Она, понятно, обругала, попеняла солдату, так скоро бросившему ее у магазина. Но через минуту они снова оказались лицом к лицу, а еще через минуту в постели. Так что теперь Вовка был приятно изнурен. Дорогу он осиливал, но на привалах его тотчас кидало в сон. — Ну-ну. Не брыкайся, — сказал он, и это были примерно те же грубоватые слова, какие сказал бы он в подобной ситуации женщине. Он нес; слышал дыхание юноши. Тот нарочито отвернул лицо, и все же его руки (развязанные на время перехода), обхватившие Рубахина, были цепки — он ведь не хотел упасть в воду, на камни. Как и всякий, кто несет на руках человека, Рубахин ничего не видел под ногами и ступал осторожно. Скосив глаза, он только и видел бегущую вдали воду ручья и, на фоне прыгающей воды, профиль юноши, нежный, чистый, с неожиданно припухлой нижней губой, капризно выпятившейся, как у молоденькой женщины. Здесь же у ручья сделали первый привал. Для безопасности сошли с тропы вниз по течению. Сидели в кустах. Рубахин держал на коленях автомат со снятым предохранителем. Есть пока не хотелось, но пили воду несколько раз. Вовка, лежа на боку, крутил приемничек, тот еле слышно свиристел, булькал, мяукал, — Рубаха, я сплю. Слышь. Я сплю, — честно предупреждал он, проваливаясь в мгновенной солдатской дреме. Рубахину было проще заговорить на быстром ходу. — ...если по-настоящему, какие мы враги — мы свои люди. Ведь были же друзья! Разве нет? — горячился и даже как бы настаивал Рубахин, пряча в привычные (в советские) слова смущавшее его чувство. А ноги знай шагали. Вовка-стрелок фыркнул: — Да здравствует нерушимая дружба народов... Рубахин расслышал, конечно, насмешку. Но сказал сдержанно: — Вов. Я ведь не с тобой говорю. Вовка на всякий случай смолк. Но и юноша молчал. — Я такой же человек, как ты. А ты такой же, как я. Зачем нам воевать? — продолжал говорить всем известные слова Рубахин, но мимо цели; получалось, что стершиеся слова говорил он самому себе да кустам вокруг. Да еще тропинке, что после ручья рванулась прямиком в горы. Рубахину хотелось, чтобы юноша хоть как-то ему возразил. Хотелось услышать голос. Пусть что-то скажет. (Рубахин все больше чувствовал себя неспокойным.) Вовка-стрелок (на ходу) шевельнул пальцем, и приемничек в его солдатском мешке ожил, зачирикал. Вовка еще шевельнул — нашел маршевую песню. А Рубахин все говорил. Наконец устал и смолк. Идти со связанными руками (и с плохой ногой) непросто, если подъем крут. Пленный боевик оступался; шел с трудом. На одном из подъемов вдруг упал. Кое-как встал, не жаловался; но Рубахин заметил его слезы. Рубахин несколько скоропалительно сказал: — Если не убежишь, я развяжу тебе руки. Дай слово. Вовка-стрелок услышал (сквозь музыку приемника) и вскрикнул: — Рубаха! да ты спятил!.. Вовка шел впереди. Он ругнулся: мол, глупость какая. А приемник меж тем звучал громко. — Вов. Выруби... Мне слышать надо. — Счас. Музыка смолкла. Рубахин развязал пленному руки — куда он уйдет с такой ногой от него, от Рубахина. Шли довольно быстро. Впереди пленный. Рядом полусонный Вовка. А чуть сзади молчаливый, весь на инстинктах Рубахин. Освободить кому-то хотя бы только кисти рук и хотя бы только на время пути — приятно. Со сладким привкусом сглотнулась слюна в гортани Рубахина. Редкая минута. Но привкус привкусом, а взгляд его не слабел. Тропа набрала крутизну. Стороной они прошли холмик, где был закопан пьянчуга Боярков. Замечательное залитое вечерним солнцем место. На ночном привале Рубахин отдал ему свои шерстяные носки. Сам остался в сапогах на босу ногу. Всем спать! (И совсем малый костер!..) Рубахин отобрал у Вовки транзистор (ночью ни звука). Автомат, как всегда, на коленях. Он сидел плечом к пленному, а спиной к дереву в своей излюбленной с давних времен позе охотника (чуткой, но позволяющей немного впасть в дрему). Ночь. Он как бы спал. И в параллель сну слышал сидящего рядом пленника — слышал и чувствовал настолько, что среагировал бы в тот же миг, вздумай тот шевельнуться хоть чуточку нестандартно. Но тот и не думал о побеге. Он тосковал. (Рубахин вникал в чужую душу.) Вот оба они впали в дрему (доверяя), а вот Рубахин уже почувствовал, как юношей вновь овладела тоска. Днем пленный старался держаться гордецом, но сейчас его явно донимала душевная боль. Чего, собственно, он печалился? Рубахин еще днем внятно намекнул ему, что ведут его не в воинскую тюрьму и не для каких-то иных темных целей, а именно, чтобы отдать его своим — взамен на право проехать. Всего-то и дел — передать своим. Сидя рядом с Рубахиным, он может не волноваться. Пусть он не знает про машины и блокированную там дорогу, но ведь он знает (чувствует), что ему ничто не грозит. Более того. Он чувствует, конечно, что он симпатичен ему, Рубахину... Рубахин вдруг вновь смутился. Рубахин скосил глаза. Тот тосковал. В уже подступившей тьме лицо пленного было по-прежнему красиво и так печально. “Ну-ну!” — дружелюбно сказал Рубахин, стараясь приободрить. Подложив в огонь хворосту, Рубахин походил кругами, постоял у распадка; вернулся. Он сел рядом с пленным. Пережив испуг, тот сидел в некотором напряжении. Плечи свело; ссутулился — красивое лицо совсем утонуло в ночи. “Ну что?.. Как ты?” — спросил простецки. В таких случаях вопрос — это прежде всего пригляд за пленным: не обманчива ли его дрема; не подыскал ли он нож; и не надумал ли, пока спят, уйти в темную ночь? (сдуру — ведь Рубахин нагонит его тотчас). — Хорошо, — ответил тот коротко. Оба какое-то время молчали. И медленно протянул руку. Боясь встревожить этот полуоборот лица и удивительную красоту неподвижного взгляда, Рубахин только чуть коснулся пальцами его тонкой скулы и как бы поправил локон, длинную прядку, свисавшую вдоль его щеки. Юноша не отдернул лица. Он молчал. И как показалось — но это могло показаться, — еле уловимо, щекой ответил пальцам Рубахина. Стоило смежить глаза, Вовка-стрелок наново проживал ускользающие сладкие минуты, так стремительно промчавшиеся в том деревенском домишке. За мигом миг — дробная и такая краткая радость женской близости. Он спал сидя; спал стоя; спал на ходу. Не удивительно, что ночью он крепко уснул (хотя был его час) и не уследил, как рядом пробежал зверь, возможно кабан. Всех всколыхнуло. А треск в кустах затянуто долго сходил на нет. “Хочешь, чтобы нас тоже пристрелили сонных?!” — Рубахин легонько дернул солдата за ухо. Встал. Вслушался. Было тихо. Так оказалось, что, задав вопрос, Рубахин остался сидеть с ним рядом (не каждую же минуту менять место у костра). Рубахин похлопал его по плечу: — Не робей. Я же сказал: как приведем, сразу тебя отдадим вашим — понял? Тот кивнул: да, он понял. Рубахин этак хохотнул: — А ты правда красивый. Помолчали еще. — Как нога? — Хорошо. — Ладно, спи. Времени в обрез. Надо еще чуток покемарить, а там и утро... И вот тут, как бы согласившись, что надо подремать, пленный юноша медленно склонил свою голову вправо, на плечо Рубахину. Ничего особенного: так и растягивают свой недолгий сон солдаты, привалившись друг к другу. Но вот тепло тела, а с ним и ток чувственности (тоже отдельными волнами) стали пробиваться, перетекая — волна за волной — через прислоненное плечо юноши в плечо Рубахина. Да нет же. Парень спит. Парень просто спит, подумал Рубахин, гоня наваждение. И тут же напрягся и весь одеревенел, такой силы заряд тепла и неожиданной нежности пробился в эту минуту ему в плечо; в притихшую душу. Рубахин замер. И юноша — услышав или угадав его настороженность — тоже чутко замер. Еще минута — и их касание лишилось чувственности. Они просто сидели рядом. — Да. Подремлем, — сказал Рубахин в никуда. Сказал, не отрываясь взглядом от красных маленьких языков костра. Пленный качнулся, чуть удобнее разместив голову на его плече. И почти тут же стал вновь ощущаться ток податливого и призывного тепла. Рубахин расслышал теперь тихую дрожь юноши, как же так... что ж это такое? — взбаламученно соображал он. И вновь весь он затаился, сдерживаясь (и уже боясь, что ответная дрожь его выдаст). Но дрожь — это только дрожь, можно пережить. Более же всего Рубахин страшился, что вот сейчас голова юноши тихо к нему повернется (все движения его были тихие и ощутимо вкрадчивые, вместе с тем как бы и ничего не значащие — чуть шевельнулся человек в дреме, ну и что?..) — повернется к нему именно что лицом, почти касаясь, после чего он неизбежно услышит юное дыхание и близость губ. Миг нарастал. Рубахин тоже испытал минуту слабости. Его желудок первым из связки органов не выдержал столь непривычного чувственного перегруза — сдавил спазм, и тотчас пресс матерого солдата сделался жестким, как стиральная доска. И следом перехватило дыхание. Рубахин разом зашелся в кашле, а юноша, как спугнутый, отнял голову от его плеча. Вовка-стрелок проснулся: — Бухаешь, как пушка, — с ума сошел!.. слышно на полкилометра! Беспечный Вовка тут же и заснул. И сам же — как в ответ — стал прихрапывать. Да еще с таким звучным присвистом. Рубахин засмеялся — вот, мол, мой боевой товарищ. Беспрерывно спит. Днем спит, ночью спит! Пленный сказал медленно и с улыбкой: — Я думаю, он имел женщину. Вчера. Рубахин удивился: вот как?.. И, припомнив, тут же согласился: — Похоже на то. — Я думаю, вчера днем было. — Точно! точно!.. Оба посмеялись, как это бывает в таких случаях у мужчин. Но следом (и очень осторожно) пленный юноша спросил: — А ты — ты давно имел женщину? Рубахин пожал плечами: — Давно. Год, можно считать. — Некрасивая совсем? Баба?.. Я думаю, она некрасивая была. Солдаты никогда не имеют красивых женщин. Возникла такая долгая тяжелая пауза. Рубахин чувствовал, как камень лег ему на затылок (и давит, давит...). Рано утром костер совсем погас. Замерзший Вовка тоже перебрался к ним и уткнулся лицом, плечом в спину Рубахину. А сбоку к Рубахину приткнулся пленный, всю ночь манивший солдата сладким пятном тепла. Так втроем, обогревая друг друга, они дотянули до утра. Поставили котелок с водой на огонь. Пленный выпил чай. Он сидел на корточках и следил за движениями рук Рубахина. — Теплые носки. Хорошие, — похвалил он, переводя взгляд на свои ноги. — Мать вязала. — А-а. — Не снимай!.. Я же сказал: ты пойдешь в них. А я себе на ноги что-нибудь намотаю. Юноша, вынув расческу из кармана, занялся своими волосами: долго расчесывал их. Время от времени он горделиво встряхивал головой. И снова выверенными взмахами приглаживал волосы до самых плеч. Чувствовать свою красоту ему было так же естественно, как дышать воздухом. — Чайком балуемся, — сказал Рубахин с некоторой виноватостью за необычные переживания ночи. С самого утра ожила эта в себе не уверенная, но уже непрячущаяся его виноватость: Рубахин вдруг начал за юношей ухаживать. (Он взволновался. Он никак не ожидал этого от себя.) В руках, как болезнь, появилось мелкое нетерпение. Он дважды заварил ему чай в стакане. Он бросил куски сахара, помешал звонкой ложечкой, подал. Он оставил ему как бы навсегда свои носки — носи, не снимай, пойдешь в них дальше!.. — такая вот пробилась заботливость. И как-то суетлив стал Рубахин и все разжигал, разжигал костер, чтобы тому было теплее. В теплых и крепких шерстяных носках юноша шел заметно увереннее. Он и вообще держался посмелее. Тоски в глазах не было. Он несомненно уже знал, что Рубахин смущен наметившимися их отношениями. Возможно, ему это было приятно. Он искоса поглядывал на Рубахина, на его руки, на автомат и про себя мимолетно улыбался, как бы играючи одержав победу над этим огромным, сильным и таким робким детиной. У ручья он не снимал носки. Он стоял, ожидая, когда Рубахин его подхватит. Рука юноши не цеплялась, как прежде, только за ворот; без стеснения он держался мягкой рукой прямо за шею ступающего через ручей Рубахина, иногда, по ходу и шагу, перемещая ладонь тому под гимнастерку — так, как было удобнее. Рубахин вновь отобрал у Вовки-стрелка транзистор. И дал знак молчать: он вел; на расширившейся затоптанной тропе Рубахин не доверял никому (до самой белой скалы). Скала, с известной ему развилкой троп, была уже на виду. Место опасное. Но как раз и защищенное тем, что там расходились (или сходились — это как смотреть!) две узкие тропки. Скала (в солдатской простоте) называлась нос. Белый большой треугольный выступ камня надвигался на них, как нос корабля, — и все нависал. Они уже карабкались у подножия, под самой скалой, в курчавом кустарнике. Этого не может быть! — пронеслось в сознании солдата, когда там, наверху, он расслышал надвигающуюся опасность (и справа, и слева). С обеих сторон скалы спускались люди. Чужая и такая плотная, беспорядочно-частая поступь. Суки. Чтобы два чужих отряда вот так совпали минута к минуте, заняв обе тропы, — такого не может быть! Скала была тем и спасительна, что давала услышать и загодя разминуться. Теперь они, конечно, не успевали продвинуться ни туда, ни сюда. Ни даже метнуться из-под скалы назад в лес через открытое место. Их трое, один пленный; их тотчас заметят; их перестреляют немедленно; или попросту загонят в чащу, обложив кругом. Этого не может быть, — жалобно пискнула его мысль уже в третий раз, как отрекаясь. (И ушла, исчезла, бросила его.) Теперь все на инстинктах. В ноздрях потянуло холодком. Не только их шаги. В почти полном безветрии Рубахин слышал медлительное распрямление травы, по которой прошли. — Тс-с. Он прижал палец к губам. Вовка понял. И мотнул головой в сторону пленного: как он? Рубахин глянул тому в лицо: юноша тоже мгновенно понял (понял, что идут свои), лоб и щеки его медленно наливались краской — признак непредсказуемого поведения. “А! Будь что будет!” — сказал себе Рубахин, быстро изготовив автомат к бою. Он ощупывал запасные обоймы. Но мысль о бое (как и всякая мысль в миг опасности) тоже отступила в сторону (бросила его), не желая взвалить на себя ответ. Инстинкт велел прислушаться. И ждать. В ноздрях тянуло и тянуло холодом. И так значаще тихо зашевелились травы. Шаги ближе. Нет. Их много. Их слишком много... Рубахин еще раз глянул, считывая с лица пленного и угадывая — как он? что он? в страхе быть убитым затаится ли он и смолчит (хорошо бы) или сразу же кинется им навстречу с радостью, с дурью в полубезумных огромных глазах и (главное!) с криком? Не отрывая взгляда от идущих по левой тропе (этот отряд был совсем недалеко и пройдет мимо них первым), Рубахин завел руку назад и осторожно коснулся тела пленного. Тот чуть дрожал, как дрожит женщина перед близким объятьем. Рубахин тронул шею, ощупью перешел на его лицо и, мягко коснувшись, положил пальцы и ладонь на красивые губы, на рот (который должен был молчать); губы подрагивали. Медленно Рубахин притягивал юношу к себе ближе (а глаз не отрывал от левой тропы, от подтягивающейся цепочки отряда). Вовка следил за отрядом справа: там тоже уже слышались шаги, сыпались вниз камешки, и кто-то из боевиков, держа автомат на плече, все лязгал им об автомат идущего сзади. Юноша не сопротивлялся Рубахину. Обнимая за плечо, Рубахин развернул его к себе — юноша (он был пониже) уже сам потянулся к нему, прижался, ткнувшись губами ниже его небритого подбородка, в сонную артерию. Юноша дрожал, не понимая. “Нн...” — слабо выдохнул он, совсем как женщина, сказав свое “нет” не как отказ — как робость, в то время как Рубахин следил его и ждал (сторожа вскрик). И как же расширились его глаза, пытавшиеся в испуге обойти глаза Рубахина и — через воздух и небо — увидеть своих! Он открыл рот, но ведь не кричал. Он, может быть, только и хотел глубже вдохнуть. Но вторая рука Рубахина, опустившая автомат на землю, зажала ему и приоткрытый рот с красивыми губами, и нос, чуть трепетавший. “Н-ны...” — хотел что-то досказать пленный юноша, но не успел. Тело его рванулось, ноги напряглись, однако под ногами уже не было опоры. Рубахин оторвал его от земли. Держал в объятьях, не давая коснуться ногами ни чутких кустов, ни камней, что покатились бы с шумом. Той рукой, что обнимала, Рубахин, блокируя, обошел горло. Сдавил; красота не успела спасти. Несколько конвульсий... и только. Ниже скалы, где сходились тропы, раздались вскоре же дружеские гортанные возгласы. Отряды обнаружили друг друга. Слышались приветствия, вопросы — как? что?!. куда это вы направляетесь?!. (Самый вероятный из вопросов.) Хлопали друг друга по плечу. Смеялись. Один из боевиков, воспользовавшись остановкой, надумал помочиться. Он подбежал к скале, где было удобнее. Он не знал, что он уже на мушке. Он стоял всего в нескольких шагах от кустов, за которыми лежали двое живых (прячась, они залегли) и мертвый. Он помочился, икнул и, поддернув брюки, заторопился. Когда отряды прошли мимо, а их удаляющиеся в низину шаги и голоса совсем стихли, двое солдат с автоматами вынесли из кустов мертвое тело. Они понесли его в редкий лес, недалеко и тропой налево, где, как помнил Рубахин, открывалась площадка — сухая плешина с песчаной, мягкой землей. Рыли яму, вычерпывая песок плоскими камнями. Вовка-стрелок спросил, возьмет ли Рубахин назад свои носки, Рубахин покачал головой. И ни словом о человеке, к которому, в общем, уже привыкли. Полминуты посидели молчком у могилы. Какое там посидеть — война!.. 6 Без перемен: две грузовые машины (Рубахин видит их издали) стоят на том самом месте. Дорога с ходу втискивается в проход меж скал, но узкое место стерегут боевики. Машины уже обстреляны, но не прицельно. (А продвинься они еще хоть сколько-то, их просто изрешетят.) Стоят машины уже четвертый день; ждут. Боевики хотят оружие — тогда пропустят. — ...не везем мы автоматов! нет у нас оружия! — кричат со стороны грузовиков. В ответ со скалы выстрел. Или целый град выстрелов, длинная очередь. И в придачу смех — га-га-га-га!.. — такой радостный, напористый и так по-детски ликующий катится с высоты смех. Солдаты сопровождения и шофера (всех вместе шесть человек) расположились у кустов на обочине дороги, укрывшись за корпусами грузовиков. Кочевая их жизнь нехитра: готовят на костре еду или спят. Когда Рубахин и Вовка-стрелок подходят ближе, на скале, где засада, Рубахин примечает огонь, бледный дневной костер — боевики тоже готовят обед. Вялая война. Почему бы не перекусить по возможности сытно, не выпить горячего чайку? Подходящих все ближе Рубахина и Вовку со скалы тоже, конечно, видят. Боевики зорки. И хотя им видно, что двое как ушли, так и пришли (ничего зримого не принесли), со скалы на всякий случай стреляют. Очередь. Еще очередь. Рубахин и Вовка-стрелок уже подошли к своим. Старшина выставил живот вперед. Спрашивает Рубахина: Вовка сел к дереву в тень, раскинув ноги и надвинув панаму на глаза. Насмешничая, он спрашивал шоферов: а что ж сами вы? так и не нашли объезда?.. да неужели ж?! “Объезда нет”, — отвечали ему. Шофера лежали в высокой траве. Один из этих тугодумов умело лепил самокрутку из обрывка газеты. Старшина Береговой, раздосадованный неудачей похода, попытался снова вступить в переговоры. — Эй! — закричал он. — Слухай меня!.. Эй! — кричал он доверительным (как он считал) голосом. — Клянусь, ничего такого нет в машинах — ни оружия, ни продуктов. Пустые мы!.. Пусть придет ваш человек и проверит — все покажем, стрелять его не будем. Эй! слышь!.. — Ну?.. Будет подмога? В ответ раздалась стрельба. И веселый гогот. — Хера! — Мать в душу! — ругнулся старшина. Рубахин не стал объяснять. — И пленного не удалось подловить? Стреляли со скалы беспорядочно. Стреляли так долго и так бессмысленно, что старшина еще раз выматерил и позвал: — Вов. Ну-ка поди сюда. — Не. Рубахин спросил воды, он долго пил из ведра, проливая прямо на гимнастерку, на грудь, потом слепо шагнул в сторону и, не выбирая где, свалился в кустах спать. Трава еще не распрямилась; он лежал на том месте, что и два дня назад, когда его толкнули в бок и послали за подмогой (дав Вовку в придачу). В мятую траву он ушел головой по самые уши, не слыша, что там выговаривает старшина. Плевать он хотел. Устал он. Оба шофера, что лежали в траве, оживились: — Вов! Вов! Иди сюда. Покажь абрекам, как стрелять надо! Вовка-стрелок зевнул; лениво оторвал спину от дерева. (Привалившись к нему, он так хорошо сидел.) Но, взяв оружие, он целил без лени. Он расположился на траве поудобнее и, выставив карабин, ловил в оптическом прицеле то одну, то другую фигурку из тех, что суетились на скале, нависавшей слева над дорогой. Их всех было отлично видно. Он бы, пожалуй, попал и без оптического прицела. И как раз горец, стоявший на краю скалы, издевательски заулюлюкал. — Вов. А тебе охота в него попасть? — спросил шофер. — На хрена он мне, — фыркнул Вовка. Помолчав, добавил: — Мне нравится целиться и жать на спуск. Я и без пули знаю, когда я попал. Невозможность понималась без слов: убей он боевика, грузовикам по дороге уже не проехать. — Этого, что орет, я, считай, шпокнул. — Вовка спустил курок незаряженного карабина. Он баловался. Прицелился — и вновь лихо щелкнул. — И вот этого, считай, шпокнул!.. А этому я могу полжопы оторвать. Убить — нет, он за деревом, а полжопы — пожалста!.. Подчас, углядев у кого-то из горцев что-нибудь поблескивающее на солнце — бутылку водки или (было поутру!) замечательный китайский термос, Вовка тщательно прицеливался и вдребезги разносил выстрелом заметный предмет. Но сейчас ничего привлекательного не было. Рубахину тем временем спалось тревожно. Набегал (или, зарывшись в траву, Рубахин сам вызывал его в себе?) один и тот же дурной, беспокоящий сон: прекрасное лицо пленного юноши. — Вовк. Дай курнуть! (И что за удовольствие ловить на мушку?) — Сейчас! — Вовка знай целил и целил, уже в азарте забавы, — он вел перекрестье по силуэту скалы: по кромке камня... по горному кустарнику... по стволу дерева. Ага! Он приметил тощего боевика; стоя у дерева, тот кромсал ножницами свои патлы. Стрижка — дело интимное. Зеркальце сверкнуло, дав знак, — Вовка мигом зарядил и поймал. Он нажал спуск, и серебристая лужица, прикрепленная к стволу вяза, разлетелась в мельчайшие куски. В ответ раздались проклятья и, как всегда, беспорядочная стрельба. (И словно бы журавли закликали за нависшей над дорогой скалой: гуляль-киляль-ляль-киляль-снайпер...) Фигурки на скале забегали — кричали, вопили, улюлюкали. Но затем (видно, по команде) притихли. Какое-то время не высовывались (и вообще вели себя скромнее). И, конечно, думали, что они укрылись. Вовка-стрелок видел не только их спрятавшиеся головы, кадыки на горле, животы — он видел даже пуговицы их рубашек и, балуясь, переводил перекрестье с одной на другую... — Вовка! Отставить! — одернул старшина. — Уже!.. — откликнулся стрелок, прихватывая рукой карабин и направляясь к высокой траве (с той же нехитрой солдатской мыслью: поспать). А Рубахин терял: лицо юноши уже не удерживалось долго перед его глазами — лицо распадалось, едва возникнув. Оно размывалось, утрачивая себя и оставив лишь невнятную и неинтересную красивость. Чье-то лицо. Забытое. Образ таял. Словно бы на прощанье (прощаясь и, быть может, прощая его) юноша вновь обрел более или менее ясные черты (и как вспыхнуло!). Лицо. Но не только лицо — стоял сам юноша. Казалось, что он сейчас что-то скажет. Он шагнул еще ближе и стремительно обхватил шею Рубахина руками (как это сделал Рубахин у той скалы), но тонкие руки его оказались мягки, как у молодой женщины, — порывисты, но нежны, и Рубахин (он был начеку) успел понять, что сейчас во сне может случиться мужская слабость. Он скрипнул зубами, усилием отгоняя видение, и тут же проснулся, чувствуя ноющую тяжесть в паху. — Покурить бы! — со сна хрипло проговорил он. И услышал стрельбу... Возможно, от выстрелов он и проснулся. Тонкая струйка автоматной очереди — цок-цок-цок-цок-цок — выбивала мелкие камешки и фонтанчики пыли на дороге возле застывших грузовиков. Грузовики стояли. (Рубахина это мало волновало. Когда-нибудь да ведь дадут им дорогу.) Вовка-стрелок с карабином в обнимку спал неподалеку в траве. У Вовки нынче крепкие сигареты (купил в сельском магазинишке вместе с портвейном), — сигареты были на виду, торчали из нагрудного кармана. Рубахин выбрал из них одну. Вовка тихо посапывал. Рубахин курил, делая медленные затяжки. Он лежал на спине — глядел в небо, а слева и справа (давя на боковое зрение) теснились те самые горы, которые обступили его здесь и не отпускали. Рубахин свое отслужил. Каждый раз, собираясь послать на хер все и всех (и навсегда уехать домой, в степь за Доном), он собирал наскоро свой битый чемодан и... и оставался. “И что здесь такого особенного? Горы?..” — проговорил он вслух, с озленностью не на кого-то, а на себя. Что интересного в стылой солдатской казарме — да и что интересного в самих горах? — думал он с досадой. Он хотел добавить: мол, уже который год! Но вместо этого сказал: “Уже который век!..” — он словно бы проговорился; слова выпрыгнули из тени, и удивленный солдат додумывал теперь эту тихую, залежавшуюся в глубине сознания мысль. Серые замшелые ущелья. Бедные и грязноватые домишки горцев, слепившиеся, как птичьи гнезда. Но все-таки — горы?!. Там и тут теснятся их желтые от солнца вершины. Горы. Горы. Горы. Который год бередит ему сердце их величавость, немая торжественность — но что, собственно, красота их хотела ему сказать? зачем окликала? Июнь — сентябрь 1994 г. ГЕРОЙ РАБОЧЕГО КЛАССА I Вырос в Запорожье. Учился на химическом факультете Одесского университета, на историческом факультете и факультете журналистики МГУ. Совместно с Б. Кенжеевым был участником неофициальной поэтической группы «Московское время». Арестован и депортирован из Москвы. Эмигрировал в США. Редактировал газету «Русская жизнь» в Сан-Франциско. Учился в Мичиганском университете, защитил диссертацию. Преподавал в колледже Дикинсон (штат Пенсильвания) русскую литературу. С 1989 г. работал в Праге на радио «Свобода» редактором и ведущим программ «Седьмой континент» и «Атлантический дневник». С 2007 живёт в Вашингтоне (США), в начале 2009 переехал в Нью-Йорк. В конце 1980-х гг. прекратил писать стихи, обратившись к прозе. Неоконченный роман «Просто голос», созданный в виде автобиографии римского воина (доведённой лишь до отроческого возраста), отражает представление Цветкова о римской цивилизации как одной из вершинных точек истории человечества, а в отношении поэтики отличается отточенностью стиля, обилием лирико-философских отступлений, прямо наследуя прозе Владимира Набокова и Саши Соколова. В 2004 г. после 17-летнего перерыва Алексей Цветков вернулся к поэтическому творчеству, менее чем за полтора года сочинив новую книгу стихов. Он очнулся на льду пустой хоккейной коробки средь бела дня, возле проволочных ворот. Никого не было, наверное, подростки испугались лежащего у борта, неизвестно, живого ли, человека и не стали сегодня гонять шайбу. Будет скоро утро или вечер, он точно сказать не мог, потому что еще не помнил, в какую сторону обычно движется день. Некоторое время он пытался выдавливать снег, который намело в складки жесткой кожаной куртки за несколько часов оцепенения, но пальцы не слушались, он с трудом встал на ноги, схватив ржавую сетку хоккейных ворот полуотмороженной рукой, и пару раз шагнул по исцарапанному льду. Почувствовал сквозь куртку на сгибе руки зияние и глубокий укол. Это означало, что вчера он поставил себе “узел” на вене. Память возвращалась. II Подобно всем своим знакомым он “косил” от армии, но, когда его доставили в военкомат двое милиционеров силой, неожиданно для себя попросил отправить его добровольцем в Чечню. И его отправили с радостью. Поначалу он искал случая выстрелить в спину ротного, потому что ротный на его глазах застрелил в деревне ичкерийского ребенка, но потом передумал, увидев в городе перед дворцом срубленные головы танкистов на арматурных шестах, и мысленно ротного помиловал. Вместе с горячей кашей им привозили на позиции в поле брошюрки на газетной бумаге, но ему не нравилось их читать. Брошюрки напоминали школу, по ним получалось, что вся эта страна населена бандитами, гораздо популярнее среди солдат был “PLAYBOY”. Сейчас, когда он целился в какие-то тени на той стороне реки, его доставала назойливая мысль. Вязаную черную шапочку он прихватил из Питера как талисман, и она грела ему голову; такую же, но казенную не носил, казенная как-то связалась в его сознании с неминуемой смертью. Пар из ноздрей мешал смотреть, он разгреб мерзлые комья берега, чтобы лечь поудобнее, может быть, оттуда кто-нибудь целится в него и, если он останется жить, в этой шапочке вернется, а если по-другому, в ней пускай похоронят, хотя будет уже не важно в чем, но все равно хотелось бы. Теперь мешал прицелиться пар изо рта соседа. И краешком зрения он заметил, какие красивые горы вдали и между ними пушистые многоэтажные облака. III К старым питерским друзьям, выписавшись после ранения, он не пошел. Один, нельзя было узнать, сектант, вызубрил наизусть Библию и целыми днями приставал к прохожим у метро. Второй пропадал ночами по дискотекам, “впаривая” там подросткам кислоту, а днем отсыпался. Третий погиб ни за что в какой-то перестрелке, куда его позвали просто как “свидетеля”; тот надеялся подняться в среде братков, потому что не только умел ногами махать, но имел диплом экономиста. После госпиталя он устроился учеником на завод, хотя зарплату там давно не платили. Деньги он в крайнем случае мог отнять у вечернего прохожего или заработать на разгрузке платформ. На заводе он искал другого — коллективности, занятости, нужности, того, к чему привык в окопах, лекарства от одиночества. И нашел, даже больше, чем думал, потому что на заводе действовала партия. Сначала ему было скучновато, на собраниях все больше пенсионеры, и слишком длинный строй томов сочинений Сталина за спиной выступавших угнетал, но зато теперь ему было, куда идти. Другое, конкурирующее пролетарское развлечение — водку — он не любил, тошнило его мгновенно, с тех еще времен, когда пил ее с одноклассниками по подъездам. Все решил митинг. Выступал блокадник, рабочий ветеран, начав говорить, он разрыдался, прорывались только отдельные слова: “Эта жизнь… хуже блокады… Ельцин… геноцид народа… судить преступников”. Блокадник спрятал перекошенное серое лицо в мохеровый шарф. Больше этого рабочего он не видел, но митинги полюбил, вспыхнул, как хворост. Торговал газетой, особо бедным по виду бесплатно выдавал. Слушать выступления ему нравилось, строиться, грохотать сапогами, скандировать. Нравился даже дождь, под которым он метался по митингу с разбухшей от сырости охапкой газет в окоченевших руках. Полюбил митинги за месть, объединявшую всех, пришедших сюда, за солидарность, за какую-то непобедимость людей под красными флагами — несмотря на все победы врага. Он отказался от музыки, доармейского увлечения, подарил соседскому пацану кассеты с “Валькириями” и “Страстями по Матфею”, теперь ему хватало речей и советского гимна на митингах. Магнитофон он продал. И, когда началась забастовка, он первым предложил на общем собрании запереть директора в его кабинете и перекрыть железную дорогу, хотя бы на два часа, для предупреждения. Ему аплодировали. Первый раз в жизни. А когда получал билет, с ним случилось то, на что он надеялся когда-то давно, при крещении. Ему было тогда пятнадцать, и он, как обычно, летом гостил у бабушки. Церковь открылась в обыкновенном деревянном доме, который купил священник и прибил на крыше фанерный крест. Тоскливо ему было, когда его привели туда, хотя он знал, что креститься модно и что вся семья давно об этом мечтала. До последнего и сам он ожидал какого-то чуда или на крайний случай фокуса. Читали на непонятном языке, мазали лоб и руки клейким сладким сиропом, макали головой. Единственное, что его немного развлекало,— раздевшаяся до бюстгальтера стройная девка в джинсовой юбке, она была старше него, и у нее была стоячая грудь. Теперь он получил то, на что тогда рассчитывал, и прошло чувство, как будто его обманули. Взял партбилет из рук секретаря заводской организации и крепко пожал ему руку, громко сказав “клянусь”, хотя по процедуре этого и не требовалось. IV Партия шла против власти, потому что больше они не хотели друг друга терпеть. Активистов уволили. На их место наняли тех, у кого не было “требований”, кто насиделся на пособии и был по горло в долгах. Они шагали по улице, ускоряясь, хотя мегафон на той стороне неистовствовал, напоминал об ответственности, предупреждал о том, что демонстранты перекрывают дорожное движение и их шествие не разрешено городскими властями. Омоновцы, куклы с пластиковыми лицами, угрожающе били палками по щитам, но колонну было уже невозможно затормозить. Он шел вместе с другими, сцепившись с ними локтями, многие были старше, чем он, и веселели, глядя на него, подстраивались под его широкий солдатский шаг, он был им нужен как подтверждение того, что они правы, того, что все еще впереди и главный бой в будущем. Он впечатывал свой след в историю, строй щитов и рев милицейских мегафонов становился все ближе. На ту самую улицу, где запер их ОМОН, из-за угла выбирался пожарный водомет. Он услышал такой знакомый “армейский” щелчок передергиваемых затворов. Это готовилась к встрече вторая шеренга оцепления, спрятавшаяся пока за пластиковыми людьми и их щитами. Партийная колонна набирала скорость. “Первый залп будет, наверное, все-таки в воздух, а потом посмотрим, куда бить”,— лихорадочно соображал он. Это был уже почти бег. Он сохранял ритм дыхания, как учили его на фронте, и теперь ему было радостно, даже если через минуту предстоит смерть. Ванда Банда Родился 29 августа 1954 года в поселке Знаменск Калининградской области. Окончил Калининградский университет, работал в СМИ, пройдя путь от фотокорреспондента районной до заместителя главного редактора областной газеты. Переехав в 1991 году в Москву, работал в «Российской газете», «Независимой газете», в журналах «Новое время», «Знамя», обозревателем газеты «Известия». Сейчас – редактор издательского дома «Коммерсантъ». Печатается как прозаик с 1991 года. Публикуется в журналах «Знамя», «Новый мир», “Октябрь”, «Дружба народов» и др. “Это умная проза о здоровых обыкновенных людях… Они все по воле автора не без тайного Босха внутри, но тоже не от простого произвола фантазии, а оттого, что автор силою и мудростью настоящего дара знает, что “поверхность” человека обманчива и что достаточно его “паспортные данные” возмутить любовью и смертью, как сквозь них проступит тайна и страсть, счастье и безумие, мечта и преступление. Он не выдумывает, он прозревает существо жизни своих героев, тот небесный свет игры, который, если фантазию отпустить далее должного, может обернуться тьмой противоположной небу стороны”. – Валентин Курбатов, “Дружба народов”. Книги Буйды выходят во Франции, Великобритании, Эстонии, Польше, Венгрии, Словакии, Норвегии, Турции и др. Его рассказы послужили основой для спектаклей московского театра Et cetera под руководством А. Калягина, Театра D в Калининграде и театральной труппы Theatre O из Лондона. Отмечен премиями журналов «Октябрь» (1992), «Знамя» (1995, 1996), премией им. Аполлона Григорьева за книгу «Прусская невеста» (1998). В шорт-листы Букеровской премии входили его произведения «Дон Домино» (1994) и «Прусская невеста» (1999). До самой смерти ее мать была убеждена, что внутри у нее живет лягушка, которая проникла в желудок — а оттуда в печень — головастиком, когда женщина однажды в лесу утолила жажду из придорожной лужи. Чтобы избавиться от неприятного ощущения, она глушила лягушку водкой, пока в один прекрасный день взбесившаяся рептилия не укусила ее в сердце. Ее отец был известен лишь тем, что, в отличие от других забойщиков скота, пользовавшихся ножами, приканчивал созревшую свинью ударом головы. Ничего не подозревавшее животное удивленно взирало на невзрачного мужчинку, приближавшегося к жертве на четвереньках, и вот тут‐то он хватал свинью за уши и бил лбом промеж глаз. На спор он заколачивал лбом гвозди в стену. В конце концов его нашли в свином закуте, где у него разорвалось сердце. За ночь животные объели у него все выступающие части лица, поэтому хоронить его пришлось в закрытом гробу. Люди как люди. Как все. Вот у них‐то и родилась Ванда Банда, самая сильная в мире женщина, чью верхнюю губу украшали усы твердые и острые, как щучьи ребра, а левую ногу — до колена — сшитый отцом из свиной кожи грубый ботинок на шнуровке. Этот ботинок, по преданию, Ванда никогда не снимала, не чистила и не мыла. Ее необыкновенный дар проявился уже в раннем детстве, когда семилетняя девочка принесла домой упившуюся мать и только тогда обнаружила, что всю дорогу матушка не выпускала из рук мешок с украденной на ферме трехпудовой свиньей. Одноклассники вскоре поняли, что с Вандой, получившей прозвище Банда, лучше не связываться: одним ударом она валила десяток хулиганов, забор, возле которого происходило дело, и корову, забравшуюся в палисадник и тайком пожиравшую цветы. Повзрослев, она для устрашения противников голыми руками разорвала пополам живую кошку. Созревала она пугающе быстро. Что бы она ни надевала на себя, даже если вещь была впору, одежда трещала по швам и лишалась пуговиц, сыпавшихся с Ванды, как переспелые вишни. Мальчики слепо преследовали ее, с хрустом дробя каблуками пуговки и умоляя снять ботинок с левой ноги. Позднее на ее верхней губе пробились усики — твердые и острые, как щучьи ребра. Она украшала их крошечными серебряными колокольчиками, чей непрестанный тонкий звон вызывал у мужчин смещение сердца к мочевому пузырю. Не понимая, что с нею происходит. Банда потерянно бродила по дому, натыкаясь на мебель и задевая дверные косяки. Висевшая на стене в гостиной гитара при ее появлении начинала гудеть, и со временем звук становился громче, пока однажды не полопались все струны. Когда же она в женской парикмахерской спросила у немой Тар‐занихи (получившей прозвище после смерти мужа, когда она принялась раз‐ другой в месяц забираться на дерево во дворе, чтобы побыть в одиночестве), что все это значит, парикмахерша припудрила зеркало и вывела пальцем на стекле — “лебовь”. — Это что‐то вроде уродства, — объяснила Буяниха. — То, без чего ты не можешь обойтись, хотя и хотела бы. Ну, скажем, горб у красавицы. Или красота. После смерти родителей Ванда устроилась грузчицей на мукомольный завод, где в одиночку за смену разгружала пять‐шесть вагонов с зерном, и завела кота — черного зверюгу, вскоре ставшего грозой и любимцем кошачьей округи. От диких его воплей Вандино сердечко переворачивалось и гнало кровь в обратном направлении. Она думала, что кот мучается своей безымянностыо, но предложение Буянихи назвать его Чертом тотчас отвергла: — Этого? Тогда он обязательно и станет чертом. Она подолгу не засыпала, боясь темноты, как в детстве боялась цыгана, — от страха темнота становилась такой густой, что сновидения увязали в ней и не могли добраться до Вандиной постели. Среди ночи она вскидывалась и хохотала глупым оперным басом. Измученная бессонными ночами и кошачьими криками, Ванда однажды кастрировала своего черного зверя и привязала шелковой ленточкой к ножке стола в гостиной. Теперь, едва завидев ее, кот всякий раз испускал ужасный вопль и вставал на дыбы, норовя сожрать хозяйку, и с такой силой дергал стол, что ваза с цветами неизменно летела на пол. На него не действовала ни ласка, ни таска. В конце концов Ванде пришлось оставить кота в покое. Она наловчилась покидать дом через окно спальни. — И что? — не поняла Ванда, ужасно покраснев. — Что это такое? И вот, наконец, она влюбилась. И как! И в кого! Это был мужчина тридцатисантиметрового роста. Она нашла его в саду возле свежей кротовины и решила было, что это крот какой‐то неведомой породы. Преодолев мгновенное и непроизвольное отвращение, она подняла его на ладони к глазам и убедилась, что перед нею самый настоящий, самый всамделишный человек, мужчина со всеми его атрибутами (он был наг), дрожавший от холода и страха, явственно читавшегося на его личике. Он был гармонично сложен, красив и беспомощен. Он протянул руки к Ванде и что‐то проговорил то ли на кротовьем, то ли на птичьем языке. Девушка засмеялась, поднесла его ближе к губам, человечек укололся усом — твердым и острым, как щучье ребро, — и вскрикнул, девушка испугалась, сердце ее перевернулось, погнав кровь в обратном направлении, и тут‐то она и поняла, что влюбилась, и произнесла это вслух таким голосом, каким говорят: “Я умираю”, или: “Я убила его”, или: “Я наделала в штанишки”. Целый год человечек прожил в ее спальне, прежде чем она убедилась, что это не ребенок, а зрелый мужчина, достигший предела в росте. Она назвала его Мыней, образовав прозвище от слова “мышонок”. Она соорудила ему одежду и постель, купила игрушечную мебель и посуду и заколотила дверь в гостиную огромными ржавыми гвоздями, чтобы человечек случайно не стал жертвой кровожадного черного кота. Влезая после работы в окно спальни, она испытывала неведомую ей прежде радость лишь оттого, что в уголке, где было устроено Мынино жилье, горит свет (в роли светильника выступал карманный фонарик), что человечек цел и невредим и даже, кажется, рад ее возвращению. Ванда тотчас бросалась в кухню готовить для Мыни что‐нибудь вкусненькое, а потом с умилением наблюдала за тем, как он орудует кукольной вилкой и кукольным ножом… Ванда мучилась немотой, постепенно осознавая, какая это опасная болезнь — любовь. Ей хотелось поведать Мыне о своих чувствах, и она не раз пыталась сделать это, однако ей не давалась даже простейшая фраза — “Я тебя люблю”. Она выучила ее наизусть, но так и не смогла двинуться дальше местоимений. Слово же “люблю” застревало в горле, вызывая удушье. Тогда Ванда попробовала обойтись без него: “Я… тебя… понимаешь? Я — тебя…” И строила умильную физиономию, на которой были глаза, нос, губы и усы с колокольчиками, но не было слова “люблю”. Она попыталась выразить чувство жестами, но все кончилось тем, что, ткнув пальцем в грудь себя и Мыню, она упала в обморок, каковой мог означать что угодно. Она зажигала спичку, чтобы объяснить Мыне, как она пылает. Она пила воду, чтоб он понял, как она жаждет. Наконец она прибегла к самому сильному средству, с трудом вы‐давив из себя единственную известную ей фразу на литовском языке: “Аш тавя милю”, — но и это усилие оказалось бесплодным. Человечек с любопытством и тревогой следил за Вандиными ужимками, но, кажется, ничего не понимал. Ванда мучительно размышляла о слове “любовь”, недоумевая, почему именно оно должно выражать то, что чувствует она, Ванда (а не тот человек, который, возможно, изобрел это слово для себя и своих чувств), и не обман ли это, и нет ли более подходящих слов, которые не действовали бы на ее язык подобно уколу анестезина перед удалением зуба… Наконец девушка сообразила, что они должны научиться понимать друг друга, и взялась учить Мыню русскому языку. Поскольку Ванда не читала ничего, кроме школьных учебников, а любознательность ее не простиралась дальше вопроса, какают ли ангелы, Мыня скоро освоил весь ее словарь. Теперь он понимал, что стул — это стул, но не понимал, что любовь — это любовь. Ванда прибегла к самому обыкновенному и самому пагубному средству: она записалась в библиотеку и принялась читать книги. Как и следовало ожидать, даже то, что было ясно вчера, отныне превратилось в нечто зыбкое и ускользающее… Совершенствуясь в шитье лилипутской одежды и изготовлении миниатюрной мебели, Ванда думала о Мыниной родине. Откуда он? Где находится страна, населенная крошечными человечками, мужчинами и женщинами, щебечущими на птичьем языке, в котором слово “любовь”, возможно, означает что‐нибудь иное, или, маленькое и слабое, вовсе лишено тяжести смысла, озабоченное разве что выживанием в маленьком, слабосильном словаре? Разве сравнится их слово с “любовью” Ванды, голыми руками разорвавшей пополам живую кошку. А какие там птицы и кошки? Не может же быть, чтобы такие крошечные коты испытывали такие же чувства — к птицам ли, людям ли, все равно, — какие испытывает зверь в ее гостиной, вмещающий столько злобы в черном бесполом теле… — Ты жил под землей? — спрашивала она Мыню. —Нет. — На небе? — Нет. В гдетии. — Кем же ты там был? Ей хотелось, чтоб в этой самой “гдетии” он был принцем, хотя она не знала, где эта страна и какое там государственное и политическое устройство (как в муравейнике? в пчелином рое?). — Я был аретом. — Принцем? — Аретом великой тефелы. Я лепулил для таксии. Иногда она испытывала что‐то вроде ревности к возможной сопернице из иного мира и готова была уничтожить неведомую страну, чтобы Мыня не смог туда вернуться. Словно отвечая этому темному движению ее души, черный кот в гостиной грохал столом и гнусаво орал. Ванда спохватывалась, гнала дурные мысли, утешаясь тем, что Мыня по собственному желанию никогда не заговаривал ни о своей родине, ни о возвращении. Мыня освоился в чужом мире. Он уже отваживался на продолжительные прогулки по спальне и кухне. А однажды вернувшаяся с работы Ванда обнаружила его в гостиной. Можно вообразить, каких усилий стоило Мыне взобраться по свисающему краю одеяла на хозяйкину кровать, перебраться на стол, с него на подоконник, спуститься в сад, а затем — видимо, его привлек тяжелый кошачий запах из открытого окна, — по плющу подняться в жилище черного зверя. Кот кричал дурным голосом, встав на дыбы и разинув злую алую пасть, дергал стол и пытался когтистой лапой дотянуться до человечка, который дерзко бегал в опасной близости от зверя. Ванда унесла Мыню в спальню. После этого случая она задумалась: как уберечь человечка от опасностей, подстерегавших его в этом мире? Выход один: надо поместить его в клетку Закона, управляющего этим миром. Очутившись, наконец, в спальне, Ванда рухнула на постель и долго отлеживалась в полуобморочном забытьи. Председатель поссовета Адольф Иванович Кацнельсон, по прозвищу Кальсоныч, отмалчивался, а у Ванды спрашивать было и вовсе бесполезно, — поэтому так никто и не узнал, каким образом утрясли вопрос о документах, необходимых для бракосочетания. Скорее всего Кальсоныч за бутылку самогона состряпал для мышонка бумаги, удостоверяющие, что тот действительно является человеком. Переговоры велись за закрытыми дверями. Однако уже на следующий день весь городок знал, что Ванда Банда выходит замуж за карлика. А может быть, за кролика. Или даже за ученую крысу. — Чего же ты хочешь? По соображениям конспирации церемония была назначена на раннее утро, но Ванде стало известно, что поглазеть на ее суженого сбегутся все, кроме умирающих, новорожденных и заключенных местной тюрьмы. Это, однако, не поколебало ее решимости. В белом жестком платье, хрустевшем при ходьбе, словно оно было сделано из лютого мороза, в грубом своем башмаке, ради такого случая покрашенном белой краской, сыпавшейся крошками на асфальт, с металлическим подносом в руках, посреди которого кусочком пластилина был закреплен Мыня, Ванда гордо, не глядя по сторонам, прошествовала в загс и вышла оттуда замужней женщиной. — Ей бы коня в мужья, — проворчала Буяниха. — Первый раз в жизни вижу лошадь, которая выходит замуж за сено. Очнувшись, спросила у Мыни: Он ответил, для верности указав пальцем на ее левый башмак. Ванда заплакала. С трудом расшнуровала ботинок. Сняла. — Ты этого хотел? — спросила она таким голосом, каким говорят: “Я умираю”, или: “Я убила его”, или: “Я наделала в штанишки”. Известнейшие городские охальники несколько недель состязались в предположениях насчет семейной жизни Ванды и Мыни. Но вскоре эта тема наскучила даже женщинам. А Буяниха и вовсе всех озадачила, сказав однажды: “Вы‐то, большие, чем лучше? Бедная девочка…” И заплакала. В Вандиной жизни мало что изменилось. Она по‐прежнему работала на мукомольном заводе, таскала на спине мешки с зерном, ходила за покупками, хлопотала по дому. Как и прежде, гостиная оставалась запретной зоной для Мыни. Как и прежде, вечера они коротали за чтением вслух. И лишь одно все сильнее тревожило Ванду: она не знала, о чем говорить с Мыней. Снова и снова она возвращалась к разговору о “гдетии”, показывала пальцем то на пол, то на потолок (где?), но Мыня только пожимал плечами, давая понять, что нет таких человеческих понятий — верх, низ, право, лево, — которые помогли бы указать путь в “гдетию”. Теперь Мыня спал рядом с Вандой в углублении на подушке. Глядя на его умиротворенное лицо, она засыпала с улыбкой на губах. Ей снилось, будто она постепенно, изо сна в сон, становится все меньше, и это радовало ее, и с этой радостью она и просыпалась. Даже мерзкие кошачьи вопли, доносившиеся из гостиной, не омрачали Вандину радость. Даже смутное предчувствие того, что неомраченная радость не может длиться всегда, не причиняло ей боли, словно она перестала быть человеком. Когда она задумалась об этом, ей вспомнилась фраза из прочитанной недавно книги — и она произнесла ее вслух: — Совершенная любовь убивает страх. А в том, что любовь ее совершенна, она нисколько не сомневалась, хотя и не знала, хорошо ли это. Тревога шевелилась в ее душе в те минуты, когда она снимала левый башмак. Произошло же то, что, наверное, и не могло не произойти. В отсутствие жены Мыня вновь забрался в гостиную, чтобы исполнить профессиональный долг арета. Увидев человечка, черный кот обезумел. От его рывка стол упал набок, шелковая петля соскочила с ножки, и зверь одним прыжком настиг бросившегося бежать Мыню. Человечек хотя и выхватил лепу, но не успел слепулить. Кошачьи зубы сомкнулись на его шее. Вечером Ванда отыскала Мынины останки в гостиной. Она легла ничком. Не лежалось. Она пошла в кухню и долго пила из‐под крана. Долго сидела у окна, зажигая спичку за спичкой. Наконец сняла с кухонного стола клеенку, тщательно выскоблила столешницу ножом и легла. И бесполая черная ночь объяла ее. Там ее и обнаружили — на столе в кухне, со скрещенными на груди руками, с жалобной улыбкой, замерзшей на губах. Пришлось звать десяток здоровенных мужиков, чтобы вынести из дома ее огромное тело. Под его тяжестью полопались рессоры у грузовика. Часа два, с пыхтеньем и руганью, мужики втаскивали Ванду на верхний этаж больницы, где женщину должен был осмотреть доктор Шеберстов. Но прежде надо было освободить ее левую ногу от уродливого грязного ботинка. Поглазеть на эту процедуру сбежался весь персонал. Доктор Шеберстов так долго возился с заскорузлой шнуровкой, что некоторые медсестры и санитарки, не выдержав напряжения, попадали в обморок. Наконец башмак был снят, и мы увидели — да‐да, мы увидели, что у этой огромной бабищи левая нога была ножкой — маленькой, изящной, божественно красивой, с жемчужными ноготками, она напоминала едва распустившийся розовый бутон и благоухала, как три, как тридцать три, нет, как триста тридцать три роскошных августовских сада, плодоносящих в том краю, которого могут достигнуть лишь сердце, смерть и любовь… Искусство существования Отец Вячеслава Пьецуха был лётчиком‐ испытателем. В 1970 году Вячеслав Пьецух окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института. Около десяти лет работал учителем в школе. Работал корреспондентом радио, литературным консультантом в журнале «Сельская молодежь». С января 1993 года по июль 1995 года был главным редактором журнала «Дружба народов». Начал заниматься литературным творчеством с 1973 года. Публиковаться начал с 1978 года. Первая публикация — рассказ «Обманщик», который был напечатан в журнале «Литературная учёба», №5, 1978. В дальнейшем были опубликованы книги: «Алфавит», Рассказы «Весёлые времена», «Новая московская философия» Хроника и рассказы, «Предсказание будущего» Рассказы. Повести, Центрально‐Ермолаевская война» Рассказы, «Роммат» Роман‐ фантастика на историческую тему, «Я и прочие» Циклы. Рассказы. Повести (1990), «Циклы», «Государственное Дитя». Повести и рассказы: «Русские анекдоты», «Заколдованная страна», «Дурни и сумасшедшие», «Неусвоенные уроки родной истории», «Деревенские дневники», «Догадки», Сборник «Жизнь замечательных людей». Вячеслав Пьецух член Союза писателей СССР, Русского ПЕН‐центра. Вячеслав Пьецух был членом редколлегии книжной серии «Анонс», общественного совета «Литературной газеты». Является членом общественного совета журнала «Вестник Европы» (с 2001 года), Комиссии по Государственным премиям Российской Федерации. Вячеслав Пьецух был удостоен премии фонда «Знамя» (1996), журналов «Золотой век», «Огонёк», «Октябрь». Лауреат Новой Пушкинской премии (2006). Много лет тому назад Иван Сергеевич Тургенев, глубоко опечаленный состоянием отечественных дорог, пришел к заключению, что “в России жить нельзя”, и, не мешкая, выехал на постоянное место жительства за рубеж. Однако практика показала, и поднесь показывает, что можно, и даже у нас можно, жить припеваючи, если освоить искусство существования, то есть мало-помалу насобачиться так управлять своим краткосрочным пребыванием на земле, чтобы сама собой источала радость (оно же счастье) даже такая ерунда, как бутерброд с ливерной колбасой. Счастье бывает острое и хроническое. Острое – это в большинстве случаев реакция на победу в продолжительной и многотрудной борьбе за что угодно, хоть за лишние десять соток, хоть за распределение по труду. Это – когда вы без памяти влюблены и весь Божий мир вам как бы подпевает на разные голоса. Такое еще случается с человеком в часы заката, если он сидит в одиночестве на берегу тихой реки или на скамеечке у ворот, наблюдает, как медленно, будто в задумчивости, уходит на покой дневное светило, и вдруг его всего точно окатит мысль: нет ничего слаще обыкновенной жизни, просто жизни, при том, конечно, условии, что ты – человек вникающий, то есть собственно человек. В свою очередь, счастье хроническое подозрительно напоминает любое другое неизлечимо-хроническое заболевание, вроде диабета или гипертонии, которое неразлучно с тобой, как мысль. Это – когда тебе давно и доподлинно известно, что счастье есть всегонавсего отсутствие несчастья, когда ты изо дня в день как-то подробно ощущаешь работу своего духовного организма, утешаешься тем, что у тебя чистая совесть, и при этом тебя переполняет сознание личного бытия. В том-то и состоит искусство существования, чтобы, с одной стороны, холить и лелеять эту самую хронику, а с другой стороны, время от времени провоцировать обострение, иной раз даже резкопринудительного характера, если оно не приходит само собой. Например, по весне, когда развиваются авитаминоз и нервное истощение, как-то все не ладится, супруга злится, и у нее иногда страшно загораются глаза, – хорошо бывает взять отпуск за свой счет и махнуть куда-нибудь подальше, на поиски тех благословенных мест, которые называются – “пуп земли”. Третье чудо: безлюдье! Живучи в Михайловском не в сезон, редко встретишь живого человека, как будто ты в Австралии какой очутился, где скорее наткнешься на крокодила, нежели на аборигена с детским лицом, а не на северо-западе России, где на сто квадратных километров пространства обязательно приходится одна бабушка с лопатой, один человек с ружьем. До того дело доходит, что если увидишь издали поселянина, скажем, на противоположном берегу Сороти, то даже оторопеешь, – так это покажется странным, недостоверным, как спиритизм. Доступнее всего в нашем пиковом положении, то есть в положении трудящегося, который перебивается “с петельки на пуговку”, будет путешествие в Псковскую губернию, в Святогорье, в сельцо Михайловское, некогда принадлежавшее Александру Сергеевичу Пушкину, могучему российскому писателю семитского происхождения (если кто о нем не слыхал), которому Аполлон Григорьев дал глупое прозвище “Наше Все”. Сто против одного: такое нахлынет обострение, что от него потом долго не отойдешь. Четвертое чудо, особенно радостное: телевизор в Михайловском показывает только две программы (православную и про рыбалку), и, таким образом, тут ничто не мешает чувствовать и вникать. Бывало прогуливаешься в Михайловском парке – пруды уже очистились ото льда, и карп может высунуть ноздри над водой, точно он принюхивается к атмосфере, а то белочка прошмыгнет под ногами, попрошайничая, и вдруг грянет такая мысль: может быть, это и есть Вседержитель – те самые два таинственных гена, которыми отличается карп от белочки, а белочка от тебя. Выйдешь за ограду усадьбы, миновав пушечку для стрельбы по гостям, – пара белоснежных лебедей, он и она, медленно скользят по зеркалу Сороти, похожие на миниатюрные айсберги, и сразу до колотья под ложечкой захочется мучиться и любить. Как прибудешь во Псков, сразу начинаются чудеса. Дорога на Святогорье, которое большевики сдуру переименовали в Пушкиногорье, – это не дорога, а долгосрочное оборонительное сооружение, потому что по ней никакая вражеская техника не пройдет. Другое чудо: середина марта, соседняя Тверская губерния еще вся лежит в снегах, грязно-белых, как давно не стиранное белье, а тут веет чем-то средиземноморским, поскольку кругом сухо, солнышко светит, землей пахнет и радуют глаз бедно-зеленые, умилительные тона; и столетние ели, далеко уходящие в небо, зелены, и мох на валунах, и тесовые крыши часовенек, и трава. И так вдруг радостно, хорошо сделается на душе, словно тебе объявили дополнительный день рождения, за то что ты незлой и покладистый человек. Точно тут “пуп земли”, хотя бы потому, что нигде, кроме как в Михайловском, не думается так стремительно и легко. Даже три роковые русские загадки постепенно находят убедительные разгадки, и в конце концов покажется, что больше вопросов в природе нет. “Что делать?” – сухари сушить. “Кто виноват?” – все виноваты. “Ну и что?” – да, собственно, ничего. В гостевом домике, который в действительности представляет собой приятный двухэтажный беленький особнячок, тоже пустынно – одна дежурная сидит в прихожей под лампой, почитывает что-то и норовит вступить в разговор про Александра Сергеевича, который-де томился здесь в ссылке за то, что писал непоказанные стихи. – Всем бы такую ссылку! – бывало ответишь ей. Однако случается, что в гостевом домике невзначай поселится пара-другая молодых людей из интеллигентных, даром что они занимаются операциями с недвижимостью, и по вечерам с ними бывает занятно поговорить. В кухне, смежной с огромной общей столовой, готовится какой-то экзотический чай, дамы подают сласти и бутерброды с разной разностью, все рассаживаются за длинным-предлинным столом, какие бывают в замках, и сразу заводится российский, то есть отвлеченный, нервный, бестолковый, зажигательный разговор, который волнует, как легкий наркотический препарат. – Слыхали: Пичужкин умер? – Это еще что за птица? – Да был такой диссидент, который тридцать лет боролся с советской властью и, нужно отдать ему должное, победил. Кристальной души был человек и бесстрашный, как бегемот. Вообще замечательные у нас попадаются мужики: тридцать лет этот мученик писал разные воззвания, восемь раз выходил протестовать к лефортовскому узилищу, долго мыкался по психушкам и лагерям, одну почку потерял, с семьей расплевался – все ради торжества священных гражданских прав! И вот, когда в стране кончились макароны, начались веерные отключения электричества, пошла стрельба по городам и весям, как на войне, словом, когда этот мученик насмотрелся на плоды своих героических усилий, он поехал с лекциями в Соединенные Штаты – и был таков. Там ему, кстати, вставили новую почку как пострадавшему в борьбе за реальный капитализм. – Но согласитесь, что большевики со временем настолько впали в идиотизм, что их режим стал положительно нетерпим! Вспомните эти дурацкие выездные комиссии, варварскую цензуру, форменный террор против любого инакомыслия – наконец, вечные очереди за всякой чепухой, включая туалетную бумагу, которой и пользоваться-то нельзя! Естественно, что порядочный человек не мог не протестовать против этого (прошу прощения) бардака! – С другой стороны, чем был плох принцип “от каждого по способностям, каждому по труду”? Если ты водопроводчик с неоконченным средним образованием, то получай свои сто двадцать целковых в месяц и ютись в однокомнатной квартирке с видом на котлован. Если ты большой ученый или выдающийся кинематографист, то вот тебе дача на Николиной Горе и персональный автомобиль. А кто у нас нынче обитает на Николиной Горе, это при демократических-то вольностях и свободе слова? Разная сволота! Я хочу сказать, что стоило ликвидировать выездные комиссии, как доминирующими фигурами в нашем обществе стали стяжатель и прохиндей! – Позвольте: и сейчас у нас господствует принцип “от каждого по способностям, каждому по труду”! Возьмите спичечного магната Фрумкина, у которого два высших образования, семь пядей во лбу, четверо детей, любовница и жена… Вы думаете, что Фрумкин только и делает, что катается на лыжах в Давосе, ловеласничает и пьет тысячное вино?! Да он вкалывает по двадцать часов в сутки, покоя не знает и дает государству такую прибыль, какую десять тысяч водопроводчиков не дадут! – Это Фрумкин-то получает по труду?! Он (прошу прощения) по хитрож… своей получает, по беспринципности, алчности, но только не по труду! – А я вам так скажу: истину в последней инстанции много лет тому назад озвучил… – Извиняюсь: по-русски правильнее будет сказать не “озвучил”, а “огласил”. – …Ну хорошо: огласил один персонаж из кинофильма “Чапаев”, которого сыграл гениальный Борис Чирков. Белые, говорит, пришли – грабят, красные пришли – тоже самое грабят, ну некуда христианину податься! Вот вам история государства Российского, что называется, в двух словах. – Истинная правда! Дело вовсе не в социально-экономическом устройстве, а в человеке, который до сих пор настолько не развит как человек, что если бы действительно существовал ад, то он превратил бы его в прибыльное предприятие по утилизации бытовых отходов. А если бы действительно существовал рай – спровоцировал бы в саду Эдемском межэтническую войну. Я веду к тому, что диссидент Пичужкин ерундой занимался; не с коммунистическим режимом нужно было бороться, а с человеком, вернее, с недочеловеческим в человеке, которое исстари к нему пристало, как банный лист. Человек – сволочь, вот в чем все дело! Тут вам вся политэкономия и диалектический материализм! – Но тогда и большевики ленинского призыва дурью маялись, потому их всех и перестреляли в тридцать седьмом году. – И опять я с вами согласен! Властители приходят и уходят, а хомо сапиенс по-прежнему никакой не сапиенс, а бог его знает кто! Словом, что-то надо делать с человеком, иначе до скончания века это будет не жизнь, а чертово колесо. – Да что делать-то?! – На этот вопрос у меня есть такая рекомендация: сухари сушить. Поскольку всем ясно, что в ближайшие десять тысяч лет с человеком не совладать, собеседникам вдруг взгрустнется и они разойдутся по номерам. Разве дамы задержатся на кухне, чтобы помыть посуду, и после в нашем домике воцарится так называемая мертвая тишина. Впрочем, если вы не любите мыть посуду и готовить себе еду, то можно пройтись километра полтора до деревни Бугрово, где есть ресторан, стилизованный под трактир. Дорога идет все еловым лесом, древним, дремучим, и, видимо, оттого путника здесь тоже поджидают… чудеса не чудеса, а что-то отдающее в чудеса. Например, идешь себе, остро наслаждаясь покоем в природе как неким контрапунктом содому человеческого сообщества, и вдруг увидишь сыча, который смирно сидит на высохшем дереве и притворяется спящим, а на самом деле наблюдает за тобой из-под правого века и точно намеревается подмигнуть. До того не в сезон в этих местах бывает безлюдно, что и в трактире на удивление – никого. Целых три зала простаивают зря, вероятно, немалый штат поваров напрасно ножи точит, девушкиофициантки скучают по углам, а гость редок, да и тот норовит не отобедать по-русски, именно натрескаться настоящих кислых щей, да пельменей, да блинов со сметаной, а норовит на скорую руку выпить и закусить. Первое, то есть выпить, – занятие по здешним местам бессмысленное, потому что в Святогорье, по какой-то таинственной причине, спиртное публику не берет. лампочка, и как-то вдруг приятно защемит в районе поджелудочной железы. На обратном пути в Михайловское может встретиться огромная собака неопределенной породы, которая возьмется вас проводить. До самого гостевого домика она будет семенить несколько впереди, время от времени оглядываясь и делая вам глаза. Кажется, вот-вот заходит кругами и заведет сказку про Лукоморье, даром что она вовсе собака-девочка, а не кот. Тут как раз потянет на разговор. Возьмешь вдруг и скажешь: – Толстой велик и светел, Достоевский велик, но затхл. А, допустим, Бальзак перед ними – мальчишка, бытописатель и хроникер! Сосед поинтересуется: Кстати, о горячительных напитках: в действительности это расчудесное занятие – выпить и закусить. Самые добрые мысли, самые светлые побуждения, самые задушевные разговоры обычно возникают за стаканчиком русского хлебного вина, если, конечно, вы не только пьющий человек, но еще и соображающий, что к чему. Ну что такое, в самом деле: погода за окном собачья, совершенно по нашему несчастному климату (положим, это будет снег с дождем в середине мая), дела на службе не ладятся, жена куда-то ушла и неизвестно, когда вернется, сам весь в долгах, как в шелках, где-то далеко, на Кавказе, взрослые мужики воюют “за сена клок”, по телевизору показывают разные гадости, вообще тоска и душа побаливает – ну как тут не выпить с соседом по лестничной площадке, который тебе сочувствует с давних пор… Стало быть, усядемся по национальному обыкновению на кухне, добудем заветную поллитровочку, припрятанную от жены в сливном бачке унитаза, наладим закуску (пускай это будут ломти “бородинского” хлеба, поджаренные на постном масле, с селедкой в томатном соусе) – и вперед! Как выпьешь стаканчик-другой, так сразу нагрянет такое чувство, словно кто тучи разогнал за окном, словно внутри зажглась теплая – Это ты к чему? – К тому, что только народ-исполин мог дать миру таких гениев художественного слова, каковы Федор Достоевский и Лев Толстой! А мы живем так, словно их и не было никогда, как масаи какие-нибудь, только что кровь с молоком не пьем… – Сущая правда! Я все пил: тормозную жидкость пил, политуру пробовал, самогон из мухоморов – это дай сюда, даже мебельный лак употреблял, а вот кровь с молоком не пил. – Зачем же ты, спрашивается, занимался такой отравой? – Чтобы о смерти не думать, когда на “Столичную” денег нет. Ну совсем меня замучили, так сказать, гробовые мысли на склоне лет! – Вообще думать надо меньше. Вот ответь: ты часто задумываешься о том, что Земля безостановочно несется по кругу со скоростью двадцать четыре километра в секунду, и ты вместе с ней безостановочно мчишься во мраке вселенной невесть куда? – Никогда не задумываюсь… – То-то и оно! А ведь это тоже жутко: ты полагаешь, что сидишь на любимом стуле и пьешь чай с лимоном, а это, оказывается, вовторых. А во-первых, ты со скоростью двадцать четыре километра в секунду мчишься во мраке вселенной невесть куда. То же самое и о смерти не надо думать, потому что это тоже жутко, – сиди себе и пей чай с лимоном, иначе закончишь свои дни в известном заведении на улице Матросская Тишина. Кстати, и о собаках как о чрезвычайно важном элементе человеческой жизни и в связи с тем многозначительным обстоятельством, что этих животных на Земле немногим меньше, чем людей, и гораздо больше, чем лошадей. Хотелось бы выяснить, почему? Сдается, потому они так расплодились, что человеку без собаки в той или иной степени не житье. Лошадь – существо полезное, но дура, корова дает молоко, но с ней невозможно поговорить, кошка давно мышей не ловит и эгоцентрична, как осьминог, свинья, она и есть свинья, а собаки – это младшие люди, мыслящие и благородные, способные даже посочувствовать по-человечески, если пришла беда. К сожалению, не всем это известно, но вообще нет на свете такого императива, который был бы известен всем. Бывало матьпокойница (Царствие ей Небесное) скажет: – Вон ты своей собаке какие дорогие лекарства покупаешь, а родной матери только пирамидон. – Мам! – бывало ответишь ей. – Собаки – такие же люди, только лучше. На это родительнице нечего возразить; может быть, ей вдруг припомнится отцовская овчарка Джек, вывезенная по репарациям из Германии, необычайно тонкое существо; когда меня ставили в угол за какую-нибудь детскую шалость, пес потихоньку таскал мне в угол баранки, которые он артистически умыкал с обеденного стола. Правда, многие сетуют на то, что собаки не говорят. Это заблуждение – говорят, только они говорят интонационно, не с утра до вечера и всегда то, что думают, напрямки. Собака хнычет, когда у нее что-нибудь болит, деликатно молчит, уткнув морду в лапы, если хозяин задумался и молчит, и всегда поймешь по интонации ее лая, что именно она в каждом конкретном случае говорит. Залает на один манер (это когда ты только заворачиваешь в свой переулок) – значит: “Здравствуй, хозяин, как я рада, что ты пришел!” Залает на другой манер, почуяв чужого за километр, – “Лучше иди отсюда, а то, не приведи господи, укушу!” Иной раз выпьешь лишнего, а она: “Опять нализался, такой-сякой!” Вот была у меня собака Кити, добродушнейшая самочка из ротвейлеров (она, впрочем, не знала, что она ротвейлер), разумнее которой трудно было вообразить. Она понимала команды на трех европейских языках, подвывала вторым голосом, когда у нас бывали застолья с песнями под гитару, очень любила лечиться и всегда благодарила за укол, из какого-то детского любопытства виртуозно вскрывала мобильные телефоны и разворачивала конфетные фантики, охраняла от ворон лакомую провизию, если застолье случалось на лоне природы, и несколько раз на дню спрашивала глазами: “Не нужно ли еще как-нибудь услужить?” То есть собака остро-насущна в жизни человека по следующим причинам: это самое благовоспитанное и неукоснительно порядочное из всех живых существ, которые водятся в вашем доме; она снимает боль одиночества; заведя щенка, вы исполняете завет предков насчет нерушимости союза собаки и кроманьонца, которому примерно семьдесят тысяч лет; собака воспитывает благоговение перед жизнью вообще, потому что из-за нее начинаешь подозревать чувственность у мышей; собака укрепляет в человеке гордое чувство самоуважения, поскольку он, оказывается, такой кудесник, что ему ничего не стоит воспитать верного друга из такого же беспощадного зверя, как крокодил; собака развивает в нас благородное изумление перед загадками природы, ибо даже зайца можно научить спички зажигать, как утверждает Чехов, но нельзя приручить жену. Существует целый набор хитростей, которые помогают скрасить годы супружества, или, точнее выразиться (с опаской, однако, обидеть лучшую половину человечества), – скоротать. Например, если жена слишком уж на тебя осерчает и станет нудно ругаться за какое-нибудь мелкое мужское преступление (положим, ты потерял месячный проездной билет на метро), самое разумное – это заткнуть ей рот продолжительным поцелуем, чтобы у обоих аж дыхание прервалось. Но вообще жена – это едва ли не центральная проблема существования, которую можно решить, а можно и не решить. Вся штука в том, что мы с ними ужасно разные, то есть такие разные, точно мужчины какого-нибудь гималайского происхождения, а женщин к нам заслали из галактики Большие Магеллановы облака. Вроде бы и мужчина – человек и женщина – человек, но мы, допустим, любим рыбалку, они – с подружками покалякать, они лишний раз мухи не обидят, мы чуть что засучиваем рукава, они выходят замуж преимущественно по расчету, мы же женимся главным образом по любви. Поэтому умные люди норовят обзавестись семьей поздно, на излете молодости, когда человека видать насквозь, и так, чтобы избранница была моложе хотя бы на десять лет. Такая разница в годах выгодна, в частности, потому, что жена до скончания века будет чувствовать в муже старшего брата, ежели не отца, и еще потому насущна, что в шестьдесят лет женщина уже никуда не годится, а мужчина еще ходок. Конечно, любовь – феномен, причем злокозненный, и сглупу можно жениться первокурсником на пожилой аферистке, дурочке, просто ровеснице с незаконченным средним образованием, которая так до самой смерти и останется ровесницей с незаконченным средним образованием, потому что женщины не растут, на холодной провинциалке, бесприданнице, неврастеничке, – но это рок. Однако же не из тех предначертаний и разновидностей фатума, от которых нельзя оправиться, потому что ты волен жениться и во второй раз, и в третий, и в десятый, да вот только смысла нет, потому что лучше все равно не будет, а будет примерно как в прошлый раз. Тогда, может быть, лучше всего вообще не жениться, а искусно существовать в одиночку, по завету Александра Сергеевича Пушкина, несчастнейшего из мужей: “Ты царь, живи один”. Тенет (они же узы) супружеской жизни тем легче избежать, что в молодые годы, когда сглупу женятся первокурсником на пожилой аферистке, дурочке и так далее, любовь бывает, как правило, безответной, в расчете на одного. Почему-то это считается непереносимым горем, если избранница не отвечает тебе взаимностью, и некоторые даже травятся всякой дрянью, а то выбрасываются из окошка, если дело случается в городах. Между тем безответная любовь – тоже любовь, это просто такая разновидность счастья, поскольку так или иначе ты испытываешь целую гамму высоких переживаний, которые воспитывают душу и вообще всячески тебя рафинируют и вострят. Только вот какая вещь: это в тридцать три года ты кум королю, а ближе к старости друзей-то уже не бывает, потому что они, в сущности, не нужны, и собака в полной мере не выручит, и работой не спасешься, а жена – это такой товарищ, который и по головке погладит, и экстренную рюмочку нальет, и безошибочно на путь истинный наставит, потому что и женщины, и пути истинные – просты. А главное, всегда поплакаться есть кому. О смерти как раз думать надо, и даже неотступно, как влюбленные думают друг о друге, а иноки о душе. Стопроцентная смертность – это, конечно, ужасно, и бесконечно мучительно воображать себя лежащим в лакированном ящике на глубине в метр пятьдесят сантиметров под землей в сырости и во тьме, и невозможно смириться с мыслью, что когда-нибудь безнадежно опустеет твоя чудесная двухкомнатная квартира, а лет через пятьдесят в ней вообще поселится незнакомая сволота… Все так, и точно сбудутся гнетущие грезы, но: зато в тебе зреет благоговение перед бесценным даром жизни, и ты мало-помалу научаешься дорожить каждым мгновением бытия. В конце концов человек переживает за свой короткий век только два по-настоящему захватывающих путешествия: из тьмы материнской утробы на свет Божий и от света Божия в область тьмы. Главным образом искусство существования заключается в том, чтобы, соображаясь с конструкцией мира, постепенно выстроить, как дома строят, свой собственный мир, не под дядю, а под себя. Например, все по утрам на работу ходят ради хлеба насущного и удовлетворения разных мелких потребностей, а ты не ходи; лежи себе на диване и почитывай мудрую книжку, которая приятно тревожит ум. Самое удивительное и даже фантастическое то, что в силу таинственного устройства российской жизни ты в любом случае будешь сыт, одет-обут и даже иной раз кто-нибудь сводит тебя в кино. Или, например, все знакомые живут в городе и думают – так и надо, а между тем умные люди давно разобрались по дачам и деревням. Ну что такое, скажем, наша Первопрестольная? – чистой воды содом! Метрополитен – репетиция смерти; человек зажат между каменной стеной и передним бампером автомобиля; мимо зданий новейшей архитектуры проходишь, закрыв глаза; господствующий элемент народонаселения – уголовник, хоть он в офисе сиди, хоть разгуливай по улицам с ножиком в рукаве; порусски почти не говорят, и вообще нации осталось мало, куда ни глянь – этнос какой-то шатается невразумительного происхождения, граждане мира с повадками детворы. Другое дело – деревня, особенно если она расположена за сто первым километром, как говаривали в старину, где влияние города или почти не ощущается, или не ощущается вообще. Бывало подымешься, едва развиднеется (кто любит жить, тот встает чуть свет), выйдешь за калитку на деревенскую улицу, оглядишься по сторонам и подумаешь: “Всех надул!” И действительно – на деревне тишина, как в первый день творения, на березах ни один лист не шелохнется, видно так далеко, что глазам больно, и вдруг почему-то нахлынет такое чувство, точно тебе по крайней мере пол-России принадлежит. А в каких-нибудь ста километрах к юговостоку мать сыра-земля сплошь закатана асфальтом, всюду торчат цветочные клумбы из сносившихся автомобильных покрышек, в воздухе, состоящем бог весть из чего, пахнет какойто дрянью, рожи кругом такие, что кажется сейчас подойдет ктонибудь, вытащит из-за пазухи бейсбольную биту и потребует кошелек. В деревне же воздух пахнет амброзией, если еще не пришла пора сенокоса, а если колхоз откосился и сено лежит в валках, то над деревней стоит дурман. Особенно по осени запахи обостряются, хотя, казалось бы, природа мало-помалу впадает в спячку: как-то волнующе пахнет грибами, даже если они сошли, палой листвой, последними георгинами, кислыми печными дымами, которые низко стелятся вдоль деревни, приятно раздражают обоняние и бодрят. Осень, вообще лучшее время года в деревне; уже чувствительно зябко и по утрам нужно топить печку “барскими” дровами, то есть вперемешку березою и ольхой, от которых по дому распространяется сладкий дух; опять же для тепла хорошо бывает выпить в “адмиральский час” граненый стаканчик русского хлебного вина и навернуть целую сковородку своей картошки, рассыпчатой и дебелой, о которой наши мужики говорят “слаще, чем ананас”. Даже ненастье в деревне, когда с утра до вечера дождик моросит или ветер за окошком воет, срывая листья, которые кружат в мутном воздухе и чуть не совсем скрадывают видимость, точно снег пошел, – это не досадная неприятность и не метеорологическое явление, а факт биографии и даже что-то лично-физиологическое, как покалывание в боку. И деревенские звуки какие-то живые, сообщительные, а не вынимающие душу, как в городах. Вот где-то за околицей мужики трактор заводят и все никак не могут завести; слышно, как через двор кто-то косу отбивает, как будто в колокольчик звонит; вон соседский петух, хворающий третий год, вдруг завопит благим матом, точно спросонья, но поперхнется и замолчит. И народ деревенский по-своему замечательный, а главное, что это не этнос какой-нибудь, не граждане мира, а именно что народ. Лица у здешних обитателей бывают простые, рубленые, а бывают прямо аристократические (прежде земли в наших местах принадлежали господам Безобразовым), повадки у них достойные, образ мыслей – национальный, и в отдельных случаях они как пописаному говорят. Например: – Я, в общем, хорошо себя чувствую, но струя, конечно, уже не та. Как известно, все болезни, за исключением насморка, бывают от переживаний; отсюда вывод – не надо переживать. Положим, сделал накануне какую-нибудь неделикатность и поутру казнишься, волосы на себе рвешь, а нет чтобы подвергнуть свой давешний проступок трезвому анализу, который обязательно убаюкает твою совесть, поскольку, во-первых, слаб человек, вовторых, с кем не бывает, в-третьих, ты все-таки неделикатность сделал, а не украл. Или, положим, друг жену увел – опять же ничего страшного, не исключено, что из этой драмы только тот и следует вывод, что у тебя есть настоящий друг. Вообще самое важное в деле жизни – помнить великую французскую пословицу: “Единственное настоящее несчастье – это собственная смерть”. Предельно несчастный человек среди по-разному несчастных – это, видимо, атеист, если он не совсем дурак. Мало того, что атеист решил для себя “основной вопрос философии” и поэтому ему не так интересно жить, он еще глубоко неспокоен, запутан, и думы его мучительны, так как его до конца не удовлетворяют ни Энгельс, ни Фейербах. С другой стороны, душевное равновесие как разновидность счастья свойственно по преимуществу искренне верующим людям, у которых к Богу вопросов нет. По той причине, что атеист – это больше система биохимических реакций, а искренне верующий человек такой же уникум, как поэт, те и другие, похоже, наперечет. Огромное же большинство людей суть мятущиеся агностики, о которых говорят “ни богу свечка, ни черту кочерга”, которые в Создателя напрочь не верят, но со смертью смириться не в состоянии и так или иначе чают вечного бытия. Из видов душевного равновесия ловчее наоборот: в Создателя верить (точнее, не верить, а чувствовать, даже знать), а смерть принимать как увенчание конструкции, как формат, без которого не обходится ни одно произведение искусства, особенно такое многоплановое, как жизнь. Последнее требует известных усилий, бытие же Божие очевидно, как небо над головой. При том, разумеется, условии очевидно, что ты – человек вникающий, то есть собственно человек. «Отчий край», «Роман-газета». Член комиссии по Государственным премиям при Президенте РФ. Входил в жюри Букеровской премии. Борис Екимов родился в городе Игарка Красноярского края в семье служащих. Работал токарем, слесарем, наладчиком, электромонтером на заводе, строителем в Тюменской области и в Казахстане, учителем труда в сельской школе. Как прозаик дебютировал в 1965 году. В 1976 году был принят в Союз писателей России, а в 1979 году окончил Высшие литературные курсы. За свою многолетнюю писательскую деятельность Борис Екимов создал более 200 произведений. Печатается в самых популярных литературных изданиях: «Наш современник», «Знамя», «Новый мир», «Нива Царицынская», «Россия». Наиболее заметный интерес у читательской аудитории вызвали публикации Б. Екимова в «перестроечные» годы на пике тиражности «толстых изданий»: сборники рассказов «За теплым хлебом», «Ночь исцеления», романы «Родительский дом», «Пастушья звезда». Борис Екимов живет, как сам часто говорит, «на два дома»: в Волгограде и Калаче-на-Дону. ФЕТИСЫЧ Время - к полудню, а на дворе - ни свет, ни тьма. В окна глядит си-за наволочь поздней ненастной осени. Целый день светят в домах по хутору электрические огни, разгоняя долгие утренние да вечерние сумерки. Девятилетний мальчонка Яков, с серьезным прозвищем Фетисыч, обычно уроки готовил в дальней комнате, там, где и спал. Но нынче, скучая, пришел он на кухню. Стол был свободен. Возле него отчим Фетисыча, Федор, маялся с похмелья: то чай заваривал, то наводил в большую кружку иряну - отчаянно кислого "откидного" молока с водой. Тут же топала на крепких ножонках младшая сестра Фетисыча кудрява Светланка. Бориса Екимова нередко называют «проводником литературных традиций Донского края». Лейтмотив его произведений – реальные жизненные будни простого человека. Это близко и понятно многим, поэтому книги пользуются в России огромной популярностью. Мальчик пришел с тетрадью и задачником, устроился за столом возле отчима. Произведения Бориса Екимова переводились на английский, испанский, итальянский, немецкий, французский и другие языки. Его повесть «Пастушья звезда» включена в президентскую библиотеку – серию книг выдающихся произведений российских авторов. - Места не хватило? - спросил его Федор. Борис Екимов - член правлений Союза Писптелей РСФСР (с 1985 по 1991 годы) и Союза Писателей России. Был членом редколлегии еженедельника «Литературная Россия». Член редколлегий журналов - Я вам не буду мешать, - пообещал Фетисыч. - Вроде меня и нет. А за тем столом мне низко. Я наклоняюсь, и осанка у мен портится. - Чего-чего? - переспросил Федор. - Ты не думай, это непросто, - продолжал Фетисыч. - Одну пятерку по арифметике - за домашнее задание, а другую - по новой теме. Я ее понял, к доске вышел и решил. - Осанка. Это учительница говорит. Можешь спросить, если не веришь. - Заткнись, - остановил его Федор. Федор лишь хмыкнул. К причудам пасынка он привык. Фетисыч смолк. Снова повисла тишина. Светланка, мягко топая, таскала и таскала игрушки отцу. Горой они на столе лежали. Потом, заглянув в ящик, сказала: "Все" - и развела руками. И теперь пошло наоборот: подходила она к столу, говорила отцу: "Дай". Федор молча вручал ей игрушку, которую дочь несла к опустевшему ящику, и возвращалась к столу с требовательным: "Дай!" Вначале сидели молча. Фетисыч строчил свою арифметику. Федор пил чай и, скучая, глядел в окно, где сеялся мелкий дождь на серые хуторские дома, на раскисшую землю. Сидели молча. Малая Светланка таскала из ящика за игрушкой игрушку: пластмассовую собаку, мячик, куклу, крокодила - и вручала отцу с коротким: "На!" Федор послушно брал и складывал это добро на столе. Горка росла. Фетисыч скоро от уроков отвлекся. - Хочу тебя обрадовать, - для начала сказал он отчиму. - Ты же вчера был пьяный, не знаешь. А я пятерки получил по русскому и по арифметике. По русскому - одну, а по арифметике - две. Федор лишь вздохнул. Они были похожи, родные дочь и отец: кудрявые волосы - шапкой, черты лица мелковатые, но приятные. Отца старила ранняя седина, мятые подглазья, морщины - пил он в последнее время довольно крепко и быстро сдавал. А малая Светланка, как и положено, была еще ангелочком в темных кудрях, с нежной кожей лица, с легким румянцем - красивая девочка. Мальчишка же, Яков, что по характеру, что по стати был для Федора кровью чужой. Фетисычем его звали за разговорчивость, за стариковскую рассудительность, которая приходилась то кстати, а то и совсем наоборот. Как теперь, например, когда Федору с похмелья и без разговоров свет был не мил. Фетисыч понимал это, даже сочувствовал. Углядев, как отчим косит глазами на жестяную коробку с табаком-самосадом и морщится, он сказал: - Хочу тебе предложить. Ты вот болеешь сейчас с похмелья. А ты наберись силы воли и брось сразу курить. Помучаешься, зато потом тебе будет хорошо. - Это ты сам придумал? - спросил Федор. беспогрешная. Ни солярки ему не надо, ни запчастей. На соломке попрет. - Конечно. Анна пришла в себя скоро: недолго посидела, прислонившись к стене, пожаловалась и, поднимаясь, спросила строго: - Значит, дурак. - А даже из печки не выгребли? Меня ждете? И угля нет? Пришла с работы, с коровника, мать Фетисыча - Анна, женщина молодая, но полная, с одышкой. Через порог шагнув, она присела на табурет, укорила: - Сидите? Дремлете? А мамка ваша - вся в мыле. Опять на себе тягали солому и силос. Вся техника стоит. Фетисыч, не дожидаясь, пока погонят его, резво подался в сарай, за углем. Вернулся он, как всегда, с новостями: - Набирал уголь... Там глыба такая огромная. Я молоток взял и ка-ак ударил ее! Со всех сил! И вдруг - взрыв такой! Все осветилось! - Он вскинул руки. Глаза его сияли восторгом. - Там же темно. И вдруг огонь! Синий такой! - А бригадир чего же? - живея, спросил Федор. - Ты, может, спичкой чиркнул? Поджег? - тревожно спросила мать. - От него проку... Ходит - роги в землю, ни на кого не глядит. - Нет. Я глыбу ударил - и сразу такой взрыв! - А Мишки Холомина "Беларусь"? Он - гожий. Федор молчком сходил в сарай и сразу вернулся. - Мишкин трактор теперь один на весь хутор. За ним, как за стельной коровой, глядят. Говорят, на случай. Кто заболеет... Или за хлебом. Тетка Маня правду гутарит: надо быков заводить. Бык - скотина - Чего там? - спросила жена. - Как всегда, брешет, - махнул рукой Федор, а пасынку сказал: - Ты на рожу на свою погляди в зеркало, взрывник. Но Фетисыч еще не все рассказал. Он вынул из кармана телогрейки четыре куриных яйца и сказал матери: - Ты меня не ругай, ты прости меня. Я одно яйцо разбил нечаянно. сроду не кормит. А мы вволю сыплем. Вот они и бегут на чужбинку. А ты ей - яйца. И она взяла, бесстыжая. А ты вечно суешь свой нос куда не просят. Фетисыч все понял и молча убрался из кухни. Добро, что дом был немалый: три комнаты кроме кухни. Самая дальн - его. В невеликой этой комнатке стол да кровать помещались, на стене - красочный плакат улыбчивого мускулистого мужика с квадратной челюстью и короткой прической, по фамилии Шварценеггер. Фетисыч когда глядел на него, то напрягался и зубы скалил. Но на Шварценеггера он был не очень похож. Во-первых, девять лет от роду. Во-вторых, стричься было негде. Отчим Федор мудрил порою над ним с машинкой да ножницами, оставляя челку на лбу и голый затылок. Получалось не очень внушительно: челка светлых волос, вздернутый нос, круглый подбородок - далеко до силача. Но Фетисыч тренировался. В школе на турнике подтягивался на пятерки целых шесть раз. - Это уж как положено. Хорошо, хоть не все кокнул. Через комнаты глуховато, но слышно было, как ругается мать: - Зато я сделал доброе дело: тетку Шуру обрадовал. Я из гнезда забрал яйца, там их десять было. Пять темных и пять белых. Я сообразил: у нас все куры красные, они темные яйца несут, а у тетки Шуры - белые, значит, ее куры у нас снеслись. Правильно я сообразил? А тетка Шура как раз во дворе была. Я ее и обрадовал, отдал пять яиц и сказал, что всегда буду белые яйца ей отдавать. Правильно я сделал? - Это вы вчера рамы с медпункта пропили? Доумились? - Разведка доложила? Федор ухмыльнулся. - Тебя кто за язык тянул? - досадуя, спросила у Фетисыча мать. - Тебе кто велел лезть в эти гнезда? Темные, белые... Грамотей. Либо тебе куры докладывают, какие они яйца несут? Знахарь... Она своих кур - Доложила. Вот участковый прищемит - назад потянете. Курочат все подряд. Все на пропой, на пропой. А нам край надо бы возле кухни затишку постановить, как у кумы Таисы. В затишку - печку. Летом так расхорошо, не жарко. И курник стоит раскрытый. Шифера бы листов пять или досок, хоть горбыля. Люди во двор тянут, для дела, а ты... - Пузырь поставь - и к тебе притянем. - Разговор, не разговор. Засели, как баглаи. Только и глядите, где бы чего украсть и пропить. Нет чтобы на ферму прийти да женам помочь, корила Анна. - Бабы - в мыле, а мужики прохладничают. - Да уж все растянули. Свинарник какой расхороший был, сколь шиферу, сколь досок. А в клубе, говорят, и полов уж нет. - Вы задарма горбитесь - и мы пойдем рядом с вами. Коммунистический труд? Пошли они. - Полов... Вспомнила. Уж потолки снимают. - Вот и пошли... А водку кажеденно глотать... - Либо Рабуны? Они же кухню строить задумали. Рядом живут. Хозяева. А у нас курник раскрытый. Укоры были те же, что и вчера, и позавчера, и всю долгую осень. - Пузырь. И все будет! - оживился Федор. А у Фетисыча уроки были сделаны, можно и в школу отправляться. Хоть и рановато, но веселее там. - Да если в дело, я два поставлю. - Это уже разговор. - Бесстыжий... Дл дома, для семьи, а ты готов... - Это не разговор, - перебил ее Федор. Через кухонную толкотню, где суматошилась мать, понемногу наливался похмельною злостью отчим, и лишь кудрявая Светланка жила своей детской счастливой жизнью. Через все это Фетисыч пробился быстро и выбрался на волю. Уже пошел декабрь, но долгая поздняя осень, словно грязная злая старуха, бродила по хуторам. Низкие набухшие тучи, морося, ползли и ползли, а то и висели над хутором, цепляясь сизым провисшим брюхом за маковки старых груш. По теплу, по лету, хутор тонул в садах. Теперь же через голые ветви все насквозь было видать: от далекого Заольховского кута, который упирался в лесистое займище, до самого озера, с белым песком на берегу, с желтыми камышами. Весь хутор словно на ладони: серые нахохленные дома, сараи, базы, высокие сенники, просторные огороды. И тихо было на хуторе, пустынно: ни людей, ни машин. Одно дело - зябкая слякотная осень; другое - работы нет. Свиней давно на мясокомбинат сдали, овец раньше продали, коров один гурт неполный остался. Тут еще плотницкую да кузницу на зиму закрыли. А дороги развезло, и хлеб печеный не возят. То хоть возле кузни да плотницкой с утра народ толокся, на бригадный наряд в контору ходили, потом у магазина собирались бабы да старики, ожидая хлеб. Нынче все по домам сидят. От дома Фетисыча видна была и школа. Она лежала на въезде, вначале длинной, через весь хутор, улицы, по которой стояли бывшие клуб, медпункт, детский садик, почта, баня да магазины. Напрямую, дворами да проулками, до школы можно было добраться в два счета. Но обычно Фетисыч не спешил, выходя на улицу главную, мимо подворья многодетного Капустина, где день и ночь мотались на веревке детские штаны да рубашки. Фетисыч свистел, заложив пальцы в рот. И тут же во всех окошках появлялись расплющенные о стекло ребячьи носы. Шестеро детей было у Капустина. Старшей - девять лет, ребятамдвойняшкам - по восемь, дальше - вовсе горох. Еще один свист раздавался возле дома Башелуковых, дл первоклассницы Маринки с прозвищем Кроха. И все. Башелуковы жили на углу. Отсюда лежала по главной улице прямая дорога до самой школы. В бывшем медпункте, где и теперь пахло лекарствами, Фетисыч садился в высокое блестящее кресло. Оно вращалось. Крутнешься раз-другой и дальше пошел. Клуб еще год назад стоял на запоре. Нынче - все раскрыто. Сцену разобрали, выдрали полы. Дед Архип ободрал дерматин с кресел и шил из него чирики. Красный цвет, он приметный. Полхутора в этих чириках щеголяли. В бывшем магазине можно было залезть в большой холодильник, прикрыть дверцу - и вроде тюрьма. Там же лежал на боку тяжелый запертый сейф. Его курочили, но так и не открыли. Хуторская школа - длинное дощатое здание на высоком кирпичном фундаменте - когда-то была восьмилеткой. Директор, завуч, завхоз, учителя... Школьники с трех хуторов сходились. Ныне старая учительница Мари Петровна пестала, кроме главного своего ученика Якова, трех Капустиных да Маринку Башелукову. В просторной школе топили одну печку на две комнаты: класс и еще одну рядом, под названием "спортзал", со шведской стенкой, трапецией да перекладиной. Уроки начинали по-своему, к полудню. Некуда было спешить. Первым приходил Яков. Забирая ключ у технички, молоденькой тети Вари, которая напротив школы жила, он первым делом спрашивал: За долгие годы улицу выездили, посередке тянулась глубокая лужа. Старый брехун Архип божился, что в разлив в эту лужу из озера карась заходит и можно его ловить. Лужа и летом не высыхала, зеленея. А уж теперь словно море была, топя заборы. Правда, заборов на главной улице почти не осталось. Дома казенные, брошенные, заборам ли уцелеть. - Натопила? - Натопила, натопила... Иди проверяй, завхоз. Всякий день на пути в школу Фетисыч наведывался в эти руины прошлого. Добро, что двери да окна в домах брошенных - настежь, а чаще - чернеют пустыми глазницами. У школьного крыльца стояли корыто с водой и большой сибирьковый веник, чтобы сапоги отмывать. Хотя потом в школе и разувались, меняя обувь, но на крыльцо грязь не тягали. За этим Яков следил. Он был официально назначен старостой и помощником старой учительницы и в школе чувствовал себя свободней, чем дома. Пустое длинное здание с длинным коридором встречало тишиной и гулким эхом шагов. Две комнаты с общей печкой были хорошо натоплены, в классе зеленели горшки с цветами, пестрели на стенах рисунки, аппликации да вышивки - детское рукоделье. Три светлых окна глядели на хуторскую улицу. Яков проверил печку и, усевшись за учительский стол, стал ждать. Голоса Капустиных, как только вываливала орава из дома, звенели без умолку, приближаясь. Школьников у Капустиных было трое, но обычно прихватывали довеска - шестилетнего Вовика, который ревм ревел, в школу просясь. А коли не брали его, то убегал из дому и приходил самостоятельно. Собрались. Расселись за партами. Учительница Мария Петровна запаздывала. Как всегда в таких случаях, Яков открыл журнал посещаемости. - Башелукова. - Здесь, - тонко пискнула девчушка, поднимаясь. Она всегда была с белыми бантами в косичках, с белым отложным воротничком - словно городская первоклассница. - Капустина. - Здесь. Шумно прибывали Капустины. Школа оживала. Вслед за ними, опаздывая, медленно поспешала первоклассница Маринка Башелукова - махонькая девчушка с большим красным ранцем за плечами. По теплому времени старые люди выходили глядеть на нее, когда она горделиво несла через хутор белые пышные банты на аккуратной головке. Глядели и вздыхали, вспоминая былое. - Капустин Петр... Капустин Андрей. - И я здесь, - отметился Капустин-младший, довесок. Так было и нынче. Яков через отворенную форточку приказывал: В журнал его не положено было записывать, а хотелось - как все. - Сапоги чисто промывайте! Не тягайте грязь! Марии Петровны не было. Яков решил сбегать к ней. Но прежде, чтобы не теряли зря времени, он дал задания: кому примеры, кому упражнения. А малышу Капустину вручил лист бумаги и велел рисовать. Все это было для Якова делом привычным. Старая учительница порой хворала, порой уезжала к дочери в райцентр, оставляя надежного помощника - Фетисыча. Он старался. А жила учительница недалеко, в старом домишке, в каком жизнь провела. Яков отворил калитку и сразу почуял неладное: настежь были открыты все двери - коридорная, кухонная, сарая. Учительница была мертва и стала валиться на мальчика, как только он тронул ее. Яков с трудом, но не дал ей упасть. Ледяная рука, окостеневшее тело все сказали ему. Он прислонил мертвое тело к стене сарая и бросился вон. Потом, когда к учительнице поспешили взрослые, он издали глядел, как ее заносят в дом. Он поглядел и пошел к школе. Он чувствовал, что озяб. Пробирала дрожь. У крыльца, отмывая в корыте грязные сапоги, он решил, что о смерти учительницы в классе говорить сейчас не станет. "Про уроки забудут, - подумалось ему. - День пропал, его не вернешь", - повторил он слова учительницы. И еще что-то, более важное, останавливало его: он не до конца поверил в смерть, какая-то последняя надежда теплилась - может, еще оживет. - Мари Петровна! - заглядывая в дом, позвал Яков. В доме горел свет. Но никто не ответил. - Мари Петровна! - окликнул он во дворе. Старая учительница была в сарае. Она стояла навалившись на угольный ящик. В полутьме Яков не сразу ее заметил, а потом бросился к ней: В классной комнате было тепло, зелено от цветов и все - за партами, даже Капустин-младший. Обычно, когда учительница, уезжая, оставляла Якова старшим, ребятишкам под началом его приходилось туго. Старался Фетисыч. Лишний раз не скажи, перемены - короче, точно в срок. Но нынче в тягость была чужая ноша. Брать Капустины примеры по математике решили, и Яков добавил им еще одно упражнение. Маринка Башелукова, Кроха, тихо окликнула: - Мария Петровна... - Яша... У меня кончилось. - Что у тебя кончилось? - Не придет. - Букварь. - Я к ней схожу. Может, сварить надо. Ладно? Яков подошел к ней. Все верно. Мари Петровна твердый знак с ней прошла. Хитрые слова "сел" и "съел". И как это бывало ранее: сначала с ним, в прошлом году - с братьями Капустиными, - Яков сказал громко, повторяя слова учительницы: - Давайте все вместе поздравим Марину. Она закончила свою первую книжку-букварь. Молодец, Кроха. Поздравляем тебя! Теперь ты человек грамотный. - Ура-а!! - вылетели из-за парт братья Капустины - невеликие, крепенькие, горластые. - Ура! - поддержал их младший Капустин. - Перемена! - объявил Яков. - Десять минут, - и первым было кинулся в класс соседний - спортзал, чтобы кольца занять и покувыркаться. Но опамятовался, когда старшая Капустина, его одногодка, тоже Марина, спросила: - Яша, а Мария Петровна не придет? Марина Капустина - старшая дочь в большом семействе - в девять лет уже хозяйкой была, помогая в делах домашних и учительнице, когда та хворала. Добрая девочка, рослая, чуть не на голову выше Якова, ровесника своего. - Подожди, - остановил ее Яков, - уроки кончатся. К перемене второй, "большой", как ее называли, на горячую плиту печки ставили чайник, а в жаркий духовой шкаф - блинцы ли, пышки, пироги - кто что из дома принес. Чайник запевал свою нехитрую песнь, закипая, и кончался второй урок. Накрывали клеенкою учительский стол и рассаживались вокруг. Так было всегда. Так было и нынче: пахучий чай с душицей, зверобоем да железняком. Варенье - в баночках. Домовитая Марина Капустина, словно добрая мамка, всем поровну делит: - Тебе - блин, тебе - блин, тебе - блин, тебе - сладкий пирожок, тебе пышку с каймаком. Ты же каймак любишь... - Люблю, - тихо призналась Кроха. - У нас тоже Катька не ныне-завтра отелится. - А теперь кто у нас ведьма? - спросила Кроха. - Когда отелится, гляди, ничего из дома не давай три дня, наставительно сказала Марина-старшая. - А то узнает ведьма и загубит корову. Для них коров губить - первое дело. - А кто у нас ведьма? - так же тихо спросила Кроха, теперь уже пугаясь. - Кто-нибудь да есть, - твердо ответил Яков. - Надо приглядывать. Ведьмы грома боятся. Порчу наводят. В свежий след сыпет и приговаривает. И человек ли, скотина сразу на ноги падает. Ведьма в кого хочешь обернется. Вот тут, - показал он на печку, - на загнетке, на ножах перевернется - и в другой облик. Захочет в белого телка, или в рябую свинью, или в зеленую кошку. А через черную кошку, - добавил он, - всякий может невидимым стать. Хоть я, хоть кто другой. Рядом пройду - и ты меня не увидишь. - Раньше Карпиха ведьмачила, - ответил Яков. На него воззрились удивленно. - Карпиха, - подтвердила Марина-старшая. - Мамка рассказывала. Летось корова отелилась и мычит, бесится, куда-то рвется. Позвали деда Архипа, он в этом деле понимает. Архип молозиво на сковороду и на огонь. Помешивает и молитву читает. А мамке приказал: "В окно гляди. Кто пройдет мимо и его будет корежить, это - ведьма". Мамка глядит - точно, идет Карпиха и ее вправду корежит: то остановится, топчется, то кинется назад, то опять ко двору. Как кружёная овца. Значит, точно она. Кроха слушала, про пышку и каймак забыв; зато братья Капустины под разговоры полбанки варенья опорожнили, накладывая кто больше, пока сестра не пригрозила им. - Карпиха точно ведьмачила, - подтвердил Яков. - Она и померла посвоему. В самую пургу ушла к ярам. Туда ее черти призывали. Там и померла. - Надо поймать черную кошку, но чтобы жуковая была, без подмесу, учил молодых Яков. - Посеред ночи поставить казан на перекрестке, костер развести и варить ее. Да, кошку. Лишь по сторонам не гляди, а в котел. Вся нечистая сила слетится, будет шуметь, свистеть, кричать позвериному. Не оглядайся. По имени тебя будет звать, вроде мамка твоя зашумит: "Петя!" А ты не оглядайся. Оглянулся - конец, - предупредил Яков. - А ты вари и помешивай, вари и помешивай. Нечиста сила вокруг воет, ревет, а ты свое дело делай. Останется в казане лишь мала косточка. Ее надо ощупкой, не глядя брать. Берешь и кладешь меж губ. Сразу тихота настанет. Нечистая сила - по сторонам. А ты сделаешься невидимым. Вовсе невидимым. В любой дом заходи, куда хочешь. И тебя не увидят. - А у деда Архипа черная кошка, - сообщил самый младший Капустин"довесок". - Точно! - в один голос подтвердили его братья и переглянулись. рядом хутор Алешкин, но брызнет дождь - на тракторе не проедешь, зимой в снежных переметах утонешь. А тут еще объявились ненашенские, с рыжим подпалом, волки, вроде из Чечни прибежали. Там стреляют, вот они и подались, где потише. - Это все неправда, - поняв их мысли, сказала Марина-старшая. Неправда ведь, Яша? - Старые люди говорят... - пожал плечами Яков. - Перемена кончилась, - объявил он. - Давайте по местам. Снова пошли уроки. Яков словно забыл о смерти учительницы: непросто было глядеть за ребятами, давать им задания, объяснять да и свое делать. После третьего урока Яков сказал Крохе: Про чеченских волков говорил не только старый брехун дед Архип, но сам лесничий Двужилов. Он видел этих волков не раз: поджарые, с рыжиной на брюхе. И когда неделю спустя Яков надумал идти в хутор Алешкин, мать пугала его: - По такой погоде... Черти тебя поджигают. Тем более - волки. Чеченские... Враз голову отхватят. - Марина, можешь домой идти. Яков стоял на своем: Но Кроха, как всегда, отказалась. И стала готовить домашнее задание, на завтра. В школе было веселее, чем дома. В куликалки будут играть, прячась в пустых классах. Может, картошку напекут. - Пойду. Десять километров. Обернусь к обеду. Там наша Галина Федоровна, она всех знает, она найдет нам учительницу. А то так и будем сидеть. А за окном тянулась поздняя осень. Дождь временами переставал, а потом снова сеялся, и тогда затягивало серой невидью высокий курган за хутором, крутую дорогу через него. Лежала под окнами пустая улица, за ней - вовсе пустое поле на двадцать пять верст до центральной усадьбы, станицы Ендовской. А в край другой, через займище, десять километров до богатого хутора Алешкина, который при асфальтовой дороге стоял. Но те десять километров были длиннее: лежало поперек пути лесистое займище, да две глубокие балки Катькин ерик и Кутерьма, да еще речка нравная - Бузулук. Будто и - Натурный... - ругалась мать. - Бычок упористый... Потонешь в Катькином ерике... Там вода верхом идет. Переждал бы дождь... Люди поедут, я поспрошаю. Яков слушал ее, но сделал, как всегда, по-своему: он ушел рано утром, лишь засерело. Поверх пальто от дождя натянул старый материн болоньевый плащ. И пошагал. А от волков отчим Федор дал ему две ракеты. Дернешь за шнурок - она стрельнет. От хутора, мимо фермы, напрямую до самого займищного леса Яков продвигался вприскочку: пробежит - и пойдет потише, снова пробежит - и опять отдыхает на ходу. Нужно было скорей добраться в Алешкин, поговорить и успеть вернуться в свою школу, к ребятам, которые будут ждать его. *** Школа в Алешкине стояла посреди хутора, на речном берегу. Поднялся на бугор - и вот она: кирпичная, с высоким строением спортзала. При входе - раздевалка, а возле нее сидит уборщица и платок пуховый вяжет. - Ты куда? - сразу признала она чужого. Хоть и умерла Мария Петровна, но каждый день в школу сходились. Выбирался Яков из дома, свистел возле Капустиных и Башелуковых. Техничка тетя Варя топила печь. И уроки шли, как и раньше: по расписанию, с переменами. "Чем по домам сидеть, лучше в школе, - так Яков решил. - А то пропустим, нам же и догонять". Все было как прежде, лишь без Марии Петровны. И нужно было искать ей замену. - К Галине Федоровне. - Она на уроке. Лишь начался урок, - сказала уборщица и воззрилась на сапоги пришедшего. Дорога была не раз хоженная и езженная: займищный лес, который то подходил к обочинам, и тогда остро пахло горькой корой и листвой, то отступал, пропада в серой невиди. Порою вспархивали почти из-под ног куропатки с обрывающим сердце треском. И снова - тихо, угрюмо. Лишь дождевые капли шуршат по плащу. В пору погожую, хоть и колесит дорога, обходя низины да мочажины, хутор Алешкин виден издали на высоком берегу. Теперь - лишь серая мга, короткий окоем. Бурые травы, угрюмая зелень сосняка, раскисшая, налитая водой дорога, скользкие обочины - долгим кажется путь. И грезится всякое: какие-то серые тени в вербовой гущине, колыхнулись - и холодок в груди. Ищет рука картонный кругляш ракеты. Может, волки?.. Но сапоги Яков до блеска отмыл у входа, придраться не к чему. Лишь с плаща капало. - А вызвать ее можно? Я по делу. - И она не гуляет. Жди, - постановила уборщица. Опять колесит дорога. Нынче ее не спрямишь, шагай и шагай. То обочиной, то колеей, выбирая, где легче. Коридор алешкинской школы был просторный и нарядный: много зелени, на стенах большие стенды с фотографиями. Но ждать было не с руки. Урок - чуть не час, а дом Галины Федоровны - рядом. Туда Яков и подался. Стара баба Ганя признала его и встретила, как родного: - Моя сынушка... Откель? Весь промок. Либо пешки? - Пешком, баба Ганя, пешком. Баба Ганя не изменилась, той же живостью светили за стеклами очков глаза. - Ты либо с матерью пришел, в магазин? - Один, баба Ганя. Мне Галина Федоровна нужна. - Я помогу, - сказал Яков и, не дожидаясь согласья, снял с вешалки рабочую телогрейку. - Ты лишь говори, баба Ганя, где у вас чего... - Моя сынушка, да ты прямо хозяин... - поспешая за молодым помощником, нахваливала баба Ганя. Якову же домашние заботы были в привычку: курам - зерна, корове да козам - сена, свиньям - запаренного корма. Тем более что подворье директорши было устроено: не плетневые катухи, а кирпичные, под шифером стойла в один ряд. Вода - из крана. Сенник, закрома, скотья кухн - все рядом. И не лужи да грязь на базу, а бетонные дорожки. Так что труды были невеликие. Управились скоро. Баба Ганя накрывала на стол, а Яков дом успел осмотреть, комнаты его: кабинет с книжными полками во всю стену, горницу с креслами и диваном, с телевизором и видиком. За завтраком он выкладывал старой женщине хуторское: - Тетка Варя и бабка Наташа живые. Дед Андрей в больнице лежал, на станции. Но еле ходит. А Мария Петровна наша померла, - сообщил он главную новость. - Скоро надойдет она. Кончится урок, надойдет. Раздевайся. Сушись. Грейся у печки. А я скотине задам, будем завтракать. - Какая беда... Да как же... К той поре поспела и директорша школы, Галина Федоровна. Услыхав о смерти учительницы, она даже всплакнула: - Господи... Как мы ее любили... Так вас и пестала до последнего. А схоронили где? Плюнул. Пусть, говорит, дома сидят. А Маринка Башелукова, та и вовсе - кроха. Куда ее отпустят родители? Она у них одна при двух бабках. Те сразу с ума сойдут. Вот и все... И как хочешь... Учительницу бы нам найти, - попросил он. Галина Федоровна, оставив еду, слушала. Она была еще молодая, но полная, при золотых очках, коса на голове короной - настоящая директорша. - В райцентре, дочка забрала, - сказал Яков и повернул на свое, ради чего и шел: - Она померла, а мы остались ни с чем. Пятеро учеников: трое Капустиных, Башелукова, я. А учить нас некому. Может, вы нам поможете, найдете учительницу? Возле дома затарахтел мотоцикл и смолк. Завтракали и слушали Якова. - Отец наш приехал, - объявила Галина Федоровна. - Завтракать. - Как она померла, сообщили в сельсовет, оттуда в районо. Там велели перевести нас в Ендовку, на центральную усадьбу. Мы и поехали туда с дядей Витей Капустиным. У него трое в школу ходят, и Вовке на тот год идти. Поехали. Трактором едва добрались. Думали в интернат устроиться. Там большой интернат, двухэтажный. А его закрыли. - Галина! - раздался из коридора голос. - Я пойду со скотиной управлюсь. Ты не давала им? - Нет. - Сейчас их везде закрывают, - вздохнула Галина Федоровна. - Управились мы, управились в четыре руки с помощником, - горделиво сообщила баба Ганя. - Накормили и напоили. - Закрыли и там. В школу нас берут, пожалуйста. А как добираться? Колхоз не будет возить. Горючего нет, и вся техника поломана. Говорят, становитесь по квартирам. А квартиры в Ендовке - с ума сойти. Сдурели хозяйки. По сто тысяч требуют. Капустин как услыхал, за голову схватился. Он где такие деньги возьмет? Тем более за троих. Опупеть можно. У него зарплата - сто тысяч не выходит. И тех не дают с лета. - Молодцы! Кто у тебя в помощниках? Муж у Галины Федоровны был тоже нестарый, но при черной бороде по новой казачьей моде. - В журнале, что ли, прочитал? - Это чей такой? Либо землячок? - Дед наш всегда так делал. А без гречишной соломы потом трудно пух щипать. - Угадал. - Правильно гутарит, - поддержала баба Ганя. - Делали так. - Спасибо, земляк. Мне легче жить. - Что ж, привезем гречишной соломы. А то ведь и вправду щипать их несладко. - Предлагаю вам красную лампочку ввернуть в курятник, - сказал Яков. - Я в журнале читал, в "Науке и жизни". Куры лучше несутся при красном свете. - О! - удивилась Галина Федоровна. - В "Науке и жизни"? Надо попробовать. - Ввернем, - пообещал ей муж. - Какие еще будут предложения по ведению хозяйства? - Козам пора гречишной соломы понемногу класть, - шутки не принимая, сказал Яков. - Скоро пух щипать. От гречишной соломы коза пух хорошо отдает. Отзавтракали. Хозяин присел на корточках возле устья печки, подымить. Якову сварили напоследок кружку пахучего какао, печенья да пряников положили. - Мария Петровна умерла, - сказала мужу хозяйка. - Школу у них закрывают. Нет учителя. А у нас в Филоновской никого нет? задумчиво спросила она не столько мужа, сколько себя. - Татьяна Петровна на пенсии, она не пойдет. Надо из молодых. Тамара Максимова в Михайловке в педучилище, на каком курсе? Ее мать как-то спрашивала меня про место. Надо поговорить с ней. У них отца нет, сестренка младшая. На заочное можно перейти и работать. - Не могла наша Петровна чуток потерпеть, - со вздохом попенял Яков. - Конечно, старая. Но хоть бы до зимних каникул доучила. А не... Неделя прошла. Так и месяц пройдет, и зима. На второй год оставаться? Так искренне было это мальчишечье, детское огорчение, что баба Ганя пожалела: - Я обещал к обеду вернуться, - сказал Яков. - Мамка ждет. - А ты живи у нас. Школа - рядом. И мне будет с кем погутарить. - Конечно, конечно, - одобрила Галина Федоровна. - Сходи. Матери скажи. Я напишу ей записку. - И мужа попросила: - Ты куда едешь? Может, подбросишь его? Предложение было неожиданным. Яков вскинулся и поглядел на Галину Федоровну и мужа ее. - До хутора не пробьюсь. Через ерики не пройдет мотоцикл. Там круто и развезло теперь. - Живи, - подтвердил приглашение хозяин. - Лампочку красную в курятник ввернем, куры усиленно занесутся, харчей хватит. - Ему понравился этот мальчишка. Свои сыновья этой осенью в город уехали: старший - в институт, младший - в техникум. Стало в доме непривычно пусто. - Живи, - повторил он. Мальчик не мог ничего ответить, лишь глядел на Галину Федоровну, понимая, что последнее слово за ней. Она поняла его, сказала мягко: - Живи. Комната свободная есть. С матерью я поговорю. У Якова сердчишко колыхнулось от неожиданной радости. Поселиться в доме директорши, учиться в настоящей школе со спортзалом, где и зимой в футбол играют. А уж народу там... Школа сво вдруг увиделась в настоящем свете: пустой дряхлый дом со ржавою крышею, одинразъединый класс, Капустины да Кроха. Алешкинская школа - дворец. А дом Галины Федоровны... Это не пьяный да похмельный отчим да мать с ругней: "Замолчи... Прикуси длинный язык..." Здесь - книг полная комната, все стены в полках. - Не пройдет, - подтвердил Яков. - Но до ерика довезу. Собирайся. До Катькиного ерика - глубокой, с крутыми склонами балки с мутным ручьем по дну - могучий мотоцикл "Урал" докатил быстро. А далее, перебравшись через ерик, Яков словно на крыльях летел. Ни дождь, ни грязь не были помехой. Дорога к хутору была уже дорогой к новому, к завтрашнему, дню, когда он уйдет в Алешкин, в тамошнюю школу, к Галине Федоровне. По-прежнему моросило. В займищном голом лесу было тихо. Даже воронье убралось к жилью человеческому, к теплу. До ночи, до своей поры дремали на лежках сытые кабаны. Рыжий, уже выкуневший лисовин, издали заметив мальчика, замер и не таясь переждал, пока он пройдет. Пара тонконогих косуль легкими скачками ушла от дороги. По мокрой земле и листве скачки были бесшумными. Мелькнули белые подхвостья - и нет их. Ворчливым упрекам своего старшего ребята даже обрадовались. Без Якова было пусто. А теперь по-прежнему все пошло: класс, уроки, строгий Фетисыч, словно смерть учительницы ничего не изменила в их жизни. Яков по сторонам не глядел. Он на хутор спешил, где ждали его. - А что отмечать? - забурчали братья. - Дождь да дождь. Через дом родной он промчался, не успев похвалиться. Мать с отчимом на базах управлялись со скотиной. Ухватив сумку, Яков подался в школу, гадая: как там без него? И если в долгом пути на хутор ничто не омрачало нежданно свалившегося на него счастья, то теперь пришло на ум иное: он уйдет, а Капустины с Крохой останутся. Что будет с ними? И что со школой? Радость гасла. А уж о том, чтобы в школе похвалиться, и вовсе не стоило думать. Молчать надо было до поры. Но до какой? - Вот и отметьте условным знаком дождь и температуру проставьте. Легко поднялась старша Капустина, стала поливать цветы. Затаив дыхание дожидалась у раскрытой тетрадки с домашним заданием первоклассница Кроха. Ждала, когда Яков подойдет к ней и сядет рядом. Все пошло по-обычному. В классе все были на месте и, будто за делом, ждали, что скажет он. - С Галиной Федоровной повидался, - доложил Яков. - Обещала найти учительницу. Есть у нее на примете. - И разом перешел к учебным делам: - Кто должен заполнять настенный календарь природы? Капустины, ваша обязанность? Почему не заполнили? И разом давайте тетрадки по природоведению. Задано было: живая и неживая природа зимой. Жизнь домашних животных, жизнь диких животных, труд людей... Все вопросы страницы пятидесятой и пятьдесят первой. У Маринки погляжу домашнее - и вас буду проверять и спрашивать. Надо учиться, а не сидеть зря. Придет новая учительница, а все отстали. А цветы не политы, - попенял он старшей Маринке. - Совсем свяли. Вон в алешкинской школе сколько цветов... Они не забывают. Но гость редкий, нежданный - колхозный хуторской бригадир Каледин уже обмывал возле крыльца сапоги. Из класса его увидели - и стали ждать. А бригадир вначале обошел школу, пустые ее комнаты, где стояли столы и скамейки, висели на стенах портреты писателей да ученых, настенные планшеты, стенды: "Наши отличники", "Колхозные ветераны", "Они защищали Родину". Каледин когда-то учился здесь, и дети его через эти стены прошли, а с фотографии глядели лица знакомые. Кто-то теперь повзрослел, постарел, а кто-то и умер. Но жили вместе и долго. Наконец бригадир пришел в класс. Навстречу ему поднялись все разом. Подъехали. Есть школа? Вот она, - убеждал он бригадира. - Значит, можно жить. А увидят замок - и развернутся. - Сидите, сидите, - махнул он рукой и похвалил: - Тепло у вас, хорошо. Цветки цветут. Он снял долгополый намокший плащ, телогрейку, оставшись в пуховом, домашней вязки, свитере. Яков было пошел от учительского стола к своей парте, но бригадир остановил его: - Сиди. Ты же теперь за старшего. Учитесь? - спросил он. - Учимся, - ответили нестройно. Бригадир был человеком суровым, немногословным, его в хуторе боялись. - А может, вам у Башелуковых собираться? - спросил он. - Хата большая, теплая, и они не против. У Якова перехватило дыхание. - А библиотека? - бледнея от волнения, показал он на шкафы с книгами. - А наглядные пособия? А уроки физкультуры? Комиссия какая приедет, и будем не числиться. А беженцы, какие места ищут? - Верно, верно... - успокоил Якова бригадир. - Это я так, попытал... Будет Варя топить, приглядать. Дров напилим. А там учительницу найдем. Бригадир и в прежние годы не больно разговорчивым слыл, а ныне, когда все вокруг прахом шло, он и вовсе стал молчуном. На людей не смотрел, ходил - "роги в землю". Но здесь, в школьном классе, глядя на ребятишек, на кипенно-белые банты в косичках крохотной Маринки Башелуковой, он как-то оттаивал, теплело на сердце. И ничего ребятишки от него не требовали, как все иные: ни работы не просили, ни денег, а просто глядели на него. И было приятно. Карапуз Капустин вылез из-за парты с листом бумаги, не торопясь подошел к бригадиру и показал ему свое художество, сообщив: - Это я сам нарисовал. - Здорово... - похвалил бригадир, разглядывая рисунок с цветами, деревьями и красным трактором. Отогревшись, он стал одеваться. На прощание Якову руку пожал. - Держись, Фетисыч. Учительницу найдем. А пока на тебя надёжа. - Тебя ныне бригадир видел? - спросила мать. Он ушел. На воле по-прежнему моросил дождь и не было просвета. В окне класса желтел электрический свет. Он помнил, как два года тому назад закрыли детский сад. Но целых два месяца, пока не настали холода, ребятишки собирались в пустом доме, играли. Они ведь привыкли - гуртом, словно телята. - Он в школе у нас был. В школе ребята, как обычно, пробыли четыре урока. потом все вместе ушли, расходясь не сразу. Проходили не улицей, а через разбитые дома, что тянулись вдоль улицы. На воле - дождь. А там, хоть и окондверей нет, а потолки еще целы, не каплет. Покрутиться на вращающемся железном кресле в медпункте, залезть в глухую пещеру пустого холодильника, что стоял в магазине. А в клубе поиграть в прятки, хоронясь в будке киномеханика, в библиотечной комнате, в длинном коридоре. Помаленьку, но приближались к хатам своим. Вернувшись домой, Яков вдруг понял, что день кончается, а все осталось как прежде: ни матери не сказал, ни ребятам, что уходит в Алешкин. С матерью было легче. А вот с ребятами... Дома все было как обычно: тихая Светланка, не пьяный, но крепко выпивший отчим, потом с фермы вернулась мать. - Охваливал тебя. На ферму пришел, не ругался. Либо выпил чуток... Мы к нему приступом, а он головой покачал: "Бабы, бабы, - говорит. - Я бы сам закричал по-пожарному и убег не знаю куда..." Тебя по двух раз похвалил... - И вдруг она вспомнила главное: - В Дубовке колхоз распускают. Районное начальство приехало, говорят, все, забудьте про колхозную кассу, расходитесь и сами об себя думайте. Спасайтесь своими средствами. - И правильно, - одобрил Федор. - Поделить все. - Вы уже поделили... Шалаетесь, как бурлаки... Все тянете. Колхоз хоть плохой плетешок, а все - затишка. Обещают овечками выдать зарплату. Может, дадут... - Куда этих овечек. Сено травить? - Резать да на базар. У Якова позади лежал долгий день, и его морило, тянуло ко сну. Он прилег, чтобы вздремнуть, и разом уснул, мать его с трудом растолкала к ужину. За столом он сидел молча. - Сама повезешь. - А вот Виктор Паранечкин возит. Берет у людей по дешевке и везет, торгует. Паранечка им не нахвалится. - Перо ему в зад. А мне гребостно на базаре стоять. Мне лучше сутки в тракторе, безвылазно... Чем стоять кланяться всем. Без него все пойдет прахом. Ни Марина Капустина, ни братья ее, ни тем более Кроха без Якова ничего не смогут. Лишь он знает, как тетради проверять, ставить отметки. Его Мария Петровна учила. То, что прежде было гордостью мальчика, стало вдруг горем. Потому что нельзя было уйти в Алешкин, к Галине Федоровне. И от бессилья что-либо изменить Яков заплакал. Он плакал редко. "Бычок упористый..." - говорила мать. А теперь хлынули слезы, и казалось, не будет им конца. Горячие, волна за волной, они накатывались из груди. И мальчик плакал и плакал, пока не уснул. - А шалаться - не гребостно... Для Якова эти разговоры были известными. Кончались они одним ругней. От стола он ушел к телевизору, потом возил маленькую сестру на закорках, изображая коня. Ржал он по-настоящему, на всю хату. А потом снова потянуло его ко сну. Он уснул и проснулся уже ночью, во тьме. Словно ударило его. Он видел во сне день прошедший: школа в Алешкине, директорша Галина Федоровна, бородатый муж ее, баба Ганя. Вроде виделось доброе, а проснулся в испуге. Они ведь ждать его будут, а он не придет. Прийти он не мог, потому что нельзя было оставить свою школу. Тогда там все кончится, рухнет. Не будет уроков, повесят замок, цветы померзнут. А через неделю - это Яков знал точно - школу разгромят. Сначала вынут стекла. Говорят, они дорогие. Потом снимут двери, окна выдерут. И пойдут курочить. Первое время - по ночам, таясь. А потом среди бела дня, наперегонки, кто быстрее успеет. К Новому году от школы останется лишь пустая коробка с черными проемами. Так растаскивали клуб, детский садик, медпункт. Так будет и со школой. Снова снилась ему школа, теперь своя, но такая похожая на алешкинскую: с просторными светлыми коридорами, с плетучей зеленью по стенам и потолку, со стеклянной оранжереей. И будто он, Яков, вел по школе и показывал ее своей старой учительнице, Марии Петровне. Учительница ахала, удивлялась и хвалила Якова: "Молодец..." А вокруг шумела детвора. Много ребят. И за стенами школы, на хуторской улице, было людно. Просто кипел народ, как на базаре. Голова от людей кружилась. А Мария Петровна все хвалила Якова и хвалила: "Молодец, молодец..." - и гладила его по голове горячей ладонью. Было сладко на душе от этих похвал, слезы подступали. И Яков не сдержался, заплакал. А горячая ладонь гладила голову мальчика и лицо, вытирала слезы, и добрый голос шептал и шептал: "Ну чего ты, сынок... Ну чего ты плачешь... Ну проснись, не плачь..." И горячие слезы сушили слезную влагу. Это мать, сердцем почуяв тревогу и боль, услышала и пришла, сидела на краю постели сына и не хотела резко будить его, боясь испугать, и шептала: - Я здесь, мой сынок... Не плачь... Ну не плачь... А за окном менялась погода. С вечера прежде обычного смерклось. Дождь пошел сильнее, гулко барабаня по крышам. Но с вечера же явственно потянул холодный северный ветер. И вдруг в ночи застучала по окнам ледяная крупа. Не та снежная, белая, словно пшено. А ледяная склянь. Это шел дождь и замерзал на лету. Секло и секло по окнам, словно шрапнелью. А потом пошел густой снег. К утру насыпало его по колено. К рассвету прояснилось. Зар вставала уже зимняя, розовая. Хутор лежал вовсе тихий, в снегу, как в плену. Несмелые печные дымы поднимались к небу. Один, другой... За ними - третий. Хутор был живой. Он лежал одиноко на белом просторе земли, среди полей и полей. Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе, в семье театрального режиссёра, еврея по происхождению[1] Доната Исааковича Мечика (1909—1995) и литературного корректора, армянки по национальности[1] Норы Сергеевны Довлатовой (1908—1999). С 1944 года жил в Ленинграде. В 1959 году поступил на отделение финского языка филологического факультета Ленинградского университета имени Жданова и учился там два с половиной года[2]. Общался с ленинградскими поэтами Евгением Рейном[3], Анатолием Найманом, Иосифом Бродским и писателем Сергеем Вольфом («Невидимая книга»), художником Александром Неждановым. Из университета был исключён за неуспеваемость. Затем три года армейской службы во внутренних войсках, охрана исправительных колоний в Республике Коми (посёлок Чиньяворык). По воспоминаниям Бродского[4], Довлатов вернулся из армии «как Толстой из Крыма, со свитком рассказов и некоторой ошеломлённостью во взгляде». Довлатов поступил на факультет журналистики ЛГУ, работал в студенческой многотиражке морского технического университета «За кадры верфям», писал рассказы. Был приглашён в группу «Горожане», основанную Марамзиным, Ефимовым, Вахтиным и Губиным[5]. Работал литературным секретарём Веры Пановой[6]. В 1972‐1975 годах жил в Эстонии, где работал штатным и внештатным сотрудником в газетах «Советская Эстония» и «Вечерний Таллин»[7]. В своих рассказах, вошедших в книгу «Компромисс», Довлатов в числе прочего описывает истории из своей журналистской практики в качестве корреспондента «Советской Эстонии», а также рассказывает о работе редакции и жизни своих коллег‐журналистов. Набор его первой книги в издательтве «Ээсти Раамат» был уничтожен по указанию КГБ Эстонской ССР[8]. Работал экскурсоводом в Пушкинском заповеднике под Псковом (Михайловское). В 1975 году вернулся в Ленинград. Работал в журнале «Костёр»[9]. Писал прозу. Журналы отвергали его произведения. Рассказ на производственную тему «Интервью» был опубликован в 1974 году в журнале «Юность»[10]. Довлатов публиковался в самиздате, а также в эмигрантских журналах «Континент», «Время и мы»[11]. В 1978 году из‐за преследования властей Довлатов эмигрировал, поселился в Нью‐Йорке, где стал главным редактором эмигрантской газеты «Новый американец». Одна за другой выходили книги его прозы. К середине 1980‐х годов добился большого читательского успеха, печатался в престижных журналах «Партизан Ревью» и «The New Yorker». За двенадцать лет эмиграции издал двенадцать книг в США и Европе. В СССР писателя знали по самиздату и авторской передаче на Радио «Свобода». Сергей Довлатов умер 24 августа 1990 года в Нью‐Йорке от сердечной недостаточности. Похоронен на еврейском кладбище «Маунт Хеброн» (Mount Hebron) в нью‐йоркском районе Квинс. ПРЕДИСЛОВИЕ В ОВИРе эта сука мне и говорит: — Каждому отъезжающему полагается три чемодана. Такова установленная норма. Есть специальное распоряжение министерства. Возражать не имело смысла. Но я, конечно, возразил: — Всего три чемодана?! Как же быть с вещами? — Например? — Например, с моей коллекцией гоночных автомобилей? — Продайте, — не вникая, откликнулась чиновница, Затем добавила, слегка нахмурив брови: — Если вы чем‐то недовольны, пишите заявление. — Я доволен, — говорю. После тюрьмы я был всем доволен. — Ну, так и ведите себя поскромнее... Через неделю я уже складывал вещи. И, как выяснилось, мне хватило одного‐единственного чемодана. Я чуть не зарыдал от жалости к себе. Ведь мне тридцать шесть лет. Восемнадцать из них я работаю. Что‐то зарабатываю, покупаю. Владею, как мне представлялось, некоторой собственностью. И в результате — один чемодан. Причем, довольно скромного размера. Выходит, я нищий? Как же это получилось?! Книги? Но, в основном, у меня были запрещенные книги. Которые не пропускает таможня. Пришлось раздать их знакомым вместе с так называемым архивом. Рукописи? Я давно отправил их на Запад тайными путями. Мебель? Письменный стол я отвез в комиссионный магазин. Стулья забрал художник Чегин, который до этого обходился ящиками. Остальное я выбросил. Так и уехал с одним чемоданом. Чемодан был фанерный, обтянутый тканью, с никелированными креплениями по углам. Замок бездействовал. Пришлось обвязать мой чемодан бельевой веревкой. Когда‐то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведено: "Младшая группа. Сережа Довлатов". Рядом кто‐ то дружелюбно нацарапал: "говночист". Ткань в нескольких местах прорвалась. Изнутри крышка была заклеена фотографиями. Рокки Марчиано, Армстронг, Иосиф Бродский, Лоллобриджида в прозрачной одежде. Таможенник пытался оторвать Лоллобриджиду ногтями. В результате только поцарапал. А Бродского не тронул. Всего лишь спросил ‐ кто это? Я ответил, что дальний родственник... Шестнадцатого мая я оказался в Италии. Жил в римской гостинице "Дина ". Чемодан задвинул под кровать. Вскоре получил какие‐то гонорары из русских журналов. Приобрел голубые сандалии, фланелевые джинсы и четыре льняные рубашки. Чемодан я так и не раскрыл. Через три месяца перебрался в Соединенные Штаты. В Нью‐Йорк. Сначала жил в отеле "Рио". Затем у друзей во Флашинге. Наконец, снял квартиру в приличном районе. Чемодан поставил в дальний угол стенного шкафа. Так и не развязал бельевую веревку. Прошло четыре года. Восстановилась наша семья. Дочь стала юной американкой. Родился сынок. Подрос и начал шалить. Однажды моя жена, выведенная из терпения, крикнула: — Иди сейчас же в шкаф! Сынок провел в шкафу минуты три. Потом я выпустил его и спрашиваю: — Тебе было страшно? Ты плакал? А он говорит: — Нет. Я сидел на чемодане. Тогда я достал чемодан. И раскрыл его. Сверху лежал приличный двубортный костюм. В расчете на интервью, симпозиумы, лекции, торжественные приемы. Полагаю, он сгодился бы и для Нобелевской церемонии. Дальше — поплиновая рубашка и туфли, завернутые в бумагу. Под ними — вельветовая куртка на искусственном меху. Слева ‐зимняя шапка из фальшивого котика. Три пары финских креповых носков. Шоферские перчатки. И наконец — кожаный офицерский ремень. На дне чемодана лежала страница "Правды" за май восьмидесятого года. Крупный заголовок гласил: "Великому учению ‐ жить!". В центре — портрет Карла Маркса. Школьником я любил рисовать вождей мирового пролетариата. И особенно ‐Маркса. Обыкновенную кляксу размазал — уже похоже... Я оглядел пустой чемодан. На дне — Карл Маркс. На крышке — Бродский. А между ними — пропащая, бесценная, единственная жизнь. Я закрыл чемодан. Внутри гулко перекатывались шарики нафталина. Вещи пестрой грудой лежали на кухонном столе. Это было все, что я нажил за тридцать шесть лет. За всю мою жизнь на родине. Я подумал ‐ неужели это все? И ответил — да, это все. И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складках этого убогого тряпья. И теперь вырвались наружу. Воспоминания, которые следовало бы назвать — "От Маркса к Бродскому". Или, допустим — "Что я нажил". Или, скажем, просто — "Чемодан"... Но, как всегда, предисловие затянулось. КРЕПОВЫЕ ФИНСКИЕ НОСКИ Эта история произошла восемнадцать лет тому назад. Я был в ту пору студентом Ленинградского университета. Корпуса университета находились в старинной части города. Сочетание воды и камня порождает здесь особую, величественную атмосферу. В подобной обстановке трудно быть лентяем, но мне это удавалось. Существуют в мире точные науки. А значит, существуют и неточные. Среди неточных, я думаю, первое место занимает филология. Так я превратишься в студента филфака. Через неделю меня полюбила стройная девушка в импортных туфлях. Звали ее Ася. Ася познакомила меня с друзьями. Все они были старше нас — инженеры, журналисты, кинооператоры. Был среди них даже один заведующий магазином. Эти люди хорошо одевались. Любили рестораны, путешествия. У некоторых были собственные автомашины. Все они казались мне тогда загадочными, сильными и привлекательными. Я хотел быть в этом кругу своим человеком. Позднее многие из них эмигрировали. Сейчас это нормальные пожилые евреи. Жизнь, которую мы вели, требовала значительных расходов. Чаще всего они ложились на плечи Асиных друзей. Меня это чрезвычайно смущало. Вспоминаю, как доктор Логовинский незаметно сунул мне четыре рубля, пока Ася заказывала такси... Всех людей можно разделить на две категории. На тех, кто спрашивает. И на тех, кто отвечает. На тех, кто задает вопросы. И на тех, кто с раздражением хмурится в ответ. Асины друзья не задавали ей вопросов. А я только и делал, что спрашивал: — Где ты была? С кем поздоровалась в метро? Откуда у тебя французские духи?.. Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает. И они без конца задают вопросы, хотя правдивые ответы им совершенно не требуются... Короче, я вел себя назойливо и глупо. У меня появились долги. Они росли в геометрической прогрессии. К ноябрю они достигли восьмидесяти рублей ‐ цифры, по тем временам чудовищной. Я узнал, что такое ломбард, с его квитанциями, очередями, атмосферой печали и бедности. Пока Ася была рядом, я мог не думать об этом. Стоило нам проститься, и мысль о долгах наплывала. как туча. Я просыпался с ощущением беды. Часами не мог заставить себя одеться. Всерьез планировал ограбление ювелирного магазина. Я убедился, что любая мысль влюбленного бед няка — преступна. К тому времени моя академическая успеваемость заметно снизилась. Ася же и раньше была неуспева ющей. В деканате заговорили про наш моральный облик. Я заметил — когда человек влюблен и у него долги, то предметом разговоров становится его моральный облик. Короче, все было ужасно. Однажды я бродил по городу в поисках шести рублей. Мне необходимо было выкупить зимнее паль то из ломбарда. И я повстречал Фреда Колесникова. Фред курил, облокотясь на латунный поручень Елисеевского магазина. Я знал, что он фарцовщик. Когда‐то нас познакомила Ася. Это был высокий парень лет двадцати трех с нездоровым оттенком кожи. Разговаривая, он нервно приглаживал волосы. Я, не раздумывая, подошел: — Нельзя ли попросить у вас до завтра шесть рублей? Занимая деньги, я всегда сохранял немного раз вязный тон, чтобы людям проще было мне отказать. — Элементарно, — сказал Фред, доставая не большой квадратный бумажник. Мне стало жаль, что я не попросил больше. — Возьмите больше, — сказал Фред. Но я, как дурак, запротестовал. Фред посмотрел на меня с любопытством. — Давайте пообедаем, — сказал он.‐ Хочу вас угостить. Он держался просто и естественно. Я всегда завидовал тем, кому это удается. Мы прошли три квартала до ресторана "Чайка". В зале было пустынно. Официанты курили за одним из боковых столиков. Окна были распахнуты. Занавески покачивались от ветра. Мы решили пройти в дальний угол. Но тут Фреда остановил юноша в серебристой дакроновой куртке. Состоялся несколько загадочный разговор: — Приветствую вас. — Мое почтение, — ответил Фред. — Ну как? — Да ничего. Юноша разочарованно приподнял брови: — Совсем ничего? — Абсолютно. — Я же вас просил. — Мне очень жаль. — Но я могу рассчитывать? — Бесспорно. — Хорошо бы в течение недели. — Постараюсь. — Как насчет гарантий? — Гарантий быть не может. Но я постараюсь. — Это будет — фирма? — Естественно. — Так что — звоните. — Непременно. — Вы помните мой номер телефона? — К сожалению, нет. — Запишите, пожалуйста. — С удовольствием. — Хоть это и не телефонный разговор. — Согласен. — Может быть, заедете прямо с товаром? — Охотно. — Помните адрес? — Боюсь, что нет... И так далее. Мы прошли в дальний угол. На скатерти выделялись четкие линии от утюга. Скатерть была шершавая. Фред сказал: — Обратите внимание на этого фрайера. Год назад он заказал мне партию дельбанов с крестом... Я перебил его: — Что такое — дельбаны с крестом? — Часы, — ответил Фред, — неважно... Я раз десять приносил ему товар — не берет. Каждый раз придумывает новые отговорки. Короче, так и не подписался. Я все думал — что за номера? И вдруг уяснил, что он не хочет ПОКУПАТЬ мои дельбаны с крестом. Он хочет чувствовать себя бизнесменом. которому нужна партия фирменного товара. Хочет без конца задавать мне вопрос: "Как то, о чем я просил?"... Официантка приняла заказ. Мы закурили, и я поинтересовался: — А вас не могут посадить? Фред подумал и спокойно ответил: — Не исключено. Свои же и продадут, ‐ добавил он без злости. — Так, может, завязать? Фред нахмурился: — Когда‐то я работал экспедитором. Жил на девяносто рублей в месяц... Тут он неожиданно приподнялся и воскликнул: — Это — уродливый цирковой номер! — Тюрьма не лучше. — А что делать? Способностей у меня нет. Уродоваться за девяносто рублей я не согласен...Ну, хорошо, съем я в жизни две тысячи котлет. Изношу двадцать пять темно‐серых костюмов. Перелистаю семьсот номеров журнала "Огонек". И все? И сдохну, не поцарапав земной коры?.. Уж лучше жить минуту, но по‐человечески!.. Тут нам принесли еду и выпивку. Мой новый друг продолжал философствовать: — До нашего рождения — бездна. И после нашей смерти — бездна. Наша жизнь — лишь песчинка в равнодушном океане бесконечности. Так попытаемся хотя бы данный миг не омрачать унынием и скукой! Попытаемся оставить царапину на земной коре. А лямку пусть тянет человеческий середняк. Все равно он не совершает подвигов. И даже не совершает преступлений... Я чуть не крикнул Фреду: "Так совершали бы подвиги!". Но сдержался. Все‐таки я пил за его счет. Мы просидели в ресторане около часа. Потом я сказал: — Надо идти. Ломбард закрывается. И тогда Фред Колесников сделал мне предложение: — Хотите в долю? Я работаю осторожно, валюту и золото не беру. Поправите финансовые дела, а там можно и соскочить. Короче, подписывайтесь... Сейчас мы выпьем, а завтра поговорим... Назавтра я думал, что мой приятель обманет. Но Фред всего лишь опоздал. Мы встретились около бездействующего фонтана перед гостиницей "Астория". Потом отошли в кусты. Фред сказал: — Через минуту придут две финки с товаром. Берите тачку и езжайте с ними по этому адресу... Мы, кажется, на вы? — На ты, естественно, что за церемонии? — Бери мотор и езжай по этому адресу. Фред сунул мне обрывок газеты и продолжал: — Тебя встретит Рымарь. Узнать его просто. У Рымаря идиотская харя плюс оранжевый свитер. Че рез десять минут появлюсь я. Все будет о'кей! — Я же не говорю по‐фински. — Это неважно. Главное — улыбайся. Я бы сам поехал, но меня тут знают... Фред схватил меня за руку: — Вот они! Действу! И пропал за кустами. Страшно волнуясь, я пошел навстречу двум женщинам. Они были похожи на крестьянок, с широкими загорелыми лицами. На женщинах были светлые плащи, элегантные туфли и яркие косынки. Каждая несла хозяйственную сумку, раздувшуюся вроде футбольного мяча. Бурно жестикулируя, я наконец подвел женщин к стоянке такси. Очереди не было. Я без конца по вторял: "Мистер Фред, мистер Фред..." и трогал одну из женщин за рукав. — Где этот тип, — вдруг рассердилась женщи на, — куда он делся? Чего он нам голову морочит?! — Вы говорите по‐русски? — Мамочка русская была. Я сказал: — Мистер Фред будет чуть позже. Мистер Фред просил отвезти вас к нему домой. Подъехала машина. Я продиктовал адрес. Потом начал смотреть в окно. Не думал я, что среди прохо жих такое количество милиционеров. Женщины говорили между собой по‐фински. Было ясно, что они недовольны. Затем они рассмеялись, и мне стало полегче. На тротуаре меня поджидал человек в огненном свитере. Он сказал, подмигнув: — Ну и хари! — Ты на себя взгляни, — рассердилась Илона, которая была помоложе. — Они говорят по‐русски, — сказал я. — Отлично, — не смутился Рымарь, — замечательно. Это сближает. Как вам нравится Ленинград? — Ничего себе, — ответила Марья. — В — митаже были? — Нет еще. А где это? — Это где картины, сувениры и прочее. А раньше там жили цари. — Надо бы взглянуть, — сказала Илона. — Не были в — митаже! — сокрушался Рымарь. Он даже слегка замедлил шаги. Как будто ему претила дружба с такими некультурными женщинами. Мы поднялись на второй этаж. Рымарь толкнул дверь, которая была не заперта. Всюду громоздилась посуда. Стены были увешаны фотографиями. На диване лежали яркие конверты от заграничных пластинок. Постель была не убрана. Рымарь зажег свет и быстро навел порядок. Затем он спросил: — Что за товар? — Лучше ответь, где твой приятель с деньгами? В ту же минуту раздались шаги и появился Фред Колесников. В руке он нес газету, которую достал из почтового ящика. Вид у него был спокойный и даже равнодушный. — Терве, — сказал он финкам, — здравствуйте. Затем повернулся к Рымарю: — Ну и мрачные физиономии! Ты к ним приставал? — Я?!‐возмутился Рымарь. — Мы говорили о прекрасном! Кстати, они волокут по‐русски. — Отлично, — сказал Фред, — добрый вечер, госпожа Ленарт, как поживаете, Илона‐барышня? — Ничего, спасибо. — Зачем вы скрыли, что говорите по‐русски? — А кто нас спрашивал? — Сначала надо выпить, — заявил Рымарь. Он достал из шкафа бутылку кубинского рома. Финки с удовольствием выпили. Рымарь снова налил. Когда гостьи пошли в уборную, Рымарь сказал: — Все чухонки — на одно лицо. — Тем более что они — родные сестры, ‐ пояснил Фред. — Так я и думал... Кстати, физиономия этой госпожи Ленарт не внушает мне доверия. Фред прикрикнул на Рымаря: — А чья физиономия внушает тебе доверие, кроме физиономии следователя? Финки быстро вернулись. Фред дал им чистое полотенце. Они подняли фужеры и улыбнулись ‐второй раз за целый день. Хозяйственные сумки они держали на коленях. — Ура, — сказал Рымарь, — за победу над Германией! Мы выпили и финки тоже. На полу стояла радиола, и Фред включил ее ногой. Черный диск слегка покачивался. — Ваш любимый писатель? — надоедал финкам Рымарь. Женщины посовещались между собой. Затем Илона сказала: — Возможно, Каръялайнен. Рымарь снисходительно улыбнулся, давая понять, что одобряет названную кандидатуру. Однако сам претендует на большее. — Ясно, — сказал он, — а что за товар? — Носки, — ответила Марья. — И больше ничего? — А чего бы ты хотел? — Сколько? — поинтересовался Фред. — Четыреста тридцать два рубля, — отчеканила младшая, Илона. — Майн гот! — воскликнул Рымарь. — Это же звериный оскал капитализма! — Меня интересует — сколько пар? — отстранил его Фред. — Семьсот двадцать. — Креп‐найлон? — требовательно вставил Рымарь. — Синтетика, — ответила Илона, — шестьдесят копеек пара. Всего ‐ четыреста тридцать два рубля... Тут я должен сделать небольшую математическую выкладку. Креповые носки тогда были в моде. Советская промышленность таких не выпускала. Купить их можно было только на черном рынке. Стоила пара финских носков — шесть рублей. А у финнов их можно было приобрести за шестьдесят копеек. Девятьсот процентов чистого заработка... Фред вынул бумажник и отсчитал деньги. — Вот, — сказал он, — еще двадцать рублей. Товар оставьте прямо в сумках. — Надо выпить, — вставил Рымарь, — за мирное урегулирование Суэцкого кризиса! За присоединение Эльзаса и Лотарингии! Илона переложила, деньги в левую руку. Взяла наполненный до краев стакан. — Давайте трахнем этих финок, — прошептал Рымарь, — в целях международного единства. Фред повернулся ко мне: — Видишь, с кем приходится дело иметь! Я испытывал чувство беспокойства к страха. Мне хотелось поскорее уйти. — Ваш любимый художник? — спрашивал Рымарь Илону. При этом он клал ей руку на спину. — Возможно, Мааптере, — говорила Илона, отодвигаясь. Рымарь укоризненно приподнимал брови. Словно его эстетическое чувство было немного задето. Фред сказал: — Надо проводить женщин и дать водителю семь рублей. Я бы послал Рымаря, но он зажилит часть денег. — Я?! — возмутился Рымарь. — С моей кристальной честностью?!. Когда я вернулся, повсюду лежали разноцветные целлофановые свертки. Рымарь казался немного сумасшедшим. — Пиастры, кроны, доллары, — твердил он, ‐франки, иены... Потом вдруг успокоился, достал записную книжку и фломастер. Что‐ то подсчитал и говорит: — Ровно семьсот двадцать пар. Финны ‐ честными народ. Вот что значит — слаборазвитое государство... — Помножь на три, — сказал ему Фред. — Как это — на три? — Носки уйдут по трешке, если сдать их оптом. Полтора куска с довеском чистого навара. Рымарь быстро уточнил: — Тысяча семьсот двадцать восемь рублей. Безумие уживалось в нем с практицизмом. — Пятьсот с чем‐то на брата, — добавил Фред. — Пятьсот семьдесят шесть, — вновь уточнил Рымарь... Позже мы оказались с Фредом в шашлычной. Клеенка на столе была липкая. Вокруг стоял какой‐то жирный туман. Люди проплывали мимо, как рыбы в аквариуме. Фред выглядел рассеянным и мрачным. Я сказал: — В пять минут такие деньги! Надо же было что‐то сказать. — Все равно, — ответил Фред, — будешь сорок минут дожидаться, когда тебе принесут чебуреки на маргарине. Тогда я спросил: — Зачем я тебе нужен? — Я Рымарю не доверяю. Не потому, что Рымарь может обокрасть клиента. Хотя такое не исключено. И не потому, что Рымарь может зарядить клиенту старые облигации вместо денег. И даже не потому, что он склонен трогать клиента руками. А потому, что Рымарь — дурак. Что губит дурака? Тяга к прекрасному. Рымарь тянется к прекрасному. Вопреки своей исторической обреченности, Рымарь хочет японский транзистор. Рымарь идет в магазин "Березка", протягивает кассиру сорок долларов. Это с его‐то рожей! Да он в банальном гастрономе рубль протягивает, и то кассир не сомневается, что рубль украден. А тут — сорок долларов! Нарушение правил валютных операций. Готовая статья... Рано или поздно он сядет. — А я? — спрашиваю. — Ты — нет. У тебя будут другие неприятности, Я не стал уточнять — какие. Прощаясь, Фред сказал: — В четверг получишь свою долю. Я уехал домой в каком‐то непонятном состоянии. Я испытывал смешанное чувство беспокойства и азарта. Наверное, есть в шальных деньгах какая‐то гнусная сила. Асе я не рассказал о моем приключении. Мне хотелось ее поразить. Неожиданно превратиться в богатого и размашистого человека. Между тем дела с ней шли все хуже. Я без конца задавал ей вопросы. Даже когда я поносил ее знакомых, то употреблял вопросительную форму: — Не кажется ли тебе, что Арик Шульман просто глуп?.. Я хотел скомпрометировать Шульмана в Асиных глазах, достигая, естественно, противоположной цели. Скажу, забегая вперед, что осенью мы расстались. Ведь человек, который беспрерывно спрашивает, должен рано или поздно научиться отвечать... В четверг позвонил Фред: — Катастрофа! — Что такое? Я подумал, что арестовали Рымаря. — Хуже, — сказал Фред, — зайди в ближайший галантерейный магазин. — Зачем? — Все магазины завалены креповыми носками. Причем, советскими креповыми носками. Восемьдесят копеек — пара. Качество не хуже, чем у финских. Такое же синтетическое дерьмо... — Что же делать? — Да ничего. А что тут можно сделать? Кто мог ждать такой подлянки от социалистической экономи ки?!.Кому я теперь отдам финские носки? Да их по рублю нt возьмут! Знаю я нашу блядскую промыш ленность! Сначала она двадцать лет кочумает, а потом вдруг ‐ раз! И все магазины забиты какой‐нибудь одной хреновиной. Если уж зарядили поточную ли нию, то все. Будут теперь штамповать эти креповые носки — миллион пар в секунду... Носки мы в результате поделили. Каждый из нас взял двести сорок пар. Двести сорок пар одинаковых креповых носков безобразной гороховой расцветки.Единственное утешение — клеймо "Мейд ин Финланд". После этого было многое. Операция с плащами "болонья". Перепродажа шести немецких стереоуста новок. Драка в гостинице "Космос " из‐за ящика аме риканских сигарет. Бегство от милицейского наряда с грузом японского фотооборудования. И многое другое. Я расплатился с долгами. Купил себе приличную одежду. Перешел на другой факультет. Познакомился с девушкой, на которой впоследствии женился. Уехал на месяц в Прибалтику, когда арестовали Рымаря и Фреда. Начал делать робкие литературные попытки. Стал отцом. Добился конфронтации с властями. Потерял работу. Месяц просидел в Каляевской тюрьме. И лишь одно было неизменным. Двадцать лет я щеголял в гороховых носках. Я дарил их всем своим знакомым. Хранил в них елочные игрушки. Вытирал ими пыль. Затыкал носками щели в оконных рамах. И все же количество этой дряни почти не уменьшалось. Так я и уехал, бросив в пустой квартире груду финских креповых носков. Лишь три пары сунул в чемодан. Они напомнили мне криминальную юность, первую любовь и старых друзей. Фред, отсидев два года, разбился на мотоцикле "Чезет". Рымарь отсидел год и служит диспетчером на мясокомбинате. Ася благополучно эмигрировала и преподает лексикологию в Стэнфорде. Что весьма странно характеризует американскую науку. НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ПОЛУБОТИНКИ Я должен начать с откровенного признания. Ботинки эти я практически украл... Двести лет назад историк Карамзин побывал во Франции. Русские эмигранты спросили его: — Что, в двух словах, происходит на родине? Карамзину и двух слов не понадобилось. — Воруют, — ответил Карамзин... Действительно, воруют. И с каждым годом все размашистей. С мясокомбината уносят говяжьи туши. С текстильной фабрики — пряжу. С завода киноаппаратуры — линзы. Тащат все — кафель, гипс, полиэтилен, электромоторы, болты, шурупы, радиолампы, нитки, стекла. Зачастую все это принимает метафизический характер. Я говорю о совершенно загадочном воровстве без какой‐либо разумной цели. Такое, я уверен, бывает лишь в российском государстве. Я знал тонкого, благородного, образованного человека, который унес с предприятия ведро цементного раствора. В дороге раствор, естественно, затвердел. Похититель выбросил каменную глыбу неподалеку от своего дома. Другой мой приятель взломал агитпункт. Вынес избирательную урну. Притащил ее домой и успокоился. Третий мой знакомый украл огнетушитель. Четвертый унес из кабинета своего начальника бюст Поля Робсона. Пятый — афишную тумбу с улицы Шкапина. Шестой — пюпитр из клуба самодеятельности. Я, как вы сможете убедиться, действовал гораздо практичнее. Я украл добротные советские ботинки, предназначенные на экспорт. Причем украл я их не в магазине, разумеется. В советском магазине нет таких ботинок. Стащил я их у председателя ленинградского горисполкома. Короче говоря, у мэра Ленинграда. Однако мы забежали вперед. Демобилизовавшись, я поступил в заводскую мно готиражку. Прослужил в ней три года. Понял, что идеологическая работа не для меня. Мне захотелось чего‐то более непосредственного. Далекого от нравственных сомнений. Я припомнил; что когда‐то занимался в художе ственной школе. Между прочим, в той же самой, которую окончил известный художник Шемякин. Ка кие‐то навыки у меня сохранились. Знакомые устроили меня по блату в ДПИ (Комбинат декоративно‐ прикладного искусства). Я стал учеником камнереза. Решил утвердиться на поприще монументальной скульптуры. Увы, монументальная скульптура — жанр весьма консервативный. Причина этого — в самой ее монументальности. Можно тайком писать романы и симфонии. Мож но тайно экспериментировать на холсте. А вот по пытаитесь‐ка утаить четырехметровую скульптуру. Не выйдет! Для такой работы необходима просторная мастерская. Значительные подсобные средства. Целый штат ассистентов, формовщиков, грузчиков. Короче, требуется официальное признание. А значит — пол ная благонадежность. И никаких экспериментов... Побывал я однажды в мастерской знаменитого скульптора. По углам громоздились его незавершен ные работы. Я легко узнал Юрия Гагарина, Маяков ского, Фиделя Кастро. Пригляделся и замер — все они были голые. То есть абсолютно голые. С добросовестно вылепленными задами, половыми органами и рельефной мускулатурой. Я похолодел от страха. — Ничего удивительного, — пояснил скульп тор, — мы же реалисты. Сначала лепим анатомию. Потом одежду... Зато наши скульпторы — люди богатые. Больше всего они получают за изображение Ленина. Даже трудоемкая борода Карла Маркса оплачивается не так щедро. Памятник Ленину есть в каждом городе. В любом районном центре. Заказы такого рода — неистощимы. Опытный скульптор может вылепить Ленина вслепую. То есть с завязанными глазами. Хотя бывают и курьезы. В Челябинске, например, произошел такой случай. В центральном сквере, напротив здания горсовета, должны были установить памятник Ленину. Организовали торжественный митинг. Собралось тысячи полторы народу. Звучала патетическая музыка. Ораторы произносили речи. Памятник был накрыт серой тканью. И вот наступила решающая минута. Под грохот барабанов чиновники местного исполкома сдернули ткань. Ленин был изображен в знакомой позе ‐ туриста, голосующего на шоссе. Правая его рука указывала дорогу в будущее. Левую он держал в кармане распахнутого пальто. Музыка стихла. В наступившей тишине кто‐то засмеялся. Через минуту хохотала вся площадь. Лишь один человек не смеялся. Это был ленинградский скульптор Виктор Дрыжаков. Выражение ужаса на его лице постепенно сменилось гримасой равнодушия и безысходности. Что же произошло? Несчастный скульптор изваял две кепки. Одна покрывала голову вождя. Другую Ленин сжимал в кулаке. Чиновники поспешно укутали бракованный монумент серой тканью. Наутро памятник был вновь обнародован. За ночь лишнюю кепку убрали... Мы снова отвлеклись. Монументы рождаются так. Скульптор лепит глиняную модель. Формовщик отливает ее в гипсе. Потом за дело берутся камнерезы. Есть гипсовая фигура. И есть бесформенная мраморная глыба. Необходимо, как говорится, убрать все лишнее. Абсолютно точно скопировать гипсовый прообраз. Для этого имеются специальные устройства, так называемые пунктир‐машины. С помощью этих машин на камне делаются тысячи зарубок. То есть определяются контуры будущего монумента. Затем камнерез вооружается небольшим перфоратором. Стесывает грубые напластования мрамора. Берется за киянку и скарпель (нечто вроде молотка и зубила). Предстоит завершающий этап, филигранная, ответственная работа. Камнерез обрабатывает мраморную поверхность.Одно неверное движение — и конец. Ведь строение мрамора подобно древесной фактуре. В мраморе есть хрупкие слои, затвердения, трещины. Есть прочные фактурные сгустки. (Что‐то вроде древесных сучков.). Есть многочисленные вкрапленная иной породы. И такдалее. В общем, дело это кропотливое и непростое. Меня зачислили в бригаду камнерезов. Нас было трое. Бригадира звали Осип Лихачев. Его помощника и друга — Виктор Цыпин. Оба были мастерами своего дела и, разумеется, горькими пьяницами. При этом Лихачев выпивал ежедневно, а Цыпин страдал хроническими запоями. Что не мешало Лихачеву изредка запивать, а Цыпину опохмеляться при каждом удобном случае. Лихачев был хмурый, сдержанный, немногословный. Он часами молчал, а затем вдруг произносил короткие и совершенно неожиданные речи. Его монологи были продолжением тяжких внутренних раз думий. Он восклицал, резко поворачиваясь к любому случайному человеку: — Вот ты говоришь — капитализм, Америка, Европа! Частная собственность!.. У самого последнего чучмека — легковой автомобиль!.. А доллар, извиняюсь, все же падает!.. — Значит, есть куда падать, — весело откли кался Цыпин, — уже неплохо. А твоему засраному рублю и падать некуда... Однако Лихачев не реагировал, снова погрузившись в безмолвие. Цыпин, наоборот, был разговорчивым и добро душным человеком. Ему хотелось спорить. — Дело не в машине, — говорил он, ‐ я сам автолюбитель... Главное при капитализме — свобода. Хочешь — пьешь с утра до ночи. Хочешь ‐ вка лываешь круглые сутки. Никакого идейного воспи тания. Никакой социалистической морали. Кругом журналы с голыми девками... Опять же — политика. Допустим, не понравился тебе какой‐нибудь министр — отлично. Пишешь в редакцию: министр — говно! Любому президенту можно в рожу наплевать. О вице‐президентах я уж и не говорю... А машина и здесь не такая большая редкость. У меня с шестидесятого года "Запорожец", а что толку?.. Действительно, Цыпин купил "Запорожец". Однако, будучи хроническим пьяницей, месяцами не садился за руль. В ноябре машину засыпало снегом. "Запорожец" превратился в небольшую снежную гору. Около нее всегда толпились дворовые ребята. Весной снег растаял. "Запорожец" стал плоским, как гоночная машина. Крыша его была продавлена детскими санками. Цыпин этому почти обрадовался: — За рулем я обязан быть трезвым. А в такси я и пьяный доеду... Такие вот попались мне учителя. Вскоре мы получили заказ. Причем довольно выгодный и срочный. Бригаде предстояло вырубить рельефное изображение Ломоносова для новой станции метро. Скульптор Чудновский быстро изготовил модель. Формовщики отлили ее в гипсе. Мы пришли взглянуть на это дело. Ломоносов был изображен в каком‐то подозрительном халате. В правой руке он держал бумажный свиток. В левой — глобус. Бумага, как я понимаю, символизировала творчество, а глобус — науку. Сам Ломоносов выглядел упитанным, женственным и неопрятным. Он был похож на свинью. В сталинские годы так изображали капиталистов. Видимо, Чудновскому хотелось утвердить примат материи над духом. А вот глобус мне понравился. Хотя почему‐то он был развернут к зрителям американской стороной. Скульптор добросовестно вылепил миниатюрные Кордильеры, Аппалачи, Гвианское нагорье. Не забыл про озера и реки — Гурон, Атабаска, Манитоба... Выглядело это довольно странно. В эпоху Ломоносова такой подробной карты Америки, я думаю, не существовало. Я сказал об этом Чудновскому. Скульптор рассердился: — Вы рассуждаете, как десятиклассник! А моя скульптура — не школьное пособие! Перед вами — шестая инвенция Баха, запечатленная в мраморе. Точнее, в гипсе... Последний крик метафизического синтетизма!.. — Коротко и ясно, — вставил Цыпин. — Не спорь, — шепнул мне Лихачев, ‐ какое твое дело? Неожиданно Чудновский смягчился: — А может, вы правы. И все же — оставим как есть. В каждой работе необходима минимальная доля абсурда... Мы принялись за дело. Сначала работали на комбинате. Потом оказалось, что нужно спешить. Станцию решено было запустить к ноябрьским праздникам. Пришлось заканчивать работу на месте. То есть под землей. На станции "Ломоносовская" шли отделочные работы. Здесь трудились каменщики, электрики, штукатуры. Бесчисленные компрессоры производили адский шум. Пахло жженой резиной и мокрой известкой. В металлических бочках горели костры. Нашу модель бережно опустили под землю. Ус тановили ее на громадных дубовых козлах. Рядом висела на цепях четырехтонная мраморная глыба. В ней угадывались приблизительные очертания фигуры Ломоносова. Нам предстояла самая ответственная часть работы. Тут возникло непредвиденное осложнение. Дело в том, что эскалаторы бездействовали. Идя наверх за водкой, требовалось преодолеть шестьсот ступеней. В первый день Лихачев заявил: — Иди. Ты самый молодой. Я и не знал, что метро расположено на такой глубине. Да еще в Ленинграде, где почва сырая и зыбкая. Мне пришлось раза два отдыхать. "Столич ная ", которую я принес, была выпита за минуту. Пришлось идти снова. Я все еще был самым мо лодым. Короче, за день я шесть раз ходил наверх. У меня заболели колени. На следующий день мы поступили иначе. А имен но, сразу же купили шесть бутылок. Это не помогло. Наши запасы привлекли внимание окружающих. К нам потянулись электрики, сварщики, маляры, штукатуры. Через десять минут водка кончилась. И снова я отправился наверх. На третий день мои учителя решили бросить пить. На время, разумеется. Но окружающие по‐прежнему выпивали. И щедро угощали нас. На четвертый день Лихачев объявил: — Я не фрайер! Я не могу больше пить за чужой счет! Кто у нас, ребята, самый молодой?.. И я отправился наверх. Подъем давался мне все легче. Видимо, ноги окрепли. Так что, работали, в основном, Лихачев и Цыпин. Облик Ломоносова становился все более четким. И, надо заметить, все более отталкивающим. Иногда появлялся скульптор Чудновский. Давал руководящие указания. Кое‐что на ходу переделывал. Работяги тоже интересовались Ломоносовым. Спрашивали, например: — Кто это в принципе — мужик или баба? — Нечто среднее, — отвечал им Цыпин... Надвигались праздники. Отделочные работы близились к завершению. Станция метро "Ломоносовская" принимала нарядный, торжественный вид. Пол застелили мозаикой. Своды были украшены чугунными лампионами. Одна из стен предназначалась для нашего рельефа. Там установили гигантскую сварную раму. Чуть выше мерцали тяжелые блоки с цепями. Я убирал мусор. Мои учителя наводили последний глянец. Цыпин прорабатывал кружевное жабо и шнурки на ботинках. Лихачев шлифовал завитки парика. В канун открытия станции мы ночевали под землей. Нам предстояло вывесить свой злополучный рельеф. А именно ‐ поднять его на талях. Ввести так называемые "пироны". И наконец, залить крепления для прочности эпоксидной смолой. Поднять такую глыбу на четыре метра от земли довольно сложно. Мы провозились несколько часов. Блоки то и дело заклинивало. Штыри не попадали в отверстия. Цепи скрипели, камень раскачивался. Лихачев орал: — Не подходи!.. Наконец, мраморная глыба повисла над землей. Мы сняли цепи и отошли на почтительное расстояние. Издалека Ломоносов выглядел более прилично. Цыпин и Лихачев с облегчением выпили. Потом начали готовить эпоксидную смолу. Разошлись мы под утро. В час должно было состояться торжественное открытие. Лихачев пришел в темно‐синем костюме. Цыпин — в замшевой куртке и джинсах. Я и не подозревал, что он щеголь. Методу прочим, оба были трезвые. От этого у них даже цвет лица изменился. Мы спустились под землю. Среди мраморных колонн прогуливались нарядные трезвые работяги. Хотя карманы у многих заметно оттопыривались. Четверо плотников наскоро сколачивали малень кую трибуну. Установить ее должны были под нашим рельефом. Осип Лихачев понизил голос и сказал мне: — Есть подозрение, что эпоксидная смола не за твердела. Цыпа бухнул слишком много растворителя. Короче, эта мраморная фига держится на честном слове. Поэтому, когда начнется митинг, отойди в сторонку. И жену предупреди на будущее. — Но там же, — говорю, — будет стоять весь цвет Ленинграда! А что, если все сооружение рухнет? — Может, оно бы и к лучшему, — вяло сказал бригадир... В час должны были появиться именитые гости. Ожидали мэра города, товарища Сизова. Его должны были сопровождать представители ленинградской общественности. Ученые, генералы, спортсмены, писатели. Программа открытия была такая. Сначала ‐ небольшой банкет для избранных. Затем — короткий митинг. Вручение почетных грамот и наград. А дальше, как выразился начальник станции — "по интересам". Одни — в ресторан, другие на концерт художественной самодеятельности. Гости прибыли в час двадцать. Я узнал композитора Андрея Петрова, штангиста Дудко и режиссера Владимирова. Ну и, конечно, самого мэра. Это был высокий, еще не старый человек. Выглядел он почти интеллигентно. Его охраняли двое хмурых упитанных молодцов. Их выделяла легкая меланхолия, свидетельствующая о явной готовности к драке. Мэр обошел станцию, помедлил возле нашего рельефа. Негромко спросил: — Кого он мне напоминает? — Хрущева, — подмигнул нам Цыпин. Мэр не дождался ответа и последовал дальше. За ним, угодливо посмеиваясь, бежал начальник станции. К этому времени трибуну обтянули розовым са тином. Через несколько минут осмотр закончился. Нас пригласили к столу. Отворилась какая‐то загадочная боковая дверь. Мы видели просторную комнату. Я и не знал о ее существовании. Наверное, здесь собирались оборудовать бомбоубежище для администрации. В банкете участвовали гости и несколько заслуженных работяг. Мы были приглашены все трое. Видимо, нас считали местной интеллигенцией. Тем более что скульптор отсутствовал. Всего за столом разместилось человек тридцать. По одну сторону — гости, напротив — мы. Первым выступил начальник станции. Он представил мэра города, назвав его "стойким ленинцем". Все долго аплодировали. После этого взял слово мэр. Он говорил по бумажке. Выразил чувство глубокого удовлетворения. Поздравил всех трудящихся с досрочным завершением работ. Запинаясь, назвал три или четыре фамилии. И наконец, предложил выпить за мудрое ленинское руководство. Все зашумели и потянулись к бокалам. Потом было еще несколько тостов. Начальник станции предложил выпить за мэра. Композитор Петров — за светлое будущее. Режиссер Владимиров ‐за мирное сосуществование. А штангист Дудко за сказку, которая на глазах превращается в быль. Цыпин порозовел. Он выпил фужер коньяка и потянулся за шампанским. — Не смешивай, — посоветовал бригадир. ‐ а то уже хорош. — Что значит — не смешивай, — удивился Цыпин, — почему? Я же грамотно смешиваю. Делаю все по науке. Водку с пивом мешать — это одно. Коньяк с шампанским — другое. Я в этом деле профессор. — Оно и видно, — нахмурился Лихачев, ‐ по той же эпоксидной смоле... Через минуту все говорили хором. Цыпин обнимал режиссера Владимирова. Начальник станции ухаживал за мэром. Штукатуры и каменщики, перебивая один другого, жаловались на заниженные расценки. Только Лихачев молчал. Видно, думал о чем‐то. Затем вдруг резко и совершенно неожиданно произнес, обращаясь к штангисту Дудко: — Знал одну еврейку. Сошлись. Готовила неплохо... А я наблюдал за мэром. Что‐то беспокоило его. Томило. Заставляло хмуриться и напрягаться. Временами по его лицу бродила страдальческая улыбка. Затем произошло следующее. Мэр резко придвинулся к столу. Не опуская го ловы, пригнулся. Левая рука его, оставив бутерброд, скользнула вниз. Около минуты лицо почетного гостя выражало крайнюю сосредоточенность. Потом, издав едва уловимый звук лопнувшей шины, мэр весело откинулся на спинку кресла. И с облегчением взял бутерброд. Тогда я незаметно приподнял скатерть. Заглянул под стол и тотчас выпрямился. То, что я увидел, поразило меня и вынудило затаить дыхание. Я сжался от причастности к тайне. А увидел я крупные ступни мэра города, туго обтянутые зелеными шелковыми носками. Пальцы ног мэра города шевелились. Как будто мэр импровизировал на рояле. Ботинки стояли рядом. И тут — не знаю, что со мной произошло. То ли сказалось мое подавленное диссидентство. То ли за говорила во мне криминальная сущность. То ли воз действовали на меня загадочные разрушительные силы. Раз в жизни такое бывает с каждым. Дальнейшие события припоминаю, как в тумане. Я передвинулся на край сиденья. Вытянул ногу. На щупал ботинки мэра города и осторожно притянул к себе. И лишь после этого замер от страха. В ту же минуту поднялся начальник станции: — Внимание, друзья! Приглашаю вас на короткий торжественный митинг. Почетные гости, займите места на трибуне! Все зашевелились. Режиссер Владимиров попра вил галстук. Штангист Дудко торопливо застегнул верхнюю пуговицу на брюках. Цыпин и Лихачев не охотно отставили бокалы. Я посмотрел на мэра. Тревожно оглядываясь, мэр шарил ногой под столом. Я, разумеется, не видел этого. Но я догадывался об этом по выражению его растерянного лица. Было заметно, что радиус поисков увеличивается. Что мне оставалось делать? Возле моего кресла стоял портфель Лихачева. Портфель всегда был с нами. В нем умещалось до шестнадцати бутылок "Столичной". Таскать его было раз и навсегда поручено мне. Я уронил носовой платок. Затем нагнулся и сунул ботинки мэра в портфель. Я ощутил их благородную, тяжеловатую прочность. Не думаю, чтобы кто‐то все это заметил. Застегнув портфель, я встал. Остальные тоже стояли. Все, кроме товарища Сизова. Охранники вопросительно поглядывали на босса. И тут мэр города показал себя умным и находчивым человеком. Прижав ладонь к груди, он тихо выговорил: — Что‐то мне нехорошо. Я на минуточку прилягу... Мэр быстро снял пиджак, ослабил галстук и взгромоздился на диванчик у телефона. Его ступни в зеленых шелковых носках утомленно раздвинулись. Руки были сложены на животе. Глаза прикрыты. Охранники начали действовать. Один звонил врачу. Другой командовал: — Освободите помещение! Я говорю — освободите помещение! Да побыстрее! Начинайте митинг!.. Еще раз повторяю — начинайте митинг!.. — Могу я чем‐то помочь? — вмешался начальник станции. — Убирайся, старый пидор! — раздалось в ответ. Первый охранник добавил: — На столах все оставить, как есть! Не исключена провокация! Надеюсь, фамилии присутствовавших известны? Начальник станции угодливо кивнул: — Я списочек представлю... Мы вышли из помещения. Я нес портфель в дрожащей руке. Среди колонн толпились работяги. Ломоносов, слава Богу, висел на прежнем месте. Митинг не отменили. Именитые гости, лишившиеся своего предводителя, замедлили шаги возле трибуны. Им скомандовали ‐ подняться. Гости расположились под мраморной глыбой. — Пошли отсюда, — сказал Лихачев, ‐ чего мы здесь не видели? Я знаю пивную на улице Чкалова. — Хорошо бы, — говорю, — удостовериться, что монумент не рухнул. — Если рухнет, — сказал Лихачев, — то мы и в пивной услышим. Цыпин добавил: — Хохоту будет... Мы выбрались на поверхность. День был морозный, но солнечный. Город был украшен праздничными флагами. А нашего Ломоносова через два месяца сняли. Ленинградские ученые написали письмо в газету. Жаловались, что наша скульптура ‐ принижает великий образ. Претензии, естественно, относились к Чудновскому. Так что деньги нам полностью заплатили. Лихачев сказал: — Это главное... ПРИЛИЧНЫЙ ДВУБОРТНЫЙ КОСТЮМ Я и сейчас одет неважно. А раньше одевался еще хуже. В Союзе я был одет настолько плохо, что меня даже корили за это. Вспоминаю, как директор Пуш кинского заповедника говорил мне: — Своими брюками, товарищ Довлатов, вы нару шаете праздничного атмосферу здешних мест... В редакциях, где я служил, мной тоже часто были недовольны. Помню, редактор одной газеты жаловался: — Вы нас попросту компрометируете. Мы оказали вам доверие. Делегировали вас на похороны генерала Филоненко. А вы, как мне стало известно, явились без пиджака. — Я был в куртке. — На вас была какая‐то старая ряса. — Это не ряса. Это заграничная куртка. И кстати, подарок Леже. (Куртка, и вправду, досталась мне от Фернана Леже. Но эта история — впереди.) — Что такое "леже"? — поморщился редактор. — Леже — выдающийся французский художник. Член коммунистической партии. — Не думаю, — сказал редактор, потом вдруг рассердился, — хватит! Вечные отговорки! Все не как у людей! Извольте одеваться так, как подобает работнику солидной газеты! Тогда я сказал: — Пусть мне редакция купит пиджак. Еще лучше — костюм. А галстук, так и быть, я сам куплю... Редактор хитрил. Ему было совершенно все равно, как я одеваюсь. Дело было не в этом. Все объяснялось просто. Я был самым здоровым в редакции. Самым крупным. То есть, как уверяло меня начальство — самым представительным. Или, по выражению ответственного секретаря Минца — "наиболее репрезентативным". Если умирала какая‐то знаменитость, на похороны от редакции делегировали меня. Ведь гроб тащить не каждому под силу. Я же занимался этим не без вдохновения. Не потому, что так уж любил похороны. А потому, что ненавидел газетную работу... — Нахальство, — сказал редактор. — Ничего подобного, — говорю, — законное требование. Железнодорожникам, например, выдается спецодежда. Сторожам ‐ тулупы. Водолазам ‐скафандры. Пускай редакция мне купит спецодежду. Костюм для похоронных церемоний... Редактор наш был добродушным человеком. Имея большую зарплату, можно позволить себе такую роскошь, как добродушие. Да и времена были тогда сравнительно либеральные. Он сказал: — Давайте примем компромиссное решение. Вы подготовите до Нового года три социально значимых материала. Три статьи широкого общественно‐политического звучания. И тогда редакция премирует вас скромным костюмом. — Что значит — скромным? Дешевым? — Не дешевым, а черным. Для торжественных случаев. — 0'кей. — говорю, — запомним этот разговор... Через неделю прихожу в редакцию. Вызывает меня заведующий отделом пропаганды Безуглов. Спускаюсь ниже этажом. Безуглов говорит одновременно по двум телефонам. Слышу: — Белорус не годится. Белорусов навалом. Узбека мне давай, или, на худой конец, эстонца... Хотя нет, погоди, эстонец вроде бы есть... Зато молдаванин под сомнением... Что?.. Рабочий отпадает, пролетариев достаточно... Давай интеллигента, либо сферу обслуживания. А самое лучшее — военного. Какого‐нибудь старшину... В общем, действуй! Безуглов поднял другую трубку: — Але... Срочно нужен узбек. Причем любого качества, хоть тунеядец... Постарайся, голубчик, век не забуду... Я поздоровался и спрашиваю: — Что это за интернационал? Безуглов говорит: — Скоро День конституции. Вот мы и решили дать пятнадцать очерков. По числу союзных республик. Охватить представителей разных народов. Безуглов вынул сигареты и продолжал: — С русскими, допустим, нет проблем. Украинцев тоже хватает. Грузина нашли в медицинской академии. Азербайджанца на мясокомбинате. Даже молдаванина подыскали, инструктора райкома комсомола. А вот с узбеками, киргизами, туркменами ‐ завал. Где я возьму узбека?! — В Узбекистане, — подсказал я. — Какой ты умный! Ясно, что в Узбекистане. Но у меня же — сроки. Не говоря о том, что командировочные фонды давно израсходова.ны... Короче, хо чешь заработать пятьдесят рублей? — Хочу. — Я так и думал... Найди мне узбека, выпишу полтинник. Набавлю как за вредность... — У меня есть знакомый татарин. Безуглов рассердился: — Зачем мне татарин?! У меня самого на площадке татары живут. И что толку? Это же не союзная республика... Короче, найди мне узбека. Киргиза и туркмена я уже распределил между внештатниками, Таджик вроде бы есть у Сашки Шевелева. Казаха ищет Самойлов. И так далее. Нужен узбек. Возьмешься за это дело? — Ладно, — говорю, — но я тебя предупреждаю. Очерк будет социально значимым. С широким общественно‐ политическим звучанием. — Ты выпил? — спросил Безуглов. — Нет. А у тебя есть предложения? — Что ты, — замахал ручками Безуглов, ‐ исключено. Я пью только вечером... Не раньше часу дня... Безуглова я знал давно. Человек он был своеобразный. Родом из Свердловска. Помню, собирался я в командировку на Урал. Естественно, должен был заехать в Свердловск. И как раз на майские праздники. То есть могли быть осложнения с гостиницей. Обращаюсь к Безуглову: — Могу я переночевать в Свердловске у твоих родителей? — Естественно, — закричал Безуглов, ‐ конеч но! Сколько угодно! Все будут только рады. Квартира у них — громадная. Батя — член‐ корреспондент, ма маша — заслуженный деятель искусств. Угостят тебя домашними пельменями... Единственное условие: не проговорись, что мы знакомы. Иначе все пропало. Ведь я с четырнадцати лет — позор семьи!.. — Ладно, — говорю, — поищу тебе узбека. Я начал действовать. Перелистал записную книжку. Позвонил трем десяткам знакомых. Наконец, один приятель, трубач, сообщил мне: — У нас есть тромбонист Балиев. По национальности ‐ узбек. — Прекрасно, — говорю, — дай мне номер его телефона. — Записывай. Я записал. — Он тебе понравится, — сказал мой друг. ‐ Мужик культурный, начитанный, с юмором. Недавно освободился. — Что значит — освободился? — Кончился срок, вот его и освободили. — Ворюга, что ли?‐ спрашиваю. — Почему это ворюга?‐ обиделся друг. ‐ Му жик за изнасилование сидел... Я положил трубку. В ту же минуту звонок Безуглова: — Тебе повезло, — кричит, — нашли узбека. Мищук его нашел... Где? Да на Кузнечном рынке. Торговал этой... как ее... Хохломой. — Наверное, пахлавой? — Ну, пахлавой, какая разница... А мелкий частник — это даже хорошо. Это сейчас негласно поощряется. Приусадебные наделы, личные огороды и все такое... Я спросил: — Ты уверен, что пахлава растет в огороде? — Я не знаю, где растет пахлава. И знать не хочу. Но я хорошо знаю последние инструкции горкома... Короче, с узбеком порядок. — Жаль, — говорю,‐ у меня только что появилась отличная кандидатура. Культурный, образованный узбек. Солист оркестра. Недавно с гастролей вернулся. — Поздно. Прибереги его на будущее. Мищук уже статью принес. А для тебя есть новое задание. Приближается День рационализатора. Ты должен найти современного русского умельца, потомка знаменитого Левши. Того самого, который подковал английскую блоху. И сделать на эту тему материал. — Социально значимый? — Не без этого. — Ладно, — говорю, — попытаюсь... Я слышал о таком умельце. Мне говорил о нем старший брат, работавший на кинохронике. Жил старик на Елизаровской, под Ленинградом, в частном доме. Найти его оказалось проще, чем я думал. Первый же встречный указал мне дорогу. Звали старика Евгений Эдуардович. Он реставрировал старинные автомобили. Отыскивал на свалках ржавые бесформенные корпуса. С помощью разнообразных источников восстанавливал первоначальный облик машины. Затем проделывал огромную работу. Вытачивал, клеил, никелировал. Он возродил десятки старинных моделей. Среди его творений были "Олдсмобили" и "Шевроле", "Пежо" и "Форды ". Разноцветные, сверкающие кожей, медью, хромом , неуклюже‐изысканные, они производили яркое впечатление. Причем, все эти модели были действующими. Они вибрировали, двигались, гудели. Слегка раскачиваясь, обгоняли пешеходов. Это было сильное, почти цирковое зрелище. За рулем восседал хозяин, Евгений Эдуардович. Его старинная кожаная тужурка лоснилась. Глаза были прикрыты целлулоидными очками. Широчайшее кепи дополняло его своеобразный облик. Кстати, он был чуть ли не первым российским автомобилистом. Сел за руль в двенадцатом году. Некоторое время был личным шофером Родзянко. Затем возил Троцкого, Кагановича, Андреева. Возглавил первую российскую автошколу. Войну закончил командиром бронетанкового подразделения. Удостоился многих правительственных наград. Естественно, сидел. В преклонные годы занялся реставрацией старинных автомобилей. Продукция Евгения Эдуардовича демонстрировалась на международных выставках. Его модели использовали на съемках отечественные и зарубежные кинематографисты. Он переписывался на четырех языках с редакциями бесчисленных автомобильных журналов. Если машины участвовали в киносъемках, хозяин сопровождал их. Кинорежиссеры обратили внимание на импозантную фигуру Евгения Эдуардовича. Поначалу использовали его в массовых сценах. Затем стали поручать ему небольшие эпизодические роли. Он изображал меньшевиков, дворян, ученых старого за кала. В общем, стал еще и киноактером... Я провел на Елизаровской двое суток. Мои записи были полны интересных деталей. Мне не терпелось приступить к работе. Приезжаю в редакцию. Узнаю, что Безуглов в командировке. А ведь он говорил мне, что командировочные фонды израсходованы. Ладно... Захожу к ответственному секретарю га зеты Боре Минцу. Рассказываю о своих планах. Сообщаю наиболее эффектные подробности. Минц говорит: — Как фамилия? Я достал визитную карточку Евгения Эдуардовича. — Холидей, — отвечаю, — Евгений Эдуардович Холидей. Минц округлил глаза: — Холидей? Русский умелец — Холидей? Потомок Левши — Холидей?! Ты шутишь!.. Что мы знаем о его происхождении? Откуда у него такая фамилия? — Минц, по‐твоему, — лучше?.. Не говоря о происхождении... — Хуже, — согласился Минц, — бесспорно, хуже. Но Минц при этом — частное лицо. Про Минца не сочиняют очерков к Дню рационализатора. Минц не герой. О Минце не пишут... (Я тогда подумал — не зарекайся!) Он добавил: — Лично я не против англичан. — Еще бы, — говорю... Мне вдруг стало тошно. Что происходит? Все не для печати. Все кругом не для печати. Не знаю, откуда советские журналисты черпают темы!.. Все мои затеи — неосуществимые. Все мои разговоры ‐ не телефонные. Все знакомства — подозрительные... Ответственный секретарь говорит: — Напиши про мать‐героиню. Найди обыкновенную, скромную мать‐ героиню. Причем, с нормальной фамилией. И напиши строк двести пятьдесят. Такой материал всегда проскочит. Мать‐героиня — это вроде беспроигрышной лотереи... Что мне оставалось делать? Все‐таки я штатный журналист. Опять звоню друзьям. Приятель говорит: — У нашей дворничихи — целая орава ребятишек. Хулиганье невероятное. — Это неважно. — Ну, тогда приезжай. Еду по адресу. Дворничиху звали Лидия Васильевна Брыкина. Это тебе не мистер Холидей! Жилище ее производило страшное впечатление. Шаткий стол, несколько продырявленных матрасов, удушающий тяжелый запах. Кругом возились оборванные, неопрятные ребятишки. Самый маленький орал в фанерной люльке. Девочка лет четырнадцати мрачно рисовала пальцем на оконном стекле. Я объяснил цель моего прихода. Лидия Васильевна оживилась: — Пиши, малый, записывай... Уж я постараюсь. Все расскажу народу про мою собачью жизнь. Я спросил: — Разве государство вам не помогает? — Помогает. Еще как помогает. Сорок рублей нам положено в месяц. Ну и ордена с медалями. Вон на окне стоит полная банка. На мандарины бы их сменять, один к четырем. — А муж? — спрашиваю. — Который? У меня их целая рота. Последний за "Солнцедаром" ушел, да так и не вернулся. С год тому назад... Что мне оставалось делать? Что я мог написать об этой женщине? Я посидел для виду и ушел. Обещал зайти в следующий раз. Звонить было некому. Все опротивело. Я подумал — не уволиться ли мне в очередной раз? Не пойти ли грузчиком работать? Тут жена говорит мне: — В подъезде напротив живет интеллигентная дама. Утром гуляет с детьми. Их у нее человек десять... Ты узнай... Я забыла ее фамилию — на ша... — Шварц? — Да нет, Шаповалова... Или Шапошникова... Фамилию и телефон можно узнать в домоуправлении. Я пошел в домоуправление. Поговорил с начальником Михеевым. Человек он был приветливый и добродушный. Пожаловался: — Подчиненных у меня — двенадцать гавриков, а за вином отправить некого... Когда я заговорил об этой самой даме, Михеев почему‐то насторожился ; — Не знаю... Поговорите с ней лично. Зовут ее Шапорина Галина Викторовна. Квартира — двадцать три. Да вон она гуляет с малышами. Только я здесь ни при чем. Меня это не касается... Я направился в сквер. Галина Викторовна оказалась благообразной, представительной женщиной. В советском кино такими изображают народных заседателей. Я поздоровался и объяснил, в чем дело. Дама сразу насторожилась. Заговорила в точности, как наш управдом: — В чем дело? Что такое? Почему вы обратились именно ко мне? Мне стало все это надоедать. Я спрятал авторучку и говорю: — Что происходит? Чего вы так испугались? Не хотите разговаривать ‐ уйду. Я же не хулиган... — Хулиганы мне как раз не страшны, ‐ ответила дама. Затем продолжала: — Мне кажется, вы интеллигентный человек. Я знаю вашу матушку и знала вашего отца. Я полагаю, вам можно довериться. Я расскажу, в чем дело. Хулиганов я, действительно, не боюсь. Я боюсь милиции. — Но меня‐то, — говорю, — чего бояться? Я же не милиционер. — Но вы журналист. А в моем положении рекламировать себя более, чем глупо. Разумеется, я не мать‐героиня. И ребятишки эти — не мои. Я организовала что‐то вроде пансиона. Учу детей музыке, французскому языку, читаю им стихи. В государственных яслях дети болеют, а у меня ‐ никогда. И плату я беру самую умеренную. Но вы догадываетесь, что будет, если об этом узнает милиция? Пансион‐то, в сущности, частный... — Догадываюсь, — сказал я. — Поэтому забудьте о моем существовании. — Ладно, — говорю. Я даже не стал звонить в редакцию. Скажу, думаю, если потребуется, что у меня творческий застой. Все равно уже гонорары за декабрь будут символические. Рублей шестнадцать. Тут не до костюма. Лишь бы не уволили... Тем не менее костюм от редакции я получил. Строгий, двубортный костюм, если не ошибаюсь, восточногерманского производства. Дело было так. Я сидел у наших машинисток. Рыжеволосая красавица Манюня Хлопина твердила: — Да пригласи же ты меня в ресторан! Я хочу в ресторан, а ты меня не приглашаешь! Мне приходилось вяло оправдываться: — Я ведь и не живу с тобой. — А зря. Мы бы вместе слушали радио. Знаешь, какая моя любимая передача — "Щедрый гектар"! А твоя? — А моя — "Есть ли жизнь на других планетах?" — Не думаю, — вздыхала Хлопина, — и здесь‐то жизнь собачья... В эту минуту появился таинственный незнакомец. Еще днем я заметил этого человека. Он был в элегантном костюме, при галстуке. Усы его переходили в низкие бакенбарды. На запястье висела миниатюрная кожаная сумочка. Скажу, забегая вперед, что незнакомец был шпионом. Просто мы об этом не догадывались. Мы решили, что он из Прибалтики. Всех элегантных мужчин у нас почему‐то считали латышами. Незнакомец говорил по‐русски с едва заметным акцентом. Вел он себя непосредственно и даже чуточку агрессивно. Дважды хлопнул редактора по спине. Уговорил парторга сыграть в шахматы. В кабинете ответственного секретаря Минца долго листал технические пособия. Тут мне хотелось бы отвлечься. Я убежден, что почти все шпионы действуют неправильно. Они за чем‐то маскируются, хитрят, изображают простых советских граждан. Сама таинственность их действий ‐ подозрительна. Им надо вести себя гораздо проще. Во‐ первых, одеваться как можно шикарнее. Это внушает уважение. Кроме того, не скрывать заграничного акцента. Это вызывает симпатию. А главное — действовать с максимальной бесцеремонностью. Допустим, шпиона интересует новая баллистическая ракета. Он знакомится в театре с известным конструктором. Приглашает его в ресторан. Глупо предлагать этому конструктору деньги. Денег у него хватает. Нелепо подвергать конструктора идеологической обработке. Он все это знает и без вас. Нужно действовать совсем иначе. Нужно выпить. Обнять конструктора за плечи. Хлопнуть его по колену и сказать: — Как поживаешь, старик? Говорят, изобрел что‐то новенькое? Черкни‐ка мне на салфетке две‐три формулы. Просто ради интереса... И все. Шпион может считать, что ракета у него в кармане... Целый день незнакомец провел в редакции. К нему привыкли. Хоть и переглядывались с некоторым удивлением. Звали его — Артур. В общем, заходит Артур к машинисткам и говорит: — Простите, я думал, это есть уборная. Я сказал: — Идем. Нам по дороге. В сортире шпион испуганно оглядел наше редакционное полотенце. Достал носовой платок. Мы разговорились. Решили спуститься в буфет. Оттуда позвонили моей жене и заехали в "Кавказский". Выяснилось, что оба мы любим Фолкнера, Бриттена и живопись тридцатых годов. Артур был человеком мыслящим и компетентным. В частности, он сказал: — Живопись Пикассо — это всего лишь драма, а творчество Рене Магритта — катастрофическая феерия... Я поинтересовался: — Ты был на Западе? — Конечно. — И долго там прожил? — Долго. Сорок три года. Если быть точным, до прошлого вторника. — Я думал, ты из Латвии. — Я швед. Это рядом. Хочу написать книгу о России... Расстались мы поздно ночью возле гостиницы "Европейская". Договорились встретиться завтра. Наутро меня пригласили к редактору. В кабинете сидел незнакомый мужчина лет пятидесяти. Он был тощий, лысый, с пегим венчиком над ушами. Я задумался, может ли он причесываться, не снимая шляпы. Мужчина занимал редакторское кресло. Хозяин кабинета устроился на стуле для посетителей. Я присел на край дивана. — Знакомьтесь, — сказал редактор, ‐ представитель комитета государственной безопасности майор Чиляев. Я вежливо приподнялся. Майор, без улыбки, кивнул. Видимо, его угнетало несовершенство окружающего мира. В поведении редактора я наблюдал — одновременно ‐ сочувствие и злорадство. Вид его как будто говорил: "Ну что? Доигрался?! Теперь уж выкручивайся самостоятельно. А ведь я предупреждал тебя, дурака..." Майор заговорил. Резкий голос не соответствовал его утомленному виду. — Знаете ли вы Артура Торнстрема? — Да, — отвечаю, — вчера познакомились. — Задавал ли он какие‐нибудь провокационные вопросы? — Вроде бы, нет. Он вообще не задавал мне вопросов, Я что‐то не припомню. — Ни одного? — По‐моему, ни единого. — С чего началось ваше знакомство? Точнее, где и как вы познакомились? — Я сидел у машинисток. Он вошел и спрашивает... — Ах, спрашивает? Значит, все‐таки спрашивает?! О чем же, если не секрет? — Он спросил — где здесь уборная? Майор записал эту фразу и добавил: — Советую вам быть повнимательнее... Дальнейший разговор показался мне абсолютно бессмысленным. Чиляева интересовало все. Что мы ели? Что пили? О каких художниках беседовали? Он даже поинтересовался, часто ли швед ходил в уборную?.. Майор настаивал, чтоб я припомнил все детали. Не злоупотребляет ли швед алкоголем? Поглядывает ли на женщин? Похож ли на скрытого гомосексуа листа? Я отвечал подробно и добросовестно. Мне было нечего скрывать. Майор сделал паузу. Чуть приподнялся над сто лом. Затем слегка возвысил голос: — Мы рассчитываем на вашу сознательность. Хо тя вы человек довольно легкомысленный. Сведения, которые мы имеем о вас, более чем противоречивы. Конкретно — бытовая неразборчивость, пьянка, со мнительные анекдоты... Мне захотелось спросить — что же тут противоречивого? Но я сдержался. Тем более что майор вытащил довольно объемистую папку. На обложке была крупно выведена моя фамилия. Я не отрываясь глядел на эту папку. Я испытывал то, что почувствовала бы, допустим, свинья в мясном отделе гастронома. Майор продолжал: — Мы ждем от вас полнейшей искренности. Рассчитываем на вашу помощь. Надеюсь, вы уяснили, какое это серьезное задание?.. А главное, помните — нам все известно. Нам все известно заранее. Абсолютно все... Тут мне захотелось спросить — а как насчет Миши Барышникова? Неужели было известно заранее, что Миша останется в Штатах?! Майор тем временем спросил: — Как вы договорились со шведом? Должны ли встретиться сегодня? — Вроде бы, — говорю, — должны. Он пригласил нас с женой в Кировский театр. Думаю позвонить ему, извиниться, сказать, что заболел. — Ни в коем случае, — привстал майор, ‐ идите. Непременно идите. И все до мелочей запоминайте. Мы вам завтра утром позвоним. Этого, подумал я, мне только не хватало! — Не могу, — говорю, — есть объективные причины. — То есть? — У меня нет костюма. Для театра нужна соответствующая одежда. Там, между прочим, бывают иностранцы. — Почему же у вас нет костюма? — спросил майор. — Что за ерунда такая? Вы же работник солидной газеты. — Зарабатываю мало, — ответил я. Тут вмешался редактор: — Я хочу раскрыть вам одну маленькую тайну. Как известно, приближаются новогодние торжества. Есть решение наградить товарища Довлатова ценным подарком. Через полчаса он может зайти в бухгалтерию. Потом заехать во Фрунзенский универмаг. Выбрать там подходящий костюм рублей за сто двадцать. — У меня, — говорю, — нестандартный размер. — Ничего, — сказал редактор, — я позвоню директору универмага... Так я стал обладателем импортного двубортного костюма. Если не ошибаюсь, восточногерманского производства. Надевал я его раз пять. Один раз, когда был в театре со шведом. И раза четыре, когда меня делегировали на похороны... А моего шведа через неделю выслали из Союза. Он был консервативным журналистом. Выразителем интересов правого крыла. Шесть лет он изучал русский язык. Хотел написать книгу. И его выслали. Надеюсь, без моего участия. То, что я рассказывал о нем майору, выглядело совершенно безобидно. Более того, я даже предупредил Артура, что за ним следят. Вернее, намекнул ему, что стены имеют уши... Швед не понял. Короче, я тут ни при чем. Самое удивительное, что знакомый диссидент Шамкович обвинил меня тогда в пособничестве КГБ. ОФИЦЕРСКИЙ РЕМЕНЬ Самое ужасное для пьяницы — очнуться на больничной койке. Еще не окончательно проснувшись, ты бормочешь: — Все! Завязываю! Навсегда завязываю! Больше — ни единой капли! И вдруг обнаруживаешь на голове толстую марлевую повязку. Хочешь потрогать бинты, но оказывается, что левая рука твоя в гипсе. И так далее. Все это произошло со мной летом шестьдесят третьего года на юге республики Коми. За год до этого меня призвали в армию. Я был зачислен в лагерную охрану. Окончил двадцатидневную школу надзирателей под Синдором... Еще раньше я два года занимался боксом. Участвовал в республиканских соревнованиях. Однако я нс помню, чтобы тренер хоть раз мне сказал: — Ну, все. Я за тебя спокоен. Зато я услышал это от инструктора Торопцева в школе надзорсостава. После трех недель занятий. И при том, что угрожали мне в дальнейшем не боксеры, а рецидивисты... Я попытался оглядеться. На линолеуме желтели солнечные пятна. Тумбочка была заставлена лекарствами. У двери висела стенная газета — "Ленин и здравоохранение". Пахло дымом и, как ни странно, водорослями. Я находился в санчасти. Болела стянутая повязкой голова, Ощущалась глубокая рана над бровью. Левая рука не действовала. На спинке кровати висела моя гимнастерка. Там должны были оставаться сигареты. Вместо пепельницы я использовал банку с каким‐то чернильным раствором. Спичечный коробок пришлось держать в зубах. Теперь можно было припомнить события вчерашнего дня. Утром меня вычеркнули из конвойного списка. Я пошел к старшине: — Что случилось? Неужели мне полагается выходной? — Вроде того, — говорит старшина, ‐ можешь радоваться... Зэк помешался в четырнадцатом бараке. Лает, кукарекает... Повариху тетю Шуру укусил... Короче, доставишь его в психбольницу на Иоссере. А потом целый день свободен. Типа выходного. — Когда я должен идти? — Хоть сейчас. — Один? — Ну почему — один? Вдвоем, как полагается. Чурилина возьми или Гаенко... Чурилина я разыскал в инструментальном цехе. Он возился с паяльником. На верстаке что‐то потрескивало, распространяя запах канифоли. — Напайку делаю, — сказал Чурилин, ‐ ювелирная работа. Погляди. Я увидел латунную бляху с рельефной звездой. Внутренняя сторона ее была залита оловом. Ремень с такой напайкой превращался в грозное оружие. Была у нас в ту пору мода — чекисты заводили себе кожаные офицерские ремни. Потом заливали бляху слоем олова и шли на танцы. Если возникало побоище, латунные бляхи мелькали над головами... Я говорю: — Собирайся. — Что такое? — Психа везем на Иоссер. Какой‐то зэк рехнулся в четырнадцатом бараке. Между прочим, тетю Шуру укусил. Чурилин говорит: — И правильно сделал. Видно, жрать хотел. Эта Шура казенное масло уносит домой. Я видел. — Пошли, — говорю. Чурилин остудил бляху под краном и затянул ремень; — Поехали... Мы получили оружие, заходим на вахту. Минуты через две контролер приводит небритого, толстого зэка. Тот упирается и кричит: — Хочу красивую девушку, спортсменку! Дайте мне спортсменку! Сколько я должен ждать?! Контролер без раздражения ответил: — Минимум, лет шесть. И то, если освободят досрочно. У тебя же групповое дело. Зэк не обратил внимания и продолжал кричать: — Дайте мне, гады, спортсменку‐разрядницу!.. Чурилин присмотрелся к нему и толкнул меня локтем: — Слушай, да какой он псих?! Нормальный человек. Сначала жрать хотел, а теперь ему бабу подавай. Да еще разрядницу... Мужик со вкусом... Я бы тоже не отказался... Контролер передал мне документы. Мы вышли на крыльцо. Чурилин спрашивает: — Как тебя зовут? — Доремифасоль, — ответил зэк. Тогда я сказал ему: — Если вы, действительно, ненормальный ‐ пожалуйста. Если притворяетесь — тоже ничего. Я не врач. Мое дело отвести вас на Иоссер. Остальное меня не волнует. Единственное условие — не переигрывать. Начнете кусаться ‐пристрелю. А лаять и кукарекать можете сколько угодно... Идти нам предстояло километра четыре. Попутных лесовозов не было. Машину начальника лагеря взял капитан Соколовский. Уехал, говорят, сдавать какие‐то экзамены в Инту. Короче, мы должны были идти пешком. Дорога вела через поселок, к торфяным болотам. Оттуда ‐мимо рощи, до самого переезда. А за переездом начинались лагерные вышки Иоссера. В поселке около магазина Чурилин замедлил шаги. Я протянул ему два рубля. Патрульных в эти часы можно было не опасаться. Зэк явно одобрил нашу идею. Даже поделился на радостях: — Толик меня зовут... Чурилин принес бутылку "Московской". Я сунул ее в карман галифе. Осталось потерпеть до рощи. Зэк то и дело вспоминал о своем помешательстве. Тогда он становился на четвереньки и рычал. Я посоветовал ему не тратить сил. Приберечь их для медицинского обследования. А мы уж его не выдадим. Чурилин расстелил на траве газету. Достал из кармана немного печенья. Выпили мы по очереди, из горлышка. Зэк сначала колебался: — Врач может почувствовать запах. Это будет как‐то неестественно... Чурилин перебил его: — А лаять и кукарекать — естественно?.. Закусишь щавелем, и все дела. Зэк сказал: — Убедили... День был теплый и солнечный. По небу тянулись изменчивые легкие облака. У переезда нетерпеливо гудели лесовозы. Над головой Чурилина вибрировал шмель. Водка начинала действовать, и я подумал: "Хорошо на свободе! Вот демобилизуюсь и буду часами гулять по улицам. Зайду в кафе на Марата. Покурю на скамейке возле здания Думы..." Я знаю, что свобода философское понятие. Меня это не интересует. Ведь рабы не интересуются философией. Идти куда хочешь — вот что такое свобода!.. Мои собутыльники дружески беседовали. Зэк объяснял: — Голова у меня не в порядке. Опять‐таки, газы... Ежели по совести, таких бы надо всех освободить. Списать вчистую по болезни. Списывают же устаревшую технику. Чурилин перебивал его: — Голова не в порядке?! А красть ума хватало? У тебя по документам групповое хищение. Что же ты, интересно, похитил? Зэк смущенно отмахивался: — Да ничего особенного... Трактор... — Цельный трактор?! — Ну. — И как же ты его похитил? — Очень просто. С комбината железобетонных изделий. Я действовал на психологию. — Как это? — Зашел на комбинат. Сел в трактор. Сзади привязал железную бочку из‐под тавота. Еду на вахту. Бочка грохочет. Появляется охранник: "Куда везешь бочку?". Отвечаю: "По личной надобности". ‐ "До кументы есть?" — "Нет". — "Отвязывай к едрене фене"... Я бочку отвязал и дальше поехал. В общем, психология сработала... А потом мы этот трактор на запчасти разобрали... Чурилин восхищенно хлопнул зэка по спине: — Артист ты, батя! Зэк скромно подтвердил: — В народе меня уважали. Чурилин неожиданно поднялся: — Да здравствуют трудовые резервы! И достал из кармана вторую бутылку. К этому времени нашу поляну осветило солнце. Мы перебрались в тень. Сели на поваленную ольху. Чурилин скомандовал: — Поехали! Было жарко. Зэк до пояса расстегнулся. На груди его видна была пороховая татуировка: "Фаина! Помнишь дни золотые?!". А рядом — череп, финка и баночка с надписью "яд"... Чурилин опьянел внезапно. Я даже не заметил, как это произошло. Он вдруг стал мрачным и затих. Я знал, что в казарме полно неврастеников. К этому неминуемо приводит служба в охране. Но именно Чурилин казался мне сравнительно здоровым. Я помнил за ним лишь одну сумасшедшую выходку. Мы тогда возили ззков на лесоповал. Сидели у печи в дощатой будке, грелись, разговаривали. Естественно, выпивали. Чурилин без единого слова вышел наружу. Где‐то раздобыл ведро. Наполнил его соляркой. Потом забрался на крышу и опрокинул горючее в трубу. Помещение наполнилось огнем. Мы еле выбрались из будки. Трое обгорели. Но это было давно. А сейчас я говорю ему: — Успокойся... Чурилин молча достал пистолет. Потом мы услышали : — Встать! Бригада из двух человек поступает в распоряжение конвоя! В случае необходимости конвой применяет оружие. Заключенный Холоденко, вперед! Ефрейтор Довлатов — за ним!.. Я продолжал успокаивать его: — Очнись. Приди в себя. А главное ‐ спрячь пистолет. Зэк удивился по‐лагерному: — Что за шухер на бану? Чурилин тем временем опустил предохранитель. Я шел к нему, повторяя: — Ты просто выпил лишнего. Чурилин стал пятиться. Я все шел к нему, избегая резких движений. Повторял от страха что‐то бессвязное. Даже, помню, улыбался. А вот зэк не утратил присутствия духа. Он весело крикнул: — Дела — хоть лезь под нары!.. Я видел поваленную ольху за спиной Чурилина. Пятиться ему оставалось недолго. Я пригнулся. Знал, что, падая, он может выстрелить. Так оно и случилось. Грохот, треск валежника... Пистолет упал на землю. Я пинком отшвырнул его в сторону. Чурилин встал. Теперь я его не боялся. Я мог уложить его с любой позиции. Да и зэк был рядом. Я видел, как Чурилин снимает ремень. Я не сообразил, что это значит. Думал, что он поправляет гимнастерку. Теоретически я мог пристрелить его или хотя бы ранить. Мы ведь были на задании. Так сказать, в боевой обстановке. Меня бы оправдали. Вместо этого я снова двинулся к нему. Интеллигентность мне вредила, еще когда я занимался боксом. В результате Чурилин обрушил бляху мне на голову. Главное, я все помню. Сознания не потерял. Самого удара не почувствовал. Увидел, что кровь потекла мне на брюки. Так много крови, что я даже ладони подставил. Стою, а кровь течет. Спасибо, что хоть зэк не растерялся. Вырвал у Чурилина ремень. Затем перевязал мне лоб оторван ным рукавом сорочки. Тут Чурилин, видимо, начал соображать. Он схватился за голову и, рыдая, пошел к дороге. Пистолет его лежал в траве. Рядом с пустыми бутылками. Я сказал зэку: — Подними... А теперь представьте себе выразительную картинку. Впереди, рыдая, идет чекист. Дальше — ненормальный зэк с пистолетом. И замыкает шествие еф рейтор с окровавленной повязкой на голове. А на встречу ‐ военный патруль. "ГАЗ‐61 " с тремя автоматчиками и здоровенным волкодавом. Удивляюсь, как они не пристрелили моего зэка. Вполне могли дать по нему очередь. Или натравить пса. Увидев машину, я потерял сознание. Отказали волевые центры. Да и жара наконец подействовала. Я только успел предупредить, что зэк не виноват. А кто виноват — пусть разбираются сами. К тому же, падая, я сломал руку. Точнее, не сломал, а повредил. У меня обнаружилась трещина в предплечье. Я еще подумал — вот уж это совершенно лишнее. Последнее, что я запомнил, была собака. Сидя возле меня, она нервно зевала, раскрывая лиловую пасть... Над моей головой заработал репродуктор. Оттуда донеслось гудение, последовали легкие щелчки. Я вытащил штепсель, не дожидаясь торжественных звуков гимна. Мне вдруг припомнилось забытое детское ощущение. Я школьник, у меня температура. Мне разрешают пропустить занятия. Я жду врача. Он будет садиться на мою постель. Заглядывать мне в горло. Говорить: "Ну‐с, молодой человек". Мама будет искать для него чистое полотенце. Я болен, счастлив, все меня жалеют. Я не должен мыться холодной водой... Я стал ждать появления врача. Вместо него появился Чурилин. Заглянул в окошко, сел на подоконник. Затем направился ко мне. Вид у него был просительный и скорбный. Я попытался лягнуть его ногой в мошонку. Чурилин слегка отступил и начал, фальшиво заламывая руки: — Серега, извини! Я был не прав... Раскаиваюсь... Искренне раскаиваюсь... Действовал в состоянии эффекта... — Аффекта, — поправил я. — Тем более... Чурилин осторожно шагнул в мою сторону: — Я пошутить хотел... Для смеха... У меня к тебе претензий нет... — Еще бы, — говорю. Что я мог ему сказать? Что можно сказать охраннику, который лосьон "Гигиена" употребляет только внутрь?.. Я спросил: — Что с нашим зэком? — Порядок. Он снова рехнулся. Все утро поет: "Широка страна моя родная". Завтра у него обследование. Пока что сидит в изоляторе. — А ты? — А я, естественно, на гауптвахте. То есть, фактически я здесь, а в принципе — на гауптвахте. Там мой земляк дежурит... У меня к тебе дело. Чурилин подошел еще на шаг и быстро заговорил: — Серега, погибаю, испекся! В четверг товарищеский суд! — Над кем? — Да надо мной. Ты, говорят, Серегу искалечил. — Ладно, я скажу, что у меня претензий нет. Что я тебя прощаю. — Я уже сказал, что ты меня прощаешь. Это, говорят, неважно, чаша терпения переполнилась. — Что же я могу сделать? — Ты образованный, придумай что‐нибудь. Как говорится, заверни поганку. Иначе эти суки передадут бумаги в трибунал. Это значит — три года дисбата. А дисбат — это хуже, чем лагерь. Так что выручай... Он скорчил гримасу, пытаясь заплакать: — Я же единственный сын... Брат в тюрьме, сес тры замужем... Я говорю: — Не знаю, что тут можно сделать. Есть один вариант... Чурилин оживился: — Какой? — Я на суде задам вопрос. Спрошу: "Чурилин, у вас есть гражданская профессия?". Ты ответишь: "Нет". Я скажу: "Что же ему после демобилизации — воровать? Где обещанные курсы шоферов и бульдозеристов? Чем мы хуже регулярной армии?". И так далее. Тут, конечно, поднимется шум. Может, и возьмут тебя на поруки. Чурилин еще больше оживился. Сел на мою кровать, повторяя: — Ну, голова! Вот это голова! С такой головой, в принципе, можно и не работать. — Особенно, — говорю, — если колотить по ней латунной бляхой. — Дело прошлое, — сказал Чурилин, ‐ все забыто... Напиши мне, что я должен говорить. — Я же тебе все рассказал. — А теперь — напиши. Иначе я сразу запутаюсь. Чурилин протянул мне огрызок химического карандаша. Потом оторвал кусок стенной газеты: — Пиши. Я аккуратно вывел: "Нет". — Что значит — "Нет"? — спросил он. — Ты сказал: "Напиши, что мне говорить". Вот я и пишу: "Нет ". Я задам вопрос на суде: "Есть у тебя гражданская профессия?". Ты ответишь: "Нет". Даль ше я скажу насчет шоферских курсов. А потом начнется шум. — Значит, я говорю только одно слово ‐ "нет"? — Вроде бы, да. — Маловато, — сказал Чурилин. — Не исключено, что тебе зададут и другие вопросы. — Какие? — Я уж не знаю. — Что же я буду отвечать? — В зависимости от того, что спросят. — А что меня спросят? Примерно? — Ну, допустим: "Признаешь ли ты свою вину, Чурилин?" — И что же я отвечу? — Ты ответишь: "Да". — И все? — Можешь ответить: "Да, конечно, признаю и глубоко раскаиваюсь ". — Это уже лучше. Записывай. Сперва пиши вопрос, а дальше мой ответ. Вопросы пиши нормально, ответы — квадратными буквами. Чтобы я не перепутал... Мы просидели с Чурилиным до одиннадцати. Фельдшер хотел его выгнать, но Чурилин сказал: — Могу я навестить товарища по оружию?!. В результате мы написали целую драму. Там были предусмотрены десятки вопросов и ответов. Мало того, по настоянию Чурилина я обозначил в скобках: "Холодно", "задумчиво", "растерянно". Затем мне принесли обед: тарелку супа, жареную рыбу и кисель. Чурилин удивился: — А кормят здесь получше, чем на гауптвахте. Я говорю: — А ты бы хотел — наоборот? Пришлось отдать ему кисель и рыбу. После этого мы расстались. Чурилин сказал: — В двенадцать мой земляк уходит с гауптвахты. После него дежурит какой‐то хохол. Я должен быть на месте. Чурилин подошел к окну. Затем вернулся: — Я забыл. Давай ремнями поменяемся. Иначе мне за эту бляху срок добавят. Он взял мой солдатский ремень. А свой повесил на кровать. — Тебе повезло. — говорит, — мой из натуральной кожи. И бляха с напайкой. Удар — и человек с копыт! — Да уж знаю... Чурилин снова подошел к окну. Еще раз обернулся. — Спасибо тебе, — говорит, — век не забуду. И выбрался через окно. Хотя вполне мог пройти через дверь. Хорошо еще, что не унес мои сигареты... Прошло три дня. Врач мне сказал, что я легко отделался. Что у меня всего лишь ссадина на голове. Я бродил по территории военного городка. Часами сидел в библиотеке. Загорал на крыше дровяного склада. Дважды пытался зайти на гауптвахту. Один раз дежурил латыш первого года службы. Сразу же поднял автомат. Я хотел передать сигареты, но он замотал головой. Вечером я снова зашел. На этот раз дежурил знакомый инструктор. — Заходи, — говорит, — можешь даже там переночевать. И он загремел ключами. Отворилась дверь. Чурилин играл в буру с тремя другими узниками. Пятый наблюдал за игрой с бутербродом в руке. На полу валялись апельсиновые корки. — Привет, — сказал Чурилин, — не мешай. Сейчас я их поставлю на четыре точки. Я отдал ему "Беломор". — А выпить? — спросил Чурилин. Можно было позавидовать его нахальству. Я постоял минуту и ушел. Наутро повсюду были расклеены молнии: "Открытое комсомольское собрание дивизиона. Товарищеский суд. Персональное дело Чурилина Вадима Тихоновича. Явка обязательна". Мимо проходил какой‐то сверхсрочник. — Давно, — говорит, — пора. Одичали... Что в казарме творится — это страшное дело... Вино из‐под дверей течет... В помещении клуба собралось человек шестьде сят. На сцене расположилось комсомольское бюро. Чурилина посадили сбоку, возле знамени. Ждали, когда появится майор Афанасьев. Чурилин выглядел абсолютно счастливым. Может, впервые оказался на сцене. Он жестикулировал, махал рукой приятелям. Мне, кстати, тоже помахал. На сцену поднялся майор Афанасьев: — Товарищи! Постепенно в зале наступила тишина. — Товарищи воины! Сегодня мы обсуждаем персональное дело рядового Чурилина. Рядовой Чурилин вместе с ефрейтором Довлатовым был послан на ответственное задание. В пути рядовой Чурилин упился, как зюзя, и начал совершать безответственные действия. В результате было нанесено увечье ефрейтору Довлатову, кстати, такому же, извиняюсь, мудозвону... Хоть бы зэка постыдились... Пока майор говорил все это, Чурилин сиял от удовольствия. Раза два он причесывался, вертелся на стуле, трогал знамя. Явно, чувствовал себя героем. Майор продолжал: — Только в этом квартале Чурилин отсидел на гауптвахте двадцать шесть суток. Я не говорю о пьянках — это для Чурилина, как снег зимой. Я говорю о более серьезных преступлениях, типа драки. Такое ощущение, что коммунизм для него уже построен. Не понравится чья‐то физиономия ‐ бей в рожу! Так все начнут кулаками размахивать! Думаете, мне не хочется кому‐нибудь в рожу заехать?!. В общем, чаша терпения переполнилась. Мы должны решить ‐остается Чурилин с нами или пойдут его бумаги в трибунал. Дело серьезное, товарищи! Начнем!.. Рассказывайте, Чурилин, как это все произошло. Все посмотрели на Чурилина. В руках у него появилась измятая бумажка. Он вертел ее. разглядывал и что‐то беззвучно шептал. — Рассказывайте, — повторил майор Афанасьев. Чурилин растерянно взглянул на меня. Чего‐то, видно, мы не предусмотрели. Что‐то упустили в сценарии. Майор повысил голос: — Не заставляйте себя ждать! — Мне торопиться некуда, — сказал Чурилин. Он помрачнел. Его лицо становилось все более злым и угрюмым. Но и в голосе майора крепло раздражение. Пришлось мне вытянуть руку: — Давайте, я расскажу. — Отставить, — прикрикнул майор, — сами хороши! — Ага, — сказал Чурилин, — вот... Желаю... это... поступить на курсы бульдозеристов. Майор повернулся к нему: — При чем тут курсы, мать вашу за ногу! Напился, понимаешь, друга искалечил, теперь о курсах мечтает!.. А в институт случайно не хотите поступить? Или в консерваторию?.. Чурилин еще раз заглянул в бумажку и мрачно произнес: — Чем мы хуже регулярной армии? Майор задохнулся от бешенства: — Сколько это будет продолжаться?! Ему идут навстречу — он свое! Ему говорят "рассказывай" ‐не хочет!.. — Да нечего тут рассказывать, — вскочил Чурилин, — подумаешь, какая сага о Форсайтах!.. Рассказывай! Рассказывай! Чего же тут рассказывать?! Хули же ты мне, сука, плешь разъедаешь?! Могу ведь и тебя пощекотить!.. Майор схватился за кобуру. На скулах его выступили красные пятна. Он тяжело дышал. Затем овладел собой: — Суду все ясно. Собрание объявляю закрытым! Чурилина взяли за руки двое сверхсрочников. Я, доставая сигареты, направился к выходу... Чурилин получил год дисциплинарного батальона. За месяц перед его освобождением я демобилизовался. Сумасшедшего зэка тоже больше не видел. Весь этот мир куда‐то пропал. И только ремень все еще цел. КУРТКА ФЕРНАНА ЛЕЖЕ Эта глава — рассказ о принце и нищем. В марте сорок первого года родился Андрюша Черкасов. В сентябре этого же года родился я. Андрюша был сыном выдающегося человека. Мой отец выделялся только своей худобой. Николай Константинович Черкасов был замечательным артистом и депутатом Верховного Совета. Мой отец — рядовым театральным деятелем и сыном буржуазного националиста. Талантом Черкасова восхищались Питер Брук, Феллини и Де Сика. Талант моего отца вызывал сомнение даже у его родителей. Черкасова знала вся страна как артиста, депутата и борца за мир. Моего отца знали только соседи как человека пьющего и нервного. У Черкасова была дача, машина, квартира и слава. У моего отца была только астма. Их жены дружили. Даже, кажется, вместе заканчивали театральный институт. Мать была рядовой актрисой, затем корректором, и наконец — пенсионеркой. Нина Черкасова тоже была рядовой актрисой. После смерти мужа ее уволили из театра. Разумеется, у Черкасовых были друзья из высшего социального круга: Шостакович, Мравинский, Эйзенштейн... Мои родители принадлежали к бытовому окружению Черкасовых. Всю жизнь мы чувствовали заботу и покровительство этой семьи. Черкасов давал рекомендации моему отцу. Его жена дарила маме платья и туфли. Мои родители часто ссорились. Потом они развелись. Причем развод был чуть ли не единственным миролюбивым актом их совместной жизни. Одним из немногих случаев, когда мои родители действовали единодушно. Черкасов ощутимо помогал нам с матерью. Например, благодаря ему мы сохранили жилплощадь. Андрюша был моим первым другом. Познакомились мы в эвакуации. Точнее, не познакомились, а лежали рядом в детских колясках. У Андрюши была заграничная коляска. У меня — отечественного производства. Питались мы, я думаю, одинаково скверно. Шла война. Потом война закончилась. Наши семьи оказались в Ленинграде. Черкасовы жили в правительственном доме на Кронверкской улице. Мы — в коммуналке на улице Рубинштейна. Виделись мы с Андрюшей довольно часто. Вместе ходили на детские утренники. Праздновали все дни рожденья. Я ездил с матерью на Кронверкскую трамваем. Андрюшу привозил шофер на трофейной машине "Бугатти". Мы с Андрюшей были одного роста. Примерно одного возраста. Оба росли здоровыми и энергичными. Андрюша, насколько я помню, был смелее, вспыльчивее, резче. Я был немного сильнее физически и, кажется, чуточку разумнее. Каждое лето мы жили на даче. У Черкасовых на Карельском перешейке была дача, окруженная соснами. Из окон был виден Финский залив, над которым парили чайки. К Андрюше была приставлена очередная домработница. Домработницы часто менялись. Как правило, их увольняли за воровство. Откровенно говоря, их можно было понять. У Нины Черкасовой повсюду лежали заграничные вещи. Все полки были заставлены духами и косметикой. Молоденьких домработниц это возбуждало. Заметив очередную пропажу, Нина Черкасова хмурила брови: — Любаша пошаливает! Назавтра Любашу сменяла Зинуля... У меня была няня Луиза Генриховна. Как немке ей грозил арест. Луиза Генриховна пряталась у нас. То есть попросту с нами жила. И заодно осуществляла мое воспитание. Кажется, мы ей совершенно не платили. Когда‐то я жил на даче у Черкасовых с Луизой Генриховной. Затем произошло вот что. У Луизы Генриховны был тромбофлебит. И вот одна знакомая молочница порекомендовала ей смазывать больные ноги ‐ калом. Вроде бы есть такое народное средство. На беду окружающих, это средство подействовало. До самого ареста Луиза Генриховна распространяла невыносимый запах. Мы это, конечно, терпели, но Черкасовы оказались людьми более изысканными. Маме было сказано, что присутствие Луизы Генриховны нежелательно. После этого мать сняла комнату. Причем на той же улице, в одном из крестьянских домов. Там мы с няней проводили каждое лето. Вплоть до ее ареста. Утром я шел к Андрюше. Мы бегали по участку, ели смородину, играли в настольный теннис, ловили жуков. В теплые дни ходили на пляж. Если шел дождь, лепили на веранде из пластилина. Иногда приезжали Андрюшины родители. Мать — почти каждое воскресенье. Отец — раза четыре за лето, выспаться. Сами Черкасовы относились ко мне хорошо. А вот домработницы — хуже. Ведь я был дополнительной нагрузкой. Причем без дополнительной оплаты. Поэтому Андрюше разрешалось шалить, а мне ‐нет. Вернее, Андрюшины шалости казались естественными, а мои — не совсем. Мне говорили: "Ты умнее. Ты должен быть примером для Андрюши..." Таким образом, я превращался на лето в маленького гувернера. Я ощущал неравенство. Хотя на Андрюшу чаще повышали голос. Его более сурово наказывали. А меня неизменно ставили ему в пример, И все‐таки я чувствовал обиду. Андрюша был главнее. Челядь побаивалась его как хозяина. А я был, что называется, из простых. И хотя домработница была еще проще, она меня явно недолюбливала. Теоретически все должно быть иначе. Домработнице следовало бы любить меня. Любить как социально близкого. Симпатизировать мне как разночинцу. В действительности же слуги любят ненавистных хозяев гораздо больше, чем кажется. И уж конечно, больше, чем себя. Нина Черкасова была интеллигентной, умной, хорошо воспитанной женщиной. Разумеется, она не дала бы унизить шестилетнего сына ее подруги. Если Андрюша брал яблоко, мне полагалось такое же. Если Андрюша шел в кино, билеты покупали нам обоим. Как я сейчас понимаю, Нина Черкасова обладала всеми достоинствами и недостатками богачей. Она была мужественной, решительной, целеустремленной. При этом холодной, заносчивой и аристократически наивной. Например, она считала деньги тяжким бременем. Она говорила маме: — Какая ты счастливая, Hopal Твоему Сереже ириску протянешь, он доволен. А мой оболтус любит только шоколад... Конечно, я тоже любил шоколад. Но делал вид, что предпочитаю ириски. Я не жалею о пережитой бедности. Если верить Хемингуэю, бедность ‐незаменимая школа для писателя. Бедность делает человека зорким. И так далее. Любопытно, что Хемингуэй это понял, как только разбогател... В семь лет я уверял маму, что ненавижу фрукты. К девяти годам отказывался примерить в магазине новые ботинки. В одиннадцать — полюбил читать. В шестнадцать — научился зарабатывать деньги. С Андреем Черкасовым мы поддерживали тесные отношения лет до шестнадцати. Он заканчивал английскую школу. Я ‐ обыкновенную. Он любил математику. Я предпочитал менее точные науки. Оба мы, впрочем, были изрядными лентяями. Виделись мы довольно часто. Английская школа была в пяти минутах ходьбы от нашего дома. Бывало, Андрюша заходил к нам после занятий. И я, случалось, заезжал к нему посмотреть цветной телевизор. Андрей был инфантилен, рассеян, полон дружелюбия. Я уже тогда был злым и внимательным к человеческим слабостям. В школьные годы у каждого из нас появились друзья. Причем, у каждого ‐свои. Среди моих преобладали юноши криминального типа. Андрей тянулся к мальчикам из хороших семей. Значит, что‐то есть в марксистско‐ленинском учении. Наверное, живут в человеке социальные инстинкты. Всю сознательную жизнь меня инстинктивно тянуло к ущербным людям — беднякам, хулиганам, начинающим поэтам. Тысячу раз я заводил приличную компанию, и все неудачно. Только в обществе дикарей, шизофреников и подонков я чувствовал себя уверенно. Приличные знакомые мне говорили: — Не обижайся, ты распространяешь вокруг себя ужасное беспокойство. Рядом с тобой заражаешься всевозможными комплексами... Я не обижался. Я лет с двенадцати ощущал, что меня неудержимо влечет к подонкам. Не удивительно, что семеро из моих школьных знакомых прошли в дальнейшем через лагеря. Рыжий Борис Иванов сел за краску листового железа. Штангист Кононенко зарезал сожительницу. Сын школьного дворника Миша Хамраев ограбил железнодорожный вагон‐ресторан. Бывший авиамоделист Летяго изнасиловал глухонемую. Алик Брыкин, научивший меня курить, совершил тяжкое воинское преступление — избил офицера. Юра Голынчик по кличке Хряпа ранил милицейскую лошадь. И даже староста класса Виля Ривкович умудрился получить год за торговлю медикаментами. Мои друзья внушали Андрюше Черкасову тревогу и беспокойство. Каждому из них постоянно что‐то угрожало. Все они признавали единственную форму самоутверждения — конфронтацию. Мне же его приятели внушали ощущение неуверенности и тоски. Все они были честными, разумными и доброжелательными. Все предпочитали компромисс ‐единоборству. Оба мы женились сравнительно рано. Я, естественно, на бедной девушке. Андрей — на Даше, внучке химика Ипатьева, приумножившей семейное благосостояние. Помню, я читал насчет взаимной тяги антиподов. По‐моему, есть в этой теории что‐то сомнительное. Или, как минимум, спорное. Например, Даша с Андреем были похожи. Оба рослые, красивые, доброжелательные и практичные. Оба больше всего ценили спокойствие и порядок. Оба жили со вкусом и без проблем. Да и мы с Леной были похожи. Оба — хронические неудачники. Оба — в разладе с действительностью. Даже на Западе умудряемся жить вопреки существующим правилам... Как‐то Андрюша и Дарья позвали нас в гости. Приезжаем на Кронверкскую. В подъезде сидит милиционер. Снимает телефонную трубку: — Андрей Николаевич, к вам! И затем, поменяв выражение лица на чуть более строгое: — Пройдите... Поднимаемся в лифте. Заходим. В прихожей Даша шепнула: — Извините, у нас медсестра. Я сначала не понял. Я думал, кому‐то из родителей плохо. Мне даже показалось, что нужно уходить. Нам пояснили: — Гена Лаврентьев привел медсестру. Это ужас. Девица в советской цигейковой шубе. Четвертый раз спрашивает, будут ли танцы. Только что выпила целую бутылку холодного пива... Ради бога, не сердитесь... — Ничего, — говорю, — мы привыкшие... Я тогда работал в заводской многотиражке. Моя жена была дамским парикмахером. Едва ли что‐то могло нас шокировать. А медсестру я потом разглядел. У нее были красивые руки, тонкие щиколотки, зеленые глаза и блестящий лоб. Она мне понравилась. Она много ела и даже за столом незаметно приплясывала. Ее спутник, Лаврентьев, выглядел хуже. У него были пышные волосы и мелкие черты лица — сочетание гнусное. Кроме того, он мне надоел. Слишком долго рассказывал о поездке в Румынию. Кажется, я сказал ему, что Румыния мне ненавистна... Шли годы. Виделись мы с Андреем довольно редко. С каждым годом все реже. Мы не поссорились. Не испытали взаимного разочарования. Мы просто разошлись. К этому времени я уже что‐то писал. Андрей заканчивал свою кандидатскую диссертацию. Его окружали веселые, умные, добродушные физики. Меня — сумасшедшие, грязные, претенциозные лирики. Его знакомые изредка пили коньяк с шампанским. Мои — систематически употребляли розовый портвейн. Его приятели декламировали в компании — Гумилева и Бродского. Мои читали исключительно собственные произведения. Вскоре умер Николай Константинович Черкасов. Около Пушкинского театра состоялся митинг. Народу было так много, что приостановилось уличное движение. Черкасов был народным артистом. И не только по званию. Его любили профессора и крестьяне, генера лы и уголовники. Такая же слава была у Есенина, Зощенко и Высоцкого. Год спустя Нину Черкасову уволили из театра. Затем отобрали призы ее мужа. Заставили отдать международные награды, полученные Черкасовым в Европе. Среди них были ценные вещи из золота. Начальство заставило вдову передать их театральному музею. Вдова, конечно, не бедствовала. У нее была дача, машина, квартира. Кроме того, у нее были сбережения. Даша с Андреем работали. Мама изредка навещала вдову. Часами говорила с ней по телефону. Та жаловалась на сына. Говорила, что он невнимательный и эгоистичный. Мать вздыхала: — Твой хоть не пьет... Короче, наши матери превратились в одинаково грустных и трогательных старух. А мы — в одинаково черствых и невнимательных сыновей. Хотя Андрюше был преуспевающим физиком, я же — диссидентствующим лириком. Наши матери стали похожи. Однако не совсем. Моя почти не выходила из дома. Нина Черкасова бывала на всех премьерах. Кроме того, она собиралась в Париж. Она бывала за границей и раньше. И вот теперь ей захотелось навестить старых друзей. Происходило что‐то странное. Пока был жив Черкасов, в доме ежедневно сидели гости. Это были знаменитые, талантливые люди — Мравинский, Райкин, Шостакович. Все они казались друзьями семьи. После смерти Николая Константиновича выяснилось, что это были его личные друзья. В общем, советские знаменитости куда‐то пропали. Оставались заграничные — Сартр, Ив Монтан, вдова художника Леже. И Нина Черкасова решила снова побывать во Франции. За неделю до ее отъезда мы случайно встретились. Я сидел в библиотеке Дома журналистов, редактировал мемуары одного покорителя тундры. Девять глав из четырнадцати в этих мемуарах начинались одинаково: "Если говорить без ложной скромности..." Кроме того, я обязан был сверить ленинские цитаты. И вдруг заходит Нина Черкасова. Я и не знал, что мы пользуемся одной библиотекой. Она постарела. Одета была, как всегда, с незаметной, продуманной роскошью. Мы поздоровались. Она спросила: — Говорят, ты стал писателем? Я растерялся. Я не был готов к такой постановке вопроса. Уж лучше бы она спросила: "Ты гений?" Я бы ответил спокойно и положительно. Все мои друзья изнывали под бременем гениальности. Все они называли себя гениями. А вот назвать себя писателем оказалось труднее. Я сказал: — Пишу кое‐что для забавы... В читальном зале было двое посетителей. Оба поглядывали в нашу сторону. Не потому, что узнавали вдову Черкасова. Скорее потому, что ощущали запах французских духов. Она сказала: — Знаешь, мне давно хотелось написать о Коле. Что‐то наподобие воспоминаний. — Напишите. — Боюсь, что у меня нет таланта. Хотя всем знакомым нравились мои письма. — Вот и напишите длинное письмо. — Самое трудное — начать. Действительно, с чего все это началось? Может быть, со дня нашего знакомства? Или гораздо раньше? — А вы так и начните. — Как? — "Самое трудное — начать. Действительно, с чего все это началось... " — Пойми, Коля был всей моей жизнью. Он был моим другом. Он был моим учителем... Как ты думаешь, это грех ‐ любить мужа больше, чем сына? — Не знаю. Я думаю, у любви вообще нет размеров. Есть только — да или нет. — Ты явно поумнел, — сказала она. Потом мы беседовали о литературе. Я мог бы, не спрашивая, угадать ее кумиров — Пруст, Голсуорси, Фейхтвангер... Выяснилось, что она любит Пастернака и Цветаеву. Тогда я сказал, что Пастернаку не хватало вкуса. А Цветаева, при всей ее гениальности, была клинической идиоткой... Затем мы перешли на живопись. Я был уверен, что она восхищается импрессионистами. И не ошибся. Тогда я сказал, что импрессионисты предпочитали минутное — вечному. Что лишь у Моне родовые тенденции преобладали над видовыми... Черкасова грустно вздохнула: — Мне казалось, что ты поумнел... Мы проговорили более часа. Затем она попрощалась и вышла. Мне уже не хотелось редактировать воспоминания покорителя тундры. Я думал о нищете и богатстве. О жалкой и ранимой человеческой душе... Когда‐то я служил в охране. Среди заключенных попадались видные номенклатурные работники. Первые дни они сохраняли руководящие манеры. Потом органически растворялись в лагерной массе. Когда‐то я смотрел документальный фильм о Париже. События происходили в оккупированной Франции. По улицам шли толпы беженцев. Я убедился, что порабощенные страны выглядят одинаково. Все разоренные народы — близнецы... Вмиг облетает с человека шелуха покоя и богатства. Тотчас обпачкается его израненная, сиротливая душа... Прошло недели три. Раздался телефонный звонок. Черкасова вернулась из Парижа. Сказала, что заедет. Мы купили халвы и печенья. Она выглядела помолодевшей и немного таинственной. Французские знаменитости оказались гораздо благороднее наших. Приняли ее хорошо. Мама спросила: — Как одеты в Париже? Нина Черкасова ответила: — Так, как считают нужным. Затем она рассказывала про Сартра и его немыслимые выходки. Про репетиции в театре "Соле". Про семейные неурядицы Ива Монтана. Она вручила нам подарки. Маме — изящную театральную сумочку. Лене ‐косметический набор. Мне досталась старая вельветовая куртка. Откровенно говоря, я был немного растерян. Куртка явно требовала чистки и ремонта. Локти блестели. Пуговиц не хватало. У ворота и на рукаве я заметил следы масляной краски. Я даже подумал — лучше бы привезла авторучку. Но вслух произнес: — Спасибо. Зря беспокоились. Не мог же я крикнуть — "Где вам удалось приобрести такое старье?! " А куртка, действительно, была старая. Такие куртки, если верить советским плакатам, носят американские безработные. Черкасова как‐то странно поглядела на меня и говорит: — Это куртка Фернана Леже. Он был приблизительно твоей комплекции. Я с удивлением переспросил: — Леже? Тот самый? — Когда‐то мы были с ним очень дружны. Потом я дружила с его вдовой. Рассказала ей о твоем существовании. Надя полезла в шкаф. Достала эту куртку и протянула мне. Она говорит, что Фернан завещал ей быть другом всякого сброда... Я надел куртку. Она была мне впору. Ее можно было носить поверх теплого свитера. Это было что‐то вроде короткого осеннего пальто. Нина Черкасова просидела у нас до одиннадцати. Затем она вызвала такси. Я долго разглядывал пятна масляной краски. Теперь я жалел, что их мало. Только два — на рукаве и у ворота. Я стал вспоминать, что мне известно про Фернана Леже? Это был высокий, сильный человек, нормандец, из крестьян. В пятнадцатом году отправился на фронт. Там ему случалось резать хлеб штыком, испачканным в крови. Фронтовые рисунки Леже проникнуты ужасом. В дальнейшем он, подобно Маяковскому, боролся с искусством. Но Маяковский застрелился, а Леже выстоял и победил. Он мечтал рисовать на стенах зданий и вагонов. Через полвека его мечту осуществила нью‐йоркская шпана. Ему казалось, что линия важнее цвета. Что искусство, от Шекспира до Эдит Пиаф, живет контрастами. Его любимые слова: "Ренуар изображал то, что видел. Я изображаю то, что понял... " Умер Леже коммунистом, раз и навсегда поверив величайшему, беспрецедентному шарлатанству. Не исключено, что, как многие художники, он был глуп. Я носил куртку лет восемь. Надевал ее в особо торжественных случаях. Хотя вельвет за эти годы истерся так, что следы масляной краски пропали. О том, что куртка принадлежала Фернану Леже, знали немногие. Мало кому я об этом рассказывал. Мне было приятно хранить эту жалкую тайну. Шло время. Мы оказались в Америке. Нина Черкасова умерла, завещав маме полторы тысячи рублей. В Союзе это большие деньги. Получить их в Нью‐Йорке оказалось довольно трудно. Это потребовало бы невероятных хлопот и усилий. Мы решили поступить иначе. Оформили доверенность на имя моего старшего брата. Но и это оказалось делом хлопотным и нелегким. Месяца два я возился с бумагами. Одну из них собственноручно подписал мистер Шульц. В августе брат сообщил мне, что деньги получены. Выражений благодарности не последовало. Может быть, деньги того и не стоят. Врат иногда звонит мне рано утром. То есть по ленинградскому времени ‐глубокой ночью. Голос у него в таких случаях бывает подозрительно хриплый. Кроме того, доносятся женские восклицания: — Спроси насчет косметики!.. Или: — Объясни ему, дураку, что лучше всего идут синтетические шубы под норку... Вместо этого братец мой спрашивает: — Ну как дела в Америке? Говорят, там водка продается круглосуточно? — Сомневаюсь. Но бары, естественно, открыты. — А пиво? — Пива в ночных магазинах сколько угодно. Следует уважительная пауза. И затем: — Молодцы капиталисты, дело знают!.. Я спрашиваю: — Как ты? — На букву ха, — отвечает, — в смысле ‐ хорошо... Впрочем, мы отвлеклись. У Андрея Черкасова тоже все хорошо. Зимой он станет доктором физических наук. Или физико‐ математических... Какая разница? ПОПЛИНОВАЯ РУБАШКА Моя жена говорит: — Это безумие — жить с мужчиной, который не уходит только потому, что ленится... Моя жена всегда преувеличивает. Хотя я, действительно, стараюсь избегать ненужных забот. Ем что угодно. Стригусь, когда теряю человеческий облик. Зато — уж сразу под машинку. Чтобы потом еще три месяца не стричься. Попросту говоря, я неохотно выхожу из дома. Хочу, чтобы меня оставили в покое... В детстве у меня была няня, Луиза Генриховна. Она все делала невнимательно, потому что боялась ареста. Однажды Луиза Генриховна надевала мне короткие штаны. И засунула мои ноги в одну штанину. В результате я проходил таким образом целый день. Мне было четыре года, и я хорошо помню этот случай. Я знал, что меня одели неправильно. Но я молчал. Я не хотел переодеваться. Да и сейчас не хочу. Я помню множество таких историй. С детства я готов терпеть все, что угодно, лишь бы избежать ненужных хлопот... Когда‐то я довольно много пил. И, соответственно, болтался где попало. Из‐за этого многие думали, что я общительный. Хотя стоило мне протрезветь ‐и общительности как не бывало. При этом я не могу жить один. Я не помню, где лежат счета за электричество. Не умею гладить и стирать. А главное ‐ мало зарабатываю. Я предпочитаю быть один, но рядом с кем‐то... Моя жена всегда преувеличивает: — Я знаю, почему ты все еще живешь со мной. Сказать? — Ну, почему? — Да просто тебе лень купить раскладушку!.. В ответ я мог бы сказать: — А ты? Почему же ты не купила раскладушку? Почему не бросила меня в самые трудные годы? Ты — умеющая штопать, стирать, выносить малознакомых людей, а главное — зарабатывать деньги!.. Познакомились мы двадцать лет назад. Я даже помню, что это было воскресенье. Восемнадцатое февраля. День выборов. По домам ходили агитаторы. Уговаривали жильцов проголосовать как можно раньше. Я не спешил. Я раза три вообще не голосовал. Причем не из диссидентских соображений. Скорее — из ненависти к бессмысленным действиям. И вот раздается звонок. На пороге ‐ молодая женщина в осенней куртке. По виду — школьная учительница, то есть немного — старая дева. Правда, без очков, зато с коленкоровой тетрадью в руке. Она заглянула в тетрадь и назвала мою фамилию. Я сказал: — Заходите. Погрейтесь. Выпейте чаю... Меня угнетали торчащие из‐под халата ноги. У нас в роду это самая маловыразительная часть тела. Да и халат был в пятнах. — Елена Борисовна, — представилась девушка, ‐ ваш агитатор... Вы еще не голосовали... Это был не вопрос, а сдержанный упрек. Я повторил: — Хотите чаю? Добавив из соображений приличия: — Там мама... Мать лежала с головной болью. Что не помешало ей довольно громко крикнуть ; — Попробуйте только съесть мою халву! Я сказал: — Проголосовать мы еще успеем. И тут Елена Борисовна произнесла совершенно неожиданную речь: — Я знаю, что эти выборы — сплошная профанация. Но что же я могу сделать? Я должна привести вас на избирательный участок. Иначе меня не отпустят домой. — Ясно, — говорю, — только будьте поосторожнее. Вас за такие разговоры не похвалят. — Вам можно доверять. Я это сразу поняла. Как только увидела портрет Солженицына. — Это Достоевский. Но и Солженицына я уважаю... Затем мы скромно позавтракали. Мать все‐таки отрезала нам кусок халвы. Разговор, естественно, зашел о литературе. Если Лена называла имя Гладилина, я переспрашивал: — Толя Гладилин? Если речь заходила о Шукшине, я уточнял: — Вася Шукшин? Когда же заговорили про Ахмадулину, я негромко воскликнул: — Беллочка!.. Затем мы вышли на улицу. Дома были украшены флагами. На снегу валялись конфетные обертки. Дворник Гриша щеголял в ратиновом пальто. Голосовать я не хотел. И не потому, что ленился. А потому, что мне нравилась Елена Борисовна. Стоит нам всем проголосовать, как ее отпустят домой... Мы пошли в кино на "Иванове детство". Фильм был достаточно хорошим, чтобы я мог отнестись к нему снисходительно. В ту пору я горячо хвалил одни лишь детективы. За то, что они дают мне возможность расслабиться. А вот картины Тарковского я похваливал снисходительно. При этом намекая, что Тарковский лет шесть ждет от меня сценария. Из кино мы направились в Дом литераторов. Я был уверен, что встречу какую‐нибудь знаменитость. Можяо было рассчитывать на дружеское приветствие Горышина. На пьяные объятия Вольфа. На беглый разговор с Ефимовым или Конецким. Ведь я был так называемым молодым писателем. И даже Гранин знал меня в лицо. Когда‐то в Ленинграде было много знаменитостей. Например, Чуковский, Олейников, Зощенко, Хармс, и так далее. После войны их стало гораздо меньше. Одних за что‐то расстреляли, другие переехали в Москву... Мы поднялись в ресторан. Заказали вино. бутерброды, пирожные. Я собирался заказать омлет, но передумал. Старший брат всегда говорил мне: "Ты не умеешь есть цветную пищу". Деньги я пересчитал, не вынимая руку из кармана. В зале было пусто. Только у дверей сидел орденоносец Решетов, читая книгу. По тому, как он увлекся, было видно, что это его собственный роман. Я мог бы поспорить, что роман называется ‐ "Иду к вам, люди!". Мы выпили. Я рассказал три случая из жизни Евтушенко, которые произошли буквально на моих глазах. А знаменитости все не появлялись. Хотя посетителей становилось все больше. К окну направился, скрипя протезом, беллетрист Горянский. У стойки бара расположились поэты Чикин и Штейнберг. Чикин говорил: — Лучше всего, Боря, тебе удаются философские отступления. — А тебе, Дима, внутренние монологи, ‐ реагировал Штейнберг... К знаменитостям Чикин и Штейнберг не принадлежали. Горянский был известен тем, что задушил охранника в немецком концентрационном лагере. Мимо прошел довольно известный критик Халупович. Он долго разглядывал меня, потом сказал: — Извините, я принял вас за Леву Мелиндера... Мы заказали двести граммов коньяка. Денег оставалось мало, а знаменитостей все не было. Видно, Елена Борисовна так и не узнает, что я многообещающий литератор. И тут в ресторан заглянул писатель Данчковский. С известными оговорками его можно было назвать знаменитостью. Когда‐то в Ленинград приехали двое братьев из Шклова. Звали братьев ‐Савелий и Леонид Данчиковские. Они начали пробовать себя в литературе. Сочиняли песенки, куплеты, интермедии. Сначала писали вдвоем. Потом ‐каждый в отдельности. Через год их пути разошлись еще более кардинально. Младший брат решил укоротить свою фамилию. Теперь он подписывался ‐Данч. Но при этом оставался евреем. Старший поступил иначе. Он тоже укоротил свою фамилию, выбросив единственную букву — "И". Теперь он подписывался ‐ Данчковский. Зато из еврея стал обрусевшим поляком. Постепенно между братьями возникла национальная рознь. Они то и дело ссорились на расовой почве. — Оборотень, — кричал Леонид, — золоторотец, пьяный гой! — Заткнись, жидовская морда! — отвечал Савелий. Вскоре началась борьба с космополитами. Леонида арестовали. Савелий к этому времени закончил институт марксизма‐ленинизма. Он начал печататься в толстых журналах. У него вышла первая книга. О нем заговорили критики. Постепенно он стал "ленинианцем". То есть создателем бесконечной и неудержимой Ленинианы. Сначала он написал книгу "Володино детство". Затем — небольшую повесть "Мальчик из Симбирска". После этого выпустил двухтомник "Юность огневая". И наконец, трилогию — "Вставай, проклятьем заклейменный!". Исчерпав биографию Ленина, Данчковский взялся за смежные темы. Он написал книгу "Ленин и дети". Затем — "Ленин и музыка", "Ленин и живопись", а также "Ленин и сельское хозяйство". Все эти книги были переведены на многие языки. Данчковский разбогател. Был награжден орденом "Знак почета". К этому времени его брата посмертно реабилитировали. Данчковский хорошо меня знал, поскольку больше года руководил нашим литературным объединением. И вот он появился в ресторане. Я, понизив голос, шепнул Елене Борисовне: — Обратите внимание — Данчковский, собственной персоной... Бешеный успех... Идет на Ленинскую премию... Данчковский направился в угол, подальше от музыкального автомата. Проходя мимо нас, он замедлил шаги. Я фамильярно приподнял бокал. Данчковский. не здороваясь, отчетливо выговорил: — Читал я твою юмореску в "Авроре". По‐моему. говно... Мы просидели в ресторане часов до одиннадцати. Избирательный участок давно закрылся. Потом закрылся ресторан. Мать лежала с головной болью. А мы еще гуляли по набережной Фонтанки. Елена Борисовна удивляла меня своей покорностью. Вернее, даже не покорностью, а равнодушием к фактической стороне жизни. Как будто все происходящее мелькало на экране. Она забыла про избирательный участок. Пренебрегла своими обязанностями. Как выяснилось, она даже не проголосовала. И все это ради чего? Ради неясных отношений с человеком, который пишет малоудачные юморески. Я, конечно, тоже не проголосовал. Я тоже пренебрег своими гражданскими обязанностями. Но я вообще особый человек. Так неужели мы похожи? За плечами у нас двадцать лет брака. Двадцать лет взаимной обособленности и равнодушия к жизни. При этом у меня есть стимул, цель, иллюзия, надежда. А у нее? У нее есть только дочь и равнодушие. Я не помню, чтобы Лена возражала или спорила. Вряд ли она хоть раз произнесла уверенное, звонкое — "да", или тяжеловесное, суровое — "нет". Ее жизнь проходила как будто на экране телевизора. Менялись кадры, лица, голоса, добро и зло спешили в одной упряжке. А моя любимая, поглядывая в сторону экрана, занималась более важными делами... Решив, что мать уснула, я пошел домой. Я даже не сказал Елене Борисовне: "Пойдемте ко мне". Я даже не взял ее за руку. Просто мы оказались дома. Это было двадцать лет назад. За эти годы влюблялись, женились и разводились наши друзья. Они писали на эту тему стихи и романы. Переезжали из одной республики в другую. Меняли род занятий, убеждения, привычки. Становились диссидентами и алкоголиками. Покушались на чужую или собственную жизнь. Кругом возникали и с грохотом рушились прекрасные, таинственные миры. Как туго натянутые струны, лопались человеческие отношения. Наши друзья заново рождались и умирали в поисках счастья. А мы? Всем соблазнам и ужасам жизни мы противопоставили наш единственный дар — равнодушие. Спрашивается, что может быть долговечнее замка, выстроенного на песке?.. Что в семейной жизни прочнее и надежнее обоюдной бесхарактерности?.. Что можно представить себе благополучнее двух враждующих государств, неспособных к обороне?.. Я работал в многотиражной газете. Получал около ста рублей. Плюс какие‐то малосущественные надбавки. Так, мне припоминаются ежемесячные четыре рубля "за освоение более совершенных методов хозяйствования". Подобно большинству журналистов, я мечтал написать роман. И, не в пример большинству журналистов, действительно занимался литературой. Но мои рукописи были отклонены самыми прогрессивными журналами. Сейчас я могу этому только радоваться. Благодаря цензуре, мое ученичество затянулось на семнадцать лет. Рассказы, которые я хотел напечатать в те годы, представляются мне сейчас абсолютно беспомощны ми. Достаточно того, что один рассказ назывался "Судьба Фаины". Лена не читала моих рассказов. Да и я не предлагал. А она не хотела проявлять инициативу. Три вещи может сделать женщина для русского писателя. Она может кормить его. Она может искренне поверить в его гениальность. И наконец, жен щина может оставить его в покое. Кстати, третье не исключает второго и первого. Лена не интересовалась моими рассказами. Не уверен даже, что она хорошо себе представляла, где я работаю. Знала только, что пишу. Я знал о ней примерно столько же. Сначала моя жена работала в парикмахерской. После истории с выборами ее уволили. Она стала корректором. Затем, совершенно неожиданно для меня, окончила полиграфический институт. Поступила если не ошибаюсь, в какое‐то спортивное издательство. Зарабатывала вдвое больше меня. Трудно понять, что нас связывало. Разговаривали мы чаще всего по делу. Друзья были у каждого свои. И даже книги мы читали разные. Моя жена всегда раскрывала ту книгу, что лежала ближе. И начинала читать с любого места. Сначала меня это злило. Затем я убедился, что книги ей всегда попадаются хорошие. Не то, что мне. Уж если я раскрою случайную книгу, то это непременно будет "Поднятая целина"... Что же нас связывало? И как вообще рождается человеческая близость? Все это не так просто. У меня, например, есть двоюродные братья. Все трое — пьяницы и хулиганы. Одного я люблю, к другому равнодушен, а с третьим просто незнаком... Так мы и жили — рядом, но каждый в отдельности. Подарками обменивались в редчайших случаях. Иногда я говорил: — Надо бы для смеха подарить тебе цветы. Лена отвечала; — У меня все есть... Да и я не ждал подарков. Меня это устраивало. А то я знал одну семью. Муж работал с утра до ночи. Жена смотрела телевизор и ходила по магазинам. Говоря при этом: "Купила Марику на день рожденья тюлевые занавески — обалдеть!.. " Так мы прожили года четыре. Потом родилась дочка — Катя. В этом была неожиданная серьезность и ощущение чуда. Нас было двое, и вдруг появился еще один человек — капризный, шумный, требующий заботы. Дочку мы почти не воспитывали, только любили. Тем более что она довольно много хворала, начиная с пятимесячного возраста. В общем, после рождения дочери стало ясно, что мы женаты. Катя заменила нам брачное свидетельство. Помню, зашел я с коляской в редакцию журнала "Аврора". Мне причитался там небольшой гонорар. Чиновница раскрыла ведомость: — Распишитесь. И добавила: — Шестнадцать рублей мы вычли за бездетность. — Но у меня, — говорю, — есть дочка. — Надо представить соответствующий документ. — Пожалуйста. Я вынул из коляски розовый пакет. Осторожно положил его на стол главного бухгалтера. Сохранил, таким образом, шестнадцать рублей... Отношения мои с женой не изменились. Вернее, почти не изменились. Теперь нашему личному равнодушию противостояла общая забота. Например, мы вместе купали дочку... Однажды Лена поехала на службу. Я задержался дома. Стал, как всегда, разыскивать необходимые бумаги. Если не ошибаюсь, копию издательского до говора. Я рылся в шкафах. Выдвигал один за другим ящики письменного стола. Даже в ночную тумбочку заглянул. Там, под грудой книг, журналов, старых писем, я нашел альбом. Это был маленький, почти карманный альбом для фотографий. Листов пятнадцать толстого картона с рельефным изображением голубя на обложке. Я раскрыл его. Первые фотографии были желтоватые, с трещинами. Некоторые без уголков. На одной — круглолицая малышка гладила собаку. Точнее говоря, осторожно к ней прикасалась. Лохматая собака прижимала уши. На другой — шестилетняя девочка обнимала самодельную куклу. Вид у обеих был печальный и растерянный. Потом я увидел семейную фотографию ‐ мать, отец и дочка. Отец был в длинном плаще и соломенной шляпе. Из рукавов едва виднелись кончики пальцев. У жены его была теплая кофта с высокими плечами, локоны, газовый шарфик. Девочка резко повернулась в сторону. Так, что разлетелось ее короткое осеннее пальто. Что‐то привлекло ее внимание за кадром. Может, какая‐нибудь бродячая собака. Позади, за деревьями, виднелся фасад царскосельского Лицея. Далее промелькнули родственники с напряженными искусственными улыбками. Пожилой усатый железнодорожник в форме, дама около бюста Ленина, юноша на мотоцикле. Затем появился моряк или, вернее, курсант. Даже на фотографии было видно, как тщательно он побрит. Курсанту заглядывала в лицо девица с букетиком ландышей. Целый лист занимала глянцевая школьная карточка. Четыре ряда испуганных, напряженных, замер ших физиономий. Ни одного веселого детского лица. В центре — группа учителей. Двое из них с орденами, возможно — бывшие фронтовики. Среди других — классная руководительница. Ее легко узнать. Старуха обнимает за плечи двух натянуто улы бающихся школьниц. Слева, в третьем ряду — моя жена. Единственная не смотрит в аппарат. Я узнавал ее на всех фотографиях. На маленьком снимке, запечатлевшем группу лыжников. На микроскопическом фото, сделанном возле колхозной библиотеки. И даже на передержанной карточке, в толпе, среди едва различимых участников молодежного хора. Я узнавал хмурую девочку в стоптанных туфлях. Смущенную барышню в дешевом купальнике под размашистой надписью "Евпатория". Студентку в платке возле колхозной библиотеки. И везде моя жена казалась самой печальной. Я перевернул еще несколько страниц. Увидел молодого человека в шестигранной кепке, старушку, заслонившуюся рукой, неизвестную балерину. Мне попалась фотография артиста Яковлева. Точнее, открытка с его изображением. Снизу каллиграфическим почерком было выведено: "Лена! Служение искусству требует всего человека, без остатка. Рафик Абдуллаев "... Я раскрыл последнюю страницу. И вдруг у меня перехватило дыхание. Даже не знаю, чему я так удивился. Но почувствовал, как у меня багровеют щеки. Я увидел квадратную фотографию, размером чуть больше почтовой марки. Узкий лоб, запущенная борода, наружность матадора, потерявшего квалификацию. Это была моя фотография. Если не ошибаюсь ‐ с прошлогоднего удостоверения. На белом уголке виднелись следы заводской печати. Минуты три я просидел, не двигаясь. В прихожей тикали часы. За окном шумел компрессор. Слышалось позвякивание лифта. А я все сидел. Хотя, если разобраться, что произошло? Да ничего особенного. Жена поместила в альбом фотографию мужа. Это нормально. Но я почему‐то испытывал болезненное волнение. Мне было трудно сосредоточиться, чтобы уяснить его причины. Значит, все, что происходит ‐серьезно. Если я впервые это чувствую, то сколько же любви потеряно за долгие годы?.. У меня не хватало сил обдумать происходящее. Я не знал, что любовь может достигать такой силы и остроты. Я подумал: "Если у меня сейчас трясутся руки, что же будет потом? " В общем, я собрался и поехал на работу... Прошло лет шесть, началась эмиграция. Евреи заговорили об исторической родине. Раньше полноценному человеку нужны были дуб ленка и кандидатская степень. Теперь к этому добавился израильский вызов. О нем мечтал любой интеллигент. Даже если не собирался эмигрировать. Так, на всякий случай. Сначала уезжали полноценные евреи. За ними устремились граждане сомнительного происхождения. Еще через год начали выпускать русских. Среди них по израильским документам выехал наш знакомый, отец Маврикий Рыкунов. И вот моя жена решила эмигрировать. А я решил остаться. Трудно сказать, почему я решил остаться. Видимо, еще не достиг какой‐то роковой черты. Все еще хотел исчерпать какие‐то неопределенные шансы. А может, бессознательно стремился к репрессиям. Такое случается. Грош цена российскому интеллигенту, не по бывавшему в тюрьме... Меня поразила ее решимость. Ведь Лена казалась зависимой и покорной. И вдруг — такое серьезное, окончательное решение. У нее появились заграничные бумаги с красными печатями. К ней приходили суровые, бородатые от казники. Оставляли инструкции на папиросной бумаге. Недоверчиво поглядывали в мою сторону. А я до последней минуты не верил. Слишком уж все это было невероятно. Как путешествие на Марс. Клянусь, до последней минуты не верил. Знал и не верил. Так чаще всего и бывает. И эта проклятая минута наступила. Документы были оформлены, виза получена. Катя раздала подругам фантики и марки. Оставалось только купить билеты на самолет. Мать плакала. Лена была поглощена заботами. Я отодвинулся на задний план. Я и раньше не заслонял ее горизонтов. А теперь ей было и вовсе не до меня. И вот Лена поехала за билетами. Вернулась с коробкой. Подошла ко мне и говорит: — У меня оставались лишние деньги. Это тебе. В коробке лежала импортная поплиновая рубаха. Если не ошибаюсь, румынского производства. — Ну что ж, — говорю, — спасибо. Приличная рубаха, скромная и доброкачественная. Да здравствует товарищ Чаушеску!.. Только куда я в ней пойду? В самом деле ‐ куда?! ЗИМНЯЯ ШАПКА С ноябрьских праздников в Ленинграде установились морозы. Собираясь в редакцию, я натянул уродливую лыжную шапочку, забытую кем‐то из гостей. Сойдет, думаю, тем более что в зеркало я не глядел уже лет пятнадцать. Приезжаю в редакцию. Как всегда, опаздываю минут на сорок. Соответственно, принимаю дерзкий и решительный вид. Обстановка в комнате литсотрудников ‐ мрачная. Воробьев драматически курит. Сидоровский глядит в одну точку. Делюкин говорит по телефону шепотом. У Милы Дорошенко вообще заплаканные глаза. — Салют, — говорю, — что приуныли, трубадуры режима?! Молчат. И только Сидоровский хмуро откликается; — Твой цинизм, Довлатов, переходит все границы. Явно, думаю, что‐то случилось. Может, нас всех лишили прогрессивки?.. — Что за траур, — спрашиваю, — где покойник? — В Куйбышевском морге, — отвечает Сидоровский, ‐ похороны завтра. Еще не легче. Наконец, Делюкин кончил разговор и тем же шепотом объяснил: — Раиса отравилась. Съела три коробки нембутала. — Так, — говорю, — ясно. Довели человека!.. Раиса была нашей машинисткой — причем весьма квалифицированной. Работала она быстро, по слепому методу. Что не мешало ей замечать бесчисленное количество ошибок. Правда, замечала их Раиса только на бумаге. В жизни Рая делала ошибки постоянно. В результате она так и не получила диплома. К тому же в двадцать пять лет стала матерью‐одиночкой. И наконец, занесло Раису в промышленную газету с давними антисемитскими традициями. Будучи еврейкой, она так и не смогла к этому привыкнуть. Она дерзила редактору, выпивала, злоупотребляла косметикой. Короче, не ограничивалась своим еврейским происхождением. Шла в своих по роках дальше. Раису бы, наверное, терпели, как и всех других семитов. Но для этого ей пришлось бы вести себя разумнее. То есть глубокомысленно, скромно и чу точку виновато. Она же без конца демонстрировала типично христианские слабости. С октября Раису начали травить. Ведь чтобы ее уволить, нужны были формальные основания. Необходимо было объявить ей три или четыре выговора. Редактор Богомолов начал действовать. Он прово цировал Раю на грубость. По утрам караулил ее с хронометром в руках. Мечтал уличить ее в неблагона дежности. Или хотя бы увидеть в редакции пьяной. Все это совершалось при единодушном молчании окружающих. Хотя почти все наши мужчины то и дело ухаживали за Раисой. Она была единственной свободной женщиной в редакции. И вот Раиса отравилась. Целый день все ходили мрачные и торжественные. Разговаривали тихими, внушительными голосами. Воробьев из отдела науки сказал мне: — Я в ужасе, старик! Пойми, я в ужасе! У нас были такие сложные, запутанные отношения. Как говорится, тысяча и одна ночь... Ты знаешь, я женат, а Рая человек с характером... Отсюда всяческие комплексы... Надеюсь, ты меня понимаешь?.. В буфете ко мне подсел Делюкин. Подбородок его был запачкан яичным желтком. Он сказал: — Раиса‐то, а?! Ты подумай! Молодая, здоровая девка! — Да, — говорю, — ужасно. — Ужасно... Ведь мы с Раисой были не просто друзьями. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю? У нас были странные, мучительные отношения. Я — позитивист, романтик, где‐то жизнелюб. А Рая была человеком со всяческими комплексами. В чем‐то мы объяснялись на разных языках... Даже Сидоровский, наш фельетонист, остановил меня: — Пойми, я не религиозен, но все‐таки самоубийство — это грех! Кто мы такие, чтобы распоряжаться собственной жизнью?!. Раиса не должна была так поступать! Задумывалась ли она, какую тень бросает на редакцию?! — Не уверен. И вообще, при чем тут редакция? — У меня, как это ни смешно, есть профессиональная гордость! — У меня тоже. Но у меня другая профессия. — Хамить не обязательно. Я собирался поговорить о Рае, — У вас были сложные, запутанные отношения? — Как ты узнал? — Догадался. — Для меня ее поступок оскорбителен. Ты, конечно, скажешь, что я излишне эмоционален. Да. я эмоционален. Может быть, даже излишне эмоционален. Но у меня есть железные принципы. Надеюсь, ты понимаешь, что я хочу сказать?! — Не совсем. — Я хочу сказать, что у меня есть принципы... И вдруг мне стало тошно. Причем до такой степени. что у меня заболела голова. Я решил уволиться, точнее — даже не возвращаться после обеда за своими бумагами. Просто взять и уйти без единого слова. Именно так ‐миновать проходную, сесть в автобус... А дальше? Что будет дальше, уже не имело значения. Лишь бы уйти из редакции с ее железными принципами, фальшивым энтузиазмом, неосуществимыми мечтами о творчестве... Я позвонил моему старшему брату. Мы встретились около гастронома на Таврической. Купили все, что полагается. Боря говорит: — Поехали в гостиницу "Советская", там живут мои друзья из Львова. Друзья оказались тремя сравнительно молодыми женщинами. Звали женщин ‐Софа, Рита и Галина Павловна. Документальный фильм, который они снимали, назывался "Мощный аккорд". Речь в нем шла о комбинированном питании для свиней. Гостиницу "Советская" построили лет шесть назад. Сначала здесь жили одни иностранцы. Потом иностранцев неожиданно выселили. Дело в том, что из окон последних этажей можно было фотографировать цеха судостроительного завода "Адмиралтеец". Злые языки переименовали гостиницу "Советскую" ‐ в "Антисоветскую"... Женщины из киногруппы мне понравились. Действовали они быстро и решительно. Принесли стулья, достали тарелки и рюмки, нарезали колбасу. То есть выказали полную готовность отдыхать и развлекаться днем. А Софа даже открыла консервы маникюрными ножницами. Брат сказал: — Поехали! Он выпил, раскраснелся, снял пиджак. Я тоже хотел снять пиджак, но Рита меня остановила: — Спуститесь за лимонадом. Я пошел в буфет. Через три минуты вернулся. За это время женщины успели полюбить моего брата. Причем все три одновременно. К тому же их любовь носила оскорбительный для меня характер. Если я тянулся к шпротам, Софа восклицала: — Почему вы не едите кильки? Шпроты предпочитает Боря! Если я наливал себе водку, Рита проявляла беспокойство: — Пейте "Московскую". Боря говорит, что "Сто личная" лучше! Даже сдержанная Галина Павловна вмешалась: — Курите "Аврору". Боре нравятся импортные сигареты. — Мне тоже, — говорю, — нравятся импортные сигареты. — Типичный снобизм, — возмутилась Галина Павловна. Стоило моему брату произнести любую глупость, как женщины начинали визгливо хохотать. Например, он сказал, закусывая кабачковой икрой: — По‐моему, эта икра уже была съедена. И все захохотали. А когда я стал рассказывать, что отравилась наша машинистка, все закричали: — Перестаньте!.. Так прошло часа два. Я все думал, что женщины наконец поссорятся из‐за моего брата. Этого не случилось. Наоборот, они становились все более друж ными, как жены престарелого мусульманина. Боря рассказывал сплетни про киноактеров. На. певал блатные песенки. Опьянев, расстегнул Галине Павловне кофту. Я же опустился настолько, что раскрыл вчерашнюю газету. Потом Рита сказала: — Я еду в аэропорт. Мне нужно встретить директора картины. Сергей, проводите меня. Ничего себе, думаю. Боря ест шпроты. Боря курит "Джебел". Боря пьет "Столичную". А провожать эту старую галошу должен я?! Брат сказал: — Поезжай. Все равно ты читаешь газету. — Ладно, — говорю, — поехали. Унижаться, так до конца. Я натянул свою лыжную шапочку. Рита облачилась в дубленку. Мы спустились в лифте и подошли к остановке такси. Начинало темнеть. Снег казался голубоватым. В сумерках растворялись неоновые огни. Мы были на стоянке первыми. Рита всю дорогу молчала. Произнесла одну‐единственную фразу: — Вы одеваетесь, как босяк! Я ответил: — Ничего страшного. Представьте себе, что я монтер или водопроводчик. Аристократка торопится домой в сопровождении электромонтера. Все нормально. Подошла машина. Я взялся за ручку. Откуда‐то выскочили двое рослых парней. Один говорит: — Мы спешим, борода! И пытается отодвинуть меня в сторону. Второй протискивается на заднее сиденье. Это было уже слишком. Весь день я испытывал сплошные негативные эмоции. А тут еще — прямое уличное хамство. Вся моя сдерживаемая ярость устремилась наружу. Я мстил этим парням за все свои обиды. Тут все соединилось — Рая, газетная поденщина, нелепая лыжная шапочка, и даже любовные успехи моего брата. Я размахнулся, вспомнив уроки тяжеловеса Шарафутдинова. Размахнулся и ‐опрокинулся на спину. Я не понимаю, что тогда случилось. То ли было скользко. Или центр тяжести у меня слишком высоко... Короче, я упал. Увидел небо, такое огромное, бледное, загадочное. Такое далекое от всех моих невзгод и разочарований. Такое чистое. Я любовался им, пока меня не ударили ботинком в глаз. И все померкло... Очнулся я под звуки милицейских свистков. Я сидел, опершись на мусорный бак. Справа от меня толпились люди. Левая сторона действительности была покрыта мраком. Рита что‐то объясняла старшине милиции. Ее можно было принять за жену ответственного работ ника. А меня — за его личного шофера. Поэтому милиционер так внимательно слушал. Я уперся кулаками в снег. Буксуя, попытался вы прямиться. Меня качнуло. К счастью, подбежала Рита. Мы снова ехали в лифте. Одежда моя была в грязи. Лыжная шапка отсутствовала. Ссадина на щеке кровоточила. Рита обнимала меня за талию. Я попытался ото двинуться. Ведь теперь я ее компрометировал по настоящему. Но Рита прижалась ко мне и шепотом выговорила: — До чего ты красив, злодей! Лифт, тихо звякнув, остановился на последнем этаже. Мы оказались в том же гостиничном номере. Брат целовался с Галиной Павловной. Софа тянула его за рубашку, повторяя: — Дурачок, она тебе в матери годится... Увидев меня, брат поднял страшный крик. Даже хотел бежать куда‐ то, но передумал и остался. Меня окружили женщины. Происходило что‐то странное. Когда я был нормальным человеком, мной пренебрегали. Теперь, когда я стал почти инвалидом, женщины окружили меня вниманием. Они буквально сражались за право лечить мой глаз. Рита обтирала влажной тряпочкой мое лицо. Галина Павловна развязывала шнурки на ботинках. Софа зашла дальше всех — она расстегивала мне брюки. Брат пытался что‐то говорить, давать советы, но его одергивали. Если он вносил какое‐то предложение, женщины реагировали бурно: — Замолчи! Пей свою дурацкую водку! Ешь свои паршивые консервы! Обойдемся без тебя! Дождавшись паузы, я все‐таки рассказал о самоубийстве нашей машинистки. На этот раз меня выслушали с огромным интересом. А Галина Павловна чуть не расплакалась: — Обратите внимание! У Сережи — единственный глаз! Но этим единственным глазом он видит значительно больше, чем иные люди — двумя... После этого Рита сказала: — Я не поеду в аэропорт. Мы едем в травматологический пункт. А директора картины встретит Боря. — Я его не знаю, — сказал мой брат. — Ничего. Дашь объявление по радио. — Но я же пьяный. — А он, думаешь, приедет трезвый?.. Мы с Ритой отправились в травматологический пункт на улицу Гоголя, девять. В приемной ожидали люди с разбитыми физиономиями. Некоторые стонали. Рита, не дожидаясь очереди, прошла к врачу. Ее роскошная дубленка и здесь произвела необходимое впечатление. Я слышал, как она громко поинтересовалась: — Если моему хахалю рожу набили, куда обратиться? И тотчас же помахала мне рукой: — Заходи! Я просидел у врача минут двадцать. Врач сказал, что я легко отделался. Сотрясения мозга не было, зрачок остался цел. А синяк через неделю пройдет. Затем врач спросил: — Чем это вас саданули — кирпичиной? — Ботинком, — говорю. Врач уточнил: — Наверное, скороходовским ботинком? И добавил: — Когда же мы научимся выпускать изящную советскую обувь?!.. Короче, все было не так уж страшно. Единственной потерей, таким образом, можно было считать лыжную шапочку. Домой я приехал около часа ночи. Лена сухо выговорила: — Поздравляю. Я рассказал ей, что произошло. В ответ прозвучало: — Вечно с тобой происходят фантастические истории... Рано утром позвонил мой брат. Настроение у меня было гнусное. В редакцию ехать не хотелось. Денег не было. Будущее тонуло во мраке. К тому же в моем лице появилось нечто геральдическое. Левая его сторона потемнела. Синяк переливался всеми цветами радуги. О том, чтобы выйти на улицу, страшно было подумать. Но брат сказал; — У меня к тебе важное дело. Надо провернуть одну финансовую махинацию. Я покупаю в кредит цветной телевизор. Продаю его за наличные деньги одному типу. Теряю на этом рублей пятьдесят. А получаю более трехсот с рассрочкой на год. Уяснил? — Не совсем. — Все очень просто. Эти триста рублей я получаю как бы в долг. Расплачиваюсь с мелкими кредиторами. Выбираюсь из финансового тупика. Обретаю второе дыхание. А долг за телевизор буду регулярно и спокойно погашать в течение года. Ясно? Рассуждая философски, один большой долг лучше, чем сотня мелких. Брать на год солиднее, чем выпрашивать до послезавтра. И наконец, красивее быть в долгу перед государством, чем одалживать у знакомых. — Убедил, — говорю, — только при чем здесь я? — Ты поедешь со мной. — Еще чего не хватало! — Ты мне нужен. У тебя более практический ум. Ты проследишь, чтобы я не растратил деньги. — Но у меня разбита физиономия. — Подумаешь! Кого это волнует?! Я привезу тебе солнечные очки. — Сейчас февраль. — Неважно. Ты мог прилететь из Абиссинии... Кстати, люди не знают, почему у тебя разбита физиономия. А вдруг ты отстаивал женскую честь? — Примерно так оно и было. — Тем более... Я собрался уходить. Жене сказал, что еду в поликлинику. Лена говорит: — Вот тебе рубль, купи бутылку подсолнечного масла. Мы встретились с братом на Конюшенной площади. Он был в потертой котиковой шапке. Достал из кармана солнечные очки. Я говорю: — Очки не спасут. Дай лучше шапку. — А шапка спасет? — В шапке хоть уши не мерзнут. — Это верно. Мы будем носить ее по очереди. Мы подошли к троллейбусной остановке. Брат сказал: — Берем такси. Если мы поедем троллейбусом, это будет искусственно. У нас, можно сказать, полные карманы денег. У тебя есть рубль? — Есть. Но я должен купить бутылку подсолнечного масла. — Я же тебе говорю, деньги будут. Хочешь, я куплю тебе ведро подсолнечного масла? — Ведро — это слишком. Но рубль, если можно, верни. — Считай, что этот паршивый рубль у тебя в кармане... Брат остановил машину. Мы поехали в Гостиный Двор. Зашли в отдел радиотоваров. Боря исчез за прилавком с каким‐то Мишаней. Уходя, протянул мне шапку: — Твоя очередь. Надень. Я ждал его минут двадцать, разглядывая приемники и телевизоры. Шапку я держал в руке. Казалось, всех интересует мой глаз. Если возникала миловидная женщина, я разворачивался правой стороной. На секунду появился мой брат, возбужденный и радостный. Сказал мне: — Все идет нормально. Я уже подписал кредитные документы. Только что явился покупатель. Сейчас ему выдадут телевизор. Жди... Я стал ждать. Из отдела радиотоваров перебрался в детскую секцию. Узнал в продавце своего бывшего одноклассника Леву Гиршовича. Лева стал разглядывать мой глаз. — Чем это тебя? — спрашивает. Всех, подумал я, интересует — чем? Хоть бы один поинтересовался — за что? — Ботинком, — говорю. — Ты что, валялся на панели? — Почему бы и нет?.. Лева рассказал мне дикую историю. На фабрике детских игрушек обнаружили крупное государственное хищение. Стали пропадать заводные медведи, танки, шагающие экскаваторы. Причем в огромных количествах. Милиция год занималась этим делом, но безуспешно. Совсем недавно преступление было раскрыто. Двое чернорабочих этой фабрики прорыли небольшой тоннель. Он вел с территории предприятия на улицу Котовского. Работяги брали игрушки, заводили, ставили на землю. А дальше ‐медведи, танки, экскаваторы — шли сами. Нескончаемым потоком уходили с фабрики... Тут я увидел через стекло моего брата. Пошел к нему. Боря явно изменился. В его манерах появилось что‐то аристократическое. Какая‐то пресыщенность и ленивое барство. Вялым, капризным голосом он произнес: — Куда же ты девался? Я подумал — вот как меняют нас деньги. Даже если они, в принципе, чужие. Мы вышли на улицу. Брат хлопнул себя по карману: — Идем обедать! — Ты же сказал, что надо раздать долги. — Да, я сказал, что надо раздать долги. Но я же не сказал, что мы должны голодать. У нас есть триста двадцать рублей шестьдесят четыре копейки. Если мы не пообедаем, это будет искусственно. А пить не обязательно. Пить мы не будем. Затем он прибавил: — Ты согрелся? Дай сюда мою шапку. По дороге брат начал мечтать: — Мы закажем что‐нибудь хрустящее. Ты заметил, как я люблю все хрустящее? — Да, — говорю,‐ например, "Столичную" водку. Боря одернул меня: — Не будь циником. Водка — это святое. С печальной укоризной он добавил: — К таким вещам надо относиться более или менее серьезно... Мы перешли через дорогу и оказались в шашлычной. Я хотел пойти в молочное кафе, но брат сказал: — Шашлычная — это единственное место, где разбитая физиономия является нормой... Посетителей в шашлычной было немного. На вешалке темнели зимние пальто. По залу сновали миловидные девушки в кружевных фартуках. Музыкальный автомат наигрывал "Голубку". У входа над стойкой мерцали ряды бутылок. Дальше, на маленьком возвышении, были расставлены столы. Брат мой тотчас же заинтересовался спиртными напитками. Я хотел остановить его: — Вспомни, что ты говорил. — А что я говорил? Я говорил — не пить. В смысле — не запивать. Не обязательно пить стаканами. Мы же интеллигентные люди. Выпьем по рюмке для настроения. Если мы совсем не выпьем, это будет искусственно. И брат заказал поллитра армянского коньяка. Я говорю: — Дай мне рубль. Я куплю бутылку подсолнечного масла. Он рассердился: — Какой ты мелочный? У меня нет рубля, одни десятки. Вот разменяю деньги и куплю тебе цистерну подсолнечного масла... Раздеваясь, брат протянул мне шапку: — Твоя очередь, держи. Мы сели в угол. Я развернулся к залу правой стороной. Дальше все происходило стремительно. Из шашлычной мы поехали в "Асторию". Оттуда — к знакомым из балета на льду. От знакомых — в бар Союза журналистов. И всюду брат мой повторял: — Если мы сейчас остановимся, это будет искусственно. Мы пили, когда не было денег. Глупо не пить теперь, когда они есть... Заходя в очередной ресторан, Боря протягивал мне свою шапку. Когда мы оказывались на улице. я ему эту шапку с благодарностью возвращал. Потом он зашел в театральный магазин на Рылеева. Купил довольно уродливую маску Буратино. В этой маске я просидел целый час за стойкой бара "Юность". К этому времени глаз мой стал фиолетовым. К вечеру у брата появилась навязчивая идея. Он захотел подраться. Точнее, разыскать моих вчерашних обидчиков. Боре казалось, что он может узнать их в толпе. — Ты же. — говорю, — их не видел. — А для чего, по‐твоему, существует интуиция?.. Он стал приставать к незнакомым людям. К счастью, все его боялись. Пока он не задел какого‐то богатыря возле магазина "Галантерея". Тот не испугался. Говорит: — Первый раз вижу еврея‐алкоголика! Братец мой невероятно оживился. Как будто всю жизнь мечтал, чтобы оскорбили его национальное достоинство. При том, что он как раз евреем не был. Это я был до некоторой степени евреем. Так уж получилось. Запутанная семейная история. Лень рассказывать... Кстати, Борина жена, в девичестве ‐ Файнциммер, любила повторять: "Боря выпил столько моей крови, что теперь и он наполовину еврей! ". Раньше я не замечал в Боре кавказского патриотизма. Теперь он даже заговорил с грузинским акцентом: — Я — еврей? Значит, я, по‐твоему ‐ еврей?! Обижаешь, дорогой!.. Короче, они направились в подворотню. Я сказал: — Перестань. Оставь человека в покое. Пошли отсюда. Но брат уже сворачивал за угол, крикнув: — Не уходи. Если появится милиция, свистни... Я не знаю, что творилось в подворотне. Я только видел, как шарахались проходившие мимо люди. Брат появился через несколько секунд. Нижняя губа его была разбита. В руке он держал совершенно новую котиковую шапку. Мы быстро зашагали к Владимирской площади. Боря отдышался и говорит: — Я ему дал по физиономии. И он мне дал по физиономии. У него свалилась шапка. И у меня свалилась шапка. Я смотрю — его шапка новее. Нагибаюсь, беру его шапку. А он, естественно ‐ мою. Я его изматерил. И он меня. На том и разошлись. А эту шапку я дарю тебе. Бери. Я сказал: — Купи уж лучше бутылку подсолнечного масла. — Разумеется, — ответил брат, — только сначала выпьем. Мне это необходимо в порядке дезинфекции. И он для убедительности выпятил разбитую губу... Дома я оказался глубокой ночью. Лена даже не спросила, где я был. Она спросила: — Где подсолнечное масло? Я произнес что‐то невнятное. В ответ прозвучало: — Вечно друзья пьют за твой счет! — Зато, — говорю, — у меня есть новая котиковая шапка. Что я мог еще сказать? Из ванной я слышал, как она повторяет: — Боже мой, чем все это кончится? Чем это кончится?.. ШОФЕРСКИЕ ПЕРЧАТКИ С Юрой Шлиппенбахом мы познакомились на конференции в Таврическом дворце. Вернее, на совещании редакторов многотиражных газет. Я представлял газету "Турбостроитель". Шлиппенбах ‐ ленфильмовскую многотиражку под названием "Кадр". Докладывал второй секретарь обкома партии Болотников. В конце он сказал: — У нас есть образцовые газеты, например, "Знамя прогресса". Есть посредственные, типа "Адмиралтейца". Есть плохие, вроде "Турбостроителя". И наконец, есть уникальная газета "Кадр". Это нечто фантастическое по бездарности и скуке. Я слегка пригнулся. Шлиппенбах, наоборот, горделиво выпрямился. Видимо, почувствовал себя гонимым диссидентом. Затем довольно громко крикнул: — Ленин говорил, что критика должна быть обоснованной! — Твоя газета, Юра, ниже всякой критики, ‐ ответил секретарь... В перерыве Шлиппенбах остановил меня и спрашивает: — Извините, какой у вас рост?.. Я не удивился. Я к этому привык. Я знал, что далее последует такой абсурдный разговор: "‐ Какой у тебя рост? — Сто девяносто четыре. — Жаль, что ты в баскетбол не играешь. — Почему не играю? Играю. ‐ Я так и подумал..." — Какой у вас рост? — спросил Шлиппенбах. — Метр девяносто четыре. А что? — Дело в том, что я снимаю любительскую кинокартину. Хочу предложить вам главную роль. — У меня нет актерских способностей. — Это неважно. Зато фактура подходящая. — Что значит — фактура? — Внешний облик. Мы договорились встретиться на следующее утро. Шлиппенбаха я и раньше знал по газетному сектору. Просто мы не были лично знакомы. Это был нервный худой человек с грязноватыми длинными волосами. Он говорил, что его шведские предки упоминаются в исторических документах. Кроме того, Шлиппенбах носил в хозяйственной сумке однотомник Пушкина. "Полтава " была заложена конфетной оберткой. — Читайте, — нервно говорил Шлиппенбах. И, не дожидаясь реакции, лающим голосом выкрикивал: Пальбой отбитые дружины, Мешаясь, катятся во прах. Уходит Розен сквозь теснины, Сдается пылкий Шлиппенбах... В газетном секторе его побаивались. Шлиппенбах вел себя чрезвычайно дерзко. Может быть, сказывалась пылкость, доставшаяся ему в наследство от шведского генерала. А вот уступать и сдаваться Шлиппенбах не любил. Помню, умер старый журналист Матюшин. Кто‐то взялся собирать деньги на похороны. Обратились к Шлиппенбаху. Тот воскликнул: ‐Я и за живого Матюшина рубля не дал бы. А за мертвого и пятака не дам. Пускай КГБ хоронит своих осведомителей... При этом Шлиппенбах без конца занимал деньги у сослуживцев и возвращал их неохотно. Список кредиторов растянулся в его журналистском блокноте на два листа. Когда ему напоминали о долге, Шлиппенбах угрожающе восклицал: — Будешь надоедать — вычеркну тебя из списка!.. Вечером после совещания он раза два звонил мне. Так, без конкретного повода. Вялый тон его говорил о нашей крепнущей близости. Ведь другу можно позвонить и без особой нужды. — Тоска, — жаловался Шлиппенбах, — и выпить нечего. Лежу тут на диване в одиночестве, с женой... Кончая разговор, он мне напомнил: — Завтра асе обсудим. Утро мы провели в газетном секторе. Я вычитывал сверку, Шлиппенбах готовил очередной номер. То и дело он нервно выкрикивал: — Куда девались ножницы?! Кто взял мою линейку?! Как пишется "Южно‐Африканская республика" — вместе или через дефис?!.. Затем мы пошли обедать. В шестидесятые годы буфет Дома прессы относился к распределителям начального звена. В нем продавались говяжьи сосиски, консервы, икра, мармелад, языки, дефицитная рыба. Теоретически, буфет обслуживал сотрудников Дома прессы. В том числе — журналистов из многотиражек. Практически же там могли оказаться и люди с улицы. Например, внештатные авторы. То есть, постепенно распредели тель становился все менее закрытым. А значит, де фицитных продуктов там оставалось все меньше. На конец, из былого великолепия уцелело лишь жигу левское пиво. Буфет занимал всю северную часть шестого эта жа. Окна выходили на Фонтанку. В трех залах могло одновременно разместиться больше ста человек. Шлиппенбах затащил меня в нишу. Столик был рассчитан на двоих. Разговор нам, видно, предстоял сугубо конфиденциальный. Мы заказали пиво и бутерброды. Шлиппенбах, слегка понизив голос, начал: — Я обратился к вам, потому что ценю интел лигентных людей. Я сам интеллигентный человек. Нас мало. Откровенно говоря, нас должно быть еще меньше. Аристократы вымирают, как доисторические животные. Однако, ближе к делу. Я решил снять любительский фильм. Хватит отдавать свои лучшие годы пошлой журналистике. Хочется настоящей творческой работы. В общем, завтра я приступаю к съемкам. Фильм будет минут на десять. Задуман он как сатирический памфлет. Сюжет таков. В Ленин граде появляется таинственный незнакомец. В кем легко узнать царя Петра. Того самого, который двести шестьдесят лет назад основал Петербург. Теперь великого государя окружает пошлая советская действительность. Милиционер грозит ему штрафом. Двое алкашей предлагают скинуться на троих. Фарцовщики хотят купить у царя ботинки. Чувихи принимают его за богатого иностранца. Сотрудники КГБ ‐ за шпиона. И так далее. Короче, всюду пьянство и бардак. Царь в ужасе кричит ‐ что я наделал?! За чем основал этот блядский город?! Шлиппенбах захохотал так, что разлетелись бу мажные салфетки. Потом добавил: — Фильм будет, мягко говоря, аполитичный. Де монстрировать его придется на частных квартирах. Надеюсь, его посмотрят западные журналисты, что гарантирует международный резонанс. Последствия могут быть самыми неожиданными. Так что поду майте и взвесьте. Вы согласны? — Вы же сказали — подумать. — Сколько можно думать? Соглашайтесь. — А где вы достанете оборудование? — Об этом можете не беспокоиться. Я же работаю на Ленфильме. У меня там все — друзья, начиная с Герберта Раппопорта и кончая последним осветителем. Техника в моем распоряжении. Камерой я владею с детских лет. Короче, думайте и решайте. Вы мне подходите. Ведь я могу доверить эту роль только своему единомышленнику. Завтра мы поедем на студию. Подберем соответствующий реквизит. Посоветуемся с гримером. И начнем. Я сказал: — Надо подумать. — Я вам позвоню. Мы расплатились и пошли в газетный сектор. Актерских способностей у меня, действительно, не было. Хотя мои родители принадлежали к театральной среде. Отец был режиссером, мать — актрисой. Правда, глубокого следа в истории театра мои родители не оставили. Может быть, это даже хорошо... Что касается меня, то я выступал на сцене дважды. Первый раз — еще в школе. Помню, мы инсценировали рассказ "Чук и Гек". Мне, как самому высокому, досталась роль отца‐полярника. Я должен был выехать из тундры на лыжах, а затем произнести финальный монолог. Тундру изображал за кулисами двоечник Прокопович. Он бешено каркал, выл и ревел по‐медвежьи. Я появился на сцене, шаркая ботинками и взмахивая руками. Так я изображал лыжника. Это была моя режиссерская находка. Дань театральной условности. К сожалению, зрители не оценили моего формализма. Слушая вой Прокоповича и наблюдая мои таинственные движения, они решили, что я — хулиган. Хулиганья среди послевоенных школьников было достаточно. Девочки стали возмущаться, мальчишки захлопали. Директор школы выбежал на сцену и утащил меня за кулисы. В результате, финальный монолог произнесла учительница литературы. Второй раз мне довелось быть актером года четыре назад. Я служил тогда в республиканской партийной газете и был назначен Дедом‐ Морозом. Мне обещали за это три дня выходных и пятнадцать рублей. Редакция устраивала новогоднюю елку для подшефного интерната. И опять я был самым высоким. Мне наклеили бороду, выдали шапку, тулуп и корзину с подарками. А затем выпустили на сцену. Тулуп был узок. От шапки пахло рыбой. Бороду я чуть не сжег, пытаясь закурить. Я дождался тишины и сказал: — Здравствуйте, дорогие ребята! Вы меня узнаете? — Ленин! Ленин! — крикнули из первых рядов. Тут я засмеялся, и у меня отклеилась борода... И вот теперь Шлиппенбах предложил мне главную роль. Конечно, я мог бы отказаться. Но почему‐то согласился. Вечно я откликаюсь на самые дикие пред ложения. Недаром моя жена говорит: — Тебя интересует все, кроме супружеских обязанностей. Моя жена уверена, что супружеские обязанности это, прежде всего, трезвость. Короче, мы поехали на Ленфильм. Шлиппенбах позвонил в бутафорский цех какому‐то Чипе. Нам выписали пропуск. Помещение, в котором мы оказались, было за ставлено шкафами и ящиками. Я почувствовал запах сырости и нафталина. Над головой мигали и потре скивали лампы дневного света. В углу темнело чучело медведя. По длинному столу гуляла кошка. Из‐за ширмы появился Чипа. Это был средних лет мужчина в тельняшке и цилиндре. Он долго смотрел на меня, а затем поинтересовался: — Ты в охране служил? — А что? — Помнишь штрафной изолятор на Ропче? — Ну. — А помнишь, как зэк на ремне удавился? — Что‐то припоминаю. — Так это я был. Два часа откачивали, суки... Чипа угостил нас разведенным спиртом. И вооб ще, проявил услужливость. Он сказал: — Держи, гражданин начальник! И выложил на стол целую кучу барахла. Там были высокие черные сапоги, камзол, Накидка, шляпа. Затем Чипа достал откуда‐то перчатки с раструбами. Такие, как у первых российских автолюбителей. — А брюки? — напомнил Шлиппенбах. Чипа вынул из ящика бархатные штаны с позументом. Я в муках натянул их. Застегнуться мне не удалось. — Сойдет, — заверил Чипа, — перетяните шпагатом. Когда мы прощались, он вдруг говорит: — Пока сидел, на волю рвался. А сейчас ‐ поддам, и в лагерь тянет. Какие были люди — Сивый, Мотыль, Паровоз!.. Мы положили барахло в чемодан и спустились на лифте к гримеру. Вернее, к гримерше по имени Людмила Борисовна. Между прочим, я был на Ленфильме впервые. Я думал, что увижу массу интересного — творческую суматоху, знаменитых актеров. Допустим, Чурсина примеряет импортный купальник, а рядом стоит охваченная завистью Тенякова. В действительности Ленфильм напоминал гигантскую канцелярию. По коридорам циркулировали малопривлекательные женщины с бумагами. Отовсюду доносился стук пишущих машинок. Колоритных личностей мы так и не встретили. Я думаю, наиболее колоритным был Чипа с его тельняшкой и цилиндром. Гримерша Людмила Борисовна усадила меня перед зеркалом. Некоторое время постояла у меня за спиной. — Ну как? — поинтересовался Шлиппенбах. — В смысле головы — не очень. Тройка с плюсом. А вот фактура ‐ потрясающая. При этом Людмила Борисовна трогала мою губу, оттягивала нос, касалась уха. Затем она надела мне черный парик. Подклеила усы. Легким движением карандаша округлила щеки. — Невероятно! — восхищался Шлиппенбах. ‐Типичный царь! Арап Петра Великого... Потом я нарядился, и мы заказали такси. По студии я шел в костюме государя императора. Встречные оглядывались, но редко. Шлиппенбах заглянул еще к одному приятелю. Тот выдал нам два черных ящика с аппаратурой. На этот раз — за деньги. — Сколько? — поинтересовался Шлиппенбах. — Четыре двенадцать, — был ответ. — А мне говорили, что ты перешел на сухое вино. — Ты и поверил?.. В такси Шлиппенбах объяснил мне: — Сценарий можно не читать. Все будет построено на импровизации, как у Антониони. Царь Петр оказывается в современном Ленинграде. Все ему здесь отвратительно и чуждо. Он заходит в продук товый магазин. Кричит: где стерлядь, мед, анисовая водка? Кто разорил державу, басурмане?!.. И так да лее. Сейчас мы едем на Васильевский остров. Про стите, мы на вы? — На ты, естественно. — Едем на Васильевский остров. Там ждет нас Букина с машиной. — Кто это — Букина? — Экспедитор с Ленфильма. У нее казенный микроавтобус. Сказала, будет после работы. Интеллигент нейшая женщина. Вместе сценарий писали. На квартире у приятеля... Короче, едем на Васильевский. Снимаем первые кадры. Царь движется от Стрелки к Невскому проспекту. Он в недоумении. То и дело замедляет шаги, оглядывается по сторонам. Ты понял?.. Бойся автомо билей. Рассматривай вывески. В страхе обходи телефонные будки. Если тебя случайно заденут — выхва тывай шпагу. Подходи ко всему этому делу творчески... Шпага лежала у меня на коленях. Клинок был отпилен. Обнажать его я мог сантиметра на три. Шлиппенбах возбужденно жестикулировал. Зато водитель оставался совершенно невозмутимым. И только в конце он дружелюбно поинтересовался: — Мужик, ты из какого зоопарка убежал? — Потрясающе! — закричал Шлиппенбах. ‐ Го товый кадр!.. Мы вылезли с ящиками из такси. У противополож ного тротуара стоял микроавтобус. Рядом прогуливалась барышня в джинсах. Мой вид ее не заинтересовал. — Галина, ты прелесть, — сказал Шлиппенбах. ‐ Через десять минут начинаем. — Горе ты мое, — откликнулась барышня. Затем они минут двадцать возились с аппаратурой. Я прогуливался вдоль здания бывшей кунсткамеры. Прохожие разглядывали меня с любопытством. С Невы дул холодный ветер. Солнце то и дело пряталось за облаками. Наконец Шлиппенбах сказал — готово. Галина налила себе из термоса кофе. Крышка термоса при этом отвратительно скрипела. — Иди вон туда, — сказал Шлиппенбах, ‐ за угол. Когда я махну рукой, двигайся вдоль стены. Я перешел через дорогу и стал за углом. К этому времени мои сапоги окончательно промокли. Шлиппенбах все медлил. Я заметил, что Галина протягивает ему стакан. А я, значит, прогуливаюсь в мокрых сапогах. Наконец, Шлиппенбах махнул рукой. Камеру он держал наподобие алебарды. Затем поднес ее к лицу. Я потушил сигарету, вышел из‐за угла, направился к мосту. Оказалось, что когда тебя снимают, идти неловко. Я делал усилия, чтобы не спотыкаться. Когда налетал ветер, я придерживал шляпу. Вдруг Шлиппенбах начал что‐то кричать. Я не расслышал из‐за ветра, остановился, перешел через дорогу. — Ты чего? — спросил Шлиппенбах. — Я не расслышал. — Чего ты не расслышал? — Вы что‐то кричали. — Не вы, а ты. — Что ты мне кричал? — Я кричал — гениально! Больше ничего. Давай, иди снова. — Хотите кофе? — наконец‐то спросила Галина. — Не сейчас, — остановил ее Шлиппенбах, ‐после третьего дубля. Я снова вышел из‐за угла. Снова направился к мосту. И снова Шлиппенбах мне что‐то крикнул. Я не обратил внимания. Так и дошел до самого парапета. Наконец, оглянулся. Шлиппенбах и его подруга сидели в машине. Я поспешил назад. — Единственное замечание, — сказал Шлиппенбах, ‐ побольше экспрессии. Ты должен всему удивляться. С недоумением разглядывать плакаты и вывески. — Там нет плакатов. — Не важно. Я это все потом смонтирую. Главное — удивляйся. Метра три пройдешь — всплесни руками... В итоге Шлиппенбах гонял меня раз семь. Я страшно утомился. Штаны под камзолом спадали. Курить в перчатках было неудобно. Но вот мучения кончились. Галина протянула мне термос. Затем мы поехали на Таврическую. — Там есть пивной ларек, — сказал Шлиппенбах, ‐ даже, кажется, не один. Вокруг толпятся алкаши. Это будет потрясающе. Монарх среди подонков... Я знал это место. Два пивных ларька, а между ними рюмочная. Неподалеку от театрального института. Действительно, пьяных сколько угодно. Автобус мы загнали в подворотню. Там же были сделаны все приготовления. После этого Шлиппенбах горячо зашептал: — Мизансцена простая. Ты приближаешься к ларьку. С негодованием разглядываешь всю эту пуб лику. Затем произносишь речь. — Что я должен сказать? — Говори, что попало. Слова не имеют значения. Главное — мимика, жесты... — Меня примут за идиота. — Вот и хорошо. Произноси, что угодно. Узнай насчет цены. — Тем более, меня примут за идиота. Кто же цен не знает? Да еще на пиво. — Тогда спроси их — кто последний? Лишь бы губы шевелились, а уж я потом смонтирую. Текст будет позже записан на магнитофонную ленту. Короче, действуй. — Выпейте для храбрости, — сказала Галина. Она достала бутылку водки. Налила мне в стакан из‐под кофе. Храбрости у меня не прибавилось. Однако я вылез из машины. Надо было идти. Пивной ларек, выкрашенный зеленой краской, сто ял на углу Белинского и Моховой. Очередь тянулась вдоль газона до самого здания райпищеторга. Возле прилавка люди теснились один к другому. Далее толпа постепенно редела. В конце она распадалась на десяток хмурых замкнутых фигур. Мужчины были в серых пиджаках и телогрейках. Они держались строго и равнодушно, как у посто ронней могилы. Некоторые захватили бидоны и чайники. Женщин в толпе было немного, пять или шесть. Они вели себя более шумно и нетерпеливо. Одна из них выкрикивала что‐то загадочное: — Пропустите из уважения к старухе‐матери!.. Достигнув цели, люди отходили в сторону, предвкушая блаженство. На газон летела серая пена. Каждый нес в себе маленький, личный пожар. Потушив его, люди оживали, закуривали, искали случая начать беседу. Те, что еще стояли в очереди, интересовались: — Пиво нормальное? В ответ звучало: — Вроде бы нормальное... Сколько же, думаю, таких ларьков по всей России? Сколько людей ежедневно умирает и рождается заново? Приближаясь к толпе, я испытывал страх. Ради чего я на все это согласился? Что скажу этим людям — измученным, хмурым, полубезумным? Кому нужен весь этот глупый маскарад?!.. Я присоединился к хвосту очереди. Двое или трое мужчин посмотрели на меня без всякого любопытства. Остальные меня просто не заметили. Передо мной стоял человек кавказского типа в железнодорожной гимнастерке. Левее — оборванец в парусиновых тапках с развязанными шнурками. В двух шагах от меня, ломая спички, прикуривал интеллигент. Тощий портфель он заткал между коленями. Положение становилось все более нелепым. Все молчат, не удивляются. Вопросов мне не задают. Какие могут быть вопросы? У всех единственная проблема — опохмелиться. Ну что я им скажу? Спрошу их — кто последний? Да я и есть последний. Кстати, денег у меня не было. Деньги остались в нормальных человеческих штанах. Смотрю — Шлиппенбах из подворотни машет кулаками, отдает распоряжения. Видно, хочет, чтобы я действовал сообразно замыслу. То есть, надеется, что меня ударят кружкой по голове. Стою. Тихонько двигаюсь к прилавку. Слышу — железнодорожник кому‐то объясняет: — Я стою за лысым. Царь за мной. А ты уж будешь за царем... Интеллигент ко мне обращается: — Простите, вы знаете Шердакова? — Шердакова? — Вы Долматов? — Приблизительно. — Очень рад. Я же вам рубль остался должен. Помните, мы от Шердакова расходились в День космонавта? И я у вас рубль попросил на такси. Держите. Карманов у меня не было. Я сунул мятый рубль в перчатку. Шердакова я действительно знал. Специалист по марксистско‐ ленинской эстетике, доцент театрального института. Частый посетитель здешней рюмочной... — Кланяйтесь, — говорю, — ему при встрече. Тут приближается к нам Шлиппенбах. За ним, вздыхая, движется Галина. К этому времени я был почти у цели. Людская масса уплотнилась. Я был стиснут между оборванцем и железнодорожником. Конец моей шпаги упирался в бедро интеллигента. Шлиппенбах кричит: — Не вижу мизансцены! Где конфликт?! Ты дол жен вызывать антагонизм народных масс! Очередь насторожилась. Энергичный человек с кинокамерой внушал народу раздражение и беспо койство. — Извиняюсь, — обратился к Шлиппенбаху же лезнодорожник, — вас здесь не стояло! — Нахожусь при исполнении служебных обязан ностей, — четко реагировал Шлиппенбах. — Все при исполнении, — донеслось из толпы. Недовольство росло. Голоса делались все более агрессивными: — Ходят тут всякие сатирики, блядь, юмористы... — Сфотографируют тебя, а потом — на доску... В смысле — "Они мешают нам жить..." — Люди, можно сказать, культурно похмеляются, а он нам тюльку гонит... — Такому бармалею место у параши... Энергия толпы рвалась наружу. Но и Шлиппепбах вдруг рассердился: — Пропили Россию, гады! Совесть потеряли окончательно! Водярой залили глаза, с утра пораньше!.. — Юрка, кончай! Юрка, не будь идиотом, по шли! — уговаривала Шлиппенбаха Галина. Но тот упирался. И как раз подошла моя очередь. Я достал мятый рубль из перчатки. Спрашиваю: — Сколько брать? Шлиппенбах вдруг сразу успокоился и говорит: — Мне большую с подогревом. Галке ‐ маленькую. Галина добавила: — Я пива не употребляю. Но выпью с удовольствием... Логики в ее словах было маловато. Кто‐то начал роптать. Оборванец пояснил недовольным: — Царь стоял, я видел. А этот пидор с фонарем ‐его дружок. Так что, все законно! Алкаши с минуту поворчали и затихли. Шлиппенбах переложил камеру в левую руку. Поднял кружку: — Выпьем за успех нашей будущей картины! Истинный талант когда‐ нибудь пробьет себе дорогу. — Чучело ты мое, — сказала Галя... Когда мы задом выезжали из подворотни, Шлиппенбах говорил: — Ну и публика! Вот так народ! Я даже испугался. Это было что‐то вроде... — Полтавской битвы, — закончил я. Переодеваться в автобусе было неудобно. Меня отвезли домой в костюме государя императора. На следующий день я повстречал Шлиппенбаха возле гонорарной кассы. Он сообщил мне, что хочет заняться правозащитной деятельностью. Таким образом, съемки любительского фильма прекратились. Театральный костюм потом валялся у меня два года. Шпагу присвоил соседский мальчишка. Шляпой мы натирали полы. Камзол носила вместо демисезонного пальто экстравагантная женщина Регина Бриттерман. Из бархатных штанов моя жена соорудила юбку. Шоферские перчатки я захватил в эмиграцию. Я был уверен, что первым делом куплю машину. Да так и не купил. Не захотел. Должен же я чем‐то выделяться на общем фоне! Пускай весь Форест‐ Хиллс знает "того самого Довлатова, у которого нет автомобиля"! Борис Акунин – псевдоним, настоящее имя ‐ Григорий Шалвович Чхартишвили 1956, Россия Будущий российский писатель, эссеист, литературный переводчик, критик, беллетрист Григорий Шалвович Чхартишвили родился 20 мая 1956 года в Грузии. С 1958 года живет в Москве. Учился в школах № 23 и 36. Под впечатлением от японского театра Кабуки поступил на историко‐филологическое отделение Института стран Азии и Африки МГУ и стал японоведом. Работал заместителем главного редактора журнала «Иностранная литература», однако в начале октября 2000 года ушел оттуда, чтобы заниматься исключительно беллетристикой. Главный редактор 20‐томной «Антологии японской литературы», председатель правления мегапроекта «Пушкинская библиотека» (Фонд Сороса). Автор книги «Писатель и самоубийство» (М.: Новое литературное обозрение, 1999), литературно‐критических статей, переводов японской, американской и английской литературы (Юкио Мисима, Кэндзи Маруяма, Ясуси Иноуэ, Корагессан Бойл, Кобо Абэ, Такако Такахаси, Малкольм Брэдбери, Питер Устинов и др.) и беллетристических произведений, написанных под псевдонимом Борис Акунин (романы и повести серий «Приключения Эраста Фандорина», «Приключения сестры Пелагии» и «Приключения магистра»)». Составитель сборника наиболее ярких произведений современных западных беллетристов «Лекарство от скуки». В 2000 году Б. Акунин был выдвинут на соискание премии «Smirnoff‐Букер 2000» за «Коронацию», однако в число финалистов не вошел. В сентябре 2000 года на Московской книжной ярмарке был назван российским писателем года. Лауреат премии «Антибукер» за 2000 год за роман «Коронация». Азазель В понедельник 13 мая 1876 года в третьем часу пополудни, в день по весеннему свежий и по летнему теплый, в Александровском саду, на глазах у многочисленных свидетелей, случилось безобразное, ни в какие рамки не укладывающееся происшествие. По аллеям, среди цветущих кустов сирени и пылающих алыми тюльпанами клумб прогуливалась нарядная публика – дамы под кружевными (чтоб избежать веснушек) зонтиками, бонны с детьми в матросских костюмчиках, скучающего вида молодые люди в модных шевиотовых сюртуках либо в коротких на английский манер пиджаках. Ничто не предвещало неприятностей, в воздухе, наполненном ароматами зрелой, уверенной весны, разливались ленивое довольство и отрадная скука. Солнце припекало не на шутку, и скамейки, что оказались в тени, все были заняты. На одной из них, расположенной неподалеку от Грота и обращенной к решетке, за которой начиналась Неглинная улица и виднелась желтая стена Манежа, сидели две дамы. Одна, совсем юная (пожалуй, что и не дама вовсе, а барышня) читала книжку в сафьяновом переплете, то и дело с рассеянным любопытством поглядывая по сторонам. Вторая, гораздо старше, в добротном темно синем шерстяном платье и практичных ботиках на шнуровке, сосредоточенно вязала нечто ядовито розовое, мерно перебирая спицами. При этом она успевала вертеть головой то вправо, то влево, и ее быстрый взгляд был до того цепким, что, верно, от него никак не могло ускользнуть что нибудь хоть сколько то примечательное. На молодого человека в узких клетчатых панталонах, сюртуке, небрежно расстегнутом над белым жилетом, и круглой швейцарской шляпе дама обратила внимание сразу – уж больно странно шел он по аллее: то остановится, высматривая кого то среди гуляющих, то порывисто сделает несколько шагов, то снова застынет. Внезапно неуравновешенный субъект взглянул на наших дам и, словно приняв некое решение, направился к ним широкими шагами. Остановился перед скамейкой и, обращаясь к юной барышне, воскликнул шутовским фальцетом: – Сударыня! Говорил ли вам кто нибудь прежде, что вы невыносимо прекрасны? Барышня, которая и в самом деле была чудо как хороша, уставилась на наглеца, чуть приоткрыв от испуга земляничные губки. Даже ее зрелая спутница, и та опешила от столь неслыханной развязности. – Я сражен с первого взгляда! – фиглярствовал неизвестный, вполне, впрочем, презентабельной наружности молодой человек (модно подстриженные виски, высокий бледный лоб, возбужденно горящие карие глаза). – Позвольте же запечатлеть на вашем невинном челе еще более невинный, совершенно братский поцелуй! – Зударь, да вы зовсем пьяный! – опомнилась дама с вязанием, причем оказалось, что говорит она с характерным немецким акцентом. – Я пьян исключительно от любви, – уверил ее наглец и тем же неестественным, с подвыванием голосом потребовал. – Один единственный поцелуй, иначе я немедленно наложу на себя руки! Барышня вжалась в спинку скамейки, обернув личико к своей защитнице. Та же, невзирая на всю тревожность ситуации, проявила полное присутствие духа: – Немедленно убирайтесь фон! Вы зумасшедший! – повысила она голос и выставила вперед вязанье с воинственно торчащими спицами. – Я зову городовой! И тут случилось нечто уж совершенно дикое. – Ах так! Меня отвергают! – с фальшивым отчаянием возопил молодой человек, картинно прикрыл рукою глаза и внезапно извлек из внутреннего кармана маленький, посверкивающий черной сталью револьвер. – Так стоит ли после этого жить? Одно ваше слово, и я живу! Одно ваше слово, и я падаю мертвым! – воззвал он к барышне, которая и сама сидела ни жива, ни мертва. – Вы молчите? Так прощайте же! Вид размахивающего оружием господина не мог не привлечь внимания гуляющих. Несколько человек из числа тех, что оказались неподалеку, – полная дама с веером в руке, важный господин с анненским крестом на шее, две институтки в одинаковых коричневых платьицах с пелеринами – замерли на месте, и даже по ту сторону ограды, уже на тротуаре, остановился какой то студент. Одним словом, можно было надеяться, что безобразной сцене будет немедленно положен конец. Но дальнейшее произошло так быстро, что вмешаться никто не успел. – Наудачу! – крикнул пьяный (а может, и сумасшедший), зачем то поднял руку с револьвером высоко над головой, крутанул барабан и приложил дуло к виску. – Клоун! Пшют гороховый! – прошипела храбрая немка, обнаруживая неплохое знание разговорной русской речи. Лицо молодого человека, и без того бледное, стало сереть и зеленеть, он прикусил нижнюю губу и зажмурился. Барышня на всякий случай тоже закрыла глаза. И правильно сделала – это избавило ее от кошмарного зрелища: в миг, когда грянул выстрел, голова самоубийцы резко дернулась в сторону, и из сквозного отверстия, чуть повыше левого уха, выметнулся красно белый фонтанчик. Началось нечто неописуемое. Немка возмущенно поозиралась, словно призывая всех в свидетели такого неслыханного безобразия, а потом истошно заверещала, присоединив свой голос к визгу институток и полной дамы, которые издавали пронзительные крики уже в течение нескольких секунд. Барышня лежала без чувств – на мгновение приоткрыла таки глаза и немедленно обмякла. Отовсюду сбегались люди, а студент, стоявший у решетки, чувствительная натура, наоборот бросился прочь, через мостовую, в сторону Моховой. * * * Ксаверий Феофилактович Грушин, следственный пристав Сыскного управления при московском обер полицеймейстере, облегченно вздохнул и отложил влево, в стопку «просмотрено», сводку важных преступлений за вчерашний день. Ни в одной из двадцати четырех полицейских частей шестисоттысячного города за минувшие сутки, то есть мая месяца 13 дня, не стряслось ничего примечательного, что потребовало бы вмешательства Сыскного. Одно убийство вследствие пьяной драки между мастеровыми (убийца задержан на месте), два ограбления извозчиков (этим пускай участки занимаются), пропажа семи тысяч восьмисот пятидесяти трех рублей сорока семи копеек из кассы Русско Азиатского банка (это и вовсе по части Антона Семеновича из отдела коммерческих злоупотреблений). Слава Богу, перестали слать в управление всякую мелочь про карманные кражи, повесившихся горничных да подброшенных младенцев – для того теперь есть «Полицейская сводка городских происшествий», которую рассылают по отделам во второй половине дня. Ксаверий Феофилактович уютно зевнул и взглянул поверх черепахового пенсне на письмоводителя, чиновника 14 класса Эраста Петровича Фандорина, в третий раз переписывавшего недельный отчет для господина обер полицеймейстера. Ничего, подумал Грушин, пусть с младых ногтей приучается к аккуратности, сам потом спасибо скажет. Ишь, моду взяли – стальным пером калякать, и это высокому то начальству. Нет, голубчик, ты уж не спеша, по старинке, гусиным перышком, со всеми росчерками и крендельками. Его превосходительство сами при императоре Николае Павловиче взрастали, порядок и чинопочитание понимают. Ксаверий Феофилактович искренне желал мальчишке добра, по отечески жалел его. И то сказать, жестоко обошлась судьба с новоиспеченным письмоводителем. Девятнадцати лет от роду остался круглым сиротой – матери сызмальства не знал, а отец, горячая голова, пустил состояние на пустые прожекты, да и приказал долго жить. В железнодорожную лихорадку разбогател, в банковскую лихорадку разорился. Как начали в прошлый год коммерческие банки лопаться один за другим, так многие достойные люди по миру пошли. Надежнейшие процентные бумаги превратились в мусор, в ничто. Вот и господин Фандорин, отставной поручик, в одночасье преставившийся от удара, ничего кроме векселей единственному сыну не оставил. Мальчику бы гимназию закончить, да в университет, а вместо этого – изволь из родных стен на улицу, зарабатывай кусок хлеба. Ксаверий Феофилактович жалеюще крякнул. Экзамен то на коллежского регистратора сирота сдал, дело для такого воспитанного юноши нехитрое, да зачем его в полицию занесло? Служил бы себе по статистике или хоть по судебной части. Все романтика в голове, все таинственных Кардудалей ловить мечтаем. А у нас, голубчик, Кардудалей не водится (Ксаверий Феофилактович неодобрительно покачал головой), у нас все больше штаны просиживать да протоколы писать про то, как мещанин Голопузов спьяну законную супругу и троих малых деток топором уходил. Третью неделю служил в Сыскном юный господин Фандорин, а уж твердо знал Ксаверий Феофилактович, бывалый сыщик, тертый калач, что не будет из мальчишки проку. Больно нежен, больно тонкого воспитания. Взял его раз, в первую же неделю Грушин на место преступления (это когда купчиху Крупнову зарезали), так Фандорин взглянул на убиенную, позеленел весь и по стеночке, по стеночке во двор. Видок у купчихи, и вправду был неаппетитный – горло от уха до уха раздрызгано, язык вывалился, глаза выпучены, ну и кровищи, само собой, море разливанное. В общем, пришлось Ксаверию Феофилактовичу самому и дознание проводить, и протокол писать. Дело, по правде сказать, вышло нехитрое. У дворника Кузыкина так глазки бегали, что Ксаверий Феофилактович сразу велел городовому брать его за шиворот и в кутузку. Две недели сидит Кузыкин, отпирается, но это ничего, повинится, больше то резать купчиху было некому – здесь у пристава за тридцать лет службы нюх выработался верный. Ну а Фандорин и в канцелярии сгодится. Исполнителен, пишет грамотно, языки знает, смышленый, да и в обращении приятный, не то что горький пьяница Трофимов, в прошлом месяце переведенный из письмоводителей в младшие помощники околоточного на Хитровку. Пускай там спивается, да начальству грубит. Грушин сердито забарабанил пальцами по обитому скучным казенным сукном столу, достал из жилетного кармашка часы (ох, до обеда еще долгонько) и решительно придвинул к себе свежий номер «Московских ведомостей». – Ну с, чем нас удивят нынче, – промолвил он вслух, и юный письмоводитель с готовностью отложил постылое гусиное перо, зная, что начальник сейчас станет зачитывать заголовки и всякую всячину, сопровождая чтение своими комментариями – была у Ксаверия Феофилактовича такая привычка. – Поглядите только, Эраст Петрович, на первой же странице, на самом видном месте! «Новейший американский корсет „Лорд Байрон“ из прочнейшего китового уса для мужчин, желающих быть стройными. Талия в дюйм, плечи в сажень!» – А буквы то, буквы – аршинные. И ниже, меленько так, «Государь отбывает в Эмс». – Конечно, подумаешь – государь, велика ли фигура, то ли дело «Лорд Байрон»! Ворчание добрейшего Ксаверия Феофилактовича произвело на письмоводителя удивительное действие. Он отчего то смешался, щеки залились краской, а длинные девичьи ресницы виновато дрогнули. Раз уж речь зашла о ресницах, уместно будет описать внешность Эраста Петровича поподробнее, ибо ему суждено сыграть ключевую роль в поразительных и страшных событиях, которые вскоре воспоследовали. Это был весьма миловидный юноша, с черными волосами (которыми он втайне гордился) и голубыми (увы, лучше бы тоже черными) глазами, довольно высокого роста, с белой кожей и проклятым, неистребимым румянцем на щеках. Откроем уж заодно и причину, по которой так смутился коллежский регистратор. Дело в том, что позавчера он потратил треть своего первого месячного жалования на столь завидно расписываемый корсет, ходил в «Лорде Байроне» второй день, терпя изрядные муки во имя красоты, и теперь заподозрил (абсолютно безосновательно), что проницательный Ксаверий Феофилактович разгадал происхождение богатырской осанки своего подчиненного и желает над ним посмеяться. А пристав уже читал дальше: – «Зверства турецких башибузуков в Болгарии». Ну, это не для предобеденного чтения… «Взрыв на Лиговке. Наш С. – Петербургский корреспондент сообщает, что вчера в 6.30 утра, на Знаменской улице в доходном доме коммерции советника Вартанова прогремел взрыв, разнесший вдребезги квартиру на 4 этаже. Прибывшая на место полиция обнаружила изуродованные до неузнаваемости останки молодого мужчины. Квартиру снимал некий г н П., приват доцент, труп которого, по всей видимости, и обнаружен. Судя по облику жилища там было устроено нечто вроде тайной химической лаборатории. Руководящий расследованием статский советник Бриллинг предполагает, что на квартире изготовлялись адские машины для террористической организации нигилистов. Расследование продолжается». – М да, слава Всевышнему, что у нас не Питер. Юный Фандорин, судя по блеску глаз, был на сей счет иного мнения. Весь его вид красноречиво говорил: вот, мол, в столице люди делом занимаются, бомбистов разыскивают, а не переписывают по десять раз бумажки, в которых, правду сказать, и интересного то ничего нет. – Тэк с, – зашелестел газетой Ксаверий Феофилактович, – посмотрим, что у нас на городской странице. «Первый московский эстернат. Известная английская благотворительница баронесса Эстер, радением которой в разных странах устроены так называмые „эстернаты“, образцовые приюты для мальчиков сирот, объявила нашему корреспонденту, что и в златоглавой, наконец то, открылись двери первого заведения подобного рода. Леди Эстер, с прошлого года начавшая свою деятельность в России и уже успевшая открыть эстернат в Петербурге, решила облагодетельствовать и московских сироток…» – М м м… «Сердечная благодарность всех москвичей… Где же наши Оуэны и Эстеры?»… – Ладно, Бог с ними, с сиротками. Что у нас тут? «Циничная выходка». – Хм, любопытно. «Вчера в Александровском саду произошло печальное происшествие совершенно в духе циничных нравов современной молодежи. На глазах у гуляющих застрелился г н N., статный молодец 23 х лет, студент М ского университета, единственный наследник миллионного состояния.» – Ого! «Перед тем как совершить этот безрассудный поступок, N., по свидетельству очевидцев, куражился перед публикой, размахивая револьвером. Поначалу очевидцы сочли его поведение пьяной бравадой, однако N. не шутил и, прострелив себе голову, скончался на месте. В кармане самоубийцы нашли записку возмутительно атеистического содержания, из которой явствует, что поступок N. не был минутным порывом или следствием белой горячки. Итак, модная эпидемия беспричинных самоубийств, бывшая до сих пор бичом Петрополя, докатилась и до стен матушки Москвы. О времена, о нравы! До какой же степени неверия и нигилизма дошла наша золотая молодежь, чтобы даже из собственной смерти устраивать буффонаду? Если таково отношение наших Брутов к собственной жизни, то стоит ли удивляться, что они ни в грош не ставят и жизнь других, куда более достойных людей? Как кстати тут слова почтеннейшего Федора Михайловича Достоевского из только что вышедшей майской книжки „Дневника писателя“: „Милые, добрые, честные (все это есть у вас!), куда же это вы уходите, отчего вам так мила стала эта темная, глухая могила? Смотрите, на небе яркое весеннее солнце, распустились деревья, а вы устали не живши.» Ксаверий Феофилактович растроганно хлюпнул носом и строго покосился на своего юного помощника – не заметил ли, после чего продолжил значительно суше. – Ну и так далее, и так далее. А времена тут, право, не при чем. Эка невидаль. У нас на Руси про этаких то издавна говорили «с жиру взбесился». Миллионное состояние? Кто бы это был? И ведь, шельмы частные приставы, про всякую дребедень доносят, а тут и в отчет не включили. Жди теперь сводку городских происшествий! Хотя что же, тут случай очевидный, застрелился на глазах у свидетелей… А все же любопытно. Александровский сад – это у нас будет Городская часть, второй участок. Вот что, Эраст Петрович, не в службу, а в дружбу, слетайте ка к ним на Моховую. Мол, в порядке надзора и все такое. Разузнайте, кто таков этот N. И главное, голубчик, прощальную записку непременно спишите, я вечерком своей Евдокии Андреевне покажу, она любит все такое душещипательное. Да не томите, возвращайтесь поскорей. Последние слова были произнесены уже в спину коллежскому регистратору, который так торопился покинуть свой унылый, обтянутый клеенкой стол, что чуть фуражку не забыл. * * * В участке молоденького чиновника из Сыскного провели к самому приставу, однако тот, увидев, что прислали не Бог весть какую персону, времени на объяснения тратить не стал, а вызвал помощника. – Вот, пожалуйте за Иваном Прокофьевичем, – ласково сказал пристав мальчишке (хоть и мелкая сошка, а все ж из управления). – Он вам все и покажет, и расскажет. Да и на квартиру к покойнику вчера именно он ездил. А Ксаверию Феофилактовичу мое нижайшее. Фандорина усадили за высокую конторку, принесли тощую папку с делом. Эраст Петрович прочел заголовок («ДЕЛО о самоубийстве потомственного почетного гражданина Петра Александрова КОКОРИНА 23 х лет, студента юридического факультета Московского императорского университета. Начато мая месяца 13 числа 1876 года. Окончено … месяца … числа 18.. года») и дрожащими от предвкушения пальцами развязал веревочные тесемки. – Александра Артамоновича Кокорина сынок, – пояснил Иван Прокофьевич, тощий и долговязый служака с мятым, будто корова жевала, лицом. – Богатейший был человек. Заводчик. Три года как преставился. Все сыну отписал. Жил бы себе студент да радовался. И чего людям не хватает? Эраст Петрович кивнул, ибо не знал, что на это сказать, и углубился в чтение свидетельских показаний. Протоколов было изрядно, с десяток, самый подробный составлен со слов дочери действительного тайного советника Елизаветы фон Эверт Колокольцевой 17 лет и ее гувернантки девицы Эммы Пфуль 48 лет, с которыми самоубийца разговаривал непосредственно перед выстрелом. Впрочем, никаких сведений помимо тех, что уже известны читателю, Эраст Петрович из протоколов не почерпнул – все свидетели повторяли более или менее одно и то же, отличаясь друг от друга лишь степенью проницательности: одни говорили, что вид молодого человека сразу пробудил в них тревожное предчувствие («Как заглянула в его безумные глаза, так внутри у меня все и похолодело,» – показала титулярная советница г жа Хохрякова, которая, однако, далее свидетельствовала, что видела молодого человека только со спины); другие же свидетели, наоборот, толковали про гром среди ясного неба. Последней в папке лежала мятая записка на голубой бумаге с монограммой. Эраст Петрович так и впился глазами в неровные (верно, от душевного волнения) строчки. «Господа, живущие после меня! Раз вы читаете это мое письмецо, значит, я вас уже покинул и познал тайну смерти, которая сокрыта от вас за семью печатями. Я свободен, а вам еще жить и мучиться страхами. Однако держу пари, что там, где я сейчас и откуда, как выразился принц Датский, ни один еще доселе путник не вернулся, нет ровным счетом ничего. Кто со мной не согласен – милости прошу проверить. Впрочем, мне до всех вас нет ни малейшего дела, а записку эту я пишу для того, чтобы вам не взбрело в голову, будто я наложил на себя руки из за какой нибудь слезливой ерунды. Тошно мне в вашем мире, и, право, этой причины вполне довольно. А что я не законченная скотина, тому свидетельство кожаный бювар. Петр Кокорин» Непохоже, что от душевного волнения – вот первое, что подумалось Эрасту Петровичу. – Про бювар это в каком смысле? – спросил он. Помощник пристава пожал плечами: – Никакого бювара при нем не было. Да чего вы хотите, не в себе человек. Может, собирался что то такое сделать, да передумал или забыл. По всему видать, взбалмошный был господин. Читали, как он барабан то крутил? Кстати, в барабане из шести гнезд всего в одном пуля была. Я, например, того мнения, что он и не собирался вовсе стреляться, а хотел себе нервы пощекотать – так сказать, для большей остроты жизненных ощущений. Чтоб потом слаще елось и пикантней кутилось. – Всего одна пуля из шести? Надо же, как не повезло, – огорчился за покойника Эраст Петрович, которому все не давал покоя кожаный бювар. – Где он живет? То есть, жил… – Квартира из восьми комнат в новом доме на Остоженке, и прешикарная, – охотно стал делиться впечатлениями Иван Прокофьевич. – От отца унаследовал собственный дом в Замоскворечье, целую усадьбу со службами, однако жить там не пожелал, переехал подальше от купечества. – И что, там кожаного бювара тоже не нашлось? Помощник пристава удивился: – Что ж мы, обыск, по вашему, устроить должны были? Я вам говорю, там такая квартира, что боязно агентов по комнатам пускать – как бы их бес не попутал. Да и к чему? Егор Никифорыч, следователь из окружной прокуратуры, дал камердинеру покойника четверть часа вещички собрать – да под присмотром городового, чтоб не дай Бог не упер чего хозяйского, – и велел мне дверь опечатать. До объявления наследников. – А кто наследники? – полюбопытствовал Эраст Петрович. – Тут закавыка. Камердинер говорит, что ни братьев, ни сестер у Кокорина нет. Есть какие то троюродные, да он их и на порог не пускал. И кому такие деньжищи достанутся? – завистливо вздохнул Иван Прокофьевич. – Ведь это ж представить страшно… А, не наша печаль. Адвокат либо душеприказчики не сегодня завтра объявятся. Еще и суток не прошло. И тело то пока у нас в леднике лежит. Может, завтра Егор Никифорыч дело закроет, тогда и завертится. – И все же это странно, – наморщив лоб, заметил юный письмоводитель. – Если уж человек в предсмертном письме специально про какой то бювар указал, неспроста это. И про «законченную скотину» что то непонятно. А ну как в том бюваре что нибудь важное? Вы как хотите, а я бы непременно в квартире поискал. Сдается мне, что вся записка из за этого бювара написана. Тут какая то тайна, право слово. Эраст Петрович покраснел, боясь, что про тайну у него слишком по мальчишески выскочило, но помощник пристава ничего странного в его соображении не усмотрел. – И то, следовало хоть в кабинете бумаги просмотреть, – признал он. – Егор Никифорыч вечно спешат. Семья у него сам восьмой, так он все норовит с осмотра или дознания побыстрей домой улизнуть. Старый человек, год до пенсии, чего вы хотите… А вот что, господин Фандорин. Не угодно ли съездить самим? Вместе и посмотрим. А печать я потом новую навешу, дело небольшое. Егор Никифорыч не обессудит. Какое там – поблагодарит, что не тормошили лишний раз. Скажу ему, что из Сыскного управления запрос был, а? Эрасту Петровичу показалось, что тощему помощнику пристава просто охота получше рассмотреть «прешикарную» квартиру, да и с «навешиванием» новой печати, кажется, тоже получалось как то не очень, но уж больно велик был соблазн. Тут и в самом деле пахло тайной. * * * Убранство квартиры покойного Петра Кокорина (парадный этаж богатого доходного дома возле Пречистенских ворот) на Фандорина большого впечатления не произвело – во времена папенькиного скороспелого богатства живал и он в хоромах не хуже. Посему в мраморной прихожей с трехаршинным венецианским зеркалом и золоченой лепниной на потолке коллежский регистратор не задержался, а прямехонько прошел в гостиную – широкую, в шесть окон, в наимоднейшем русском стиле: с расписными сундуками, с дубовой резьбой по стенам и нарядной изразцовой печью. – Бонтонно проживать изволили, я же говорил, – почему то шепотом выдохнул в затылок провожатый. Эраст Петрович был сейчас удивительно похож на годовалого сеттера, впервые выпущенного в лес и ошалевшего от остро манящего запаха близкой дичи. Повертев головой вправо влево, он безошибочно определил: – Вон та дверь – кабинет? – Точно так с. – Идемте же! Кожаный бювар долго искать не пришлось – он лежал посреди массивного письменного стола, между малахитовым чернильным прибором и перламутровой раковиной пепельницей. Но прежде чем нетерпеливые руки Фандорина коснулись коричневой скрипучей кожи, взгляд его упал на фотопортрет в серебряной рамке, стоявший здесь же, на столе, на самом видном месте. Лицо на портрете было настолько примечательным, что Эраст Петрович и о бюваре забыл: вполоборота смотрела на него пышноволосая Клеопатра с огромными матово черными глазами, гордым изгибом высокой шеи и чуть прорисованной жесточинкой в своенравной линии рта. Более же всего заворожило коллежского регистратора выражение спокойной и уверенной властности, такое неожиданное на девичьем лице (почему то захотелось Фандорину, чтоб это непременно была не дама, а девица). – Хороша с, – присвистнул оказавшийся рядом Иван Прокофьевич. – Кто же это такая? Позвольте ка… И он без малейшего трепета, кощунственной рукой извлек волшебный лик из рамки и перевернул карточку обратной стороной. Там косым, размашистым почерком было написано: Петру К. «И Петр вышед вон и плакася горько». Полюбив, не отрекайтесь! А.Б. – Это она его с Петром апостолом равняет, а себя, стало быть, с Иисусом? Однако амбиции! – фыркнул помощник пристава. – Уж не из за этой ли особы и руки на себя студент наш наложил, а? Ага, вот и бюварчик, не зря ехали. Раскрыв кожаную обложку, Иван Прокофьевич извлек один единственный листок, написанный на уже знакомой Эрасту Петровичу голубой бумаге, однако на сей раз с нотариальной печатью и несколькими подписями внизу. – Отлично, – удовлетворенно кивнул полицейский. – Отыскалась и духовная. Нуте с, любопытно. Документ он пробежал глазами в минуту, но Эрасту Петровичу эта минута с вечность показалась, а заглядывать через плечо он полагал ниже своего достоинства. – Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Хорош подарочек троюродным! – воскликнул Иван Прокофьевич с непонятным злорадством. – Ай да Кокорин, всем нос утер. Это по нашему, по русски! Только уж непатриотично как то. Вот и про «скотину» разъясняется. Потеряв от нетерпения всякое представление о приличиях и чинопочитании, Эраст Петрович выхватил у старшего по званию листок и прочел следующее: Духовная Я, нижеподписавшийся Петр Александрович Кокорин, будучи в полном уме и совершенной памяти, при нижеследующих свидетелях объявляю мое завещание по поводу принадлежащего мне имущества. Все мое реализуемое имущество, полный перечень коего имеется у моего поверенного Семена Ефимовича Берензона, я завещаю г же баронессе Маргарете Эстер, подданной Британии, для использования всех сих средств по полному ее усмотрению на нужды образования и воспитания сирот. Уверен, что г жа Эстер распорядится этими средствами толковее и честнее, чем наши генералы от благотворительности. Это мое завещание является последним и окончательным, оно имеет законную силу и отменяет мое предыдущее завещание. Душеприказчиками я назначаю адвоката Семена Ефимовича Берензона и студента Московского университета Николая Степановича Ахтырцева. Настоящая духовная составлена в двух экземплярах, один из коих остается у меня, а второй передается на хранение в адвокатскую контору г на Берензона. Москва, 12 мая 1876 года Петр Кокорин. Глава вторая, в которой нет ничего кроме разговоров – Воля ваша, Ксаверий Феофилактович, а только странно! – с горячностью повторил Фандорин. – Тут какая то тайна, честное слово! – И упрямо подчеркнул. – Да, вот именно, тайна! Судите сами. Во первых, застрелился как то нелепо, «наудачу», одной пулей из барабана, будто и вовсе не собирался стреляться. Что за фатальное невезение! И тон предсмертной записки, согласитесь, какой то чудной – вроде как наспех, между делом написана, а между тем проблема там затронута важнейшая. Нешуточная проблема! – голос Эраста Петровича аж зазвенел от чувства. – Но о проблеме я еще потом скажу, а пока про завещание. Разве оно не подозрительно? – Что же именно кажется вам в нем, голубчик, подозрительным? – промурлыкал Грушин, скучающе перелистывая «Полицейскую сводку городских происшествий» за истекшие сутки. Это не лишенное познавательного интереса чтение обыкновенно поступало во второй половине дня, ибо дел большой важности в сем документе не содержалось – в основном всякая мелкая всячина, полнейшая ерунда, но иногда попадалось и что нибудь любопытное. Было здесь и сообщение о вчерашнем самоубийстве в Александровском саду, но, как и предвидел многоопытный Ксаверий Феофилактович, без каких либо подробностей и уж конечно без текста предсмертной записки. – А вот что! Стрелялся Кокорин вроде как не всерьез, однако же завещание, несмотря на вызывающий тон, составлено по всей форме – с нотариусом, со свидетельскими подписями, с указанием душеприказчиков, – загибал пальцы Фандорин. – И то сказать, состояние то громадное. Я справлялся – две фабрики, три завода, дома в разных городах, верфи в Либаве, одних процентных бумаг в Государственном банке на полмиллиона! – На полмиллиона? – ахнул Ксаверий Феофилактович, оторвавшись от бумажек. – Повезло англичанке, повезло. – И объясните мне кстати, при чем здесь леди Эстер? Почему именно ей завещано, а не кому то другому? Какая между ней и Кокориным связь? Вот что выяснить бы надо! – Так он же написал, что нашим казнокрадам не верит, а англичанку уж который месяц во всех газетах превозносят. Нет, милый, вы мне лучше вот что скажите. Как это получается, что ваше поколение жизни такую мелкую цену дает? Чуть что и пиф паф, да еще с важностью, с пафосом, с презрением ко всему миру. С каких заслуг презрение то, с каких? – засердился Грушин, вспомнив, как дерзко и непочтительно говорила с ним вчера вечером любимая дочь, шестнадцатилетняя гимназистка Сашенька. Однако вопрос был скорее риторический, мнение письмоводителя на сей счет мало интересовало почтенного пристава, и потому он вновь уткнулся в сводку. Зато Эраст Петрович оживился еще больше: – А это и есть проблема, о которой я хотел сказать особо. Взгляните на такого человека, как Кокорин. Судьба дает ему все – и богатство, и свободу, и образованность, и красоту (про красоту Фандорин сказал так, уж заодно, хотя не имел ни малейшего представления о внешности покойника). А он играет со смертью и в конце концов убивает себя. Вы желаете знать почему? Нам, молодым, в вашем мире тошно – Кокорин прямо об этом написал, только не развернул. Ваши идеалы – карьера, деньги, почести – для многих из нас ничего не стоят. Не о том нам теперь мечтается. Вы что же думаете, спроста пишут про эпидемию самоубийств? Лучшие из образованной молодежи уходят, задохнувшись от нехватки духовного кислорода, а вы, отцы общества, уроков для себя ничуть не извлекаете! Получалось, что весь обвинительный пафос обращен на самого Ксаверия Феофилактовича, так как иных «отцов общества» поблизости не наблюдалось, однако Грушин нисколько не обиделся и даже с видимым удовольствием покивал головой. – Вот кстати, – насмешливо хмыкнул он, глядя в сводку, – насчет нехватки духовного кислорода. «В Чихачевском переулке по третьему участку Мещанской части в 10 часов утра обнаружено мертвое тело удавившегося сапожника Ивана Еремеева Булдыгина 27 лет. По показаниям дворника Петра Силина, причина самоубийства – отсутствие средств на похмеление». Так все лучшие то и уйдут. Одни мы, старые дураки, останемся. – Вы смеетесь, – горько сказал Эраст Петрович. – А в Петербурге и Варшаве что ни день студенты, курсистки, а то и гимназисты травятся, стреляются, топятся. Смешно вам… «Раскаетесь, Ксаверий Феофилактович, да поздно будет», – мстительно подумал он, хотя до сей минуты мысль о самоубийстве в голову ему никогда еще не приходила – слишком живого характера был юноша. Наступила тишина: Фандорин представлял скромную могилку, за церковной оградой и без креста, а Грушин то водил пальцем по строчкам, то принимался шелестеть листками. – Однако и в самом деле ерунда какая то, – пробурчал он. – Что они все, с ума посходили? Вот с, два донесения, одно из третьего участка Мясницкой части, на странице восемь, другое из первого участка Рогожской части, на странице девять. Итак. «В 12 часов 35 минут в Подколокольный переулок, к дому „Московского страхового от огня общества“ вызвали околоточного надзирателя Федорука по требованию калужской помещицы Авдотьи Филипповны Спицыной (временно проживает в гостинице „Боярская“). Г жа Спицына показала, что возле входа в книжную лавку, у нее на глазах, некий прилично одетый господин на вид лет 25 ти предпринял попытку застрелиться – поднес к виску пистолет, да видно произошла осечка, и несостоявшийся самоубийца скрылся. Г жа Спицына потребовала, чтобы полиция разыскала молодого человека и передала его духовным властям для наложения церковного покаяния. Розыск не предпринимался по отсутствию события преступления». – Вот видите, а я что говорил! – возликовал Эраст Петрович, чувствуя себя полностью отомщенным. – Погодите, юноша, это еще не все, – остановил его пристав. – Слушайте дальше. Страница девять. «Докладывает городовой Семенов (это из Рогожской). В одиннадцатом часу его вызвал мещанин Николай Кукин, приказчик бакалейной лавки „Брыкин и сыновья“, что напротив Малого Яузского моста. Кукин сообщил, что за несколько минут до того на каменную тумбу моста влез какой то студент, приложил к голове пистолет, выражая явное желание застрелиться. Кукин слышал железный щелчок, но выстрела не было. После щелчка студент спрыгнул на мостовую и быстро ушел в сторону Яузской улицы. Других очевидцев не обнаружено. Кукин ходатайствует об учреждении на мосту полицейского поста, так как в прошлом году там уже утопилась девица легкого поведения, и от этого торговле убыток». – Ничего не понимаю, – развел руками Фандорин. – Что это за ритуал такой? Уж не тайное ли общество самоубийц? – Какое там общество, – медленно произнес Ксаверий Феофилактович, а потом заговорил все быстрее и быстрее, постепенно оживляясь. – Никакое не общество, сударь мой, а все гораздо проще. Теперь и с барабаном понятно, а раньше то было и невдомек! Это все один и тот же, наш с вами студент Кокорин куролесил. Смотрите ка сюда. – Он встал и проворно подошел к карте Москвы, что висела на стене подле двери. – Вот Малый Яузский мост. Отсюда он пошел Яузской улицей, где то с час поболтался и оказался в Подколокольном, возле страхового общества. Напугал помещицу Спицыну и двинулся дальше, в сторону Кремля. А в третьем часу дошел до Александровского сада, где его путешествие и закончилось известным нам образом. – Но зачем? И что все это значит? – всматривался в карту Эраст Петрович. – Что значит – не мне судить. А как дело было, догадываюсь. Наш студент белоподкладочник, золотая молодежь, решил сделать всем адье. Но перед смертью пожелал еще нервы себе пощекотать. Я читал где то, это «американской рулеткой» называется. В Америке придумали, на золотых приисках. Заряжаешь в барабан один патрон, крутишь и ба бах! Коли повезло – срываешь банк, ну а не повезло – прости прощай. И отправился наш студент в вояж по Москве, судьбу испытывать. Вполне возможно, что он не три раза стрелялся, а больше, просто не всякий очевидец полицию то позовет. Это помещица душеспасительница да Кукин со своим приватным интересом бдительность проявили, а сколько Кокорин всего попыток предпринял – Бог весть. Или уговор у него с собой был – мол, столько то раз со смертью сыграю, и баста. Уцелею – так тому и быть. Впрочем, это уже мои фантазии. Никакого фатального невезения в Александровском не было, просто к третьему часу студент уже всю свою фортуну израсходовал. – Ксаверий Феофилактович, вы – настоящий аналитический талант, – искренне восхитился Фандорин. – Я так и вижу перед собой, как все это было. Заслуженная похвала, хоть и от молокососа, была Грушину приятна. – То то. Есть чему и у старых дураков поучиться, – назидательно произнес он. – Вы бы послужили по следственному делу с мое, да не в нынешние высококультурные времена, а при государе Николае Павловиче. Тогда не разбирали, сыскное не сыскное, да не было еше в Москве ни нашего управления, ни даже следственного отдела. Сегодня убийц ищешь, завтра на ярмарке стоишь, народу острастку даешь, послезавтра по кабакам беспашпортных гоняешь. Зато приобретаешь наблюдательность, знание людей, ну и шкурой дубленой обрастаешь, без этого в нашем полицейском деле никак невозможно, – с намеком закончил пристав и вдруг заметил, что письмоводитель его не очень то и слушает, а хмурится какой то своей мысли, по всему видать не очень удобной. – Ну, что там у вас еще, выкладывайте. – Да вот, в толк не возьму… – Фандорин нервно пошевелил красивыми, в два полумесяца бровями. – Кукин этот говорит, что на мосту студент был… – Конечно, студент, а кто же? – Но откуда Кукину знать, что Кокорин студент? Был он в сюртуке и шляпе, его и в Александровском саду никто из свидетелей за студента не признал… Там в протоколах все «молодой человек» да «тот господин». Загадка! – Все у вас одни загадки на уме, – махнул рукой Грушин. – Дурак ваш Кукин, да и дело с концом. Видит, барин молоденький, в статском, ну и вообразил, что студент. А может, глаз у приказчика наметанный, распознал студента – ведь с утра до вечера с покупателями дело имеет. – Кукин в своей лавчонке такого покупателя, как Кокорин, и в глаза не видывал, – резонно возразил Эраст Петрович. – Так что с того? – А то, что неплохо бы помещицу Спицыну и приказчика Кукина получше расспросить. Вам, Ксаверий Феофилактович, конечно, не к лицу такими пустяками заниматься, но, если позволите, я бы сам… – Эраст Петрович даже на стуле приподнялся, так ему хотелось, чтоб Грушин позволил. Собирался Ксаверий Феофилактович строгость проявить, но передумал. Пусть мальчишка живой работы понюхает, поучится со свидетелями разговаривать. Может, и получится из него толк. Сказал внушительно: – Не запрещаю. – И, предупредив радостный возглас, уже готовый сорваться с уст коллежского регистратора, добавил. – Но сначала извольте отчет для его превосходительства закончить. И вот что, голубчик. Уже четвертый час. Пойду я, пожалуй, восвояси. А вы мне завтра расскажете, откуда приказчик про студента взял. Глава третья, в которой возникает «зутулый штудент» От Мясницкой, где располагалось Сыскное управление, до гостиницы «Боярская», где, судя по сводке, «временно проживала» помещица Спицына, было ходу минут двадцать, и Фандорин, несмотря на снедавшее его нетерпение, решил пройтись пешком. Мучитель «Лорд Байрон», немилосердно стискивавший бока письмоводителя, пробил столь существенную брешь в его бюджете, что расход на извозчика мог бы самым принципиальным образом отразиться на рационе питания. Жуя на ходу пирожок с вязигой, купленный на углу Гусятникова переулка (не будем забывать, что в следственной ажитации Эраст Петрович остался без обеда), он резво шагал по Чистопрудному бульвару, где допотопные старухи в салопах и чепцах сыпали крошки жирным, бесцеремонным голубям. По булыжной мостовой стремительно катились пролетки и фаэтоны, за которыми Фандорину было никак не угнаться, и его мысли приняли обиженное направление. В сущности, сыщику без коляски с рысаками никак невозможно. Хорошо «Боярская» на Покровке, но ведь оттуда еще на Яузу к приказчику Кукину топать – это верных полчаса. Тут промедление смерти подобно, растравлял себя Эраст Петрович (прямо скажем, несколько преувеличивая), а господин пристав казенного пятиалтынного пожалел. Самому то, поди, управление каждый месяц по восьмидесяти целковых на постоянного извозчика отчисляет. Вот они, начальственные привилегии: один на персональном извозчике домой, а другой на своих двоих по служебной надобности. Но слева, над крышей кофейни Суше уже показалась колокольня Троицкой церкви, возле которой находилась «Боярская», и Фандорин зашагал еще быстрей, предвкушая важные открытия. Полчаса спустя, походкой понурой и разбитой, брел он вниз по Покровскому бульвару, где голубей, таких же упитанных и нахальных, как на Чистопрудном, кормили уже не дворянки, а купчихи. Разговор со свидетельницей получился неутешительный. Помещицу Эраст Петрович поймал в самый последний момент – она уже готовилась сесть в дрожки, заваленные баулами и свертками, чтобы отбыть из первопрестольной к себе в Калужскую губернию. Из соображений экономии путешествовала Спицына по старинке, не железной дорогой, а на своих лошадках. В этом Фандорину безусловно повезло, ибо торопись помещица на вокзал, разговора и вовсе бы не получилось. Но суть беседы со словоохотливой свидетельницей, к которой Эраст Петрович подступал и так, и этак, сводилась к одному: Ксаверий Феофилактович прав, и видела Спицына именно Кокорина – и про сюртук помянула, и про круглую шляпу, и даже про лаковые штиблеты с пуговками, о которых не упоминали свидетели из Александровского сада. Вся надежда оставалась на Кукина, в отношении которого Грушин, скорее всего, опять таки прав. Сболтнул приказчик не подумав, а теперь таскайся из за него по всей Москве, выставляй себя перед приставом на посмешище. Бакалейная лавка «Брыкин и сыновья» выходила стеклянной дверью с изображением сахарной головы прямо на набережную, и мост отсюда был виден как на ладони – это Фандорин отметил сразу. Отметил он и то, что окна лавки были нараспашку (видно, от духоты), а стало быть, мог услышать Кукин и «железный щелчок», ведь до ближайшей каменной тумбы моста никак не далее пятнадцати шагов. Из двери заинтригованно выглянул мужчина лет сорока в красной рубахе, черном суконном жилете, плисовых штанах и сапогах бутылками. – Не угодно ли чего, ваше благородие? – спросил он. – Никак заплутать изволили? – Кукин? – строго спросил Эраст Петрович, не предвидя от грядущих объяснений ничего утешительного. – Точно так с, – насторожился приказчик, сдвинув кустистые брови, но сразу же догадался. – Вы, ваше благородие, должно, из полиции? Покорнейше благодарен. Не ожидал такого скорого вашего внимания. Господин околотошный сказали, что начальство рассмотрит, но не ожидал с, никак не ожидал с. Да что же мы на пороге то! Пожалуйте в лавку. Уж так благодарен, так благодарен. Он и поклонился, и дверку приоткрыл, и еще рукой приглашающий жест сделал – мол, милости прошу, но Фандорин не тронулся с места. Сказал внушительно: – Я, Кукин, не из околотка, а из сыскной полиции. Имею поручение разыскать сту… того человека, про которого вы сообщили околоточному надзирателю. – Это скубента то? – с готовностью подсказал приказчик. – Как же с, преотлично его запомнили. Страх то какой, прости Господи. Я как увидел, что они на тумбу залезли и оружию к голове приставили, так и обмер – ну все, думаю, будет как о прошлый год, опять никого в лавку калачом не заманишь. А в чем мы то виноваты? Что им тут, медом намазано, руки на себя накладывать? Ты сходи вон к Москве реке, там и поглыбже, и мост повыше, да и… – Помолчите, Кукин, – перебил его Эраст Петрович. – Лучше опишите студента. Во что был одет, как выглядел и с чего вы вообще взяли, что он студент. – Так ведь как есть скубент, по всей форме, ваше благородие, – удивился приказчик. – И мундир, и пуговицы, и стеклышки на носу. – Как мундир? – вскинулся Фандорин. – Он разве в мундире был? – А как же иначе с? – сожалеюще взглянул на бестолкового чиновника Кукин. – Без энтого где ж мне было понять, скубент он или нет? Что я, по мундиру скубента от приказного не отличу? На это справедливое замечание Эрасту Петровичу сказать было нечего, он вытащил из кармана аккуратный блокнотик с карандашом – записывать показания. Блокнотик Фандорин купил перед тем, как на службу в Сыскное поступать, три недели без дела проносил, да вот только сегодня пригодился – за утро коллежский регистратор в нем уже несколько страничек меленько исписал. – Расскажите, как выглядел этот человек. – Человек как человек. Собою невидный, на лицо немножко прыщеватый. Стеклышки опять же… – Какие стеклышки – очки или пенсне? – Такие, на ленточке. – Значит, пенсне, – чиркал карандашом Фандорин. – Еще какие нибудь приметы? – Сутулые они были очень. Плечи чуть не выше макушки… Да что, скубент как скубент, я ж говорю… Кукин недоумевающе смотрел на «приказного», а тот надолго замолчал – щурился, шевелил губами, шелестел маленькой тетрадочкой. В общем, думал о чем то человек. «Мундир, прыщеватый, пенсне, сильно сутулый», – значилось в блокноте. Ну, немножко прыщеватый – это мелочь. Про пенсне в описи вещей Кокорина ни слова. Обронил? Возможно. Свидетели про пенсне тоже ничего не поминают, но их про внешность самоубийцы особенно и не расспрашивали – к чему? Сутулый? Хм. В «Московских ведомостях», помнится, описан «статный молодец», но репортер при событии не присутствовал, Кокорина не видел, так что мог и приплести «молодца» ради пущего эффекта. Остается студенческий мундир – это уже не опровергнешь. Если на мосту был Кокорин, то получается, что в промежутке между одиннадцатым часом и половиной первого он зачем то переоделся в сюртук. И интересно где? От Яузы до Остоженки и потом обратно к «Московскому страховому от огня обществу» путь неблизкий, за полтора часа не обернешься. И понял Фандорин с ноющим замиранием под ложечкой, что выход у него один единственный: брать приказчика Кукина за шиворот, везти в участок на Моховую, где в покойницкой все еще лежит обложенное льдом тело самоубийцы, и устраивать опознание. Эраст Петрович представил развороченный череп с засохшей коркой крови и мозгов, и по вполне естественной ассоциации вспомнилась ему зарезанная купчиха Крупнова, до сих пор наведывавшаяся в его кошмарные сны. Нет, ехать в «холодную» определенно не хотелось. Но между студентом с Малого Яузского моста и самоубийцей из Александровского сада имелась связь, в которой непременно следовало разобраться. Кто может сказать, был ли Кокорин прыщавым и сутулым, носил ли он пенсне? Во первых, помещица Спицына, но она, верно, уже подъезжает к Калужской заставе. Во вторых, камердинер покойного, как бишь его фамилия то? Неважно, все равно следователь выставил его из квартиры, поди отыщи теперь. Остаются свидетели из Александровского, и прежде всего те две дамы, с которыми Кокорин разговаривал в последнюю минуту своей жизни, уж они то наверняка разглядели его во всех деталях. Вот в блокноте записано: «Дочь д. т. с. Елиз. Александр на фон Эверт Колокольцева 17 л., девица Эмма Готлибовна Пфуль 48 л., Малая Никитская, собст. дом». Без расхода на извозчика все же было не обойтись. * * * День получался длинный. Бодрое майское солнце, совсем не уставшее озарять златоглавый город, нехотя сползало к линии крыш, когда обедневший на два двугривенных Эраст Петрович сошел с извозчика у нарядного особняка с дорическими колоннами, лепным фасадом и мраморным крыльцом. Увидев, что седок в нерешительности остановился, извозчик сказал: – Он самый и есть, генералов дом, не сомневайтесь. Не первый год по Москве ездим. «А ну как не пустят,» – екнуло внутри у Эраста Петровича от страха перед возможным унижением. Он взялся за сияющий медный молоток и два раза стукнул. Массивная дверь с бронзовыми львиными мордами немедленно распахнулась, выглянул швейцар в богатой ливрее с золотыми позументами. – К господину барону? Из присутствия? – деловито спросил он. – Доложить или только бумажку какую передать? Да вы заходите. В просторной прихожей, ярко освещенной и люстрой, и газовыми рожками, посетитель совсем оробел. – Я, собственно, к Елизавете Александровне, – объяснил он. – Эраст Петрович Фандорин, из сыскной полиции. По срочной надобности. – Из сыскной? – презрительно поморщился страж дверей. – Уж не по вчерашнему ли делу? И не думайте. Барышня почитай полдня прорыдали и ночью спали плохо с. Не пущу и докладывать не стану. Его превосходительство и то грозили вашим из околотка головы поотрывать, что вчера Елизавету Александровну допросами мучили. На улицу извольте, на улицу. – И стал, мерзавец, еще животом своим толстым к выходу подпихивать. – А девица Пфуль? – в отчаянии вскричал Эраст Петрович. – Эмма Готлибовна сорока восьми лет? Мне бы хоть с ней перемолвиться. Государственное дело! Швейцар важно почмокал губами. – К ним пущу, так и быть. Вон туда, под лестницу идите. По коридору направо третья дверь. Там госпожа гувернантка и проживает. На стук открыла высокая костлявая особа и молча уставилась на посетителя круглыми карими глазами. – Из полиции, Фандорин. Вы госпожа Пфуль? – неуверенно произнес Эраст Петрович и на всякий случай повторил по немецки. – Полицайамт. Зинд зи фрейляйн Пфуль? Гутен абенд. – Вечер добрый, – сурово ответила костлявая. – Да, я Эмма Пфуль. Входите. Задитесь вон на тот штул. Фандорин сел куда было велено – на венский стул с гнутой спинкой, стоявший подле письменного стола, на котором аккуратнейшим образом были разложены какие то учебники и стопки писчей бумаги. Комната была хорошая, светлая, но очень уж скучная, словно неживая. Только вот на подоконнике стояло целых три горшка с пышной геранью – единственное яркое пятно во всем помещении. – Вы из за того глупого молодого человека, который зебя стрелял? – спросила девица Пфуль. – Я вчера ответила на все вопросы господина полицейского, но если хотите спрашивать еще, можете спрашивать. Я хорошо понимаю, что работа полиции – это очень важно. Мой дядя Гюнтер служил в заксонской полиции обер вахтмайстером. – Я коллежский регистратор, – пояснил Эраст Петрович, не желая, чтобы его тоже приняли за вахмистра, – чиновник четырнадцатого класса. – Да, я умею понимать чин, – кивнула немка, показывая пальцем на петлицу его вицмундира. – Итак, господин коллежский регистратор, я вас слушаю. В этот момент дверь без стука отворилась и в комнату влетела светловолосая барышня с очаровательно раскрасневшимся личиком. – Фрейлейн Пфуль! Morgen fahren wir nach Kuntsevo! Честное слово! Папенька позволил! – зачастила она с порога, но, увидев постороннего, осеклась и сконфуженно умолкла, однако ее серые глаза с живейшим любопытством воззрились на молодого чиновника. – Воспитанные баронессы не бегают, а ходят, – с притворной строгостью сказала ей гувернантка. – Особенно если им уже целых земнадцать лет. Если вы не бегаете, а ходите, у вас есть время, чтобы увидеть незнакомый человек и прилично поздороваться. – Здравствуйте, сударь, – прошелестело чудесное видение. Фандорин вскочил и поклонился, чувствуя себя прескверно. Девушка ему ужасно понравилась, и бедный письмоводитель испугался, что сейчас возьмет и влюбится в нее с первого взгляда, а делать этого никак не следовало. И в прежние то, благополучные папенькины времена такая принцесса была бы ему никак не парой, а теперь уж и подавно. – Здравствуйте, – очень сухо сказал он, сурово нахмурился и мысленно прибавил: «В жалкой роли меня представить вздумали? Он был титулярный советник, она – генеральская дочь? Нет уж, сударыня, не дождетесь! Мне и до титулярного то еще служить и служить». – Коллежский регистратор Фандорин Эраст Петрович, управление сыскной полиции, – официальным тоном представился он. – Произвожу доследование по факту вчерашнего печального происшествия в Александровском саду. Возникла необходимость задать еще кое какие вопросы. Но ежели вам неприятно, – я отлично понимаю, как вы были расстроены, – мне будет достаточно разговора с одной госпожой Пфуль. – Да, это было ужасно. – Глаза барышни, и без того преизрядные, расширились еще больше. – Правда, я зажмурилась и почти ничего не видела, а потом лишилась чувств… Но мне так интересно! Фрейлейн Пфуль, можно я тоже побуду? Ну пожалуйста! Я, между прочим, такая же свидетельница, как и вы! – Я со своей стороны, в интересах следствия, тоже предпочел бы, чтобы госпожа баронесса присутствовала, – смалодушничал Фандорин. – Порядок есть порядок, – кивнула Эмма Готлибовна. – Я, Лизхен, всегда вам повторила: Ordnung muss sein . Надо быть послушным закону. Вы можете оставаться. Лизанька (так про себя уже называл Елизавету Александровну стремительно гибнущий Фандорин) с готовностью опустилась на кожаный диван, глядя на нашего героя во все глаза. Он взял себя в руки и, повернувшись к фрейлейн Пфуль, попросил: – Опишите мне, пожалуйста, портрет того господина. – Господина, который зебя стрелял? – уточнила она. – Na ja . Коричневые глаза, коричневые волосы, рост довольно большой, усов и бороды нет, бакенбарды тоже нет, лицо зовсем молодое, но не очень хорошее. Теперь одежда… – Про одежду попозже, – перебил ее Эраст Петрович. – Вы говорите, лицо нехорошее. Почему? Из за прыщей? – Pickeln, – покраснев, перевела Лизанька. – A ja, прышшы, – смачно повторила гувернантка не сразу понятое слово. – Нет, прышшей у того господина не было. У него была хорошая, здоровая кожа. А лицо не очень хорошее. – Почему? – Злое. Он смотрел так, будто хотел убивать не зебя, а кто то зовсем другой. О, это был кошмар! – возбудилась от воспоминаний Эмма Готлибовна. – Весна, золнечная погода, все дамы и господа гуляют, чудесный зад весь в цветочках! При этих ее словах Эраст Петрович залился краской и искоса взглянул на Лизаньку, но та, видно, давно привыкла к своеобразному выговору своей дуэньи, и смотрела все так же доверчиво и лучисто. – А было ли у него пенсне? Может быть, не на носу, а торчало из кармана? На шелковой ленте? – сыпал вопросами Фандорин. – И не показалось ли вам, что он сутул? Еще вот что. Я знаю, что он был в сюртуке, но не выдавало ли что нибудь в его облике студента – к примеру, форменные брюки? Не приметили? – Я всегда все приметила, – с достоинством ответила немка. – Брюки были панталоны в клетку из дорогой шерсти. Пенсне не было зовсем. Зутулый тоже нет. У того господина была хорошая осанка. – Она задумалась и неожиданно переспросила. – Зутулый, пенсне и штудент? Почему вы так сказали? – А что? – насторожился Эраст Петрович. – Странно. Там был один господин. Зутулый штудент в пенсне. – Как!? Где!? – ахнул Фандорин. – Я видела такого господина… jenseits… с другой стороны забора, на улице. Он стоял и на нас смотрел. Я еще думала, что зейчас господин штудент будет нам помогать прогонять этот ужасный человек. И он был очень зутулый. Я это увидела потом, когда тот господин уже зебя убил. Штудент повернулся и быстро быстро ушел. И я увидела, какой он зутулый. Это бывает, когда детей в детстве не учат правильно зидеть. Правильно зидеть очень важно. Мои воспитанницы всегда зидят правильно. Посмотрите на фрейлейн баронессу. Видите, как она держит спинку? Очень красиво! Вот здесь Елизавета Александровна покраснела, да так мило, что Фандорин на миг потерял нить, хотя сообщение девицы Пфуль, несомненно, имело исключительную важность. Глава четвертая, повествующая о губительной силе красоты На следующий день в одиннадцатом часу утра Эраст Петрович, благословленный начальником и даже наделенный тремя рублями на экстраординарные расходы, прибыл к желтому корпусу университета на Моховой. Задание было несложным, но требующим известного везения: разыскать сутулого, не видного собой и отчасти прыщавого студента в пенсне на шелковой ленте. Вполне вероятно, что этот подозрительный господин учился вовсе и не на Моховой, а в Высшем техническом училище, в Лесной академии или вовсе в каком нибудь Межевом институте, однако Ксаверий Феофилактович (смотревший на своего юного помощника с некоторым не лишенным радости удивлением) был полностью согласен с предположением Фандорина – вернее всего «зутулый», как и покойный Кокорин, учился в университете и очень возможно, что на том же самом юридическом факультете. Одетый в партикулярное платье Эраст Петрович стремглав взлетел по истертым чугунным ступеням парадного крыльца, миновал бородатого служителя в зеленой ливрее и занял удобную позицию в полукруглой амбразуре окна, откуда отлично просматривался и вестибюль с гардеробом, и двор, и даже входы в оба крыла. Впервые с тех пор, как умер отец и жизнь молодого человека свернула с прямого и ясного пути, смотрел Эраст Петрович на священные желтые стены университета без сердечной тоски о том, что могло сбыться, да не сбылось. Еще неизвестно, какое существование увлекательней и полезней для общества – студенческая зубрежка или суровая жизнь сыскного агента, ведущего важное и опасное дело. (Ладно, пусть не опасное, но все же чрезвычайно ответственное и таинственное.) Примерно каждый четвертый из студентов, попадавших в поле зрения внимательного наблюдателя, носил пенсне, причем многие именно на шелковой ленте. Примерно каждый пятый имел на физиономии некоторое количество прыщей. Хватало и сутулых. Однако сойтись в одном субъекте все три приметы никак не желали. Во втором часу проголодавшийся Фандорин достал из кармана сандвич с колбасой и подкрепился, не покидая поста. К тому времени у Эраста Петровича успели установиться вполне приязненные отношения с бородатым привратником, который велел звать его Митричем и успел дать молодому человеку несколько ценнейших советов по поводу поступления в «нивирситет». Фандорин, который представился говорливому старику провинциалом, мечтающим о заветных пуговицах с университетским гербом, уже подумывал, не переменить ли версию и не расспросить ли Митрича напрямую о «зутулом» и прыщавом, когда привратник в очередной раз засуетился, сдернул с головы фуражку и распахнул дверь. Эту процедуру Митрич проделывал, когда мимо проходил кто нибудь из профессоров или богатых студентов, за что время от времени получал то копейку, а то и пятак. Эраст Петрович оглянулся и увидел, что к выходу направляется некий студент, только что получивший в гардеробе роскошный бархатный плащ с застежками в виде львиных лап. На носу у щеголя поблескивало пенсне, на лбу розовела россыпь прыщиков. Фандорин так и напружинился, пытаясь разглядеть, что там у студента с осанкой, но проклятая пелерина плаща и поднятый воротник мешали поставить диагноз. – Приятного вечера, Николай Степаныч. Не прикажете ли извозчика? – поклонился привратник. – Что, Митрич, дождик то перестал? – тонким голосом спросил прыщавый. – Ну тогда пройдусь, засиделся. – И двумя пальцами в белой перчатке уронил в подставленную ладонь монетку. – Кто таков? – шепнул Эраст Петрович, напряженно вглядываясь в спину франта. Вроде сутулится? – Ахтырцев Николай Степаныч. Первейший богач, княжеских кровей, – благоговейно сообщил Митрич. – Кажный раз не меньше пятиалтынного кидает. Фандорина аж в жар бросило. Ахтырцев! Уж не тот ли, что в завещании душеприказчиком указан! Митрич кланялся очередному преподавателю, длинноволосому магистру физики, а когда обернулся, его ждал сюрприз: уважительный провинциал будто сквозь землю провалился. Черный бархатный плащ был виден издалека, и Фандорин нагнал подозреваемого в два счета, но окликнуть не решился: что, собственно, он может этому Ахтырцеву предъявить? Ну, предположим, опознают его и приказчик Кукин, и девица Пфуль (тут Эраст Петрович тяжко вздохнул, снова, уже в который раз, вспомнив Лизаньку). Так что с того? Не лучше ли, согласно науке великого Фуше, непревзойденного корифея сыска, установить за объектом слежку? Сказано – сделано. Тем более что следить оказалось совсем нетрудно: Ахтырцев не спеша, прогулочным шагом шел в сторону Тверской, назад не оборачивался, лишь время от времени провожал взглядом смазливых модисток. Несколько раз Эраст Петрович, осмелев, подбирался совсем близко и даже слышал, как студент беззаботно насвистывает арию Смита из «Пертской красавицы». Похоже, несостоявшийся самоубийца (если это был он) пребывал в самом радужном настроении. Возле табачного магазина Корфа студент остановился и долго разглядывал на витрине коробки с сигарами, однако внутрь не зашел. У Фандорина начало складываться убеждение, что «объект» тянет время до назначенного часа. Убеждение это окрепло, когда Ахтырцев достал золотые часы, щелкнул крышкой и, несколько ускорив шаг, двинулся вверх по тротуару, перейдя к исполнению более решительного «Хора мальчиков» из новомодной оперы «Кармен». Свернув в Камергерский, студент насвистывать перестал и зашагал так резво, что Эраст Петрович был вынужден поотстать – иначе больно уж подозрительно бы выглядело. К счастью, не доходя модного дамского салона Дарзанса, «объект» замедлил шаг, а вскоре и вовсе остановился. Фандорин перешел на противоположную сторону и занял пост возле булочной, благоухающей ароматами свежей сдобы. Минут пятнадцать, а то и двадцать Ахтырцев, проявляя все более заметную нервозность, прохаживался у фигурных дубовых дверей, куда то и дело входили деловитые дамы и откуда рассыльные выносили нарядные свертки и коробки. Вдоль тротуара ждало несколько экипажей, некоторые даже с гербами на лакированных дверцах. В семнадцать минут третьего (Эраст Петрович заметил по витринным часам) студент встрепенулся и кинулся к вышедшей из магазина стройной даме в вуалетке. Снял фуражку, стал что то говорить, размахивая руками. Фандорин со скучающим видом пересек мостовую – мало ли, может, ему тоже угодно к Дарзансу заглянуть. – Нынче мне не до вас, – услышал он звонкий голос дамы, одетой по самой последней парижской моде, в лиловое муаровое платье с шлейфом. – После. В восьмом часу приезжайте, как обычно, там все и решится. Не глядя более на возбужденного Ахтырцева, она направилась к двухместному фаэтону с открытым верхом. – Но Амалия! Амалия Казимировна, позвольте! – крикнул ей вслед студент. – Я в некотором роде рассчитывал на приватное объяснение! – После, после! – бросила дама. – Нынче я спешу! Легкий ветерок приподнял с ее лица невесомую вуалетку, и Эраст Петрович остолбенел. Эти ночные с поволокой глаза, этот египетский овал, этот капризный изгиб губ он уже видел, а такое лицо, раз взглянув, не забудешь никогда. Вот она, таинственная А.Б., что не велела несчастному Кокорину отрекаться от любви! Дело, кажется, принимало совсем иной смысл и колер. Ахтырцев потерянно застыл на тротуаре, некрасиво вжав голову в плечи (сутулый, определенно сутулый, убедился Эраст Петрович), а тем временем фаэтон неспешно увозил египетскую царицу в сторону Петровки. Нужно было что то решать, и Фандорин, рассудив, что студент теперь все равно никуда не денется, махнул на него рукой – побежал вперед, к углу Большой Дмитровки, где выстроился ряд извозчичьих пролеток. – Полиция, – шепнул он сонному ваньке в картузе и ватном кафтане. – Быстро вон за тем экипажем! Шевелись же! Да не трясись, получишь сполна. Ванька приосанился, с преувеличенным усердием поддел рукава, тряхнул вожжами, да еще и гаркнул, и чубарая лошадка звонко зацокала копытами по булыжной мостовой. На углу Рождественки поперек улицы влез ломовик, груженый досками, да так и перегородил всю проезжую часть. Эраст Петрович в крайнем волнении вскочил и даже приподнялся на цыпочки, глядя вслед успевшему проскочить фаэтону. Хорошо хоть, сумел разглядеть, как тот поворачивает на Большую Лубянку. Ничего, Бог милостив, нагнали фаэтон у самой Сретенки, и вовремя – тот нырнул в узкий горбатый переулок. Колеса запрыгали по ухабам. Фандорин увидел, что фаэтон останавливается, и ткнул извозчика в спину – мол, кати дальше, не выдавай. Сам нарочно отвернулся в сторону, но краешком глаза видел, как у опрятного каменного особнячка лиловую даму, кланяясь, встречает какой то ливрейный немалого роста. За первым же углом Эраст Петрович отпустил извозчика и медленно, как бы прогуливаясь, зашагал в обратном направлении. Вот и особнячок – теперь можно было разглядеть его как следует: мезонин с зеленой крышей, на окнах гардины, парадное крыльцо с козырьком. Медной таблички на двери что то не видно. Зато на лавке у стены сидел скучал дворник в фартуке и мятом картузе. К нему Эраст Петрович и направился. – А скажи ка, братец, – начал он сходу, извлекая из кармана казенный двугривенный. – Чей это дом? – Известно чей, – туманно ответил дворник, с интересом следя за пальцами Фандорина. – Держи вот. Что за дама давеча приехала? Приняв монету, дворник степенно ответил: – Дом генеральши Масловой, только они тут не проживают, в наем сдают. А приехала квартирантка, госпожа Бежецкая, Амалия Казимировна. – Кто такая? – насел Эраст Петрович. – Давно ли живет? Много ли народу бывает? Дворник смотрел на него молча, пожевывая губами. В мозгу у него происходила какая то непонятная работа. – Ты вот что, барин, – сказал он, поднимаясь, и внезапно цепко взял Фандорина за рукав. – Ты погоди ка. Он подтащил упирающегося Эраста Петровича к крыльцу и дернул за язык бронзового колокольчика. – Ты что?! – ужаснулся сыщик, тщетно пытаясь высвободиться. – Да я тебя… Да ты знаешь, с кем…?! Дверь распахнулась, и на пороге возник ливрейный верзила с огромными песочными бакенбардами и бритым подбородком – сразу видно, не русских кровей. – Так что ходют тут, про Амалию Казимировну интересуются, – слащавым голосом донес подлый дворник. – И деньги предлагали с. Я не взял с. Вот я, Джон Карлыч, и рассудил… Дворецкий (а это непременно был дворецкий, раз уж англичанин) смерил арестованного бесстрастным взглядом маленьких колючих глаз, молча сунул иуде серебряный полтинник и чуть посторонился. – Да тут, собственно, полнейшее недоразумение! – все не мог опомниться Фандорин. – It's ridiculous! A complete misunderstanding! – перешел он на английский. – Нет уж, вы пожалуйте с, пожалуйте с, – гудел сзади дворник и, для верности взяв Фандорина еще и за второй рукав, протолкнул внутрь. Эраст Петрович оказался в довольно широкой прихожей, прямо напротив медвежьего чучела с серебряным подносом – визитные карточки класть. Стеклянные глазки мохнатого зверя смотрели на попавшего в конфуз регистратора безо всякого сочувствия. – Кто? Зачэм? – коротко, с сильным ацентом спросил дворецкий, совершенно игнорируя вполне приличный английский Фандорина. Эраст Петрович молчал, ни в коем случае не желая раскрывать свое инкогнито. – What's the matter, John? – раздался уже знакомый Фандорину звонкий голос. На устланной ковром лестнице, что, верно, вела в мезонин, стояла хозяйка, успевшая снять шляпку и вуаль. – А а, юный брюнет, – насмешливо произнесла она, обращаясь к пожиравшему ее взглядом Фандорину. – Я вас еще в Камергерском приметила. Разве можно так на незнакомых дам пялиться? Ловок, ничего не скажешь. Выследил! Студент или так, бездельник? – Фандорин, Эраст Петрович, – представился он, не зная, как отрекомендоваться дальше, но Клеопатра, кажется, уже истолковала его появление по своему. – Смелых люблю, – усмехнулась она. – Особенно если такие хорошенькие. А вот шпионить некрасиво. Если моя особа вам до такой степени интересна, приезжайте вечером – ко мне кто только не ездит. Там вы вполне сможете удовлетворить свое любопытство. Да наденьте фрак, у меня обращение вольное, но мужчины, кто не военный, непременно во фраках – такой закон. * * * К вечеру Эраст Петрович был во всеоружии. Правда, отцовский фрак оказался широковат в плечах, но славная Аграфена Кондратьевна, губернская секретарша, у которой Фандорин снимал комнатку, заколола булавками по шву и получилось вполне прилично, особенно если не застегиваться. Обширный гардероб, где одних белых перчаток имелось пять пар, был единственным достоянием, которое унаследовал сын неудачливого банковского вкладчика. Лучше всего смотрелись шелковый жилет от Бургеса и лаковые туфли от Пироне. Неплох был и почти новый цилиндр от Блана, только немножко сползал на глаза. Ну да это ничего – отдать у входа лакею, и дело с концом. Тросточку Эраст Петрович решил не брать – пожалуй, дурной тон. Он покрутился в темной прихожей перед щербатым зеркалом и остался собой доволен, прежде всего талией, которую идеально держал суровый «Лорд Байрон». В жилетном кармашке лежал серебряный рубль, полученный от Ксаверия Феофилактовича на букет («приличный, но без фанаберии»). Какие уж тут фанаберии на рубль, вздохнул Фандорин и решил, что добавит собственный полтинник, – тогда хватит на пармские фиалки. Из за букета пришлось пожертвовать извозчиком, и к чертогу Клеопатры (это прозвище подходило Амалии Казимировне Бежецкой лучше всего) Эраст Петрович прибыл лишь в четверть девятого. Гости уже собрались. Впущенный горничной письмоводитель еще из прихожей услышал гул множества мужских голосов, но время от времени доносился и тот, серебряно хрустальный, волшебный. Немного помедлив у порога, Эраст Петрович собрался с духом и вошел с некоторой развязностью, надеясь произвести впечатление человека светского и бывалого. Зря старался – никто на вошедшего и не обернулся. Фандорин увидел залу с удобными сафьяновыми диванами, бархатными стульями, изящными столиками – все очень стильно и современно. Посередине, попирая ногами расстеленную тигровую шкуру, стояла хозяйка, наряженная испанкой, в алом платье с корсажем и с пунцовой камелией в волосах. Хороша была так, что у Эраста Петровича перехватило дух. Он и гостей то разглядел не сразу, заметил только, что одни мужчины, да что Ахтырцев здесь, сидит чуть поодаль и что то очень уж бледный. – А вот и новый воздыхатель, – произнесла Бежецкая, взглядывая с усмешкой на Фандорина. – Теперь ровно чертова дюжина. Представлять всех не буду, долго получится, а вы назовитесь. Помню, что студент, да фамилию забыла. – Фандорин, – пискнул Эраст Петрович предательски дрогнувшим голосом и повторил еще раз, потверже. – Фандорин. Все оглянулись на него, но как то мельком, видно, вновь прибывший юнец их не заинтересовал. Довольно скоро стало ясно, что центр интереса в этом обществе только один. Гости между собой почти не разговаривали, обращаясь преимущественно к хозяйке, и все, даже важного вида старик с бриллиантовой звездой, наперебой добивались одного – привлечь на себя ее внимание и хоть на миг затмить остальных. Иначе вели себя только двое – молчаливый Ахтырцев, беспрестанно тянувший из бокала шампанское, и гусарский офицер, цветущий малый с шальными, немного навыкате глазами и белозубо черноусой улыбкой. Он, похоже, изрядно скучал и на Амалию Казимировну почти не смотрел, с пренебрежительной усмешкой разглядывая прочих гостей. Клеопатра этого хлюста явно отличала, звала просто «Ипполитом» и пару раз метнула в его сторону такой взгляд, что у Эраста Петровича тоскливо заныло сердце. Внезапно он встрепенулся. Некий гладкий господин с белым крестом на шее только что произнес, воспользовавшись паузой: – Вот вы, Амалия Казимировна, давеча запретили про Кокорина судачить, а я узнал кое что любопытненькое. Он помолчал, довольный произведенным эффектом, – все обернулись к нему. – Не томите, Антон Иванович, говорите, – не вытерпел крутолобый толстяк, по виду адвокат из преуспевающих. – Да да, не томите, – подхватили остальные. – Не просто застрелился, а через «американскую рулетку» – мне сегодня в канцелярии генерал губернатора шепнули, – значительно сообщил гладкий. – Знаете, что это такое? – Известное дело, – пожал плечами Ипполит. – Берешь револьвер, вставляешь патрон. Глупо, но горячит. Жалко, что американцы, а не наши додумались. – А при чем здесь рулетка, граф? – не понял старик со звездой. – Чет или нечет, красное или черное, только б не зеро! – выкрикнул Ахтырцев и неестественно расхохотался, глядя на Амалию Казимировну с вызовом (так во всяком случае показалось Фандорину). – Я предупреждала: кто об этом болтать будет, выгоню! – не на шутку рассердилась хозяйка. – И от дома откажу раз и навсегда! Нашли тему для сплетен! Повисло нескладное молчание. – Однако ж мне отказать от дома вы не посмеете, – все тем же развязным тоном заявил Ахтырцев. – Я, кажется, заслужил право говорить все, что думаю. – Это чем же, позвольте узнать? – вскинулся коренастый капитан в гвардейском мундире. – А тем, что налакался, молокосос, – решительно повел дело на скандал Ипполит, которого старик назвал «графом». – Позвольте, Amelie, я его проветриться отправлю. – Когда мне понадобится ваше заступничество, Ипполит Александрович, я вас непременно об этом извещу, – не без яда ответила на это Клеопатра, и конфронтация была подавлена в самом зародыше. – А лучше вот что, господа. Коли интересного разговора от вас не дождешься, давайте в фанты играть. В прошлый раз забавно получилось – как Фрол Лукич, проигравшись, цветочек на пяльцах вышивал, да все пальцы себе иголкой истыкал! Все радостно засмеялись кроме стриженного кружком бородатого господина, на котором фрак сидел довольно косо. – И то, матушка Амалия Казимировна, потешились над купчиной. Так мне, дураку, и надо, – смиренно проговорил он, напирая на «о». – Да только при честной торговле долг платежом красен. Намедни мы перед вами рисковали, а нынче неплохо бы и вам рискнуть. – А ведь прав коммерции советник! – воскликнул адвокат. – Голова! Пускай и Амалия Казимировна смелость явит. Господа, предлагаю! Тот из нас, кто вытащит фант, потребует от нашей лучезарной… ну… чего нибудь особенного. – Правильно! Браво! – раздалось со всех сторон. – Никак бунт? Пугачевщина? – засмеялась ослепительная хозяйка. – Чего ж вы от меня хотите? – Я знаю! – встрял Ахтырцев. – Откровенного ответа на любой вопрос. Чтоб не вилять, в кошки мышки не играть. И непременно с глазу на глаз. – Зачем с глазу на глаз? – запротестовал капитан. – Всем будет любопытно послушать. – Когда «всем», то откровенно не получится, – сверкнула глазами Бежецкая. – Ладно, поиграем в откровенность, будь по вашему. Да только не побоится счастливец правду от меня услышать? Невкусной может получиться правда то. Граф насмешливо вставил, картавя на истинно парижский манер: – J'en ai le frisson que d'y penser . Ну ее, правду, господа. Кому она нужна? Может, лучше сыграем в американскую рулетку? Как, не соблазняет? – Ипполит, я, кажется, предупредила! – метнула в него молнию богиня. – Повторять не буду! Про то ни слова! Ипполит немедленно умолк и даже руки вскинул – мол, нем как рыба. А проворный капитан тем временем уж собирал в фуражку фанты. Эраст Петрович положил батистовый отцовский платок с монограммой П.Ф. Тянуть поручили гладкому Антону Ивановичу. Первым делом он достал из фуражки сигару, которую сам туда положил, и вкрадчиво спросил: – Что сему фанту? – От баранки дыру, – ответила отвернувшаяся к стене Клеопатра, и все кроме гладкого злорадно расхохотались. – А сему? – безразлично извлек Антон Иванович капитанов серебристый карандаш. – Прошлогоднего снегу. Далее последовали часы медальон («от рыбы уши»), игральная карта («mes condoleances» ), фосфорные спички («правый глаз Кутузова»), янтарный мундштук («пустые хлопоты»), сторублевая ассигнация («три раза ничего»), черепаховый гребешок («четыре раза ничего»), виноградина («шевелюру Ореста Кирилловича» – продолжительный смех в адрес абсолютно лысого господина с Владимиром в петлице), гвоздика («этому – никогда и ни за что»). В фуражке остались всего два фанта – платок Эраста Петровича и золотой перстень Ахтырцева. Когда в пальцах объявляющего искристо сверкнул перстень, студент весь подался вперед, и Фандорин увидел, как на прыщавом лбу выступили капельки пота. – Этому, что ли отдать? – протянула Амелия Казимировна, которой, видно прискучило развлекать публику. Ахтырцев приподнялся и, не веря своему счастью, сдернул с носа пенсне. – Да нет, пожалуй, не ему, а последнему, – закончила мучительница. Все обернулись к Эрасту Петровичу, впервые приглядываясь к нему всерьез. Он же последние несколько минут, по мере увеличения шансов, все лихорадочнее обдумывал, как быть в случае удачи. Что ж, сомнения разрешились. Стало быть, судьба. Тут, сорвавшись с места, к нему подбежал Ахтырцев, горячо зашептал: – Уступите, умоляю. Вам что… вы здесь впервые, а у меня судьба… Продайте, в конце концов. Сколько? Хотите пятьсот, тысячу, а? Больше? С удивительной для самого себя спокойной решительностью Эраст Петрович отстранил шепчущего, поднялся, подошел к хозяйке и с поклоном спросил: – Куда прикажете? Она смотрела на Фандорина с веселым любопытством. От этого взгляда в упор закружилась голова. – Да вот хоть туда, в угол. А то боюсь я с вами, таким храбрым, уединяться то. Не обращая внимания на насмешливый хохот остальных, Эраст Петрович последовал за ней в дальний угол залы и опустился на диван с резной спинкой. Амалия Казимировна вложила пахитоску в серебряный мундштучок, прикурила от свечи и сладко затянулась. – Ну, и сколько вам за меня Николай Степаныч предлагал? Я же знаю, что он вам нашептывал. – Тысячу рублей, – честно ответил Фандорин. – Предлагал и больше. Агатовые глаза Клеопатры недобро блеснули: – Ого, как ему не терпится. Вы что же, миллионщик? – Нет, я небогат, – скромно произнес Эраст Петрович. – Но торговать удачей почитаю низким. Гостям надоело прислушиваться к их беседе – все равно ничего не было слышно, – и они, разделившись на группки, завели какие то свои разговоры, хоть каждый нет нет да и посматривал в дальний угол. А Клеопатра с откровенной насмешкой изучала своего временного повелителя. – О чем желаете спросить? Эраст Петрович колебался. – Ответ будет честным? – Честность – для честных, а в наших играх чести немного, – с едва уловимой горечью усмехнулась Бежецкая. – Но откровенность обещаю. Только не разочаруйте, глупостей не спрашивайте. Я вас за любопытный экземпляр держу. И Фандорин очертя голову устремился в атаку: – Что вам известно о смерти Петра Александровича Кокорина? Хозяйка не испугалась, не вздрогнула, но Эрасту Петровичу показалось, будто глаза ее на миг чуть сузились. – А вам зачем? – Это я после объясню. Сначала ответьте. – Что ж, скажу. Кокорина убила одна очень жестокая дама. – Бежецкая на миг опустила густые черные ресницы и обожгла из под них быстрым, как удар шпаги, взглядом. – А зовут эту даму «любовь». – Любовь к вам? Ведь он бывал здесь? – Бывал. А кроме меня тут, по моему, влюбиться не в кого. Разве в Ореста Кирилловича. – Она засмеялась. – И вам Кокорина совсем не жаль? – подивился такой черствости Фандорин. Царица египетская равнодушно пожала плечами: – Всяк сам хозяин своей судьбы. Но не хватит ли вопросов? – Нет! – заторопился Эраст Петрович. – А какое касательство имел Ахтырцев? И что означает завещание на леди Эстер? Гул голосов стал громче, и Фандорин досадливо обернулся. – Не нравится мой тон? – громогласно вопрошал Ипполит, напирая на нетрезвого Ахтырцева. – А вот это тебе, стручок, понравится? – И он толкнул студента ладонью в лоб, вроде бы несильно, но плюгавый Ахтырцев отлетел к креслу, плюхнулся в него и остался сидеть, растерянно хлопая глазами. – Позвольте, граф, так нельзя! – ринулся вперед Эраст Петрович. – Если вы сильнее, это еще не дает вам права… Однако его сбивчивые речи, на которые граф едва оглянулся, были заглушены звенящим голосом хозяйки: – Ипполит, поди вон! И чтоб ноги твоей здесь не было, пока не протрезвишься! Граф, чертыхнувшись, загрохотал к выходу. Прочие гости с любопытством разглядывали обмякшего Ахтырцева, который был совсем жалок и не делал ни малейших попыток подняться. – Вы здесь один на человека похожи, – шепнула Амалия Казимировна Фандорину, направляясь в коридор. – Уведите его. Да не бросайте. Почти сразу же появился верзила Джон, сменивший ливрею на черный сюртук и накрахмаленную манишку, помог довести студента до дверей и нахлобучил ему на голову цилиндр. Бежецкая попрощаться не вышла, и, посмотрев в угрюмую физиономию дворецкого, Эраст Петрович понял, что надо уходить. Глава пятая, в которой героя подстерегают серьезные неприятности На улице, вдохнув свежего воздуха, Ахтырцев несколько ожил – на ногах стоял крепко, не качался, и Эраст Петрович счел возможным более его под локоть не поддерживать. – Пройдемся до Сретенки, – сказал он. – Там я посажу вас на извозчика. Далеко ли вам до дому? – До дому? – В неровном свете керосинового фонаря бледное лицо студента казалось маской. – Нет, домой ни за что! Поедемте куда нибудь, а? Поговорить хочется. Вы же видели… что они со мной делают. Как вас зовут? Помню, Фандорин, смешная фамилия. А я Ахтырцев. Николай Ахтырцев. Эраст Петрович слегка поклонился, решая сложную моральную проблему: порядочно ли будет воспользоваться ослабленным состоянием Ахтырцева, чтобы выведать у него необходимые сведения, благо «зутулый», кажется, и сам не прочь пооткровенничать. Решил, что ничего, можно. Уж очень сыскной азарт разбирал. – Тут «Крым» близко, – сообразил Ахтырцев. – И ехать не надо, пешком дойдем. Вертеп, конечно, но вина приличные. Пойдемте, а? Я вас приглашаю. Фандорин ломаться не стал, и они медленно (все таки студента слегка покачивало) побрели по темному переулку туда, где вдали светились огни Сретенки. – Вы, Фандорин, меня, верно, трусом считаете? – чуть заплетаясь языком проговорил Ахтырцев. – Что я графа то не вызвал, оскорбление снес да пьяным притворился? Я не трус, я вам, может, такое расскажу, что вы убедитесь… Ведь он нарочно провоцировал. Это, поди, она его подговорила, чтобы от меня избавиться и долг не отдавать… О, это такая женщина, вы ее не знаете!… А Зурову человека убить, что муху раздавить. Он каждое утро по часу из пистолета упражняется. Говорят, с двадцати шагов пулю в пятак кладет. Разве это дуэль? Ему и риска никакого. Это убийство, только называется красиво. И, главное, не будет ему ничего, выкрутится. Он уж не раз выкручивался. Ну, за границу покататься поедет. А я теперь жить хочу, я заслужил. Они свернули со Сретенки в другой переулок, невидный собой, но все таки уже не с керосиновыми, а с газовыми фонарями, и впереди показался трехэтажный дом с ярко освещенными окнами. Должно быть, это и есть «Крым», с замиранием сердца подумал Эраст Петрович, много слышавший про это известное на Москве злачное заведение. У широкого, с яркими лампами крыльца их никто не встретил. Ахтырцев привычным жестом толкнул высокую узорчатую дверь, она легко подалась, и навстречу дохнуло теплом, кухней и спиртным, накатило гулом голосов и визгом скрипок. Оставив в гардеробе цилиндры, молодые люди попали в лапы бойкого малого в алой рубахе, который именовал Ахтырцева «сиятельством» и обещал самый лучший, специально сбереженный столик. Столик оказался у стены и, слава богу, далеко от сцены, где голосил и звенел бубнами цыганский хор. Эраст Петрович, впервые попавший в настоящий вертеп разврата, крутил головой во все стороны. Публика тут была самая пестрая, но трезвых, кажется, не наблюдалось совсем. Тон задавали купчики и биржевики с напомаженными проборами – известно, у кого нынче деньги то, но попадались и господа несомненно барского вида, где то даже блеснул золотом флигель адъютантский вензель на погоне. Но главный интерес у коллежского регистратора вызвали девицы, подсаживавшиеся к столам по первому же жесту. Декольте у них были такие, что Эраст Петрович покраснел, а юбки – с разрезами, сквозь которые бесстыдно высовывались круглые коленки в ажурных чулках. – Что, на девок загляделись? – ухмыльнулся Ахтырцев, заказав официанту вина и горячего. – А я после Амалии их и за особ женского пола не держу. Вам сколько лет, Фандорин? – Двадцать один, – ответил Эраст Петрович, набавив годик. – А мне двадцать три, я уже много чего повидал. Не пяльтесь вы на продажных, не стоят они ни денег, ни времени. Да и противно потом. Уж если любить, так царицу! Хотя что я вам толкую… Вы ведь неспроста к Амалии заявились? Приворожила? Это она любит, коллекцию собирать, и чтоб непременно экспонаты обновлялись. Как поется в оперетке, elle ne pense qu'a exciter les hommes … Но всему есть цена, и я свою цену заплатил. Хотите расскажу одну историю? Что то нравитесь вы мне, больно хорошо молчите. И вам полезно узнать, что это за женщина. Может, опомнитесь, пока не засосало, как меня. Или уж засосало, а, Фандорин? Что вы ей там нашептывали? Эраст Петрович потупил взор. – Так слушайте, – приступил к рассказу Ахтырцев. – Вы вот давеча меня в трусости подозревали, что я Ипполиту спустил, на поединок не вызвал. А у меня такая дуэль была, что Ипполиту вашему и не снилось. Слыхали, как она про Кокорина говорить не велела? Еще бы! На ее совести кровь, на ее. Ну, и на моей, разумеется. Только я свой грех смертным страхом искупил. Кокорин – это однокурсник мой, тоже к Амалии ходил. Дружили мы с ним когда то, а из за нее врагами стали. Кокорин поразвязней меня, да и на лицо смазлив, но, entre nous , купчина всегда купчина, плебей, хоть бы и в университете учился. Довольно Амалия с нами натешилась – то одного приблизит, то другого. Зовет Nicolas да на «ты», вроде как в фавориты к ней попадаешь, а потом за какую нибудь ерунду в опалу отправит: запретит неделю на глаза казаться, и снова на «вы», снова «Николай Степаныч». Политика у нее такая, кто на удочку попал, не сорвется. – А этот Ипполит ей что? – осторожно спросил Фандорин. – Граф Зуров? Точно не знаю, но есть меж ними что то особенное… То ли он над ней власть имеет, то ли она над ним… Да он не ревнив, не в нем дело. Такая никому не позволит себя ревновать. Одно слово – царица! Он замолчал, потому что за соседним столиком шумно загалдела компания подвыпивших коммерсантов – собирались уходить и заспорили, кто будет платить. Официанты в два счета унесли грязную скатерть, застелили новую, и через минуту за освободившимся столом уже сидел сильно подгулявший чиновник с белесыми, почти прозрачными (должно быть, от пьянства) глазами. К гуляке подпорхнула сдобная шатенка, обхватила за плечо и картинно закинула ногу на ногу – Эраст Петрович так и загляделся на туго обтянутую красным фильдеперсом коленку. А студент, осушив полный бокал рейнского и потыкав вилкой в кровавый бифстек, продолжил: – Вы думаете, Пьер Кокорин от несчастной любви руки на себя наложил? Как бы не так! Это я его убил. – Что?! – не поверил своим ушам Фандорин. – Что слышали, – с гордым видом кивнул Ахтырцев. – Я вам все расскажу, только сидите тихо и с вопросами не встревайте. Да, я убил его, и ничуть об этом не жалею. По честному убил, на дуэли. Да, по честному! Потому что дуэли честнее нашей испокон веку не бывало. Когда двое стоят у барьера, тут почти всегда обман – один стреляет лучше, другой хуже, или один толстый и в него попасть легче, или ночь провел бессонную и руки трясутся. А у нас с Пьером все было без обману. Она говорит – в Сокольниках это было, на кругу, катались мы втроем в экипаже – говорит: «Надоели вы мне оба, богатые, испорченные мальчишки. Хоть бы поубивали друг друга, что ли». А Кокорин, скотина, ей: «И убью, если мне за это награда от вас будет». Я говорю: «За награду и я убью. Награда такая, говорю, что на двоих не поделишь. Стало быть, одному прямая дорожка в сырую землю, если сам не отступится». Вот до чего у нас с Кокориным уже доходило то. «Что, будто так уж любите меня?» – спрашивает. Он: «Больше жизни». И я тоже подтвердил. «Ладно, – говорит она, – я в людях одну только смелость ценю, прочее все подделать можно. Слушайте мою волю. Если один из вас и вправду убьет другого, будет ему за смелость награда, сами знаете, какая». И смеется. «Только болтуны, говорит, вы оба. Никого вы не убьете. Нет в вас ничего интересного кроме родительских капиталов». Я вспылил. «За Кокорина, сказал, не поручусь, а только я ради такой награды ни своей, ни чужой жизни не пожалею». А она, сердито так: «Ну вот что, надоели вы мне своим кукареканьем. Решено, будете стреляться, да не на дуэли, а то потом скандала не оберешься. И неверная она, дуэль. Продырявит один другому руку, да и заявится ко мне победителем. Нет, пусть будет одному смерть, а другому любовь. Как судьба рассудит. Жребий бросьте. Кому выпадет – пусть застрелится. И записку пусть напишет такую, чтобы не подумали, будто из за меня. Что, струсили? Если струсили, так хоть бывать у меня от стыда перестанете – все польза». Пьер посмотрел на меня и говорит: «Не знаю, как Ахтырцев, а я не струшу»… Так и порешили… Студент замолчал, повесив голову. Потом, встряхнувшись, налил бокал до краев и залпом выпил. За соседним столиком заливисто расхохоталась девица в красных чулках – белоглазый что то нашептывал ей на ухо. – Но как же завещание? – спросил Эраст Петрович и прикусил язык, ибо про это знать ему вроде бы не полагалось. Но поглощенный воспоминаниями Ахтырцев лишь вяло кивнул: – А, завещание… Это она придумала. «Вы меня деньгами купить хотели? – говорит. – Хорошо же, пусть будут деньги, только не сто тысяч, как Николай Степаныч сулил (было, сунулся я к ней раз – чуть не выгнала). И не двести. А все, что у вас есть. Кому смерть выпадет, пускай на тот свет голым идет. Только мне, говорит, ваши деньги не нужны, я сама кого хочешь одарю. Пусть деньги на какое нибудь хорошее дело пойдут – святой обители или еще куда. На отмоление смертного греха. Как, говорит, Петруша, верно, толстая свечка из твоего миллиона то выйдет?» А Кокорин атеист был, из воинствующих. Так и вскинулся. «Только не попам, говорит. Лучше завещаю падшим девкам, пусть каждая по швейной машинке купит и ремесло поменяет. Не останется на Москве ни одной уличной, вот и будет по Петру Кокорину память». Ну, Амалия и скажи: «Кто беспутной стала, уж не переделаешь. Раньше надо было, в невинном возрасте». Кокорин рукой махнул: «Ну, на детей, сирот каких нибудь, Воспитательному дому». Она вся прямо засветилась: «А вот за это, Петруша, тебе многое простилось бы. Иди, поцелую тебя». Меня злость взяла. «Разворуют твой миллион в Воспитательном, говорю. Читал, что про казенные приюты в газетах пишут? Да и много им больно. Лучше англичанке отдать, баронессе Эстер, она не уворует». Амалия и меня поцеловала – давайте, мол, утрите нос нашим патриотам. Это одиннадцатого было, в субботу. В воскресенье мы с Кокориным встретились и все обговорили. Чудной разговор получился. Он все хорохорился, ерничал, я больше отмалчивался, а в глаза друг другу не смотрели. Я словно в отупении был… Вызвали стряпчего, составили завещания по всей форме. Пьер у меня свидетель и душеприказчик, я у него. Стряпчему дали по пять тысяч каждый, чтоб держал язык за зубами. Да ему и невыгодно болтать то. А с Пьером договорились так – он сам предложил. Встречаемся в десять утра у меня на Таганке (я на Гончарной живу). У каждого в кармане шестизарядный револьвер с одним патроном в барабане. Идем порознь, но чтобы видеть друг друга. Кому жребий выпадет – пробует первый. Кокорин где то про американскую рулетку прочитал, понравилось ему. Сказал, из за нас с тобой, Коля, ее в русскую переименуют, вот увидишь. И еще говорит, скучно дома стреляться, устроим себе напоследок моцион с аттракционом. Я согласился, мне все равно было. Признаться, скис я, думал, что проиграю. И в мозгу стучит: понедельник, тринадцатое, понедельник, тринадцатое. Ночь не спал совсем, хотел было за границу уехать, но как подумаю, что он с ней останется и смеяться надо мной будут… В общем, остался. А утром было так. Пришел Пьер – франтом, в белом жилете, сильно веселый. Он везучий был, видно, надеялся, что и тут повезет. Метнули кости у меня в кабинете. У него девять, у меня три. Я уж к этому готов был. «Не пойду никуда, – говорю. – Лучше тут умру». Вертанул барабан, дуло к сердцу приставил. «Стой! – Это он мне. – В сердце не стреляй. Если пуля криво пройдет, долго мучиться будешь. Лучше в висок или в рот». «Спасибо за заботу», – говорю и ненавидел его в эту минуту так, что, кажется, застрелил бы безо всякой дуэли. Но совета послушал. Никогда не забуду тот щелчок, самый первый. Так возле уха брякнуло, что… Ахтырцев передернулся и налил себе еще. Певица, толстая цыганка в золотистой шали, завела низким голосом что то протяжное, переворачивающее душу. – …Слышу голос Пьера: «Ну, теперь мой черед. Пойдем на воздух». Только тогда и понял, что живой. Пошли мы на Швивую горку, откуда вид на город. Кокорин впереди, я шагов на двадцать сзади. Он постоял немного над обрывом, лица его я не видел. Потом поднял руку с пистолетом, чтоб мне видно было, покрутил барабан и быстро так к виску – щелк. А я знал, что ему ничего не будет, и не надеялся даже. Снова кинули кости – снова мне выпало. Спустился к Яузе, народу ни души. Залез у моста на тумбу, чтоб после сразу в воду упасть… Опять пронесло. Отошли в сторонку, Пьер и говорит: «Что то скучно становится. Попугаем обывателей?» Держался он молодцом, отдаю должное. Вышли в переулок, а там уже люди, экипажи ездят. Я встал на другой стороне. Кокорин снял шляпу, направо налево поклонился, руку вверх, крутанул барабан – ничего. Ну, оттуда пришлось быстро ноги уносить. Крик, шум, дамы визжат. Завернули в подворотню, это уж на Маросейке. Метнули кости, и что вы думаете? Опять мне! У него две шестерки, у меня двойка, честное слово! Все, думаю, finito , уж символичней не бывает. Одному все, другому ничего. В третий раз стрелялся я подле Косьмы и Дамиана, меня там крестили. Встал на паперти, где нищие, дал каждому по рублю, снял фуражку… Открываю глаза – живой. А один юродивый мне говорит: «В душе свербит – Господь простит». В душе свербит – Господь простит, я запомнил. Ладно, убежали мы оттуда. Кокорин выбрал место пошикарней, прямо возле Галофтеевского Пассажа. В Неглинном зашел в кондитерскую, сел, я снаружи за стеклом стою. Сказал он что то даме за соседним столиком, она улыбнулась. Он револьвер достает, нажимает на спуск – я вижу. Дама пуще смеется. Он пистолет убрал, с ней еще о чем то поболтал, выпил кофею. Я уже в оцепенении, ничего не чувствую. В голове только одно: сейчас снова жребий кидать. Метнули в Охотном, возле гостиницы «Лоскутная», и тут уж выпало первому ему. Мне семерка, ему шестерка. Семерка и шестерка – всего очко разницы. Дошли до Гуровского трактира вместе, а там, где Исторический музей строят, разошлись – он в Александровский сад, по аллее двинул, а я по тротуару, за оградой. Последнее, что он мне сказал: «Дураки мы с тобой, Коля. Если сейчас пронесет – пошлю все к черту». Я хотел остановить его, ей богу хотел, но не остановил. Почему – сам не знаю. Вру, знаю… Мыслишка возникла подлая. Пусть еще разок барабан повертит, а там видно будет. Может, и пошабашим… Только вам, Фандорин, признаюсь. Я сейчас как на духу… Ахтырцев выпил еще, глаза под пенсне у него были красные и мутные. Фандорин ждал, затаив дыхание, хотя дальнейшие события ему, в общем, были известны. Николай Степанович вынул из кармана сигару и, подрагивая рукой, зажег спичку. Длинная, толстая сигара удивительно не шла к его некрасивому мальчишескому лицу. Отмахнув от глаз облако дыма, Ахтырцев резко поднялся. – Официант, счет! Не могу здесь больше. Шумно, душно. – Он рванул на горле шелковый галстук. – Поедем еще куда нибудь. Или так пройдемся. На крыльце они остановились. Переулок был мрачен и пустынен, во всех домах кроме «Крыма» окна погасли. В ближнем фонаре трепетал и мигал газ. – Или вшо таки домой? – прокартавил Ахтырцев c зажатой в зубах сигарой. – Тут жа углом лихачи должны быч. Раскрылась дверь, на крыльцо вышел недавний сосед, белоглазый чиновник в сдвинутой набекрень фуражке. Громко икнув, полез в карман вицмундира, достал сигару. – Па азвольте огоньком одолжиться? – спросил он, приблизившись к молодым людям. Фандорину послышался легкий акцент, не то остзейский, не то чухонский. Ахтырцев похлопал по карману, потом по другому – брякнули спички. Эраст Петрович терпеливо ждал. Неожиданно во внешности белоглазого произошло какое то непонятное изменение. Он вроде бы стал чуть ниже ростом и слегка завалился набок. В следующий миг в его левой руке как бы само собой выросло широкое короткое лезвие, и чиновник экономным, гуттаперчивым движением ткнул клинок в правый бок Ахтырцеву. Последующие события произошли очень быстро, в две три секунды, но Эрасту Петровичу померещилось, что время застыло. Он многое успевал заметить, о многом успевал подумать, только вот двинуться никак не было возможности, будто загипнотизировал его отблеск света на полоске стали. Сначала Эраст Петрович подумал: это он его в печень, и в памяти откуда ни возьмись выпрыгнуло предложение из гимназического учебника биологии – «Печень – черево в животном теле, отделяющее кровь от желчи». Потом он увидел, как умирает Ахтырцев. Эраст Петрович никогда раньше не видел, как умирают, но почему то сразу понял, что Ахтырцев именно умер. Глаза у него будто остекленели, губы судорожно вспучились, и из них прорвалась наружу струйка темно вишневой крови. Очень медленно и даже, как показалось Фандорину, изящно чиновник выдернул лезвие, которое уже не блестело, тихо тихо обернулся к Эрасту Петровичу, и его лицо оказалось совсем близко: светлые глаза с черными точками зрачков, тонкие бескровные губы. Губы шевельнулись и отчетливо произнесли: «Азазель». И тут растяжение времени закончилось, время сжалось пружиной и, распрямившись, обжигающе ударило Эраста Петровича в правый бок, да так сильно, что он упал навзничь и больно ударился затылком о край крылечного парапета. Что это? Какой еще «азазель»? – подумал Фандорин. Сплю я, что ли? И еще подумал: Это он ножом в «Лорда Байрона» угодил. Китовый ус. Талия в дюйм. Двери рывком распахнулись, и на крыльцо с хохотом вывалилась шумная компания. – Ого, господа, да тут цельное Бородино! – весело крикнул нетрезвый купеческий голос. – Ослабели, сердешные! Пить не умеют! Эраст Петрович приподнялся, держась рукой за горячий и мокрый бок, чтобы посмотреть на белоглазого. Но, странное дело, никакого белоглазого не было. Ахтырцев лежал, где упал – лицом вниз поперек ступенек; поодаль валялся откатившийся цилиндр, а вот чиновник исчез бесследно, растворился в воздухе. И на всей улице не было видно ни души, только тускло светили фонари. Вдруг фонари повели себя чудно – завертелись, закружились, и стало сначала очень ярко, а потом совсем темно. Глава шестая, в которой появляется человек будущего – Да лежите, голубчик, лежите, – сказал с порога Ксаверий Феофилактович, когда Фандорин сконфуженно спустил ноги с жесткого дивана. – Вам что доктор велел? Все знаю, справлялся. Две недели после выписки постельный режим, чтоб порез как следует зарос и сотрясенные мозги на место встали, а вы и десяти дней еще не отлежали. Он сел и вытер клетчатым платком багровую лысину. – Уф, пригревает солнышко, пригревает. Вот я вам марципан принес и черешни свежей, угощайтесь. Куда положить то? Пристав оглядел щелеобразную каморку, где квартировал коллежский регистратор. Узелок с гостинцами положить было некуда: на диване лежал хозяин, на стуле сидел сам Ксаверий Феофилактович, на столе громоздились книжки. Другой мебели в комнатке не имелось, даже шкафа – многочисленные предметы гардероба висели на вбитых в стены гвоздях. – Что, побаливает? – Совсем нет, – немножко соврал Эраст Петрович. – Хоть завтра швы снимай. Только по ребрам слегка проехало, а так ничего. И голова в полном порядке. – Да чего там, хворали бы себе, жалованье то идет. – Ксаверий Феофилактович виновато нахмурился. – Вы уж не сердитесь, душа моя, что я к вам долго не заглядывал. Поди, плохо про старика думали – мол, как рапорт записывать, так сразу в больницу прискакал, а потом, как не нужен стал, так и носу не кажет. Я к врачу посылал справляться, а к вам никак не мог выбраться. У нас в управлении такое творится, днюем и ночуем, право слово. – Пристав покачал головой и доверительно понизил голос. – Ахтырцев то ваш не просто так оказался, а родной внук его светлости канцлера Корчакова, не более и не менее. – Да что вы! – ахнул Фандорин. – Отец у него посланником в Голландии, женат вторым браком, а ваш знакомец в Москве у тетки проживал, княжны Корчаковой, собственный палаццо на Гончарной улице. Княжна в прошлый год преставилась, все состояние ему отписала, а у него и от матери покойницы много чего было. Ох, и началась у нас свистопляска, доложу я вам. Перво наперво дело на личный контроль к генерал губернатору, самому князю Долгорукому затребовали. А дела то никакого и нет, и подступиться неоткуда. Убийцу никто кроме вас не видел. Бежецкой, как я вам в прошлый раз уже говорил, след простыл. Дом пустой. Ни слуг, ни бумаг. Ищи ветра в поле. Кто такая – непонятно, откуда взялась – неизвестно. По пашпорту виленская дворянка. Послали запрос в Вильно – там таких не значится. Ладно. Вызывает меня неделю назад его превосходительство. «Не обессудь, говорит, Ксаверий, я тебя давно знаю и добросовестность твою уважаю, но тут дело не твоего масштаба. Приедет из Петербурга специальный следователь, чиновник особых поручений при шефе жандармов и начальнике Третьего отделения его высокопревосходительстве генерал адъютанте Мизинове Лаврентии Аркадьевиче. Чуешь, какая птица? Из новых, из разночинцев, человек будущего. Все по науке делает. Мастер по хитрым делам, не нам с тобой чета». – Ксаверий Феофилактович сердито хмыкнул. – Он, значит, человек будущего, а Грушин – человек прошлого. Ладно. Третьего дня утром прибывает. Это, стало быть, в среду, двадцать второго. Звать – Иван Францевич Бриллинг, статский советник. В тридцать то лет! Ну и началось у нас. Вот сегодня суббота, а с девяти утра на службе. И вчера до одиннадцати вечера все совещались, схемы чертили. Помните буфетную, где чай пили? Там теперь заместо самовара телеграфный аппарат и круглосуточно телеграфист дежурит. Можно депешу хоть во Владивосток, хоть в Берлин послать, и тут же ответ придет. Агентов половину выгнал, половину своих из Питера привез, слушаются только его. Меня обо всем дотошно расспросил и выслушал внимательно. Думал, в отставку отправит, ан нет, сгодился пока пристав Грушин. Я, собственно, что к вам, голубчик, приехал то, – спохватился Ксаверий Феофилактович. – Предупредить хочу. Он к вам нынче сам собирался быть, хочет лично допросить. Вы не тушуйтесь, вины на вас нет. Даже рану получили при исполнении. И уж того, не подведите старика. Кто же знал, что так дело повернется? Эраст Петрович тоскливо оглядел свое убогое жилище. Хорошее же представление составит о нем большой человек из Петербурга. – А может, я лучше сам в управление приеду? Мне, честное слово, уже совсем хорошо. – И не думайте! – замахал руками пристав. – Выдать хотите, что я к вам предварить заезжал? Лежите уж. Он ваш адрес записал, сегодня беспременно будет. «Человек будущего» прибыл вечером, в седьмом часу, и Эраст Петрович успел основательно подготовиться. Сказал Аграфене Кондратьевне, что приедет генерал, так пусть Малашка в прихожей пол помоет, сундук трухлявый уберет и главное чтоб не вздумала щи варить. У себя в комнате раненый произвел капитальную уборку: одежду на гвоздях перевесил поавантажней, книги убрал под кровать, оставил на столе только французский роман, «Философические эссе» Давида Юма на английском и «Записки парижского сыщика» Жана Дебрэ. Потом Дебрэ убрал и положил вместо него «Наставление по правильному дыханию настоящего индийского брамина г на Чандры Джонсона», по которому каждое утро делал укрепляющую дух гимнастику. Пусть видит мастер хитрых дел, что здесь живет человек бедный, но не опустившийся. Чтобы подчеркнуть тяжесть своего ранения, Эраст Петрович поставил на стул подле дивана пузырек с какой то микстурой (одолжил у Аграфены Кондратьевны), а сам лег и обвязал голову белым кашне. Кажется, получилось то, что надо – скорбно и мужественно. Наконец, когда лежать уже сильно надоело, в дверь коротко постучали, и тут же, не дожидаясь отклика, вошел энергичный господин, одетый в легкий, удобный пиджак, светлые панталоны и вовсе без головного убора. Аккуратно расчесанные русые волосы открывали высокий лоб, в уголках волевого рта пролегли две насмешливые складочки, от бритого, с ямочкой подбородка так и веяло самоуверенностью. Проницательные серые глаза в миг обозрели комнату и остановились на Фандорине. – Я вижу, мне представляться не надо, – весело сказал гость. – Основное про меня вы уже знаете, хоть и в невыгодном свете. На телеграф то Грушин нажаловался? Эраст Петрович захлопал глазами и ничего на это не сказал. – Это дедуктивный метод, милейший Фандорин. Восстановление общей картины по некоторым мелким деталям. Тут главное – не зарваться, не прийти к некорректному выводу, если имеющаяся информация допускает различные толкования. Но об этом мы еще поговорим, время будет. А насчет Грушина, это совсем просто. Ваша хозяйка поклонилась мне чуть не до пола и назвала «превосходительством» – это раз. Я, как видите, на «превосходительство» никак не похож, да оным пока и не являюсь, ибо мой чин относится всего лишь к разряду «высокоблагородий» – это два. Никому кроме Грушина о своем намерении навестить вас я не говорил – это три. Ясно, что о моей деятельности господин следственный пристав может отзываться только нелестно – это четыре. Ну, а телеграф, без которого в современном сыске, согласитесь, совершенно невозможно, произвел на все ваше управление поистине неизгладимое впечатление, и умолчать о нем наш сонный Ксаверий Феофилактович никак не мог – это пять. Так? – Так, – постыдно предал добрейшего Ксаверия Феофилактовича потрясенный Фандорин. – У вас что, в таком юном возрасте уже геморрой? – спросил бойкий гость, переставляя микстуру на стол и усаживаясь. – Нет! – бурно покраснел Эраст Петрович и заодно отрекся уж и от Аграфены Кондратьевны. – Это… Это хозяйка перепутала. Она, ваше высокоблагородие, вечно все путает. Такая баба бестолковая… – Понятно. Зовите меня Иваном Францевичем, а еще лучше просто «шеф», ибо работать будем вместе. Читал ваше донесение, – без малейшего перехода продолжил Бриллинг. – Толково. Наблюдательно. Результативно. Приятно удивлен вашей интуицией – это в нашем деле драгоценнее всего. Еще не знаешь, как разовьется ситуация, а чутье подсказывает принять меры. Как вы догадались, что визит к Бежецкой может быть опасен? Почему сочли необходимым надеть защитный корсет? Браво! Эраст Петрович запунцовел еще пуще прежнего. – Да, придумано славно. От пули, конечно, не убережет, но от холодного оружия очень даже неплохо. Я распоряжусь, чтобы закупили партию таких корсетов для агентов, отправляющихся на опасные задания. Какая марка? Фандорин застенчиво ответил: – «Лорд Байрон». – «Лорд Байрон», – повторил Бриллинг, делая запись в маленькой кожаной книжечке. – А теперь скажите мне, когда вы могли бы приступить к работе? У меня на вас особые виды. – Господи, да хоть завтра! – пылко воскликнул Фандорин, влюбленно глядя на нового начальника, то есть шефа. – Сбегаю утром к доктору, сниму швы, и можете мной располагать. – Вот и славно. Ваша характеристика Бежецкой? Эраст Петрович законфузился и, помогая себе обильной жестикуляцией, начал довольно нескладно: – Это… Это редкостная женщина. Клеопатра. Кармен… Красоты неописуемой, но дело даже не в красоте… Магнетический взгляд. Нет, и взгляд не то… Вот главное: в ней ощущается огромная сила. Такая сила, что она со всеми будто играет. И игра с какими то непонятными правилами, но жестокая игра. Эта женщина, по моему, очень порочна и в то же время… абсолютно невинна. Ее будто не так научили в детстве. Я не знаю, как объяснить… – Фандорин порозовел, понимая, что несет вздор, но все же договорил. – Мне кажется, она не такая плохая, как хочет казаться. Статский советник испытующе взглянул на молодого человека и озорно присвистнул: – Вон оно что… Так я и подумал. Теперь я вижу, что Амалия Бежецкая – особа и впрямь опасная… Особенно для юных романтиков в период полового созревания. Довольный эффектом, который эта шутка произвела на собеседника, Иван Францевич поднялся и еще раз посмотрел вокруг. – За конурку рублей десять платите? – Двенадцать, – с достоинством ответил Эраст Петрович. – Знакомая декорация. Сам так жил во время оно. Гимназистом в славном городе Харькове. Я, видите ли, вроде вас – в раннем возрасте остался без родителей. Ну, да это для оформления личности даже полезно. Жалованье то тридцать пять целковых, согласно табели? – опять без малейшего перехода поинтересовался статский советник. – И квартальная надбавка за сверхурочные. – Я распоряжусь, чтобы вам из особого фонда выдали пятьсот рублей премиальных. За усердие и перенесенную опасность. Итак, до завтра. Приходите, будем работать с версиями. И дверь за удивительным посетителем закрылась. * * * Управление сыскной полиции и в самом деле было не узнать. По коридорам деловито рысили какие то незнакомые господа с папками подмышкой, и даже прежние сослуживцы ходили уже не вперевалочку, а резво, подтянуто. В курительной – о чудо – не было ни души. Эраст Петрович из любопытства заглянул в бывшую буфетную, и точно – вместо самовара и чашек на столе стоял аппарат Бодо, а телеграфист в форменной тужурке посмотрел на вошедшего строго и вопросительно. Следственный штаб расположился в кабинете начальника управления, ибо господин полковник со вчерашнего дня был от дел отставлен. Эраст Петрович, еще немного бледный после болезненной процедуры снятия швов, постучался и заглянул внутрь. Кабинет тоже изменился: покойные кожаные кресла исчезли, вместо них появилось три ряда простых стульев, а у стены стояли две школьных доски, сплошь исчерченные какими то схемами. Похоже, только что закончилось совещание – Бриллинг вытирал тряпкой испачканные мелом руки, а чиновники и агенты, озабоченно переговариваясь, тянулись к выходу. – Входите, Фандорин, входите, не топчитесь на пороге, – поторопил заробевшего Эраста Петровича новый хозяин кабинета. – Залатались? Вот и отлично. Вы будете работать непосредственно со мной. Стола не выделяю – сидеть все равно не придется. Жалко, поздно пришли, у нас тут была интереснейшая дискуссия по поводу «Азазеля» из вашего рапорта. – Так есть такой? Я не ослышался? – навострил уши Эраст Петрович. – А то уж боялся, что примерещилось. – Не примерещилось. Азазель – это падший ангел. У вас по Закону Божию какая отметка? Про козлов отпущения помните? Так вот, их, если вы запамятовали, было два. Один во искупление грехов предназначался Богу, а второй – Азазелю, чтоб не прогневался. У евреев в «Книге Еноха» Азазель учит людей всякой дряни: мужчин воевать и делать оружие, женщин – красить лицо и вытравливать плод. Одним словом, мятежный демон, дух изгнанья. – Но что это может значить? – Один коллежский асессор из ваших московских тут целую гипотезу развернул. Про тайную иудейскую организацию. И про жидовский Синедрион рассказал, и про кровь христианских младенцев. У него Бежецкая получилась дщерью Израилевой, а Ахтырцев – агнцем, принесенным на жертвенный алтарь еврейского бога. В общем, чушь. Мне эти юдофобские бредни по Петербургу слишком хорошо знакомы. Если приключилась беда, а причины неясны – сразу Синедрион поминают. – А что предполагаете вы, … шеф? – не без внутреннего трепета произнес Фандорин непривычное обращение. – Извольте взглянуть сюда. – Бриллинг подошел к одной из досок. – Вот эти четыре кружка наверху – четыре версии. Первый кружок, как видите, с вопросом. Это самая безнадежная версия: убийца действовал в одиночку, и вы с Ахтырцевым были его случайными жертвами. Возможно, маньяк, помешанный на демонизме. Тут мы в тупике, пока не произойдет новых сходных преступлений. Я отправил запросы по телеграфу во все губернии, не было ли похожих убийств. В успехе сомневаюсь – если б такой маньяк проявил себя раньше, я бы об этом знал. Второй кружок с буквами АБ – это Амалия Бежецкая. Она безусловно подозрительна. От ее дома вас с Ахтырцевым легко могли проследить до «Крыма». Опять же бегство. Однако непонятен мотив убийства. – Сбежала, значит, замешана, – горячо сказал Фандорин. – И получается, что белоглазый никакой не одиночка. – Не факт, отнюдь не факт. Мы знаем, что Бежецкая самозванка и жила по подложному паспорту. Вероятно, авантюристка. Вероятно, жила за счет богатых покровителей. Но убивать, да еще руками такого ловкого господина? Судя по вашему донесению, это был не какой нибудь дилетант, а вполне профессиональный убийца. Каков удар в печень – ювелирная работа. Я ведь был в морге, Ахтырцева осматривал. Если б не корсет, лежали б там сейчас и вы, а полиция считала бы, что ограбление или пьяная драка. Но вернемся к Бежецкой. Она могла узнать о происшествии от кого то из челяди – «Крым» в нескольких минутах ходьбы от ее дома. Шуму было много – полиция, разбуженные зеваки. Кто то из прислуги или, скажем, дворник опознал в убитом гостя Бежецкой и сообщил ей. Она, резонно опасаясь полицейского дознания и неминуемого разоблачения, немедленно скрывается. Времени у нее для этого предостаточно – ваш Ксаверий Феофилактович нагрянул с ордером лишь на следующий день после полудня. Знаю знаю, вы были с сотрясением, не сразу пришли в сознание. Пока диктовали донесение, пока начальство в затылке чесало… В общем, Бежецкую я объявил в розыск. В Москве ее, скорее всего, уже нет. Думаю, что и в России нет – шутка ли, десять дней прошло. Составляем список бывавших у нее, но это по большей части весьма солидные люди, тут деликатность нужна. Серьезные подозрения у меня вызывает только один. Иван Францевич ткнул указкой в третий кружок, на котором было написано ГЗ. – Граф Зуров, Ипполит Александрович. Очевидно, любовник Бежецкой. Человек без каких либо нравственных устоев, игрок, бретер, сумасброд. Тип Толстого Американца. Имеются косвенные улики. Ушел в сильном раздражении после ссоры с убитым – это раз. Имел возможность и подстеречь, и выследить, и подослать убийцу – это два. Дворник показал, что домой Зуров вернулся только под утро – это три. Мотив, хоть и хилый, тоже есть: ревность или болезненная мстительность. Возможно, было что то еще. Главное сомнение: Зуров не из тех людей, кто убивает чужими руками. Впрочем, по агентурным сведениям, вокруг него вечно вьются всякие темные личности, так что версия представляется перспективной. Вы, Фандорин, именно ею и займетесь. Зурова разрабатывает целая группа агентов, но вы будете действовать в одиночку, у вас хорошо получается. Подробности задания обговорим позже, а сейчас перейдем к последнему кружку. Им я занимаюсь сам. Эраст Петрович наморщил лоб, пытаясь сообразить, что могут означать буквы НО. – Нигилистическая организация, – пояснил шеф. – Тут есть кое какие приметы заговора, да только не иудейского, а посерьезней. Потому, собственно, я и прислан. То есть, конечно, меня просил и князь Корчаков – как вам известно, Николай Ахтырцев сын его покойной дочери. Однако здесь все может оказаться очень даже непросто. Наши российские революционеры на грани раскола. Наиболее решительным и нетерпеливым из этих робеспьеров надоело просвещать мужика – дело долгое, кропотливое, одной жизни не хватит. Бомба, кинжал и револьвер куда как интересней. Я жду в самое ближайшее время большого кровопролития. То, что было до сих пор – цветочки. Террор против правящего класса может стать массовым. С некоторых пор я веду в Третьем отделении дела по самым оголтелым и законспирированным террористическим группам. Мой патрон, Лаврентий Аркадьевич Мизинов, возглавляющий корпус жандармов и Третье отделение, дал мне поручение разобраться, что это в Москве за «Азазель» такой объявился. Демон – символ весьма революционный. Тут ведь, Фандорин, судьба России на карту поставлена. – От обычной насмешливости Бриллинга не осталось и следа, в голосе зазвучало ожесточение. – Если опухоль в самом зародыше не прооперировать, эти романтики нам лет через тридцать, а то и ранее такой революсьон закатят, что французская гильотина милой шалостью покажется. Не дадут нам с вами спокойно состариться, помяните мое слово. Читали роман «Бесы» господина Достоевского? Зря. Там красноречиво спрогнозировано. – Стало быть, четыре версии? – нерешительно спросил Эраст Петрович. – Мало? Мы что то упускаем из виду? Говорите говорите, я в работе чинов не признаю, – подбодрил его шеф. – И не бойтесь смешным предстать – это у вас по молодости лет. Лучше сказать глупость, чем упустить важное. Фандорин, сначала смущаясь, а потом все более горячо заговорил: – Мне кажется, ваше высоко…, то есть, шеф, что вы зря оставляете в стороне леди Эстер. Она, конечно, весьма почтенная и уважаемая особа, но… но ведь миллионное завещание! Бежецкой от этого выгоды никакой, графу Зурову тоже, нигилистам – разве что в смысле общественного блага… Я не знаю, при чем здесь леди Эстер, может, вовсе и не при чем, но для порядка следовало бы… Ведь вот и следственный принцип есть – cui prodest, «ищи, кому выгодно». – Мерси за перевод, – поклонился Иван Францевич, и Фандорин стушевался. – Замечание совершенно справедливое, однако в рассказе Ахтырцева, который приведен в вашем донесении, все исчерпывающе разъяснено. Имя баронессы Эстер возникло по случайности. Я не включил ее в список подозреваемых, во первых, потому что время дорого, а во вторых, еще и потому, что я эту даму немного знаю, имел счастье встречаться. – Бриллинг по доброму улыбнулся. – Впрочем вы, Фандорин, формально правы. Не хочу навязывать вам своих выводов. Думайте собственной головой, никому не верьте на слово. Наведайтесь к баронессе, расспросите ее о чем сочтете нужным. Уверен, что это знакомство кроме всего прочего доставит вам еще и удовольствие. В службе городского дежурного вам сообщат московский адрес леди Эстер. И вот еще что, перед выходом зайдите в костюмную, пусть снимут с вас мерку. На службу в мундире больше не приходите. Баронессе поклон, а когда вернетесь поумневшим, займемся делом, то бишь графом Зуровым. Глава седьмая, в которой утверждается, что педагогика – главнейшая из наук Прибыв по адресу, полученному от дежурного, Эраст Петрович увидел капитальное трехэтажное здание, на первый взгляд несколько похожее на казарму, но окруженное садом и с гостеприимно распахнутыми воротами. Это и был новооткрытый эстернат английской баронессы. Из полосатой будки выглянул служитель в нарядном синем сюртуке с серебряным позументом и охотно объяснил, что госпожа миледи квартируют не здесь, а во флигеле, вход из переулка, поворотя за правый угол. Фандорин увидел, как из дверей здания выбежала стайка мальчишек в синих мундирчиках и с дикими криками принялась носиться по газону, играя в салки. Служитель и не подумал призвать шалунов к порядку. Поймав удивленный взгляд Фандорина, он пояснил: – Не возбраняется. На переменке хоть колесом ходи, только имущества не порти. Такой порядок. Что ж, сиротам здесь, кажется, было привольно, не то что ученикам Губернской гимназии, к числу которых еще совсем недавно принадлежал наш коллежский регистратор. Порадовавшись за бедняжек, Эраст Петрович зашагал вдоль ограды в указанном направлении. За поворотом начинался тенистый переулок, каких здесь, в Хамовниках, было без счета: пыльная мостовая, сонные особнячки с палисадниками, раскидистые тополя, с которых скоро полетит белый пух. Двухэтажный флигель, где остановилась леди Эстер, соединялся с основным корпусом длинной галереей. Возле мраморной доски с надписью «Первый Московский Эстернат. Дирекция» грелся на солнышке важный швейцар с лоснящимися расчесанными бакенбардами. Таких сановитых швейцаров, в белых чулках и треугольной шляпе с золотой кокардой Фандорин не видывал и подле генерал губернаторской резиденции. – Нынче приема нету, – выставил шлагбаумом руку сей янычар. – Завтра приходьте. По казенным делам с десяти до двенадцати, по личным с двух до четырех. Нет, положительно не складывались у Эраста Петровича отношения с швейцарским племенем. То ли вид у него был несолидный, то ли в лице что не так. – Сыскная полиция. К леди Эстер, срочно, – процедил он, мстительно предвкушая, как сейчас закланяется истукан в золотых галунах. Но истукан и ухом не повел. – К ее сиятельству и думать нечего, не пущу. Если желаете, могу доложить мистеру Каннингему. – Не надо мне никакого Каннингема, – окрысился Эраст Петрович. – Немедля доложи баронессе, скотина, а то будешь у меня в околотке ночевать! Да так и скажи – из Сыскного управления по срочному, государственному делу! Швейцар смерил сердитого чиновничка полным сомнения взглядом, но все же исчез за дверью. Правда, войти, мерзавец, не предложил. Ждать пришлось довольно долго, Фандорин уж собирался вторгнуться без приглашения, когда из за двери снова выглянула хмурая рожа с бакенбардами. – Принять примут, но они по нашему не очень, а мистеру Каннингему переводить недосуг, заняты. Разве что если по французски объясняетесь… – По голосу было понятно, что в такую возможность швейцар верит мало. – Могу и по английски, – сухо кинул Эраст Петрович. – Куда идти? – Провожу. За мной следуйте. Через чистенькую, обитую штофом прихожую, через светлый, залитый солнцем коридор с чередой высоких голландских окон проследовал Фандорин за янычаром к белой с золотом двери. Разговора на английском Эраст Петрович не боялся. Он вырос на попечении у нэнни Лисбет (в строгие минуты – миссис Джейсон), настоящей английской няни. Это была сердечная и заботливая, но крайне чопорная старая дева, которую тем не менее полагалось называть не «мисс», а «миссис» – из уважения к ее почтенной профессии. Лисбет приучила своего питомца вставать в половине седьмого летом и половине восьмого зимой, делать гимнастику до первого пота и потом обтираться холодной водой, чистить зубы пока не досчитаешь до двухсот, никогда не есть досыта, а также массе других абсолютно необходимых джентльмену вещей. На стук в дверь мягкий женский голос откликнулся: – Come in! Entrez! Эраст Петрович отдал швейцару фуражку и вошел. Он оказался в просторном, богато обставленном кабинете, где главное место занимал широченный письменный стол красного дерева. За столом сидела седенькая дама не просто приятной, а какой то чрезвычайно уютной наружности. Ее ярко голубые глазки за золотым пенсне так и светились живым умом и приветливостью. Некрасивое, подвижное лицо с утиным носиком и широким, улыбчатым ртом Фандорину сразу понравилось. Он представился по английски, но о цели своего визита пока умолчал. – У вас славное произношение, сэр, – похвалила леди Эстер на том же языке, чеканно выговаривая каждый звук. – Я надеюсь, наш грозный Тимоти… Тимофэй не слишком вас запугал? Признаться, я сама его побаиваюсь, но в дирекцию часто приходят должностные лица, и тут Тимофэй незаменим, лучше английского лакея. Да вы садитесь, молодой человек. Лучше вон туда, в кресло, там вам будет удобней. Значит, служите в криминальной полиции? Должно быть, очень интересное занятие. А чем занимается ваш отец? – Он умер. – Очень сожалею, сэр. А матушка? – Тоже, – буркнул Фандорин, недовольный поворотом беседы. – Бедный мальчик. Я знаю, как вам одиноко. Вот уже сорок лет я помогаю таким бедным мальчикам избавиться от одиночества и найти свой путь. – Найти путь, миледи? – не совсем понял Эраст Петрович. – О да, – оживилась леди Эстер, видимо, садясь на любимого конька. – Найти свой путь – самое главное в жизни любого человека. Я глубоко убеждена, что каждый человек неповторимо талантлив, в каждом заложен божественный дар. Трагедия человечества в том, что мы не умеем, да и не стремимся этот дар в ребенке обнаружить и выпестовать. Гений у нас – редкость и даже чудо, а ведь кто такой гений? Это просто человек, которому повезло. Его судьба сложилась так, что жизненные обстоятельства сами подтолкнули человека к правильному выбору пути. Классический пример – Моцарт. Он родился в семье музыканта и с раннего детства попал в среду, идеально питавшую заложенный в нем от природы талант. А теперь представьте себе, дорогой сэр, что Вольфганг Амадей родился бы в семье крестьянина. Из него получился бы скверный пастух, развлекающий коров волшебной игрой на дудочке. Родись он в семье солдафона – вырос бы бездарным офицериком, обожающим военные марши. О, поверьте мне, молодой человек, каждый, каждый без исключения ребенок таит в себе сокровище, только до этого сокровища надобно уметь докопаться! Есть очень милый североамериканский писатель, которого зовут Марк Туэйн. Я подсказала ему идею рассказа, в котором людей оценивают не по их реальным достижениям, а по тому потенциалу, по тому таланту, который был в них заложен природой. И тогда выяснится, что самый великий полководец всех времен – какой нибудь безвестный портной, никогда не служивший в армии, а самый великий художник так и не взял в руки кисть, потому что всю жизнь проработал сапожником. Моя система воспитания построена на том, чтобы великий полководец непременно попал на военную службу, а великий художник вовремя получил доступ к краскам. Мои педагоги пытливо и терпеливо прощупывают душевное устройство каждого питомца, отыскивая в нем божью искру, и в девяти случаях из десяти ее находят! – Ага, так все таки не во всех она есть! – торжествующе поднял палец Фандорин. – Во всех, милый юноша, абсолютно во всех, просто мы, педагоги, недостаточно искусны. Или же в ребенке заложен талант, которому в современном мире нет употребления. Возможно, этот человек был необходим в первобытном обществе или же его гений будет востребован в отдаленном будущем – в такой сфере, которую мы сегодня и представить себе не можем. – Про будущее – ладно, судить не берусь, – заспорил Фандорин, против воли увлеченный беседой. – Но про первобытное общество что то непонятно. Какие же это таланты вы имеете в виду? – Сама не знаю, мой мальчик, – обезоруживающе улыбнулась леди Эстер. – Ну, предположим, дар угадывать, где под землей вода. Или дар чуять в лесу зверя. Может быть, способность отличать съедобные коренья от несъедобных. Знаю только одно, что в те далекие времена именно такие люди были главными гениями, а мистер Дарвин или герр Шопенгауэр, родись они в пещере, остались бы в племени на положении дурачков. Кстати говоря, те дети, которых сегодня считают умственно недоразвитыми, тоже обладают даром. Это, конечно, талант не рационального свойства, но оттого не менее драгоценный. У меня в Шеффилде есть специальный эстернат для тех, от кого отказалась традиционная педагогика. Боже, какие чудеса гениальности обнаруживают эти мальчики! Там есть ребенок, к тринадцати годам едва выучившийся говорить, но он вылечивает прикосновением ладони любую мигрень. Другой – он и вовсе бессловесен – может задерживать дыхание на целых четыре с половиной минуты. Третий взглядом нагревает стакан с водой, представляете? – Невероятно! Но отчего же только мальчики? А девочки? Леди Эстер вздохнула, развела руками. – Вы правы, друг мой. Надо, конечно, работать и с девочками. Однако опыт подсказывает мне, что таланты, заложенные в женскую натуру, часто бывают такого свойства, что мораль современного общества не готова их должным образом воспринимать. Мы живем в век мужчин, и с этим приходится считаться. В обществе, где заправляют мужчины, незаурядная, талантливая женщина вызывает подозрение и враждебность. Я бы не хотела, чтобы мои воспитанницы чувствовали себя несчастными. – Однако как устроена ваша система? Как производится, так сказать, сортировка детей? – с живейшим любопытством спросил Эраст Петрович. – Вам правда интересно? – обрадовалась баронесса. – Пойдемте в учебный корпус и увидите сами. Она с удивительной для ее возраста проворностью вскочила, готовая вести и показывать. Фандорин поклонился, и миледи повела молодого человека сначала коридором, а потом длинной галереей в основное здание. По дороге она рассказывала: – Здешнее заведение совсем новое, три недели как открылось, и работа еще в самом начале. Мои люди взяли из приютов, а подчас и прямо с улицы сто двадцать мальчиков сирот в возрасте от четырех до двенадцати лет. Если ребенок старше, с ним уже трудно что либо сделать – личность сформировалась. Для начала мальчиков разбили на возрастные группы, и в каждой свой учитель, специалист по данному возрасту. Главная обязанность учителя – присматриваться к детям и исподволь давать им разные несложные задания. Задания эти похожи на игру, но с их помощью легко определить общую направленность натуры. На первом этапе нужно угадать, что в данном ребенке талантливее – тело, голова или интуиция. Затем дети будут поделены на группы уже не по возрастному, а по профильному принципу: рационалисты, артисты, умельцы, лидеры, спортсмены и так далее. Постепенно профиль все более сужается, и мальчиков старшего возраста нередко готовят уже индивидуально. Я работаю с детьми сорок лет, и вы не представляете, сколь многого достигли мои питомцы – в самых различных сферах. – Это грандиозно, миледи! – восхитился Эраст Петрович. – Но где же взять столько искусных педагогов? – Я очень хорошо плачу своим учителям, ибо педагогика – главнейшая из наук, – с глубоким убеждением сказала баронесса. – Кроме того многие из моих бывших воспитанников выражают желание остаться в эстернатах воспитателями. Это так естественно, ведь эстернат – единственная семья, которую они знали. Они вошли в широкую рекреационную залу, куда выходили двери нескольких классных комнат. – Куда же вас отвести? – задумалась леди Эстер. – Да вот хотя бы в физический. Там сейчас дает показательный урок мой славный доктор Бланк, выпускник Цюрихского эстерната, гениальный физик. Я заманила его в Москву, устроив ему здесь лабораторию для опытов с электричеством. А заодно он должен показывать детям всякие хитрые физические фокусы, чтобы вызвать интерес к этой науке. Баронесса постучала в одну из дверей, и они заглянули в класс. За партами сидели десятка полтора мальчиков лет одиннадцати двенадцати в синих мундирах с золотой литерой Е на воротнике. Все они, затаив дыхание, смотрели, как хмурый молодой господин с преогромными бакенбардами, в довольно неряшливом сюртуке и не слишком свежей рубашке крутит какое то стеклянное колесо, пофыркивающее голубыми искорками. – Ich bin sehr beschaftigt, milady! – сердито крикнул доктор Бланк. – Spater, spater! – И, перейдя на ломаный русский, сказал, обращаясь к детям. – Зейчас, мои господа, вы видеть настоящий маленький радуга! Название – Blank Regenbogen, «Радуга Бланка». Это я придумать, когда такой молодой, как вы. От странного колеса к столу, уставленному всевозможными физическими приборами, внезапно протянулась маленькая, необычайно яркая радуга семицветка, и мальчики восторженно загудели. – Немножко сумасшедший, но настоящий гений, – прошептала Фандорину леди Эстер. В этот миг из соседнего класса донесся громкий детский крик. – Боже! – схватилась за сердце миледи. – Это из гимнастического! Скорей туда! Она выбежала в коридор, Фандорин за ней. Вместе они ворвались в пустую, светлую аудиторию, пол которой почти сплошь был устлан кожаными матами, а вдоль стен располагались разнообразнейшие гимнастические снаряды: шведские стенки, кольца, толстые канаты, трамплины. Рапиры и фехтовальные маски соседствовали с боксерскими перчатками и гирями. Стайка мальчуганов лет семи восьми сгрудилась вокруг одного из матов. Раздвинув детей, Эраст Петрович увидел корчащегося от боли мальчика, над которым склонился молодой мужчина лет тридцати в гимнастическом трико. У него были огненно рыжие кудри, зеленые глаза и волевое, сильно веснушчатое лицо. – Ну ну, милый, – говорил он по русски с легким акцентом. – Покажи ножку, не бойся. Я тебе больно не сделаю. Будь мужчина, потерпи. Fell from the rings, m'lady, – пояснил он баронессе. – Weak hands. I am afraid, the ankle is broken. Would you please tell Mr. Izyumoff ? Миледи молча кивнула и, поманив за собой Эраста Петровича, быстро вышла из класса. – Схожу за доктором, мистером Изюмовым, – скороговоркой сообщила она. – Такая неприятность случается часто – мальчики есть мальчики…Это был Джеральд Каннингем, моя правая рука. Выпускник Лондонского эстерната. Блестящий педагог. Возглавляет весь российский филиал. За полгода выучил ваш трудный язык, который мне никак не дается. Минувшей осенью Джеральд открыл эстернат в Петербурге, теперь временно здесь, помогает наладить дело. Без него я как без рук. У двери с надписью «Врач» она остановилась. – Прошу извинить, сэр, но нашу беседу придется прервать. В другой раз, ладно? Приходите завтра, и мы договорим. У вас ведь ко мне какое то дело? – Ничего важного, миледи, – покраснел Фандорин. – Я и в самом деле… как нибудь потом. Желаю успеха на вашем благородном поприще. Он неловко поклонился и поспешно зашагал прочь. Эрасту Петровичу было очень стыдно. * * * – Ну что, взяли злодейку с поличным? – весело приветствовал посрамленного Фандорина начальник, подняв голову от каких то мудреных диаграмм. Шторы в кабинете были задвинуты, на столе горела лампа, ибо за окном уже начинало темнеть. – Дайте угадаю. Про мистера Kokorin миледи в жизни не слышала, про мисс Bezhetskaya тем паче, весть о завещании самоубийцы ее ужасно расстроила. Так? Эраст Петрович только вздохнул. – Я эту особу встречал в Петербурге. Ее просьба о педагогической деятельности в России рассматривалась у нас в Третьем. Про гениальных дебилов она вам рассказывала? Ладно, к делу. Садитесь к столу, – поманил Фандорина шеф. – У вас впереди увлекательная ночь. Эраст Петрович ощутил приятно тревожное щекотание в груди – такое уж воздействие производило на него общение с господином статским советником. – Ваша мишень – Зуров. Вы его уже видели, некоторое представление имеете. Попасть к графу легко, рекомендаций не требуется. У него дома что то вроде игорного притона, не больно то и законспирированного. Тон принят этакий гусарско гвардейский, но всякой швали таскается достаточно. Такой же дом Зуров держал в Питере, а после визита полиции перебрался в Москву. Господин он вольный, по полку уже третий год числится в бессрочном отпуске. Излагаю вашу задачу. Постарайтесь подобраться к нему поближе, присмотритесь к его окружению. Не встретится ли там ваш белоглазый знакомец? Только без самодеятельности, в одиночку вам с таким не справиться. Впрочем, вряд ли он там будет… Не исключаю, что граф сам вами заинтересуется – ведь вы встречались у Бежецкой, к которой Зуров, очевидно, неравнодушен. Действуйте по ситуации. Только не зарывайтесь. С этим господином шутки плохи. Играет он нечестно, как говорят у этой публики, «берет на зихер», а если уличат – лезет на скандал. Имеет на счету с десяток дуэлей, да еще не про все известно. Может и без дуэли череп раскроить. Например, в семьдесят втором на нижегородской ярмарке повздорил за картами с купцом Свищовым, да и выкинул бородатого в окно. Со второго этажа. Купчина расшибся, месяц без языка лежал, только мычал. А графу ничего, выкрутился. Имеет влиятельных родственников в сферах. Это что такое? – как обычно, без перехода спросил Иван Францевич, кладя на стол колоду игральных карт. – Карты, – удивился Фандорин. – Играете? – Совсем не играю. Папенька запрещал в руки брать, говорил, что он наигрался и за себя, и за меня, и за три поколения Фандориных вперед. – Жаль, – озаботился Бриллинг. – Без этого вам у графа делать нечего. Ладно, берите бумагу, записывайте… Четверть часа спустя Эраст Петрович мог уже без запинки различить масти и знал, какая карта старше, а какая младше, только с картинками немного путался – все забывал, кто старше, дама или валет. – Вы безнадежны, – резюмировал шеф. – Но это нестрашно. В преферанс и прочие умственные игры у графа все равно не играют. Там любят самый примитив, чтоб побыстрее и денег побольше. Агенты доносят, что Зуров предпочитает штосс, причем упрощенный. Объясняю правила. Тот, кто сдает карты, называется банкомет. Второй – понтер. У того и у другого своя колода. Понтер выбирает из своей колоды карту – скажем, девятку. Кладет себе рубашкой кверху. – Рубашка – это узор на обороте? – уточнил Фандорин. – Да. Теперь понтер делает ставку – предположим, десять рублей. Банкомет начинает «метать»: открывает из колоды верхнюю карту направо (она называется «лоб»), вторую – налево (она называется «сонник»). «Лоб – пр., сонник – лев.», – старательно записывал в блокноте Эраст Петрович. – Теперь понтер открывает свою девятку. Если «лоб» тоже оказался девяткой, неважно какой масти, – банкомет забирает ставку себе. Это называется «убить девятку». Тогда банк, то есть сумма, на которую идет игра, возрастает. Если девяткой окажется «сонник», то есть вторая карта, – это выигрыш понтера, он «нашел девятку». – А если в паре девятки нет? – Если в первой паре девятки не оказалось, банкомет выкладывает следующую пару карт. И так до тех пор, пока не выскочит девятка. Вот и вся игра. Элементарно, но можно проиграться в прах, особенно если вы понтер и все время играете на удвоение. Поэтому усвойте, Фандорин: вы должны играть только банкометом. Это просто – мечете карту направо, карту налево; карту направо, карту налево. Банкомет больше первоначальной ставки не проиграет. В понтеры не садитесь, а если выпадет по жребию, назначайте игру по маленькой. В штосс можно делать не более пяти заходов, потом весь остаток банка переходит банкомету. Сейчас получите в кассе двести рублей на проигрыш. – Целых двести? – ахнул Фандорин. – Не «целых двести», а «всего двести». Постарайтесь, чтобы вам этой суммы хватило на всю ночь. Если быстро проиграетесь, сразу уходить не обязательно, можете какое то время там потолкаться. Но не вызывая подозрений, ясно? Будете играть каждый вечер, пока не добьетесь результата. Даже если выяснится, что Зуров не замешан, – что ж, это тоже результат. Одной версией меньше. Эраст Петрович шевелил губами, глядя в шпаргалку. – «Черви» – это красные сердечки? – Да. Еще их иногда называют «черти» или «керы», от coeur . Ступайте в костюмную. Вам по мерке подготовили наряд, а завтра к обеду скроят и целый гардероб на все случаи жизни. Марш марш, Фандорин, у меня и без вас дел довольно. Сразу после Зурова сюда. В любое время. Я сегодня ночую в управлении. И Бриллинг уткнулся носом в свои бумаги. Глава восьмая, в которой некстати вылезает пиковый валет В прокуренной зале играли за шестью зелеными ломберными столами – где кучно, человека по четыре, где по двое. У каждого стола еще топтались зрители: где игра шла по маленькой, – поменьше, где «шпиль» зарывался вверх – погуще. Вина и закусок у графа не подавали, желающие могли выйти в гостиную и послать лакея в трактир, но посылали только за шампанским, по поводу какого нибудь особенного везения. Отовсюду раздавались отрывистые, мало понятные неигроку восклицания: – Je coupe! – Je passe. – Второй абцуг. – Retournez la carte! – Однако, господа, прометано! – Шусточка убита! – и прочее. Больше всего толпились у того стола, где шла игра по крупному, один на один. Метал сам хозяин, понтировал потный господин в модном, чрезвычайно узком сюртуке. Понтеру, видно, не везло – он покусывал губы, горячился, зато граф был само хладнокровие и лишь сахарно улыбался из под черных усов, затягиваясь дымом из гнутого турецкого чубука. Холеные сильные пальцы в сверкающих перстнях ловко откидывали карты – одну направо, одну налево. Среди зрителей, скромно держась чуть сзади, находился черноволосый молодой человек с румяной, совсем не игроцкой физиономией. Опытному человеку сразу было видно, что юноша из хорошей семьи, на банк забрел впервые и всего здесь дичится. Несколько раз тертые господа с брильянтиновыми проборами предлагали ему «прометнуть карточку», но были разочарованы – ставил юноша исключительно по пятерочке и «заводиться» решительно не желал. Бывалый шпильмейстер Громов, которого знала вся играющая Москва, даже дал мальчишке «наживку» – проиграл ему сотню, но деньги пропали зря. Глаза у румяного не разгорелись и руки не задрожали. Клиент получался неперспективный, настоящий «хлюзда». А между тем Фандорин (ибо это, разумеется, был он) считал, что скользит по залу невидимой тенью, не обращая на себя ничьего внимания. Наскользил он пока, правда, немного. Один раз увидел, как очень почтенного вида господин потихоньку прибрал со стола золотой полуимпериал и с большим достоинством отошел в сторонку. Двое офицериков громким шепотом ссорились в коридоре, но Эраст Петрович ничего из их разговора не понял: драгунский поручик горячо уверял, что он не какой нибудь юлальщик и с друзьями арапа не заправляет, а гусарский корнет пенял ему каким то «зихером». Зуров, подле которого Фандорин нет нет, да и оказывался, явно чувствовал себя в этом обществе как рыба в воде, да и, пожалуй, не просто рыба, а главная рыбина. Одного его слова было достаточно, чтобы в зародыше подавить намечающийся скандал, а один раз по жесту хозяина двое молодцов лакеев взяли под локти не желавшего успокоиться крикуна и в два счета вынесли за дверь. Эраста Петровича граф решительно не узнавал, хотя несколько раз Фандорин ловил на себе его быстрый, недобрый взгляд. – Пятый, сударь мой, – объявил Зуров, и это сообщение почему то до крайности разволновало понтера. – Загибаю утку! – дрогнувшим голосом выкрикнул он и загнул на своей карте два угла. Среди зрителей прошел шепоток, а потный, откинув со лба прядь волос, бросил на стол целый ворох радужных бумажек. – Что такое «утка»? – застенчиво спросил Эраст Петрович вполголоса у красноносого старичка, показавшегося ему самым безобидным. – Сие означает учетверение ставки, – охотно пояснил сосед. – Желают на последнем абцуге полный реванш взять. Граф равнодушно выпустил облачко дыма и открыл направо короля, налево шестерку. Понтер показал червового туза. Зуров кивнул и тут же метнул черного туза направо, красного короля налево. Фандорин слышал, как кто то восхищенно шепнул: – Ювелир! На потного господина было жалко смотреть. Он проводил взглядом груду ассигнаций, перекочевавших под локоть к графу, и робко спросил: – Не угодно ли под должок? – Не угодно, – лениво ответил Зуров. – Кто еще желает, господа? Неожиданно взгляд его остановился на Эрасте Петровиче. – Мы, кажется, встречались? – с неприятной улыбкой спросил хозяин. – Господин Федорин, если не ошибаюсь? – Фандорин, – поправил Эраст Петрович, мучительно краснея. – Пардон. Что же вы все лорнируете? У нас тут не театр. Пришли – так играйте. Милости прошу. – Он показал на освободившийся стул. – Выберите колоды сам, – прошелестел Фандорину на ухо добрый старичок. Эраст Петрович сел и, следуя инструкции, весьма решительно сказал: – Только уж позвольте, ваше сиятельство, мне самому банк держать. На правах новичка. А колоды я бы предпочел… вон ту и вот ту. – И он взял с подноса нераспечатанных колод две самые нижние. Зуров улыбнулся еще неприятнее: – Что ж, господин новичок, условие принято, но только уговор: банк сорву – не убегать. Дайте уж и мне потом метнуть. Ну с, какой куш? Фандорин замялся, решительность покинула его столь же внезапно, как и посетила. – Сто рублей? – робко спросил он. – Шутите? Здесь вам не трактир. – Хорошо, триста. – И Эраст Петрович положил на стол все свои деньги, включая и выигранную ранее сотню. – Le jeu n'en vaut pas la chandelle , – пожал плечами граф. – Ну да для начала сойдет. Он вынул из своей колоды карту, небрежно бросил на нее три сотенных бумажки. – Иду на весь. «Лоб» направо, вспомнил Эраст Петрович и аккуратно положил направо даму с красными сердечками, а налево – пиковую семерку. Ипполит Александрович двумя пальцами перевернул свою карту и слегка поморщился. То была бубновая дама. – Ай да новичок, – присвистнул кто то. – Ловко даму причесал. Фандорин неловко перемешал колоду. – На весь, – насмешливо сказал граф, кидая на стол шесть ассигнаций. – Эх, не лезь на рожон – не будешь поражен. Как карта налево то называлась? – не мог вспомнить Эраст Петрович. Вот эта «лоб», а вторая… черт. Неудобно. А ну как спросит? Подглядывать в шпаргалку было несолидно. – Браво! – зашумели зрители. – Граф, c'est un jeu interessant , не находите? Эраст Петрович увидел, что снова выиграл. – Извольте ка не французить! Что, право, за дурацкая привычка втыкать в русскую речь по пол французской фразки, – с раздражением оглянулся Зуров на говорившего, хотя сам то и дело вставлял французские обороты. – Сдавайте, Фандорин, сдавайте. Карта не лошадь, к утру повезет. На весь. Направо – валет, это «лоб», налево – восьмерка, это… У Ипполита Александровича вскрылась десятка. Фандорин убил ее с четвертого захода. Стол уже обступили со всех сторон, и успех Эраста Петровича был оценен по заслугам. – Фандорин, Фандорин, – рассеянно бормотал Ипполит Александрович, барабаня пальцами по колоде. Наконец вынул карту, отсчитал две тысячи четыреста. Шестерка пик легла под «лоб» с первого же абцуга. – Да что за фамилия такая! – воскликнул граф, свирепея. – Фандорин! Из греков, что ли? Фандораки, Фандоропуло! – Почему из греков? – обиделся Эраст Петрович, в памяти которого еще были живы издевательства шалопаев одноклассников над его древней фамилией (гимназическая кличка Эраста Петровича была «Фундук»). – Наш род, граф, такой же русский, как и ваш. Фандорины еще Алексею Михайловичу служили. – Как же с, – оживился давешний красноносый старичок, доброжелатель Эраста Петровича. – При Екатерине Великой был один Фандорин, любопытнейшие записки оставил. – Записки, записки, сегодня я в риске, – хмуро срифмовал Зуров, сложив целый холмик из купюр. – На весь банк! Мечите карту, черт бы вас побрал! – Le dernier coup, messieurs ! – пронеслось в толпе. Все жадно смотрели на две равновеликие кучи мятых кредиток: одна лежала перед банкометом, вторая перед понтером. В полнейшей тишине Фандорин вскрыл две свежие колоды, думая все о том же. Малинник? Лимонник? Направо туз, налево тоже туз. У Зурова король. Направо дама, налево десятка. Направо валет, налево дама (что все таки старше – валет или дама?). Направо семерка, налево шестерка. – В затылок мне не сопеть! – яростно крикнул граф, от него отшатнулись. Направо восьмерка, налево девятка. Направо король, налево десятка. Король! Вокруг выли и хохотали. Ипполит Александрович сидел, словно остолбенев. Сонник! – вспомнил Эраст Петрович и обрадованно улыбнулся. Карта влево – это сонник. Странное какое название. Вдруг Зуров перегнулся через стол и стальными пальцами сдвинул губы Фандорина в трубочку. – Ухмыляться не сметь! Сорвали куш, так имейте воспитание вести себя цивильно! – бешеным голосом прошипел граф, придвинувшись вплотную. Его налитые кровью глаза были страшны. В следующий миг он толкнул Фандорина в подбородок, откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. – Граф, это уж чересчур! – воскликнул один из офицеров. – Я, кажется, не убегаю, – процедил Зуров, не сводя глаз с Фандорина. – Если кто чувствует себя уязвленным, готов соответствовать. Воцарилось поистине могильное молчание. В ушах у Эраста Петровича ужасно шумело, и боялся он сейчас только одного – не струсить бы. Впрочем, еще боялся, что предательски дрогнет голос. – Вы бесчестный негодяй. Вы просто платить не желаете, – сказал Фандорин, и голос все таки дрогнул, но это было уже все равно. – Я вас вызываю. – На публике геройствуете? – скривил губы Зуров. – Посмотрим, как под дулом попляшете. На двадцати шагах, с барьерами. Стрелять кто когда захочет, но потом непременно пожалуйте на барьер. Не страшно? Страшно, подумал Эраст Петрович. Ахтырцев говорил, он с двадцати шагов в пятак попадает, не то что в лоб. Или, того паче, в живот. Фандорин передернулся. Он никогда не держал в руках дуэльного пистолета. Один раз Ксаверий Феофилактович водил в полицейский тир из «кольта» пострелять, да ведь это совсем другое. Убьет, ни за понюх табаку убьет. И ведь чисто сработает, не подкопаешься. Свидетелей полно. Ссора за картами, обычное дело. Граф посидит месяц на гауптвахте и выйдет, у него влиятельные родственники, а у Эраста Петровича никого. Положат коллежского регистратора в дощатый гроб, зароют в землю, и никто на похороны не придет. Может, только Грушин да Аграфена Кондратьевна. А Лизанька прочтет в газете и подумает мимоходом: жаль, такой деликатный был полицейский, и молодой совсем. Да нет, не прочтет – ей, наверно, Эмма газет не дает. А шеф, конечно, скажет: я в него, дурака, поверил, а он попался, как глупый щенок. Стреляться вздумал, дворянские мерихлюндии разводить. И еще сплюнет. – Что молчите? – с жестокой улыбкой спросил Зуров. – Или расхотелось стреляться? А у Эраста Петровича как раз возникла спасительная идея. Стреляться то придется не сейчас, самое раннее – завтра с утра. Конечно, бежать и жаловаться шефу – мерзость и недостойно. Но Иван Францевич говорил, что по Зурову и другие агенты работают. Очень даже возможно, что и здесь, в зале, есть кто нибудь из людей шефа. Вызов можно принять, честь соблюсти, а если, к примеру, завтра на рассвете сюда нагрянет полиция и арестует графа Зурова за содержание притона, так Фандорин в этом не виноват. Он и знать ничего не будет – Иван Францевич без него догадается, как поступить. Спасение было, можно сказать, в кармане, но голос Эраста Петровича вдруг обрел самостоятельную, не зависящую от воли хозяина жизнь, понес что то несусветное и, удивительное дело, больше не дрожал: – Не расхотелось. Только отчего же завтра? Давайте прямо сейчас. Вы, граф, говорят, с утра до вечера по пятакам упражняетесь, и как раз на двадцати шагах? (Зуров побагровел.) Давайте мы лучше с вами по другому поступим, коли не струсите. – Вот когда рассказ Ахтырцева кстати пришелся! И придумывать ничего было не надо. Все уж придумано. – Бросим жреебий, и кому выпадет – пойдет на двор да застрелится. Безо всяких барьеров. И неприятностей потом самый минимум. Проигрался человек, да и пулю в лоб – обычное дело. А господа слово чести дадут, что все в тайне останется. Верно, господа? Господа зашумели, причем мнение их разделилось: одни выражали немедленную готовность дать слово чести, другие же предлагали предать ссору забвению и выпить мировую. Один пышноусый майор даже воскликнул: «А мальчишка то молодцом!» – это еще больше придало Эрасту Петровичу задора. – Так что, граф? – воскликнул он с отчаянной дерзостью, окончательно срываясь с узды. – Неужто в пятак легче попасть, чем в собственный лоб? Или промазать боитесь? Зуров молчал, с любопытством глядя на храбреца и вид у него был такой, будто он что то высчитывал. – Что ж, – молвил он наконец с необычайным хладнокровием. – Условия приняты. Жан! К графу в миг подлетел расторопный лакей. Ипполит Александрович сказал: – Револьвер, свежую колоду и бутылку шампанского. – И еще шепнул что то на ухо. Через две минуты Жан вернулся с подносом. Ему пришлось протискиваться, ибо теперь вокруг стола собрались решительно все посетители салона. Зуров ловким, молниеносным движением откинул барабан двенадцатизарядного «лефоше», показал, что все пули на месте. – Вот колода. – Его пальцы со смачным хрустом вскрыли плотную обертку. – Теперь моя очередь метать. – Он засмеялся, кажется, пребывая в отличном расположении духа. – Правила простые: кто первым вытянет карту черной масти, тот и пустит себе пулю в череп. Согласны? Фандорин молча кивнул, уже начиная понимать, что обманут, чудовищно обведен вокруг пальца и, можно сказать, убит – еще вернее, чем на двадцати шагах. Переиграл его ловкий Ипполит, вчистую переиграл! Чтоб этакий умелец нужную карту не вытянул, да еще на собственной колоде! У него, поди, целый склад крапленых карт. Тем временем Зуров, картинно перекрестившись, метнул верхнюю карту. Выпала бубновая дама. – Сие Венера, – нагло улыбнулся граф. – Вечно она меня спасает. Ваш черед, Фандорин. Протестовать и торговаться было унизительно, требовать другую колоду – поздно. И медлить стыдно. Эраст Петрович протянул руку и открыл пикового валета. Глава девятая, в которой у Фандорина открываются хорошие виды на карьеру – Сие Момус, то есть дурачок, – пояснил Ипполит и сладко потянулся. – Однако поздновато. Выпьете для храбрости шампанского или сразу на двор? Эраст Петрович сидел весь красный. Его душила злоба – не на графа, а на себя, полнейшего идиота. Такому и жить незачем. – Я прямо тут, – в сердцах буркнул он, решив, что хоть напакостит хозяину напоследок. – Ваш ловкач пусть потом пол помоет. А от шампанского увольте – у меня от него голова болит. Все так же сердито, стараясь ни о чем не думать, Фандорин схватил тяжелый револьвер, взвел курок и, сек унду поколебавшись – куда стрелять, – а, все равно, вставил дуло в рот, мысленно сосчитал «три, два, один» и нажал на спусковой крючок так сильно, что больно прищемил дулом язык. Выстрела, впрочем, не последовало – только сухо щелкнуло. Ничего не понимая, Эраст Петрович нажал еще раз – снова щелкнуло, только теперь металл противно скрежетнул по зубу. – Ну будет, будет! – Зуров отобрал у него пистолет и хлопнул его по плечу. – Молодчага! И стрелялся то без куражу, не с истерики. Хорошее поколение подрастает, а, господа? Жан, разлей шампанское, мы с господином Фандориным на брудершафт выпьем. Эраст Петрович, охваченный странным безволием, был послушен: вяло выпил пузырчатую влагу до дна, вяло облобызался с графом, который велел отныне именовать его просто Ипполитом. Все вокруг галдели и смеялись, но их голоса до Фандорина долетали как то неотчетливо. От шампанского закололо в носу, и на глаза навернулись слезы. – Жан то каков? – хохотал граф. – За минуту все иголки вынул. Ну не ловок ли, Фандорин, скажи? – Ловок, – безразлично согласился Эраст Петрович. – То то. Тебя как зовут? – Эраст. – Пойдем, Эраст Роттердамский, посидим у меня в кабинете, выпьем коньяку. Надоели мне эти рожи. – Эразм, – механически поправил Фандорин. – Что? – Не Эраст, а Эразм. – Виноват, не дослышал. Пойдем, Эразм. Фандорин послушно встал и пошел за хозяином. Они проследовали темной анфиладой и оказались в круглой комнате, где царил замечательный беспорядок – валялись чубуки и трубки, пустые бутылки, на столе красовались серебряные шпоры, в углу зачем то лежало щегольское английское седло. Почему это помещение называлось «кабинетом», Фандорин не понял – ни книг, ни письменных принадлежностей нигде не наблюдалось. – Славное седлецо? – похвастал Зуров. – Вчера на пари выиграл. Он налил в стаканы бурого вина из пузатой бутылки, сел рядом с Эрастом Петровичем и очень серьезно, даже задушевно сказал: – Ты прости меня, скотину, за шутку. Скучно мне, Эразм. Народу вокруг много, а людей нет. Мне двадцать восемь лет, Фандорин, а будто шестьдесят. Особенно утром, когда проснусь. Вечером, ночью еще ладно – шумлю, дурака валяю. Только противно. Раньше ничего, а нынче что то все противней и противней. Веришь ли, давеча, когда жребий то тянули, я вдруг подумал – не застрелиться ли по настоящему? И так, знаешь, соблазнительно стало… Ты что все молчишь? Ты брось, Фандорин, не сердись. Я очень хочу, чтоб ты на меня зла не держал. Ну что мне сделать, чтоб ты меня простил, а, Эразм? И тут Эраст Петрович скрипучим, но совершенно отчетливым голосом произнес: – Расскажи мне про нее. Про Бежецкую. Зуров откинул со лба пышную прядь. – Ах да, я забыл. Ты же из «шлейфа». – Откуда? – Это я так называл. Амалия, она ведь королева, ей шлейф нужен, из мужчин. Чем длиннее, тем лучше. Послушай доброго совета, выкинь ее из головы, пропадешь. Забудь про нее. – Не могу, – честно ответил Эраст Петрович. – Ты еще сосунок, Амалия тебя беспременно в омут утащит, как многих уже утащила. Она и ко мне то, может, прикипела, потому что за ней в омут не пожелал. Мне без надобности, у меня свой омут есть. Не такой глубокий, как у нее, но ничего, мне с головкой хватит. – Ты ее любишь? – в лоб спросил Фандорин на правах обиженного. – Я ее боюсь, – мрачно усмехнулся Ипполит. – Больше, чем люблю. Да и не любовь это вовсе. Ты опиум курить не пробовал? Фандорин помотал головой. – Раз попробуешь – всю жизнь тянуть будет. Вот и она такая. Не отпускает она меня! И ведь вижу – презирает, ни в грош не ставит, но что то она во мне усмотрела. На мою беду! Знаешь, я рад, что она уехала, ей богу. Иной раз думал – убить ее, ведьму. Задушу собственными руками, чтоб не мучила. И она это хорошо чувствовала. О, брат, она умная! Я тем ей и дорог был, что она со мной, как с огнем, игралась – то раздует, то задует, да еще все время помнит, что может пожар разгореться, и тогда ей головы не сносить. А иначе зачем я ей? Эраст Петрович с завистью подумал, что красавца Ипполита, бесшабашную голову, очень даже есть за что полюбить и без всякого пожара. Такому молодцу, наверно, от женщин отбоя нет. И как только людям этакое счастье выпадает? Однако это соображение к делу не относилось. Спрашивать нужно было о деле. – Кто она, откуда? – Не знаю. Она про себя не любит распространяться. Знаю только, что росла где то за границей. Кажется, в Швейцарии, в каком то пансионе. – А где она сейчас? – спросил Эраст Петрович, впрочем, не очень то рассчитывая на удачу. Однако Зуров явно медлил с ответом, и у Фандорина внутри все замерло. – Что, так прижало? – хмуро поинтересовался граф, и мимолетная недобрая гримаса исказила его красивое, капризное лицо. – Да! – М да, если мотылька на свечку манит, все равно сгорит… Ипполит порылся на столе среди карточных колод, мятых платков и магазинных счетов. – Где оно, черт? А, вспомнил. – Он открыл японскую лаковую шкатулку с перламутровой бабочкой на крышке. – Держи. По городской почте пришло. Эраст Петрович с дрожью в пальцах взял узкий конверт, на котором косым, стремительным почерком было написано «Его сиятельству графу Ипполиту Зурову, Яково Апостольский переулок, собственный дом». Судя по штемпелю, письмо было отправлено 16 мая – в тот день, когда исчезла Бежецкая. Внутри оказалась короткая, без подписи записка по французски: «Вынуждена уехать не попрощавшись. Пиши в Лондон, Gray Street, отель „Winter Queen“, для Ms. Olsen. Жду. И не смей меня забывать». – А я посмею, – запальчиво погрозил Ипполит, но немедленно сник. – Во всяком случае, попробую… Бери, Эразм. Делай с этим что хочешь… Ты куда? – Пойду, – сказал Фандорин, пряча конверт в карман. – Торопиться надо. – Ну ну, – с жалостью покивал граф. – Валяй, лети на огонь. Твоя жизнь, не моя. Во дворе Эраста Петровича нагнал Жан с каким то узлом в руке. – Вот, сударь, забыли с. – Что это? – досадливо оглянулся спешивший Фандорин. – Шутите с? Ваш выигрыш. Их сиятельство велели беспременно догнать и вручить. * * * Эрасту Петровичу снился чудной сон. Он сидел в классной комнате за партой, в своей Губернской гимназии. Такие сны, обычно тревожные и неприятные, снились ему довольно часто – будто он снова гимназист и «плавает» у доски на уроке физики или алгебры, но на сей раз было не просто тоскливо, а по настоящему страшно. Фандорин никак не мог понять причину этого страха. Он был не у доски, а за партой, вокруг сидели одноклассники: Иван Францевич, Ахтырцев, какой то пригожий молодец с высоким бледным лбом и дерзкими карими глазами (про него Эраст Петрович знал, что это Кокорин), две гимназистки в белых фартуках и еще кто то, повернутый спиной. Повернутого Фандорин боялся и старался на него не смотреть, а все выворачивал шею, чтобы получше разглядеть девочек – одну черненькую, одну светленькую. Они сидели за партой, прилежно сложив перед собой тонкие руки. Одна оказалась Амалией, другая Лизанькой. Первая обжигающе взглянула черными глазищами и показала язык, зато вторая застенчиво улыбнулась и опустила пушистые ресницы. Тут Эраст Петрович увидел, что у доски стоит леди Эстер с указкой в руке, и все разъяснилось: это новейшая английская метода воспитания, по которой мальчиков и девочек обучают вместе. И очень даже хорошо. Словно подслушав его мысли, леди Эстер грустно улыбнулась и сказала: «Это не совместное обучение, это мой класс сироток. Вы все сиротки, и я должна вывести вас на путь». «Позвольте, миледи, – удивился Фандорин, – мне, однако же, доподлинно известно, что Лизанька не сирота, а дочь действительного тайного советника». «Ах, my sweet boy, – еще печальней улыбнулась миледи. – Она невинная жертва, а это все равно что сиротка». Страшный, что сидел впереди, медленно обернулся и, глядя в упор белесыми, прозрачными глазами, зашептал: «Я, Азазель, тоже сирота. – Заговорщически подмигнул и, окончательно распоясавшись, сказал голосом Ивана Францевича. – И поэтому, мой юный друг, мне придется вас убить, о чем я искренне сожалею… Эй, Фандорин, не сидите, как истукан. Фандорин!» – Фандорин! – Кто то тряс мучимого кошмаром Эраста Петровича за плечо. – Да просыпайтесь, утро уже! Он встрепенулся, вскинулся, завертел головой. Оказывается, спал он в кабинете шефа, сморило прямо за столом. В окно через раздвинутые шторы лился радостный утренний свет, а рядом стоял Иван Францевич, почему то одетый мещанином: в картузе с матерчатым козырьком, кафтане в сборочку и заляпанных грязью сапогах гармошкой. – Что, сомлели, не дождались? – весело спросил шеф. – Пардон за маскарад, пришлось тут ночью отлучиться по спешному делу. Да умойтесь вы, хватит глазами хлопать. Марш марш! Пока Фандорин ходил умываться, ему вспомнились события минувшей ночи, вспомнилось, как он, сломя голову, несся от дома Ипполита, как вскочил в пролетку к дремлющему ваньке и велел гнать на Мясницкую. Так не терпелось рассказать шефу об удаче, а Бриллинга на месте не оказалось. Эраст Петрович сначала сделал некое спешное дело, потом сел в кабинете дожидаться, да и не заметил, как провалился в сон. Когда он вернулся в кабинет, Иван Францевич уже переоделся в светлую пиджачную пару и пил чай с лимоном. Еще один стакан в серебряном подстаканнике дымился напротив, на подносе лежали бублики и сайки. – Позавтракаем, – предложил шеф, – а заодно и потолкуем. Ваши ночные приключения мне в целом известны, но есть вопросы. – Откуда известны? – огорчился Эраст Петрович, предвкушавший удовольствие от рассказа и, честно говоря, намеревавшийся опустить некоторые детали. – У Зурова был мой агент. Я уже с час, как вернулся, да вас будить было жалко. Сидел, читал отчет. Увлекательное чтение, даже переодеться не успел. Он похлопал рукой по мелко исписанным листкам. – Толковый агент, но ужасно цветисто пишет. Воображает себя литературным талантом, в газетки пописывает под псевдонимом «Maximus Зоркий», мечтает о карьере цензора. Вот послушайте ка, вам интересно будет. Где это… А, вот. «Описание объекта. Имя – Эразм фон Дорн или фон Дорен (определено на слух). Возраст – не более, чем лет двадцати. Словесный портрет: рост двух аршин восьми вершков; телосложение худощавое; волосы черные прямые; бороды и усов нет и непохоже, чтобы брился; глаза голубые, узко посаженные, к углам немного раскосые; кожа белая, чистая; нос тонкий, правильный; уши прижатые, небольшие, с короткими мочками. Особая примета – на щеках не сходит румянец. Личные впечатления: типичный представитель порочной и разнузданной золотой молодежи с незаурядными задатками бретера. После вышеизложенных событий удалился с Игроком в кабинет последнего. Беседовали двадцать две минуты. Говорили тихо, с паузами. Из за двери было почти ничего не слышно, но отчетливо разобрал слово „опиум“ и еще что то про огонь. Счел необходимым перенести слежку на фон Дорена, однако тот, очевидно, меня раскрыл – весьма ловко оторвался и ушел на извозчике. Предлагаю…» Ну, дальше неинтересно. – Шеф с любопытством посмотрел на Эраста Петровича. – Так что вы там про опиум обсуждали? Не томите, я сгораю от нетерпения. Фандорин коротко изложил суть беседы с Ипполитом и показал письмо. Бриллинг выслушал самым внимательным образом, задал несколько уточняющих вопросов и замолчал, уставившись в окно. Пауза продолжалась долго, с минуту. Эраст Петрович сидел тихо, боялся помешать мыслительному процессу, хотя имел и собственные соображения. – Я вами очень доволен, Фандорин, – молвил шеф, вернувшись к жизни. – Вы продемонстрировали блестящую результативность. Во первых, совершенно ясно, что Зуров к убийству непричастен и о роде вашей деятельности не догадывается. Иначе разве отдал бы он вам адрес Амалии? Это освобождает нас от версии три. Во вторых, вы сильно продвинулись по версии Бежецкой. Теперь мы знаем, где искать эту даму. Браво. Я намерен подключить всех освободившихся агентов, в том числе и вас, к версии четыре, которая представляется мне основной. – Он ткнул пальцем в сторону доски, где в четвертом кружке белели меловые буквы НО. – То есть как? – заволновался Фандорин. – Но позвольте, шеф… – Минувшей ночью мне удалось выйти на очень привлекательный след, который ведет на некую подмосковную дачу, – с видимым удовлетворением сообщил Иван Францевич (вот и заляпанные сапоги объяснились). – Там собираются революционеры, причем крайне опасные. Кажется, тянется ниточка и к Ахтырцеву. Будем работать. Тут мне все люди понадобятся. А версия Бежецкой, по моему, бесперспективна. Во всяком случае, это не к спеху. Пошлем запрос англичанам по дипломатическим каналам, попросим задержать эту мисс Ольсен до выяснения, да и дело с концом. – Вот этого то как раз делать ни в коем случае нельзя! – вскричал Фандорин, да так запальчиво, что Иван Францевич даже опешил. – Отчего же? – Неужто вы не видите, здесь все один к одному сходится! – Эраст Петрович заговорил очень быстро, боясь, что перебьют. – Я про нигилистов не знаю, очень может быть, и важность понимаю, но тут тоже важность, и тоже государственная! Вы смотрите, Иван Францевич, какая картина получается. Бежецкая скрылась в Лондон – это раз (он и сам не заметил, как перенял у шефа манеру выражаться). Дворецкий у нее англичанин, и очень подозрительный, такой прирежет – не поморщится. Это два. Белоглазый, что Ахтырцева убил, с акцентом говорил и тоже на англичанина похож – это три. Теперь четыре: леди Эстер, конечно, преблагородное существо, но тоже англичанка, а наследство Кокорина все таки, что ни говорите, ей досталось! Ведь очевидно, что Бежецкая нарочно подводила своих воздыхателей, чтобы они духовную на англичанку составили! – Стоп, стоп, – поморщился Бриллинг. – Вы к чему, собственно, клоните? К шпионажу? – Но ведь это очевидно! – всплеснул руками Эраст Петрович. – Английские происки. Сами знаете, какие сейчас с Англией отношения. Я про леди Эстер ничего такого сказать не хочу, она, наверно, и знать ничего не знает, но ее заведение могут использовать как прикрытие, как троянского коня, чтоб проникнуть в Россию! – Ну да, – иронически улыбнулся шеф. – Королеве Виктории и господину Дизраэли мало золота Африки и алмазов Индии, им подавай суконную фабрику Петруши Кокорина да три тысячи десятин Николеньки Ахтырцева. Тут то Фандорин и выдал свой главный козырь: – Не фабрику и не деньги даже! Вы опись их имущества помните? Я тоже не сразу обратил внимание! У Кокорина то среди прочих предприятий судостроительный завод в Либаве, а там военные заказы размещают – я справлялся. – Когда ж это вы успели? – Пока вас дожидался. Послал запрос по телеграфу в военно морское министерство. Там тоже ночью дежурят. – Так, ну ну. Что дальше? – А то, что у Ахтырцева помимо десятин, домов и капиталов имелся еще нефтяной прииск в Баку, от тетушки остался. Я ведь читал в газетах, как англичане мечтают к каспийской нефти подобраться. А тут пожалуйста – самым законным порядком! И ведь как беспроигрышно задумано: либо завод в Либаве, либо нефть, в любом случае англичанам что нибудь да достается! Вы как хотите, Иван Францевич, – разгорячился Фандорин, – а только я этого так не оставлю. Все ваши задания исполню, а после службы буду сам копать. И докопаюсь! Шеф снова уставился в окно, и на сей раз молчал дольше прежнего. Эраст Петрович весь извертелся от нервов, но характер выдержал. Наконец Бриллинг вздохнул и заговорил – медленно, с запинкой, что то еще додумывая на ходу. – Скорее всего чушь. Эдгар По, Эжен Сю. Пустые совпадения. Однако в одном вы правы – к англичанам обращаться не будем…Через нашу резидентуру в лондонском посольстве тоже нельзя. Если вы ошибаетесь – а вы наверняка ошибаетесь – выставим себя полными дураками. Если же предположить, что вы правы, посольство все равно ничего сделать не сможет – англичане спрячут Бежецкую или наврут что нибудь… Да и руки у наших посольских связаны – на виду они больно… Решено! – Иван Францевич энергично взмахнул кулаком. – Конечно, Фандорин, вы бы пригодились мне и здесь, но, как говорят в народе, насильно мил не будешь. Читал ваше дело, знаю, что владеете не только французским и немецким, но и английским. Бог с вами, поезжайте в Лондон к вашей femme fatale . Инструкций не навязываю – верю в вашу интуицию. Дам в посольстве одного человечка, Пыжов фамилия. Служит скромным письмоводителем, вроде вас, но занимается другими делами. По министерству иностранных диел числится губернским секретарем, но по нашей линии имеет и другое, более высокое звание. Разносторонних талантов господин. Прибудете – сразу к нему. Весьма расторопен. Впрочем, убежден, что съездите вхолостую. Но, в конце концов, вы заслужили право на ошибку. Посмотрите на Европу, покатаетесь за казенный счет. Хотя вы теперь, кажется, при собственных средствах? – Шеф покосился на узел, что бесприютно лежал на стуле. Оторопевший от услышанного Эраст Петрович встрепенулся: – Виноват, это мой выигрыш. Девять тысяч шестьсот рублей, я посчитал. Хотел сдать в кассу, да закрыто было. – Ну вас к черту, – отмахнулся Бриллинг. – Вы в своем уме? Что кассир, по вашему, в приходной книге напишет? Поступление от игры в штосс коллежского регистратора Фандорина?… Хм, постойте ка. Несолидно как то регистраторишке в заграничную командировку ехать. Он сел за стол, обмакнул перо в чернильницу и стал писать, проговаривая вслух: – Так с. «Срочная телеграмма. Князю Михаилу Александровичу Корчакову, лично. Копия генерал адъютанту Лаврентию Аркадьевичу Мизинову. Ваше высокопревосходительство, в интересах известного Вам дела, а также в признание исключительных заслуг прошу вне всякой очереди и без учета выслуги произвести коллежского регистратора Эраста Петрова Фандорина…» Эх, была не была, прямо в титулярные. Тоже, конечно, невелика птица, но все же. «… в титулярные советники. Прошу также временно числить Фандорина по ведомству министерства иностранных дел в должности дипломатического курьера первой категории». Это чтобы на границе не задерживали, – пояснил Бриллинг. – Так. Число, подпись. – Кстати, дипломатическую почту вы по дороге, действительно, развезете – в Берлин, Вену, Париж. Для конспирации, чтоб не вызывать лишних подозрений. Возражений нет? – Глаза Ивана Францевича озорно блеснули. – Никак нет, – пролепетал Эраст Петрович, не поспевая мыслью за событиями. – А из Парижа, уже в виде инкогнито, переправитесь в Лондон. Как бишь гостиница то называется? – «Уинтер квин», «Зимняя королева». Глава десятая, в которой фигурирует синий портфель 28 июня по западному стилю, а по русскому 16 го, ближе к вечеру, перед гостиницей «Уинтер квин» что на Грей стрит, остановилась наемная карета. Кучер в цилиндре и белых перчатках соскочил с козел, откинул ступеньку и с поклоном распахнул черную лаковую дверцу с надписью «Dunster&Dunster. Since 1848. London Regal Tours" . Сначала из дверцы высунулся сафьяновый дорожный сапог, окованный серебряными гвоздиками, а потом на тротуар ловко спрыгнул цветущий юный джентльмен с пышными усами, удивительно не шедшими к его свежей физиономии, в тирольской шляпе с перышком и широком альпийском плаще. Молодой человек огляделся по сторонам, увидел тихую, ничем не примечательную улочку и с волнением воззрился на здание отеля. Это был довольно невзрачный четырехэтажный особняк в георгианском стиле, явно знававший лучшие времена. Немного помедлив, джентльмен проговорил по русски: – Эх, была не была. После этой загадочной фразы он поднялся по ступенькам и вошел в вестибюль. Буквально в следующую секунду из паба, расположенного напротив, вышел некто в черном плаще и, надвинув на самые глаза высокий картуз с блестящим козырьком, принялся прохаживаться мимо дверей гостиницы. Однако это примечательное обстоятельство ускользнуло от внимания приезжего, который уже стоял возле стойки, разглядывая тусклый портрет какой то средневековой дамы в пышном жабо – должно быть, той самой «Зимней королевы». Дремавший за стойкой портье довольно равнодушно приветствовал иностранца, но, увидев, как тот дает бою, всего лишь поднесшему саквояж, целый шиллинг, поздоровался еще раз, гораздо приветливей, причем теперь назвал приезжего уже не просто sir, а your honour . Молодой человек спросил, есть ли свободные номера, потребовал самый лучший, с горячей водой и газетами, и записался в книге постояльцев Эразмусом фон Дорном из Гельсингфорса. После этого портье ни за что ни про что получил полсоверена и стал называть полоумного чужестранца your lordship . Между тем «господин фон Дорн» пребывал в нешуточных сомнениях. Трудно было себе представить, чтобы блестящая Амалия Казимировна остановилась в этой третьеразрядной гостинице. Что то здесь было явно не так. В растерянности он даже спросил у изогнувшегося от усердия портье, нет ли в Лондоне другой гостиницы с таким же названием, и получил клятвенное заверение, что не только нет, но никогда и не было, если не считать той «Уинтер квин», что стояла на этом же самом месте и сгорела дотла более ста лет назад. Неужели все впустую – и двадцатидневное кружное путешествие через Европу, и приклеенные усы, и роскошный экипаж, нанятый на вокзале Ватерлоо вместо обычного кэба, и, наконец, зря потраченный полсоверен? Ну уж бакшиш то ты мне, голубчик, отработаешь, подумал Эраст Петрович (будем именовать его так, несмотря на инкогнито). – Скажите ка, любезный, не останавливалась ли тут одна особа, некая мисс Ольсен? – с фальшивой небрежностью спросил он, облокачиваясь на стойку. Ответ, хоть и вполне предсказуемый, заставил сердце Фандорина тоскливо сжаться: – Нет, милорд, леди с таким именем у нас не живет и не жила. Прочтя в глазах постояльца смятение, портье выдержал эффектную паузу и целомудренно сообщил: – Однако упомянутое вашей светлостью имя мне не вполне незнакомо. Эраст Петрович покачнулся и выудил из кармана еще один золотой. – Говорите. Портье наклонился вперед и, обдав запахом дешевой кельнской воды, шепнул: – На имя этой особы к нам поступает почта. Каждый вечер в десять часов приходит некий мистер Морбид, по виду слуга или дворецкий, и забирает письма. – Огромного роста, с большими светлыми бакенбардами и такое ощущение, что никогда в жизни не улыбался? – быстро спросил Эраст Петрович. – Да, милорд, это он. – И часто приходят письма? – Часто, милорд, почти каждый день, а бывает, что и не одно. Сегодня, например, – портье многозначительно оглянулся на шкаф с ячейками, – так целых три. Намек был сразу понят. – Я бы взглянул на конверты – просто так, из любопытства, – заметил Фандорин, постукивая по стойке очередным полсовереном. Глаза портье зажглись лихорадочным блеском: творилось нечто невероятное, непостижимое рассудку, но чрезвычайно приятное. – Вообще то это строжайше запрещено, милорд, но… Если только взглянуть на конверты… Эраст Петрович жадно схватил письма, но его ждало разочарование – конверты были без обратного адреса. Кажется, третий золотой был потрачен зря. Шеф, правда, санкционировал любые траты «в пределах разумного и в интересах дела»… А что там на штемпелях? Штемпели заставили Фандорина задуматься: одно письмо было из Штутгарта, другое из Вашингтона, а третье аж из Рио де Жанейро. Однако! – И давно мисс Ольсен получает здесь корреспонденцию? – спросил Эраст Петрович, мысленно высчитывая, сколько времени плывут письма через океан. И еще ведь надо было в Бразилию здешний адрес сообщить! Получалось как то странно. Ведь Бежецкая могла прибыть в Англию самое раннее недели три назад. Ответ был неожиданным: – Давно, милорд. Когда я начал здесь служить – а тому четыре года, – письма уже приходили. – Как так?! Вы не путаете? – Уверяю вас, милорд. Правда, мистер Морбид служит у мисс Ольсен недавно, пожалуй, с начала лета. Во всяком случае до него за корреспонденцией приходил мистер Мебиус, а еще раньше мистер… м м, виноват, запамятовал, как его звали. Такой был неприметный джентльмен и тоже не из разговорчивых. Ужасно хотелось заглянуть в конверты. Эраст Петрович испытующе посмотрел на информатора. Пожалуй, не устоит. Однако тут новоиспеченному титулярному советнику и дипломатическому курьеру первой категории пришла в голову идея получше. – Так говорите, этот мистер Морбид приходит каждый вечер в десять? – Как часы, милорд. Эраст Петрович выложил на стойку четвертый полсоверен и, перегнувшись, зашептал счастливцу портье на ухо. Время, остававшееся до десяти часов, было использовано наипродуктивнейшим образом. Первым делом Эраст Петрович смазал и зарядил свой курьерский «кольт». Затем отправился в туалетную комнату и, попеременно нажимая на педали горячей и холодной воды, за каких нибудь пятнадцать минут наполнил ванну. Полчаса он нежился, а когда вода остыла, план дальнейших действий был уже окончательно составлен. Снова приклеив усы и немного полюбовавшись на себя в зеркало, Фандорин оделся неприметным англичанином: черный котелок, черный пиджак, черные брюки, черный галстук. В Москве его, пожалуй, приняли бы за гробовщика, но в Лондоне он, надо полагать, сойдет за невидимку. Да и ночью будет в самый раз – прикрой лацканами рубашку на груди, подтяни манжеты, и растворишься в объятьях темноты, а это для плана было крайне важно. Осталось еще часа полтора на ознакомительную прогулку по окрестностям. Эраст Петрович свернул с Грей стрит на широкую улицу, всю заполненную экипажами, и почти сразу же очутился у знаменитого театра «Олд Вик», подробно описанного в путеводителе. Прошел еще немного и – о чудо! – увидел знакомые очертания вокзала Ватерлоо, откуда карета везла его до «Зимней королевы» добрых сорок минут – кучер, пройдоха, взял пять шиллингов. А затем показалась и серая, неуютная в вечерних сумерках Темза. Глядя на ее грязные воды, Эраст Петрович поежился, и его почему то охватило мрачное предчувствие. В этом чужом городе он вообще чувствовал себя неуютно. Встречные смотрели мимо, ни один не взглянул в лицо, что, согласитесь, в Москве было бы абсолютно невообразимо. Но при этом Фандорина не покидало странное чувство, будто в спину ему уперт чей то недобрый взгляд. Несколько раз молодой человек оглядывался и однажды вроде бы заметил, как за театральную тумбу отшатнулась фигура в черном. Тут Эраст Петрович взял себя в руки, обругал за мнительность и более не оборачивался. Все нервы проклятые. Он даже заколебался – не подождать ли с осуществлением плана до завтрашнего вечера? Тогда можно будет утром наведаться в посольство и встретиться с таинственным письмоводителем Пыжовым, про которого говорил шеф. Но трусливая осторожность – чувство постыдное, да и времени терять не хотелось. И так уж без малого три недели на пустяки ушли. Путешествие по Европе оказалось менее приятным, чем полагал вначале окрыленный Фандорин. Территория, расположенная по ту сторону пограничного Вержболова, удручила его разительной несхожестью с родными скромными просторами. Эраст Петрович смотрел в окно вагона и все ждал, что чистенькие деревеньки и игрушечные городки закончатся и начнется нормальный пейзаж, но чем дальше от российской границы отъезжал поезд, тем домики становились белее, а городки живописней. Фандорин все суровел и суровел, но разнюниться себе не позволял. В конце концов, не все золото, что блестит, говорил он себе, но на душе все равно сделалось как то тошновато. Потом ничего, пообвыкся и уже казалось, что в Москве не намного грязней, чем в Берлине, а Кремль и золотые купола церквей у нас такие, что немцам и не снилось. Мучило другое – военный агент русского посольства, которому Фандорин передал пакет с печатями, велел пока дальше не ехать и ждать секретной корреспонденции для передачи в Вену. Ожидание растянулось на неделю, и Эрасту Петровичу надоело слоняться по тенистой Унтер ден Линден, надоело умиляться на упитанных лебедей в берлинских парках. То же самое повторилось и в Вене, только теперь пришлось пять дней дожидаться пакета, предназначенного для военного агента в Париже. Эраст Петрович нервничал, представляя, что «мисс Ольсен», не дождавшись весточки от своего Ипполита, съехала из отеля, и теперь ее вовек не сыскать. От нервов Фандорин подолгу сиживал в кафе, ел много миндальных пирожных и литрами пил крем соду. Зато в Париже он взял инициативу в свои руки: в российское представительство заглянул на пять минут, вручил посольскому полковнику бумаги и безапелляционно заявил, что имеет особое задание и задерживаться не может ни единого часа. В наказание за бесплодно потраченное время даже Париж смотреть не стал, только проехал в фиакре по новым, только что проложенным бароном Османом бульварам – и на Северный вокзал. Потом, на обратном пути, еще будет время. Без четверти десять, закрывшись номером «Таймс» с проверченной для обзора дыркой, Эраст Петрович уже сидел в фойе «Зимней королевы». На улице дожидался предусмотрительно нанятый кэб. Согласно полученной инструкции, портье демонстративно не смотрел в сторону не по летнему одетого постояльца и даже норовил отвернуться в противоположную сторону. В три минуты одиннадцатого звякнул колокольчик, дверь распахнулась и вошел исполинского роста мужчина в серой ливрее. Он, «Джон Карлыч»! Фандорин вплотную припал глазом к странице с описанием бала у принца Уэльского. Портье воровато покосился на некстати зачитавшегося мистера фон Дорна и еше, подлец, мохнатыми бровями вверх вниз задвигал, но объект, по счастью, этого не заметил или счел ниже своего достоинства оборачиваться. Кэб оказался кстати. Выяснилось, что дворецкий не пришел пешком, а приехал на «эгоистке» – одноместной коляске, в которую был запряжен крепкий вороной конек. Кстати был и зарядивший дождик – «Джон Карлыч» поднял кожаный верх и теперь при всем желании не смог бы обнаружить слежку. Приказу следовать за человеком в серой ливрее кэбмен ничуть не удивился, щелкнул длинным кнутом, и план вступил в свою первую фазу. Стемнело. На улицах горели фонари, но не знавший Лондона Эраст Петрович очень скоро потерял ориентацию, запутавшись в одинаковых каменных кварталах чужого, угрожающе безмолвного города. Некоторое время спустя дома стали пониже и пореже, во мраке вроде бы поплыли очертания деревьев, а еще минут через пятнадцать потянулись окруженные садами особняки. У одного из них «эгоистка» остановилась, от нее отделился гигантский силуэт и отворил высокие решетчатые ворота. Высунувшись из кэба, Фандорин увидел, как коляска въезжает в ограду, после чего ворота снова закрылись. Сообразительный кэбмен сам остановил лошадь, обернулся и спросил: – Должен ли я сообщить об этой поездке в полицию, сэр? – Вот вам крона и решите этот вопрос сами, – ответил Эраст Петрович, решив, что не будет просить извозчика подождать – уж больно шустер. Да и неизвестно еще, когда ехать назад. Впереди ждала полная неизвестность. Ограду перемахнуть оказалось нетрудно, в гимназические годы преодолевались и не такие. Сад пугал тенями и негостеприимно тыкал в лицо сучьями. Впереди сквозь деревья смутно белели очертания двухэтажного дома под горбатой крышей. Фандорин, стараясь потише хрустеть, подобрался к самым последним кустам (от них пахло сиренью – вероятно, это и была какая нибудь английская сирень) и произвел рекогносцировку. Не просто дом, а, пожалуй, вилла. У входа фонарь. На первом этаже окна горят, но там, похоже, расположены службы. Гораздо интереснее зажженное окно на втором этаже (здесь вспомнилось, что у англичан он почему то называется «первым»), но как туда подобраться? К счастью, неподалеку водосточная труба, а стена обросла чем то вьющимся и на вид довольно ухватистым. Навыки недавнего детства опять могли оказаться кстати. Эраст Петрович черной тенью переметнулся к самой стене и потряс водосток. Вроде бы крепкий и не дребезжит. Поскольку жизненно важно было не грохотать, подъем шел медленней, чем хотелось бы. Наконец, нога нащупала приступку, очень удачно опоясывавшую весь второй этаж, и Фандорин, осторожно уцепившись за плющ, дикий виноград, лианы – черт его знает, как назывались эти змееобразные стебли, – стал мелкими шажочками подбираться к заветному окну. В первый миг охватило жгучее разочарование – в комнате никого не было. Лампа под розовым абажуром освещала изящное бюро с какими то бумагами, в углу, кажется, белела постель. Не поймешь – то ли кабинет, то ли спальня. Эраст Петрович подождал минут пять, но ничего не происходило, только на лампу, подрагивая мохнатыми крылышками, села жирная ночная бабочка. Неужто придется лезть обратно? Или рискнуть и пробраться внутрь? Он слегка толкнул раму, и она приоткрылась. Фандорин заколебался, браня себя за нерешительность и промедление, но выяснилось, что медлил он правильно – дверь отворилась и в комнату вошли двое, женщина и мужчина. При виде женщины у Эраста Петровича чуть не вырвался торжествующий вопль – это была Бежецкая! С гладко зачесанными черными волосами, перетянутыми алой лентой, в кружевном пеньюаре, поверх которого была накинута цветастая цыганская шаль, она показалась ему ослепительно прекрасной. О, такой женщине можно простить любые прегрешения! Обернувшись к мужчине, – его лицо оставалось в тени, но судя по росту это был мистер Морбид, – Амалия Казимировна сказала на безупречном английском (шпионка, наверняка шпионка!): – Так это наверняка он? – Да, мэм. Ни малейших сомнений. – Откуда такая уверенность? Вы что, его видели? – Нет, мэм. Сегодня там дежурил Франц. Он доложил, что мальчишка прибыл в седьмом часу. Описание совпало в точности, вы даже про усы угадали. Бежецкая звонко рассмеялась. – Однако нельзя его недооценивать, Джон. Мальчик из породы счастливчиков, а я этот тип людей хорошо знаю – они непредсказуемы и очень опасны. У Эраста Петровича екнуло под ложечкой. Уж не о нем ли речь? Да нет, не может быть. – Пустяки, мэм. Вам стоит только распорядиться… Съездим с Францем, и покончим разом. Номер пятнадцать, второй этаж. Так и есть! Как раз в пятнадцатом номере, на третьем этаже (по английски втором), Эраст Петрович и остановился. Но как узнали?! Откуда?! Фандорин рывком, невзирая на боль, оторвал свои постыдные, бесполезные усы. Амалия Казимировна, или как там ее звали на самом деле, нахмурилась, в голосе зазвучал металл: – Не сметь! Сама виновата, сама и исправлю свою ошибку. Один раз в жизни доверилась мужчине… Меня удивляет только, почему из посольства нам не дали знать о его приезде? Фандорин весь обратился в слух. Так у них свои люди в русском посольстве! Ну и ну! А Иван Францевич еще сомневался! Скажи, кто, скажи! Однако Бежецкая заговорила о другом: – Письма есть? – Сегодня целых три, мэм. – И дворецкий с поклоном передал конверты. – Хорошо, Джон, можете идти спать. Сегодня вы мне больше не понадобитесь. – Она подавила зевок. Когда за мистером Морбидом закрылась дверь, Амалия Казимировна небрежно бросила письма на бюро, а сама подошла к окну. Фандорин отпрянул за выступ, сердце у него бешено колотилось. Невидяще глядя огромными глазами в моросящую тьму, Бежецкая (если б не стекло, до нее можно было бы дотронуться рукой) задумчиво пробормотала по русски: – Вот скучища то, прости Господи. Сиди тут, кисни… Затем она повела себя очень странно: подошла к игривому настенному бра в виде Амура и нажала малолетнему богу любви пальцем на бронзовый пупок. Висевшая рядом гравюра (кажется, что то охотничье) бесшумно отъехала в сторону, обнажив медную дверцу с круглой ручкой. Бежецкая выпростала из воздушного рукава тонкую голую руку, повертела рукоятку туда сюда, и дверца, мелодично тренькнув, открылась. Эраст Петрович прижался носом к стеклу, боясь пропустить самое важное. Амалия Казимировна, как никогда похожая на царицу египетскую, грациозно потянулась, достала что то из сейфа и обернулась. В руках у нее был синий бархатный портфель. Она села к бюро, вынула из портфеля большой желтый конверт, а оттуда какой то мелко исписанный лист. Взрезала ножом полученные письма и что то переписала из них на листок. Это заняло не более двух минут. Потом, снова вложив письма и листки в портфель, Бежецкая зажгла пахитоску, и неколько раз глубоко затянулась, задумчиво глядя куда то в пространство. У Эраста Петровича затекла рука, которой он держался за стебли, в бок больно впивалась рукоятка «кольта», да еще начали ныть неудобно вывернутые ступни. Долго в таком положении ему было не простоять. Наконец Клеопатра загасила пахитоску, встала и удалилась в дальний, слабо освещенный угол комнаты, открылась какая то невысокая дверь, снова закрылась и донесся звук льющейся воды. Очевидно, там находилась ванная. На бюро соблазнительно лежал синий портфель, а женщины, как известно, вечерним туалетом занимаются подолгу… Фандорин толкнул створку окна, поставил колено на подоконник и в два счета оказался в комнате. То и дело поглядывая в сторону ванной, где по прежнему ровно шумела вода, он принялся потрошить портфель. Внутри оказалась большая стопка писем и давешний желтый конверт. На конверте адрес: «Mr. Nickolas M. Croog, Poste restante, l'Hotel des postes, S. – Petersbourg, Russie» . Так, уже неплохо. Внутри лежали разграфленные листки, исписанные по английски хорошо знакомым Эрасту Петровичу косым почерком. В первом столбце какой то номер, во втором название страны, в третьем чин или должность, в четвертом дата, в пятом тоже дата – разные числа июня по возрастающей. Например, самые последние три записи, судя по чернилам, только что сделанные, выглядели так: N.1053F, Бразилия, начальник личной охраны императора, отправлено 30 мая, получено 28 июня 1876; N.852F, Североамериканские Соединенные Штаты, заместитель председателя сенатского комитета, отправлено 10 июня, получено 28 июня 1876; N.354F, Германия, председатель окружного суда, отправлено 25 июня, получено 28 июня 1876. Стоп! Письма, пришедшие сегодня в гостиницу на имя мисс Ольсен, были из Рио де Жанейро, Вашингтона и Штутгарта. Эраст Петрович порылся в стопке писем, разыскал бразильское. Внутри был листок без обращения и подписи, всего одна строчка: 30 мая, начальник личной охраны императора, N.1053F. Итак, Бежецкая зачем то переписывает содержание получаемых ею писем на листки, которые затем отправляет в Петербург какому то мсье Николя Кроогу или, скорее, мистеру Николасу Кроогу. Зачем? Почему в Петербург? Что это вообще все значит? Вопросы толкались локтями, налезая один на другой, но разбираться с ними было некогда – в ванной перестала литься вода. Фандорин наскоро запихнул бумаги и письма обратно в портфель, но ретироваться к окну не успел. В дверном проеме застыла тонкая белая фигура. Эраст Петрович выхватил из за пояса револьвер и свистящим шепотом приказал: – Госпожа Бежецкая, один звук, и я вас застрелю! Подойдите и сядьте! Живо! Она молча приблизилась, зачарованно смотря на него бездонными мерцающими глазами, села возле бюро. – Что, не ждали? – язвительно поинтересовался Эраст Петрович. – За дурачка меня держали? Амалия Казимировна молчала, взгляд ее был внимательным и немного удивленным, словно она видела Фандорина впервые. – Что означают сии списки? – спросил он, тряхнув «кольтом». – При чем здесь Бразилия? Кто скрывается под номерами? Ну же, отвечайте! – Повзрослел, – неожиданно проговорила Бежецкая тихим, задумчивым голосом. – И, кажется, возмужал. Она уронила руку, и пеньюар сполз с округлого плеча, такого белого, что Эраст Петрович сглотнул. – Смелый, задиристый дурачок, – сказала она все так же негромко и посмотрела ему прямо в глаза. – И очень, очень хорошенький. – Если вы вздумали меня соблазнять, то попусту тратите время, – краснея пробормотал он. – Не такой уж я дурачок, как вы воображаете. Амалия Казимировна грустно молвила: – Вы – бедный мальчик, который даже не понимает, во что ввязался. Бедный красивый мальчик. И мне вас теперь не спасти… – Подумали бы сначала о собственном спасении! – Эраст Петрович старался не смотреть на проклятое плечо, которое заголилось еще больше. Разве бывает такая сияющая, снежно молочная кожа? Бежецкая порывисто поднялась, и он отпрянул, выставив вперед дуло. – Сидите! – Не бойтесь, глупенький. Какой вы румяный. Можно потрогать? Она протянула руку и слегка коснулась пальцами его щеки. – Горячий… Что же мне с вами делать? Вторая ее рука нежно легла на его пальцы, сжимавшие револьвер. Матовые немигающие глаза были так близко, что Фандорин увидел в них два маленьких розовых отражения лампы. Странная пассивность охватила молодого человека, он вспомнил, как Ипполит предупреждал про мотылька, но вспомнил как то отстраненно, словно и не его касалось. А дальше произошло вот что. Левой рукой Бежецкая отвела «кольт» в сторону, правой же схватила Эраста Петровича за воротник и рванула на себя, одновременно ударив его лбом в нос. От острой боли Фандорин ослеп, а впрочем он все равно ничего не увидел бы, потому что лампа с грохотом полетела на пол, и воцарилась кромешная тьма. От следующего удара – коленом в пах – молодой человек согнулся пополам, пальцы его судорожно сжались, и комнату озарило вспышкой, разодрало выстрелом. Амалия судорожно вдохнула воздух, полувсхлипнула полувскрикнула, и никто больше не бил Эраста Петровича, никто не сжимал ему запястье. Раздался звук падающего тела. В ушах звенело, по подбородку в два ручья стекала кровь, из глаз лились слезы, а в низу живота было так скверно, что хотелось только одного – сжаться в комок и переждать, перетерпеть, перемычать эту невыносимую боль. Но мычать было некогда – снизу доносились громкие голоса, грохот шагов. Фандорин схватил со стола портфель, кинул его в окно, полез через подоконник и чуть не сорвался, потому что рука все еще сжимала пистолет. Он не помнил, как слез по трубе, очень боялся не найти в темноте портфель, однако тот был хорошо виден на белом гравии. Эраст Петрович подобрал его и побежал напролом через кусты, скороговоркой бормоча под нос: «Хорош дипломатический курьер… Женщину убил… Господи, что делать то, что делать…Сама виновата… Я и не хотел вовсе… Куда теперь… Полиция будет искать… Или эти… Убийца… В посольство нельзя… Бежать из страны, скорей… Тоже нельзя… На вокзалах, в портах будут искать… За свой портфель они землю перевернут… Затаиться… Господи, Иван Францевич, что же делать, что делать?…» Фандорин на бегу оглянулся и увидел такое, что споткнулся и чуть не упал. В кустах неподвижно стояла черная фигура в длинном плаще. В лунном свете белело застывшее, странно знакомое лицо. Граф Зуров! Взвизгнув, вконец ошалевший Эраст Петрович перемахнул через ограду, метнулся вправо, влево (откуда кэб то приехал?), и решив, что все равно, побежал направо. Глава одиннадцатая, в которой описана очень длинная ночь На Собачьем острове, в узких улочках за Миллуолскими доками, ночь наступает быстро. Не успеешь оглянуться, а сумерки из серых уже стали коричневыми, и редкие фонари горят через один. Грязно, уныло, от Темзы потягивает сыростью, от помоек гнилью. И пусто на улицах, только у подозрительных пабов и дешевых меблирашек копошится какая то нехорошая, опасная жизнь. В номерах «Ферри роуд» живут списанные на берег матросы, мелкие аферисты и стареющие портовые шлюхи. Плати шесть пенсов в день и живи себе в отдельной комнате с кроватью – никто не сунет нос в твои дела. Но уговор: за порчу мебели, драку и крики по ночам хозяин, Жирный Хью, оштрафует на шиллинг, а кто откажется платить – выгонит взашей. Жирный Хью с утра до вечера за конторкой, у входа. Стратегическое место – видно, кто пришел, кто ушел, кто что принес или, наоборот, хочет вынести. Публика пестрая, от такой жди всякого. Вот, например, рыжий патлатый художник француз, только что прошмыгнувший мимо хозяина в угловой номер. Деньги у лягушатника водятся – без споров заплатил за неделю вперед, не пьет, сидит взаперти, первый раз за все время отлучился. Хью, конечно, воспользовался случаем, заглянул к нему, и что вы думаете? Художник, а в номере ни красок, ни холстов. Может, убийца какой, кто его знает – иначе зачем глаза за темными очками прятать? Констеблю, что ли, сказать? Деньги то все равно вперед уплачены… А рыжий художник, не ведая о том, какое опасное направление приняли мысли Жирного Хью, запер дверь на ключ и повел себя, в самом деле, более чем подозрительно. Перво наперво плотно задвинул занавески. Потом положил на стол покупки – булку, сыр и бутылку портера, вынул из за пояса револьвер и сунул под подушку. На этом разоружение странного француза не закончилось. Он вытащил из за голенища дерринджер – маленький однозарядный пистолетик, какими обычно пользуются дамы и политические убийцы, – пристроил это игрушечное на вид оружие возле бутылки портера. Из рукава постоялец извлек узкий, короткий стилет и воткнул его в булку. Лишь после этого он зажег свечу, снял синие очки, устало потер глаза. Оглянулся на окно – не отходят ли шторы – и, сдернув с головы рыжий парик, оказался никем иным как Эрастом Петровичем Фандориным. С трапезой было покончено в пять минут – видно, имелись у титулярного советника и беглого убийцы дела поважнее. Смахнув со стола крошки, Эраст Петрович вытер руки о длинную богемную блузу, подошел к стоявшему в углу драному креслу, пошарил в обшивке и достал маленький синий портфель. Не терпелось продолжить работу, которой Фандорин занимался весь день и которая уже привела его к очень важному открытию. После трагических событий минувшей ночи Эраст Петрович все же был вынужден заглянуть к себе в гостиницу, чтобы захватить хотя бы деньги и паспорт. Пускай теперь любезный друг Ипполит, мерзавец, Иуда, ищет со своими прихвостнями «Эразмуса фон Дорна» по вокзалам и портам. Кого заинтересует бедный французский художник, поселившийся в самой клоаке лондонских трущоб? Ну, а если все же пришлось рискнуть и совершить вылазку на почту, так на то была особая причина. Но каков Зуров! Его роль в этой истории была не вполне ясна, но в любом случае неблаговидна. Непрост его сиятельство, ох непрост. Затейливые кренделя выписывает бравый гусар, открытая душа. Как ловко адресок подсунул, как все рассчитал! Одно слово – шпильмейстер. Знал, что клюнет глупый пескарь, проглотит наживку вместе с крючком. Или нет, его сиятельство что то такое про мотылька аллегоризировал. Полетел мотылек на огонь, полетел как миленький. И чуть было не сгорел. Так дураку и надо. Ведь ясно было, что у Бежецкой и Ипполита имеется некий общий интерес. Только такой романтический болван, как один титулярный советник (кстати, произведенный в это звание в обход других более достойных людей) мог всерьез поверить в роковую страсть на кастильский манер. Да еще Ивану Францевичу голову заморочил. Стыд то какой! Ха ха! Красиво излагал граф Ипполит Александрович: «Люблю и боюсь ее, ведьму, задушу собственными руками!» Вот, наверно, потешался над сосунком! И как ювелирно сработал, не хуже чем в тот раз, с дуэлью. Расчет был прост и безошибочен: занимай пост у гостиницы «Уинтер квин» и спокойно жди себе, пока глупый мотылек «Эразм» на свечку прилетит. Тут тебе не Москва – ни сыскной, ни жандармов, бери Эраста Фандорина голыми руками. И концы в воду. Уж не Зуров ли и есть тот самый «Франц», про которого дворецкий поминал? У, гнусные конспираторы. Кто у них там главный – Зуров или Бежецкая? Похоже, все таки она… Эраст Петрович поежился, вспомнив события минувшей ночи и жалобный вскрик, с которым рухнула застреленная Амалия. Может, ранена, не убита? Но тоскливый холодок под сердцем подсказывал, что убита, убита прекрасная царица, и жить Фандорину с этим тяжким грузом до конца своих дней. Правда, вполне возможно, что конец этот совсем близко. Зуров знает, кто убийца, видел. Наверняка уже охота идет по всему Лондону, по всей Англии. Но почему Зуров упустил его ночью, дал уйти? Пистолета в руке испугался? Загадка… Однако была загадка и позамысловатей – содержимое портфеля. Долгое время Фандорин никак не мог взять в толк, что означает таинственный список. Сверка показала, что записей на листках ровно столько же, сколько писем, и все данные совпадают. Только кроме числа, указанного в письме, Бежецкая дописывала еще и дату получения. Всего записей было сорок пять. Самая ранняя датирована 1 июня, последние три появились при Эрасте Петровиче. Порядковые номера в письмах были указаны все разные; наименьший – N.47F (Бельгийское королевство, директор департамента, получено 15 июня), наибольший – N.2347F (Италия, драгунский лейтенант, получено 9 июня). Стран отправления насчиталось девять. Чаще всего попадались Англия и Франция. Россия только однажды (N.994F, действительный статский советник, получено 26 июня, на конверте петербургский штемпель от 7 июня. Уф, не запутаться бы с календарями: 7 июня – это по европейскому будет 19 ое. Стало быть, за неделю дошло). Должности и чины в основном упоминались высокие – генералы, старшие офицеры, один адмирал, один сенатор, даже один португальский министр, но попадалась и мелкая сошка вроде лейтенанта из Италии, судебного следователя из Франции или капитана пограничной стражи из Австро Венгрии. В общем, выглядело так, будто Бежецкая являлась посредницей, передаточным звеном, живым почтовым ящиком, в обязанности которого входило регистрировать поступающие сведения и переправлять их дальше – очевидно, мистеру Николасу Кроогу в Петербург. Резонно предположить, что списки переправлялись раз в месяц. Ясно и то, что до Бежецкой роль «мисс Ольсен» исполняла какая то другая особа, о чем гостиничный портье не подозревал. На этом очевидное исчерпывалось и возникала жгучая потребность в дедуктивном методе. Эх, был бы здесь шеф, он моментально перечислил бы возможные версии, все само разлеглось бы по полочкам. Но шеф был далеко, а вывод напрашивался такой: прав Бриллинг, тысячу раз прав. Налицо разветвленная тайная организация с членами во многих странах – это раз. Королева Виктория и Дизраэли тут не при чем (иначе к чему отправлять донесения в Петербург?) – это два. Насчет английских шпионов Эраст Петрович сел в лужу, и пахнет здесь именно нигилистами – это три. Да и ниточки тянутся не куда нибудь, а именно в Росиию, где водятся самые страшные и непримиримые нигилисты – это четыре. И среди них подлый оборотень Зуров. Пускай шеф прав, однако и Фандорин не зря подорожные переводил. Ивану Францевичу, поди, и в кошмарном сне не приснилось бы, с какой могущественной гидрой он ведет войну. Тут не студенты и не истеричные барышни с бомбочками и пистолетиками, тут целый тайный орден, в котором участвуют министры, генералы, прокуроры и даже какой то действительный статский советник из Петербурга! Вот когда на Эраста Петровича снизошло озарение (это было уже после полудня). Действительный статский советник – и нигилист? Как то не укладывалось в голове. С начальником бразильской императорской охраны еще ничего – в Бразилии Эраст Петрович отроду не бывал и тамошних порядков не представлял, но представить себе русского статского генерала с бомбой воображение решительно отказывалось. Одного действительного статского Фандорин знавал довольно близко – Федора Трифоновича Севрюгина, директора Губернской гимназии, где отучился без малого семь лет. Чтоб он был террористом? Чушь! И вдруг сердце у Эраста Петровича сжалось. Никакие это не террористы, все эти солидные и респектабельные господа! Они – жертвы террора! Это нигилисты из разных стран, зашифрованные каждый под своим номером, доносят центральному революционному штабу о совершенных террористических актах! Хотя нет, в июне в Португалии министров вроде бы не убивали – об этом непременно написали бы все газеты… Ну, значит, это кандидаты в жертвы, вот что! «Номера» испрашивают позволения у своего штаба о проведении террористического акта. А имена не указаны из конспирации. И все встало на свои места, все прояснилось. Ведь говорил Иван Францевич что то о ниточке, которая тянулась от Ахтырцева на какую то подмосковную дачу, но не дослушал шефа Фандорин, распаленный своими шпионскими бреднями. Стоп. А драгунский то лейтенант зачем им понадобился? Уж больно мелкая сошка. И очень просто, тут же ответил себе Эраст Петрович. Видать, перешел им дорогу безвестный итальянец. Так же как в свое время перешел дорогу белоглазому душегубу один юный коллежский регистратор из московской сыскной полиции. Что же делать? Он тут отсиживается, а столько достойных людей под смертью ходит! Особенно жалко было Фандорину безвестного петербургского генерала. Наверно, достойный человек, и немолодой, заслуженный, дети малые… И ведь похоже, что карбонарии эти каждый месяц свои злодейские реляции высылают. То то по всей Европе что ни день кровь льется! А нити не куда нибудь, в Питер ведут. И вспомнились Эрасту Петровичу слова, некогда сказанные шефом: «Тут судьба России на карту поставлена». Эх, Иван Францевич, эх, господин статский советник, не только судьба России – всего цивилизованного мира. Известить письмоводителя Пыжова. Тайно, чтобы посольский предатель не разнюхал. Но как? Ведь предателем может оказаться кто угодно, да и опасно Фандорину возле посольства появляться, хоть бы и рыжим французом в художничьей блузе… Придется рискнуть. Послать городской почтой на имя губернского секретаря Пыжова и приписать «в собственные руки». Ничего лишнего – только свой адрес и поклон от Ивана Францевича. Умный человек, сам все поймет. А городская почта здесь, говорят, письмо адресату чуть ли не за два часа доставляет… Так и поступил Фандорин и вот теперь, вечером, ждал – не раздастся ли осторожный стук в дверь. Стука не было. Все произошло совсем иначе. Поздно вечером, уже заполночь, сидел Эраст Петрович в ободранном кресле, где был спрятан синий портфель, и клевал носом в полудреме. На столе почти догорела свеча, в углах комнаты сгустился недобрый сумрак, за окном тревожно погромыхивала приближающаяся гроза. В воздухе было тоскливо и душно, будто кто то грузный, невидимый сел на грудь и не дает вдохнуть. Фандорин покачивался где то на неопределенной грани между явью и сном. Важные, деловые мысли вдруг вязли в какой нибудь ненужной чуши, и тогда молодой человек, спохватившись, тряс головой, чтоб не уволокло в сонный омут. Во время одного из таких просветлений произошло странное. Сначала раздался непонятный тонкий писк. Потом, не веря собственным глазам, Эраст Петрович увидел, как ключ, торчавший в замочной скважине, стал сам по себе поворачиваться. Дверь, противненько скрипнув, поползла створкой внутрь, и на пороге возникло диковинное видение: маленький щуплый господин неопределенного возраста с бритым, круглым личиком и узкими, в лучиках мелких морщин глазами. Фандорин, дернувшись, схватил со стола дерринджер, а видение, сладко улыбнувшись и удовлетворенно кивнув, проворковало чрезвычайно приятным, медовым тенорком: – Ну вот и я, милый отрок. Порфирий Мартынов сын Пыжов, господний раб и губернский секретарь. Прилетел по первому же мановению. Как ветр на зов Эола. – Как вы открыли дверь? – испуганно прошептал Эраст Петрович. – Я ведь помню, что повернул ключ на два оборота. – А вот с, магнитная отмычка, – охотно объяснил долгожданный гость и показал какой то продолговатый брусок, впрочем тут же исчезнувший в его кармане. – Удобнейшая вещица. Позаимствовал у одного татя из местных. По роду занятий приходится вступать в сношения с ужасными субъектами, обитателями самого дна общества. Совершеннейшие мизерабли, уверяю вас. Господину Юго такие и не снились. Но ведь тоже души человеческие, и к ним можно подходец сыскать. Я их, извергов, даже люблю и отчасти коллекционирую. Сказано у поэта: всяк развлекается как может, но всех стреножит смерть одна. Или, как говорит немчура, йедес тирхен хат зайн плезирхен – у каждой зверушки свои игрушки. По всей видимости, странный человечек обладал способностью без малейших затруднений молоть языком на любую тему, но его цепкие глазки времени даром не теряли – основательно обшарили и самого Эраста Петровича, и убранство убогой каморки. – Я – Эраст Петрович Фандорин. От господина Бриллинга. По крайне важному делу, – сказал молодой человек, хотя первое и второе было указано в письме, а о третьем Пыжов без сомнения догадался и сам. – Только вот он мне никакого пароля не дал. Забыл, наверно. Эраст Петрович с тревогой посмотрел на Пыжова, от которого теперь зависело его спасение, но тот только всплеснул короткопалыми ручками: – И не нужно никакого пароля. Вздор и детские забавы. Что ж, русский русского не распознает? Да мне довольно в глазки ваши ясные посмотреть (Порфирий Мартынович придвинулся вплотную), и я вижу все, как на ладони. Юноша чистый, смелый, благородных устремлений и патриот отечества. А как же, у нас в заведении других не держат. Фандорин насупился – ему показалось, что губернский секретарь дурачится, держит его за несмышленыша. Поэтому свою историю Эраст Петрович изложил коротко и сухо, без эмоций. Тут выяснилось, что Порфирий Мартынович умеет не только балаболить, но и внимательнейше слушать – по этой части у него был просто талант. Пыжов присел на кровать, ручки сложил на животе, глаза, и без того в щелочку, совсем зажмурил, и его будто не стало. То есть он в буквальном смысле обратился в слух. Ни разу не перебил Пыжов говорившего, ни разу не шелохнулся. Однако временами, в ключевые моменты рассказа, высверкивало из под закрытых век острой искоркой. Своей гипотезой по поводу писем Эраст Петрович делиться не стал – приберег для Бриллинга, а напоследок сказал: – И вот, Порфирий Мартынович, перед вами беглец и невольный убийца. Мне нужно срочно переправиться на континент. В Москву мне нужно, к Ивану Францевичу. Пыжов пожевал губами, подождал, не будет ли сказано еще чего нибудь, потом тихонько спросил: – А портфельчик? Не переправить ли с дипломатической? Так оно обстоятельней получится. Неровен час… Господа, по всему видать, серьезные, они ведь вас и в Европе искать станут. Через проливчик я вас, ангел мой, конечно, переправлю – дело небольшое. Если не побрезгуете утлым рыбацким челном, завтра же поплывете себе с Богом. Ловя под парус ветр ревущий. Что у него все «ветр» да «ветр», сердито подумал Эраст Петрович, которому, по правде сказать, ужасно не хотелось расставаться с портфелем, доставшимся такой дорогой ценой. А Порфирий Мартынович, словно бы и не заметив колебаний собеседника, продолжил: – Я не в свои дела не лезу. Ибо скромен и нелюбопытен. Однако вижу, что многого мне недосказываете. И правильно, персиковый мой, слово серебро, а молчание золото. Бриллинг Иван Францевич – птица высокого полета. Можно сказать, орел прегордый меж дроздами, абы кому важного дела не доверит. Так как же с? – В каком смысле? – Насчет портфельчика то? Я бы его со всех сторон сургучом обляпал, дал бы курьеру посмышленней, вмиг бы до Москвы долетел, как на троечке с бубенцами. А уж я бы и телеграммку шифрованную заслал – встречайте, мол, владык небесных дар бесценный. Видит Бог, не почестей жаждал Эраст Петрович, не ордена и даже не славы. Отдал бы он Пыжову портфель ради пользы дела, ведь с курьером и вправду надежней. Но воображение уже столько раз рисовало ему картину триумфального возвращения к шефу, с эффектным вручением драгоценного портфеля и захватывающим рассказом о перенесенных приключениях… Неужто ничего этого не будет? И смалодушничал Фандорин. Сказал строго: – Портфель спрятан в надежном тайнике. И доставлю его я сам. Головой за него отвечаю. Вы уж, Порфирий Мартынович, не обижайтесь. – Ну что ж, ну что ж, – не стал настаивать Пыжов. – Воля ваша. Мне же и спокойней. Ну их, чужие секреты, мне и своих хватает. В тайнике так в тайнике. – Он поднялся, скользнул взглядом по голым стенам комнатенки. – Вы пока отдохните, дружочек. Младость сна требует. А у меня, старика, все равно бессонница, так я покамест насчет лодочки распоряжусь. Завтра (а получается, что уже сегодня) чуть светочек буду у вас. Доставлю к морскому брегу, облобызаю на прощанье и перекрещу. А сам останусь на чужбине сиротой бесприютным прозябать. Ох, тошно Афонюшке на чужой сторонушке. Тут Порфирий Мартынович, видно, и сам понял, что пересиропил и виновато развел руками: – Каюсь, заболтался. Соскучился по живой русской речи, все, знаете, на витиеватость тянет. Наши умники посольские больше по французски изъясняются, не с кем душу отвести. За окном загрохотало уже нешуточно, кажется, и дождь пошел. Пыжов засуетился, засобирался. – Пойду. Ой е ей, там бурны дышат непогоды. В дверях обернулся, напоследок обласкал Фандорина взглядом и, низко поклонившись, растаял во мраке коридора. Эраст Петрович запер дверь на засов и зябко передернул плечами – громовой раскат ударил чуть не в самую крышу. Темно и жутко в убогой комнатке, что выходит единственным окном в голый, без единой травинки каменный двор. Там ненастно, там ветер и дождь, но по черно серому, в рваных тучах небу рыщет луна. Желтый луч через щель в шторах рубит конуренку надвое, рассекает до самой кровати, где мечется в холодном поту одолеваемый кошмаром Фандорин. Он полностью одет, обут и вооружен, только револьвер по прежнему под подушкой. Отягощенная убийством совесть посылает бедному Эрасту Петровичу страшное видение. Над кроватью склонилась мертвая Амалия. Глаза ее полузакрыты, из под век стекает капелька крови, в голой руке черная роза. – Что я тебе сделала? – жалобно стонет убитая. – Я была молода и красива, я была несчастна и одинока. Меня запутали в сети, меня обманули и совратили. Единственный человек, которого я любила, меня предал. Ты совершил страшный грех, Эраст, ты убил красоту, а ведь красота – это чудо господне. Ты растоптал чудо господне. И зачем, за что? Кровавая капля срывается с ее щеки прямо на лоб измученному Фандорину, он вздрагивает от холода и открывает глаза. Видит, что никакой Амалии, слава Богу, нет. Сон, всего лишь сон. Но на лоб снова капает что то ледяное. Что это, в ужасе содрогнулся Эраст Петрович, окончательно просыпаясь, и услышал вой ветра, шум дождя, утробный рокот грома. Что за капли? Ничего сверхъестественного. Протекает потолок. Успокойся, глупое сердце, затихни. Однако тут из за двери тихо, но отчетливо донесся шелест: – Зачем? За что? И еще раз: – Зачем? За что? Это нечистая совесть, сказал себе Фандорин. Из за нечистой совести у меня галлюцинации. Но здравая, рациональная мысль не избавила от гнусного, липкого страха, который так и лез через поры по всему телу. Вроде бы тихо. Зарница высветила голые, серые стены и снова стало темно. А минуту спустя раздался негромкий стук в окно. Тук тук. И снова: тук тук тук. Спокойно! Это ветер. Дерево. Сучья в стекло. Обычное дело. Тук тук. Тук тук тук. Дерево? Какое дерево? Фандорин рывком сел. Нет там, за окном, никакого дерева! Там пустой двор. Господи, что это? Желтая щель меж занавесок погасла, посерела – видно, луна ушла за тучи, а в следующий миг там колыхнулось что то темное, жуткое, неведомое. Что угодно, только не лежать так, чувствуя, как шевелятся корни волос. Только не сойти с ума. Эраст Петрович встал и на непослушных ногах двинулся к окну, не отводя глаз от страшного темного пятна. В то мгновение, когда он отдернул шторы, небо озарила вспышка молнии, и Фандорин увидел за стеклом, прямо перед собой, мертвенно белое лицо с черными ямами глаз. Мерцающая нездешним светом рука с растопыренными лучеобразыми пальцами медленно провела по стеклу, и Эраст Петрович повел себя глупо, по детски: судорожно всхлипнул, отшатнулся и, бросившись назад, к кровати, рухнул на нее ничком, закрыл голову ладонями. Проснуться! Скорей проснуться! Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое… Постукивание в стекло прекратилось. Он оторвал лицо от подушки, осторожно покосился в сторону окна, но ничего ужасного не увидел – ночь, дождь, частые вспышки зарниц. Примерещилось. Определенно примерещилось. К счастью, вспомнились Эрасту Петровичу наставления индийского брамина Чандры Джонсона, учившего правильно дышать и правильно жить. Мудрая книга гласила: «Правильное дыхание – основа правильной жизни. Оно поддержит тебя в трудные минуты бытия, в нем обретешь ты спасение, успокоение и просветление. Вдыхая жизненную силу прану, не спеши выдохнуть ее обратно, задержи ее в своих легких. Чем дольше и размеренней твое дыхание, тем больше в тебе жизненной силы. Тот достиг просветления, кто, вдохнув прану вечером, не выдохнет ее до утренней зари». Ну, до просветления Эрасту Петровичу было пока далеко, но благодаря ежеутренним упражнениям он уже научился задерживать дыхание до ста секунд. К этому верному средству прибег он и теперь. Набрал полную грудь воздуха и затих, «превратился в дерево, камень, траву». И помогло – стук сердца понемногу выровнялся, ужас отступил. На счете сто Фандорин шумно выдохнул, успокоенный победой духа над суеверием. И тогда раздался звук, от которого громко заклацали зубы. Кто то скребся в дверь. – Впусти меня, – прошептал голос. – Посмотри на меня. Мне холодно. Впусти… Ну уж это слишком, из последних остатков гордости возмутился Фандорин. Сейчас открою дверь и проснусь. Или… Или увижу, что это не сон. Он в два прыжка достиг двери, отдернул засов и рванул створку на себя. На этом его отчаянный порыв иссяк. На пороге стояла Амалия. Она была в белом кружевном пеньюаре, как тогда, только волосы спутались от дождя, а на груди расплылось кровавое пятно. Страшнее всего было ее сияющее нездешним светом лицо с остановившимися, потухшими глазами. Белая, вспыхивающая искорками рука протянулась к лицу Эраста Петровича и коснулась его щеки – совсем как давеча, но только исходил от пальцев такой ледяной холод, что несчастный, сходящий с ума Фандорин попятился назад. – Где портфель? – свистящим шепотом спросил призрак. – Где мой портфель? Я за него душу продала. – Не отдам! – сорвалось с пересохших губ Эраста Петровича. Он допятился до кресла, в недрах которого таился похищенный портфель, плюхнулся на сиденье и для верности еще обхватил его руками. Привидение подошло к столу. Чиркнув спичкой, зажгло свечу и вдруг звонко крикнуло: – Your turn now! He's all yours! В комнату ворвались двое – высоченный, головой до притолоки Морбид и еще один маленький, юркий. Вконец запутавшийся Фандорин даже не шелохнулся, когда дворецкий приставил к его горлу нож, а второй ловко обшарил бока и нашел за голенищем дерринджер. – Ищи револьвер, – приказал Морбид по английски, и юркий не подкачал – моментально обнаружил спрятанный под подушкой «кольт». Все это время Амалия стояла у окна, вытирая платком лицо и руки. – Ну, все? – нетерпеливо спросила она. – Какая гадость этот фосфор. И, главное, весь маскарад был ни к чему. У него даже не хватило мозгов спрятать портфель как следует. Джон, поищите в кресле. На Фандорина она не смотрела, словно он внезапно превратился в неодушевленный предмет. Морбид легко выдернул Эраста Петровича из кресла, все так же прижимая к его горлу клинок, а юркий сунул руку в сиденье и извлек оттуда синий портфель. – Дайте ка. – Бежецкая подошла к столу, проверила содержимое. – Все на месте. Не успел переправить. Слава богу. Франц, принесите плащ, я вся продрогла. – Так это был спектакль? – нетвердым голосом произнес храбрящийся Фандорин. – Браво. Вы великая актриса. Рад, что моя пуля пролетела мимо. Как же, такой талант пропал бы… – Не забудьте кляп, – сказала Амалия дворецкому и, накинув на плечи принесенный Францем плащ, вышла из комнаты – даже не взглянула напоследок на опозоренного Эраста Петровича. Юркий коротышка – вот кто за гостиницей следил, а вовсе не Зуров – достал из кармана моток тонкой веревки и туго прикрутил руки пленника к бокам. Потом схватил Фандорина двумя пальцами за нос, и когда задыхающийся Эраст Петрович разинул рот, сунул туда каучуковую грушу. – Порядок, – с легким немецким акцентом объявил Франц, удовлетворенный результатом. – Несу мешок. Он выскочил в коридор и очень быстро вернулся. Последнее, что видел Эраст Петрович перед тем, как ему на плечи, до самых колен, натянули грубую мешковину, – была бесстрастная, абсолютно каменная физиономия Джона Морбида. Жаль, конечно, что белый свет показал Эрасту Петровичу на прощанье именно этот, не самый чарующий свой лик, однако в пыльной темноте мешка оказалось еще хуже. – Дай ка я еще веревочкой поверх перехвачу, – донесся голос Франца. – Ехать недалеко, но так оно верней будет. – Да куда ему деться? – басом ответил Морбид. – Чуть дернется, я ему в брюхо нож всажу. – А мы все таки перехватим, – пропел Франц и обмотал веревкой поверх мешка так крепко, что Эрасту Петровичу стало трудно дышать. – Пошел! – ткнул пленника дворецкий, и Фандорин вслепую двинулся вперед, не вполне понимая, почему его нельзя прирезать прямо здесь, в комнате. Два раза он споткнулся, на пороге гостиницы чуть не упал, но лапища Джона вовремя ухватила его за плечо. Пахло дождем, пофыркивали лошади. – Вы двое, как управитесь, вернитесь сюда и все приберите, – раздался голос Бежецкой. – А мы возвращаемся. – Не беспокойтесь, мэм, – пророкотал дворецкий. – Вы сделали свою работу, мы сделаем свою. О, как хотелось Эрасту Петровичу сказать Амалии напоследок что нибудь этакое, что нибудь особенное, чтоб запомнила его не глупым перетрусившим мальчишкой, а храбрецом, доблестно павшим в неравной схватке с целой армией нигилистов. Но проклятая груша лишила его даже этого последнего удовлетворения. А тут поджидало бедного юношу еще одно потрясение, хотя, казалось бы, после всего перенесенного какие еще могли быть потрясения? – Душенька Амалия Казимировна, – сказал по русски знакомый уютный тенорок. – Позвольте старику с вами в карете прокатиться. Потолкуем о том о сем, да и посуше мне будет, сами видите, вымок весь. А Патрик ваш пускай в мои дрожечки сядет да за нами едет. Не возражаете, лапушка? – Садитесь, – сухо ответила Бежецкая. – Да только я вам, Пыжов, никакая не душенька и уж тем более не лапушка. Эраст Петрович глухо замычал, ибо разрыдаться с грушей во рту было совершенно невозможно. Весь мир ополчился на несчастного Фандорина. Где взять столько сил, чтобы сдюжить в борьбе против сонма злодеев? Вокруг одни предатели, аспиды злоядные (тьфу, заразился от проклятого Порфирия Мартыновича словоблудием!). И Бежецкая со своими головорезами, и Зуров, и даже Пыжов, сума переметная – все враги. Прямо жить не хотелось в этот миг Эрасту Петровичу – такое он ощутил отвращение и такую усталость. Впрочем, жить его никто особенно и не уговаривал. Похоже, у конвоиров на его счет были планы совсем иного свойства. Сильные руки подхватили пленника и усадили на сиденье. Слева взгромоздился тяжелый Морбид, справа легкий Франц, хлопнул кнут, и Эраста Петровича откинуло назад. – Куда? – спросил дворецкий. – Велено к шестому пирсу. Там поглубже и течение опять же. Ты как думаешь? – А мне все едино. К шестому так к шестому. Итак, дальнейшая судьба Эраста Петровича представлялась достаточно ясно. Отвезут его к какому нибудь глухому причалу, привяжут камень и отправят на дно Темзы, гнить среди ржавых якорных цепей и бутылочных осколков. Исчезнет бесследно титулярный советник Фандорин, ибо получится, что не видела его ни одна живая душа после парижского военного агента. Поймет Иван Францевич, что оступился где то его питомец, а правды так никогда и не узнает. И невдомек им там, в Москве и Питере, что завелась у них в секретной службе подлая гадина. Вот кого изобличить бы. А может, еще и изобличим. Даже будучи связанным и засунутым в длинный, пыльный мешок, Эраст Петрович чувствовал себя несравненно лучше, чем двадцатью минутами ранее, когда в окно таращился фосфоресцирующий призрак и от ужаса парализовало рассудок. Дело в том, что имелся у пленника шанс на спасение. Ловок Франц, а правый рукав прощупать не догадался. В том рукаве стилет, на него и надежда. Если б изловчиться, да пальцами до рукоятки достать… Ох, непросто это, когда рука к бедру прикручена. Сколько до него ехать, до этого шестого пирса? Успеешь ли? – Сиди тихо. – Морбид ткнул локтем в бок извивающегося (верно, от ужаса) пленника. – Да уж, приятель, тут вертись не вертись, все одно, – философски заметил Франц. Человек в мешке еще с минуту подергался, потом глухо и коротко гукнул и затих, видимо, смирившись с судьбой (проклятый стилет перед тем как вытащиться, больно обрезал запястье). – Приехали, – объявил Джон и приподнялся, озираясь по сторонам. – Никого. – А кому тут быть в дождь, среди ночи? – пожал плечами Франц. – Давай что ли, пошевеливайся. Нам еще назад возвращаться. – Бери за ноги. Они подхватили перекрученный веревкой сверток и понесли его к дощатому лодочному причалу, стрелой нависшему над черной водой. Эраст Петрович услышал скрип досок под ногами, плеск реки. Избавление было близко. Чуть только воды Темзы сомкнутся над головой, полоснуть клинком по путам, взрезать мешковину и тихонечко вынырнуть под причалом. Отсидеться, пока эти не уйдут, и все – спасение, жизнь, свобода. И так легко и гладко это представилось, что внутренний голос вдруг шепнул Фандорину: нет, Эраст, в жизни так не бывает, обязательно приключится какая нибудь пакость, которая испортит весь твой чудесный план. Увы, накаркал внутренний голос, накликал беду. Пакость и в самом деле не замедлила нарисоваться – да не со стороны кошмарного мистера Морбида, а по инициативе добродушного Франца. – Погоди, Джон, – сказал тот, когда они остановились у самого конца пирса и положили свою ношу на помост. – Не годится это – живого человека, словно кутенка, в воду кидать. Ты бы хотел быть на его месте? – Нет, – ответил Джон. – Ну вот, – обрадовался Франц. – Я и говорю. Захлебнуться в тухлой, поганой жиже – бр р р. Я такого никому не пожелаю. Давай поступим по божески: прирежь его сначала, чтоб не мучился. Чик – и готово, а? Эрасту Петровичу от такого человеколюбия стало скверно, но милый, чудный мистер Морбид проворчал: – Ну да, буду я нож кровянить. Еще рукав забрызгаешь. Мало с этим щенком хлопот было. Ничего, и так сдохнет. Если ты такой добрый, придуши его веревкой, ты по этой части мастер, а я пока схожу, какую нибудь железяку поищу. Его тяжелые шаги удалились, и Фандорин остался наедине с человечным Францем. – Не надо было поверх мешка обвязывать, – задумчиво произнес тот. – Всю веревку перевел. Эраст Петрович ободряюще замычал – ничего, мол, не переживай, я уж как нибудь обойдусь. – Эх, бедолага, – вздохнул Франц. – Ишь стонет, сердце разрывается. Ладно, парень, не трусь. Дядя Франц для тебя своего ремня не пожалеет. Послышались приближающиеся шаги. – Вот, кусок рельса. В самый раз будет, – прогудел дворецкий. – Просунь под веревку. Раньше чем через месяц не всплывет. – Подожди минутку, я только ему петельку накину. – Да пошел ты со своими нежностями! Время не ждет, рассвет скоро! – Извини, парень, – жалостливо сказал Франц. – Видно, такая твоя судьба. Das hast du dir selbst zu verdanken . Эраста Петровича снова подняли, раскачали. – Azazel! – строгим, торжественным голосом воскликнул Франц, и в следующую секунду спеленутое тело с плеском ухнуло в гнилую воду. Ни холода, ни даже маслянистой тяжести водяного панцыря не чувствовал Фандорин, кромсая стилетом намокший шнур. Больше всего возни было с правой рукой, когда же она освободилась, дело пошло споро: рраз! – и левая рука стала помогать правой; два! – и мешок рассечен сверху донизу; три! – и тяжелый обрезок рельса нырнул в мягкий ил. Теперь только бы не всплыть раньше времени. Эраст Петрович оттолкнулся ногами, а руки выставил вперед и зарыскал ими в мутной темноте. Где то здесь, совсем близко, должны быть опоры, на которых стоит причал. Вот пальцы коснулись скользкой, обросшей водорослями древесины. Тихо, не спеша, вверх по столбу. Чтоб без всплеска, без звука. Под деревянным настилом пирса темным темно. Вдруг черная вода беззвучно исторгла из своих недр белое, круглое пятно. В белом круге сразу образовался еще один, маленький и черный – это титулярный советник Фандорин жадно глотнул речного воздуха. Пахло гнилью и керосином. То был волшебный запах жизни. А тем временем наверху, на причале, шел неспешный разговор. Затаившийся внизу слышал каждое слово. Бывало, Эраст Петрович доводил себя до умильных слез, представляя, какими словами будут вспоминать его, безвременно погибшего героя, друзья и враги, какие речи будут звучать над разверстой могилой. Можно сказать, вся юность прошла в этих мечтаниях. Каково же было негодование молодого человека, когда он услышал, о каких пустяках болтают те, кто почитал себя его убийцами! И ни слова о том, над кем сомкнулись мрачные воды, – о человеке с умом и сердцем, с благородной душой и высокими устремлениями! – Ох, обойдется мне эта прогулочка приступом ревматизма, – вздохнул Франц. – Вон как сыростью тянет. Ну чего тут стоять? Пойдем, а? – Рано. – Слушай, я ведь с этой беготней без ужина остался. Как думаешь, дадут нам пожрать или еще какую нибудь работенку придумают? – Не нашего ума дело. Как скажут, так и сделаем. – Хоть бы телятинки холодной перехватить. В животе бурчит… Неужто будем с насиженного места срываться? Только прижился, пообвыкся. Зачем? Ведь обошлось все. – Она знает, зачем. Раз велела, значит, надо. – Это уж точно. Она не ошибается. Ради нее я что хочешь – папашу бы родного не пожалел. Если б, конечно, он у меня был. Мать родная для нас столько не сделала бы, сколько она сделала. – Само собой… Все, идем. Эраст Петрович подождал, пока вдали стихнут шаги, для верности досчитал еще до трехсот и лишь тогда двинулся к берегу. Когда он с великим трудом, несколько раз сорвавшись, взобрался на низенький, но почти отвесный парапет набережной, тьма уже начинала таять, теснимая рассветом. Несостоявшегося утопленника била дрожь, стучали зубы, а тут еще икота накатила – видно, наглотался затхлой речной воды. Но жить все равно было замечательно. Эраст Петрович окинул любовным взглядом серый речной простор (на той стороне ласково светились огоньки), умилился добротности приземистого пакгауза, одобрил мерное покачивание буксиров и баркасов, вытянувшихся вдоль пристани. Безмятежная улыбка озарила мокрое, с мазутной полосой на лбу лицо восставшего из мертвых. Он сладостно потянулся, да так и замер в этой нелепой позе – от угла пакгауза отделился и быстро быстро покатился навстречу низенький, проворный силуэт. – Вот ироды, вот бестии, – причитал силуэт на ходу тонким, издалека слышным голоском. – Ведь ничего поручить нельзя, за всем догляд нужен. Куда вы все без Пыжова, куда? Пропадете, как щенята слепые, пропадете. Охваченный праведным гневом, Фандорин рванулся вперед. Похоже, изменник воображал, что его сатанинское отступничество осталось нераскрытым. Однако в руке губернского секретаря сверкнуло нехорошим блеском что то металлическое, и Эраст Петрович сначала остановился, а потом и попятился. – Это вы правильно, клубничный мой, рассудили, – одобрил Пыжов, и стало видно, какая упругая, кошачья у него походка. – Вы разумный отрок, я сразу определил. Это ведь что у меня, знаете? – Он помахал своей железякой, и Фандорин разглядел двуствольный пистолет необычайно большого калибра. – Жуткая штука. На здешнем разбойном жаргоне «смэшер» называется. Вот сюда, изволите ли видеть, две разрывные пульки вставляются – те самые, что Санкт Петербургской конвенцией 68 го года запрещены. Да ведь преступники, Эрастушка, злодеи. Что им человеколюбивая конвенция! А пулька разрывная, как в мягкое попадет, вся так лепесточками и раскрывается. Мясо, косточки, жилки всякие в сплошной фарш преображает. Вы уж, ласковый мой, полегонечку, не дергайтесь, а то я с перепугу выпалю, а потом не прощу себе такого зверства, каяться буду. Очень уж больно, если в живот попадет или еще куда нибудь в той области. Икнув, но уже не от холода, а от страха, Фандорин крикнул: – Искариот! Продал отчизну за тридцать серебряников! – И снова попятился от зловещего дула. – Как изрек великий Державин, непостоянство – доля смертных. Да и зря вы меня обижаете, дружочек. Не на тридцать сиклей я польстился, а на сумму гораздо более серьезную, аккуратнейшим образом в швейцарский банк переводимую – на старость, чтоб под забором не околеть. А вас то, дурашку, куда занесло? На кого тявкать вздумали? В камень стрелять, только стрелы терять. Это ж силища, пирамида Хеопсова. Лбом не сковырнешь. Эраст Петрович между тем допятился до самой кромки набережной и был вынужден остановиться, чувствуя, как низенький окаем уперся ему в лодыжку. Этого то Пыжов, судя по всему, и добивался. – Вот и хорошо, вот и славно, – пропел он, останавливаясь в десяти шагах от своей жертвы. – А то легко ли мне такого упитанного юношу до воды потом волочь. Вы, яхонтовый мой, не тревожьтесь, Пыжов свое дело знает. Хлоп – и готово. Вместо красна личика – красна кашица. Если и выловят – не опознают. А душа сразу к ангелам воспарит. Не успела она еще нагрешить, душа то юная. С этими словами он поднял свое орудие, прищурил левый глаз и аппетитно улыбнулся. Стрелять не спешил, видно, наслаждался моментом. Фандорин бросил отчаянный взгляд на пустынный берег, тускло освещенный рассветом. Никого, ни единого человека. Это уж точно был конец. Возле пакгауза вроде бы возникло какое то шевеление, но рассмотреть толком не хватило времени – грянул ужасно громкий, громче самого громкого грома выстрел, и Эраст Петрович, качнувшись назад, с истошным воплем рухнул в реку, из которой несколько минут назад с таким трудом выбрался. Глава двенадцатая, в которой герой узнает, что у него вокруг головы нимб Однако сознание не покинуло застреленного, да и боли почему то совсем не было. Ничего не понимая, Эраст Петрович замолотил руками по воде. Что такое? Жив он или убит? Если убит, то почему так мокро? Над бордюром набережной возникла голова Зурова. Фандорин ничуть не удивился: во первых, его в данный момент вообще трудно было бы чем то удивить, а во вторых, на том свете (если это, конечно, он) могло произойти и не такое. – Эразм! Ты живой? Я тебя задел? – с надрывом вскричала голова Зурова. – Давай руку. Эраст Петрович высунул из воды десницу и был единым мощным рывком выволочен на твердь. Первое, что он увидел, встав на ноги, – маленькую фигурку, что лежала ничком, вытянув вперед руку с увесистым пистолетом. Сквозь жидкие пегие волосенки на затылке чернела дыра, снизу растекалась темная лужица. – Ты ранен? – озабоченно спросил Зуров, вертя и ощупывая мокрого Эраста Петровича. – Не понимаю, как это могло приключиться. Просто revolution dans la balistique . Да нет, не может быть. – Зуров, вы?! – просипел Фандорин, наконец уразумев, что все еще находится не на том свете, а на этом. – Не «вы», а «ты». Мы на брудершафт пили, забыл? – Но за зачем? – Эраста Петровича снова начало колотить. – Непременно хотите сами меня прикончить? Вам что, премию за это обещал этот ваш Азазель? Да стреляйте, стреляйте, будь вы прокляты! Надоели вы мне все хуже манной каши! Про манную кашу вырвалось непонятно откуда – должно быть, что то давно забытое из детства. Эраст Петрович хотел и рубаху на груди рвануть – вот, мол, тебе моя грудь, стреляй, но Зуров бесцеремонно тряхнул его за плечи. – Кончай бредить, Фандорин. Какой Азазель? Какая каша? Дай ка я тебя в чувство приведу. – И незамедлительно влепил измученному Эрасту Петровичу две звонкие оплеухи. – Это же я, Ипполит Зуров. Немудрено, что у тебя после таких напастей мозги расквасились. Ты обопрись на меня. – Он обхватил молодого человека за плечи. – Сейчас отвезу тебя в гостиницу. У меня тут лошадка привязана, у этого (он пнул ногой недвижное тело Пыжова) – дрожки. Домчим с ветерком. Обогреешься, хватанешь грогу и разъяснишь мне, что у вас здесь за шапито такое творится. Фандорин с силой оттолкнул графа: – Нет уж, это ты мне разъясни! Ты откуда (ик) здесь взялся? Зачем за мной следил? Ты с ними заодно? Зуров сконфуженно покрутил черный ус. – Это в двух словах не расскажешь. – Ничего, у меня (ик) время есть. С места не тронусь! – Ладно, слушай. И вот что поведал Ипполит. * * * – Думаешь, я спроста тебе адрес Амалии дал? Нет, брат Фандорин, тут целая психология. Понравился ты мне, ужас как понравился. Есть в тебе что то… Не знаю, печать какая то, что ли. У меня на таких, как ты, нюх. Я будто нимб у человека над головой вижу, этакое легкое сияние. Особые это люди, у кого нимб, судьба их хранит, от всех опасностей оберегает. Для чего хранит – человеку и самому невдомек. Стреляться с таким нельзя – убьет. В карты не садись – продуешься, какие кундштюки из рукава ни мечи. Я у тебя нимб разглядел, когда ты меня в штосс обчистил, а потом жребий на самоубийство метать заставил. Редко таких, как ты, встретишь. Вот у нас в отряде, когда в Туркестане пустыней шли, был один поручик, по фамилии Улич. В любое пекло лез, и все ему нипочем, только зубы скалил. Веришь ли, раз под Хивой я собственными глазами видел, как в него ханские гвардейцы залп дали. Ни царапины! А потом кумысу прокисшего попил – и баста, закопали Улича в песке. Зачем его Господь в боях сберег? Загадка! Так вот, Эразм, и ты из этих, уж можешь мне поверить. Полюбил я тебя, в ту самую минуту полюбил, когда ты без малейшего колебания пистолет к голове приставил и курок спустил. Только моя любовь, брат Фандорин, – материя хитрая. Я того, кто ниже меня, любить не могу, а тем, кто выше, завидую смертно. И тебе позавидовал. Приревновал к нимбу твоему, к везению несусветному. Ты гляди, вот и сегодня ты сухим из воды вышел. Ха ха, то есть вышел то, конечно, мокрым, но зато живым, и ни царапинки. А с виду – мальчишка, щенок, смотреть не на что. До сего момента Эраст Петрович слушал с живым интересом и даже слегка розовел от удовольствия, на время и дрожать перестал, но на «щенка» насупился и два раза сердито икнул. – Да ты не обижайся, я по дружески, – хлопнул его по плечу Зуров. – В общем, подумал я тогда: это судьба мне его посылает. На такого Амалия беспременно клюнет. Приглядится получше и клюнет. И все, избавлюсь от сатанинского наваждения раз и навсегда. Оставит она меня в покое, перестанет мучить, водить на цепке, как косолапого на ярмарке. Пускай мальчугана этого своими казнями египетскими изводит. Вот и дал тебе ниточку, знал, что ты от своего не отступишься… Ты плащ то накинь и на, из фляги хлебни. Изыкался весь. Пока Фандорин, стуча зубами, глотал из большой плоской фляги плескавшийся на донышке ямайский ром, Ипполит набросил ему на плечи свой щегольский черный плащ на алой атласной подкладке, а затем деловито перекатил ногами труп Пыжова к кромке набережной, перевалил через бордюр и спихнул в воду. Один глухой всплеск – и осталась от неправедного губернского секретаря только темная лужица на каменной плите. – Упокой, Господи, душу раба твоего не знаю как звали, – благочестиво молвил Зуров. – Пы пыжов, – снова икнул Эраст Петрович, но зубами, спасибо рому, больше не стучал. – Порфирий Мартынович Пыжов. – Все равно не запомню, – беспечно дернул плечом Ипполит. – Да ну его к черту. Дрянь был человечишко, по всему видать. На безоружного с пистолетом – фи. Он ведь, Эразм, убить тебя хотел. Я, между прочим, жизнь тебе спас, ты это понял? – Понял, понял. Ты дальше рассказывай. – Дальше так дальше. Отдал я тебе адрес Амалии, и со следующего дня взяла меня хандра – да такая, что не приведи Господь. Я и пил, и к девкам ездил, и в банчок до полста тыщ спустил – не отпускает. Спать не могу, есть не могу. Пить, правда, могу. Все вижу, как ты с Амалией милуешься и как смеетесь вы надо мной. Или, того хуже, вообще обо мне не вспоминаете. Десять дней промаялся, чувствую – умом могу тронуться. Жана, лакея моего помнишь? В больнице лежит. Сунулся ко мне с увещеваниями, так я ему нос своротил и два ребра сломал. Стыдно, брат Фандорин. Как в горячке я был. На одиннадцатый день сорвался. Решил, все: убью обоих, а потом и себя порешу. Хуже, чем сейчас, все равно не будет. Как через Европу ехал – убей Бог, не помню. Пил, как верблюд кара кумский. Когда Германию проезжали, каких то двоих пруссаков из вагона выкинул. Впрочем, не помню. Может, примерещилось. Опомнился уже в Лондоне. Первым делом в гостиницу. Ни ее, ни тебя. Гостиница – дыра, Амалия в таких отродясь не останавливалась. Портье, бестия, по французски ни слова, я по английски знаю только «баттл виски» и «мув ер асс» – один мичман научил. Значит: давай бутылку крепкой, да поживей. Я этого портье, сморчка английского, про мисс Ольсен спрашиваю, а он лопочет что то по своему, башкой мотает, да пальцем куда то назад тычет. Съехала мол, а куда – неведомо. Тогда я про тебя заход делаю: «Фандорин, говорю, Фандорин, мув ер асс». Тут он – ты только не обижайся – вообще глаза выпучил. Видно, твоя фамилия по английски звучит неприлично. В общем, не пришли мы с холуем к взаимопониманию. Делать нечего – поселился в этом клоповнике, живу. Распорядок такой: утром к портье, спрашиваю: «Фандорин?» Он кланяется, отвечает: «Монинг, се». Еще не приехал, мол. Иду через улицу, в кабак, там у меня наблюдательный пункт. Скучища, рожи вокруг тоскливые, хорошо хоть «баттл виски» и «мув ер асс» выручают. Трактирщик сначала на меня пялился, потом привык, встречает, как родного. Из за меня у него торговля бойчей идет: народ собирается посмотреть, как я крепкую стаканами глушу. Но подходить боятся, издалека смотрят. Слова новые выучил: «джин» – это можжевеловая, «рам» – это ром, «брэнди» – это дрянной коньячишка. В общем, досиделся бы я на этом наблюдательном посту до белой горячки, но на четвертый день, слава Аллаху, ты объявился. Подъехал этаким франтом, в лаковой карете, при усах. Кстати, зря сбрил, с ними ты помолодцеватей. Ишь, думаю, петушок, хвост распустил. Сейчас будет тебе вместо «мисс Ольсен» кукиш с маслом. Но с тобой прохвост гостиничный по другому запел, не то, что со мной, и решил я, что затаюсь, подожду, пока ты меня на след выведешь, а там как карта ляжет. Крался за тобой по улицам, как шпик из сыскного. Тьфу! Совсем ум за разум заехал. Видел, как ты с извозчиком договаривался, принял меры: взял в конюшне лошадку, копыта гостиничными полотенцами обмотал, чтоб не стучали. Это чеченцы так делают, когда в набег собираются. Ну, не в смысле, что гостиничными полотенцами, а в смысле, что каким нибудь тряпьем, ты понял, да? Эраст Петрович вспомнил позапрошлую ночь. Он так боялся упустить Морбида, что и не подумал посмотреть назад, а слежка то, выходит, была двойной. – Когда ты к ней в окно полез, у меня внутри прямо вулкан заклокотал, – продолжил свой рассказ Ипполит. – Руку себе до крови прокусил. Вот, смотри. – Он сунул Фандорину под нос ладную, крепкую руку – и точно, между большим и указательным пальцами виднелся идеально ровный полумесяц от укуса. – Ну все, говорю себе, сейчас тут разом три души отлетят – одна на небо (это я про тебя), а две прямиком в преисподню… Помешкал ты там чего то у окна, потом набрался нахальства, полез. У меня последняя надежда: может выгонит она тебя. Не любит она такого наскока, сама предпочитает командовать. Жду, у самого поджилки трясутся. Вдруг свет погас, выстрел и ее крик! Ох, думаю, застрелил ее Эразм, горячая голова. Допрыгалась, дошутилась! И так мне, брат Фандорин, вдруг тоскливо стало, будто совсем один я на всем белом свете и жить больше незачем… Знал, что плохо она кончит, сам порешить ее хотел, а все равно… Ты ведь меня видел, когда мимо пробегал? А я застыл, словно в параличе, даже не окликнул тебя. Как в тумане стоял… Потом чудное началось, и чем дальше, тем чуднее. Перво наперво выяснилось, что Амалия жива. Видно, промазал ты в темноте. Она так вопила и на слуг ругалась, что стены дрожали. Приказывает что то по английски, холопы бегают, суетятся, по саду шныряют. Я – в кусты и затаился. В голове полнейший ералаш. Чувствую себя этаким болваном в преферансе. Все пульку гоняют, один я на сносе сижу. Ну нет, не на того напали, думаю. Зуров отродясь в фофанах не хаживал. Там в саду заколоченная сторожка, с две собачьих будки величиной. Я доску отодрал, сел в секрет, мне не привыкать. Веду наблюдение, глазенапы навострил, ушки на макушке. Сатир, подстерегающий Психею. А у них там такой там тарарам! Чисто штаб корпуса перед высочайшим смотром. Слуги носятся то из дома, то в дом, Амалия покрикивает, почтальоны телеграммы приносят. Я в толк не возьму – что же там такое мой Эразм учинил? Вроде благовоспитанный юноша. Ты что с ней сделал, а? Лилию на плече углядел, что ли? Нет у нее никакой лилии, ни на плече, ни на прочих местах. Ну скажи, не томи. Эраст Петрович только нетерпеливо махнул – продолжай, мол, не до глупостей. – В общем, разворошил ты муравейник. Этот твой покойник (Зуров кивнул в сторону реки, где нашел последний приют Порфирий Мартынович) два раза приезжал. Второй раз уже перед самым вечером… – Ты что, всю ночь и весь день там просидел? – ахнул Фандорин. – Без еды, без питья? – Ну, без еды я долго могу, было бы питье. А питье было. – Зуров похлопал по фляге. – Конечно, пришлось рацион ввести. Два глотка в час. Тяжело, но при осаде Махрама вытерпел и не такое, я тебе потом расскажу. Для моциона пару раз выбирался лошадь проведать. Я ее в соседнем парке к ограде привязал. Нарву ей травки, поговорю с ней, чтоб не скучала, и назад, в сторожку. У нас бесприютную кобылку в два счета бы увели, а здешние народ квелый, нерасторопный. Не додумались. Вечером моя буланая мне очень даже пригодилась. Как прикатил покойник (Зуров снова кивнул в сторону реки) во второй раз, засобирались твои неприятели в поход. Представь картину. Впереди сущим Бонапартом Амалия в карете, на козлах два крепких молодца. Следом в дрожках покойник. Потом в коляске двое лакеев. А поодаль под мраком ночи я на своей буланке, словно Денис Давыдов, – только четыре полотенца в темноте туда сюда ходят. – Ипполит хохотнул, мельком взглянул на красную полосу восхода, пролегшую вдоль реки. – Заехали в какую то тьмутаракань, ну чисто Лиговка: паршивые домишки, склады, грязь. Покойник залез в карету к Амалии – видно, совет держать. Я лошадку в подворотне привязал, смотрю, что дальше будет. Покойник зашел в дом с какой то вывеской, пробыл с полчаса. Тут климат портиться стал. В небе канонада, дождь поливает. Мокну, но жду – интересно. Снова появился покойник, шмыг к Амалии в карету. Опять у них, стало быть, консилиум. А мне за шиворот натекло, и фляга пустеет. Хотел я им уже устроить явление Христа народу, разогнать всю эту шатию братию, потребовать Амалию к ответу, но вдруг дверца кареты распахнулась, и я увидел такое, что не приведи Создатель. – Привидение? – спросил Фандорин. – Мерцающее? – Точно. Бр р, мороз по коже. Не сразу сообразил, что это Амалия. Опять интересно стало. Повела она себя странно. Сначала зашла в ту же дверь, потом исчезла в соседней подворотне, потом снова в дверь нырнула. Лакеи за ней. Короткое время спустя выводят какой то мешок на ножках. Это уж я потом сообразил, что они тебя сцапали, а тогда невдомек было. Дальше армия у них поделилась: Амалия с покойником сели в карету, дрожки поехали за ними, а лакеи с мешком, то бишь с тобой, покатили в коляске в другую сторону. Ладно, думаю, до мешка мне дела нет. Надо Амалию спасать, в скверную историю она вляпалась. Еду за каретой и дрожками, копыта тяп тяп, тяп тяп. Отъехали не так далеко – стоп. Я спешился, держу буланку за морду, чтоб не заржала. Из кареты вылез покойник, говорит (ночь тихая, далеко слышно): «Нет уж, душенька, я лучше проверю. На сердце что то неспокойно. Шустер больно отрок наш. Ну, а понадоблюсь – знаете, где меня сыскать». Я сначала взвился: какая она тебе «душенька», стручок поганый. А потом меня осенило. Уж не об Эразме ли речь? – Ипполит покачал головой, явно гордясь своей догадливостью. – Ну, дальше просто. Кучер с дрожек пересел на козлы кареты. Я поехал за покойником. Стоял во он за тем углом, все хотел понять, чем ты ему насолил. Да вы тихо говорили, ни черта не слыхать было. Не думал стрелять, да и темновато было для хорошего выстрела, но он бы тебя точно убил – я по его спине видел. У меня, брат, на такие штуки глаз верный. Выстрел то каков! Скажи, зря Зуров пятаки дырявит? С сорока шагов точно в темечко, да еще освещение учти. – Положим, не с сорока, – рассеянно произнес Эраст Петрович, думая о другом. – Как не с сорока?! – загорячился Ипполит. – Да ты посчитай! – И даже принялся было отмерять шаги (пожалуй, несколько коротковатые), но Фандорин его остановил. – Ты теперь куда? Зуров удивился: – Как куда? Приведу тебя в человеческий вид, ты мне объяснишь толком, что за хреновина у вас тут происходит, позавтракаем, а потом к Амалии поеду. Пристрелю ее, змею, к чертовой матери. Или увезу. Ты только скажи, мы с тобой союзники или соперники? – Значит, так, – поморщился Эраст Петрович, устало потерев глаза. – Помогать мне не надо – это раз. Объяснять я тебе ничего не буду – это два. Амалию пристрелить – дело хорошее, да только как бы тебя там самого не пристрелили – это три. И никакой я тебе не соперник, меня от нее с души воротит – это четыре. – Пожалуй, лучше все таки пристрелить, – задумчиво сказал на это Зуров. – Прощай, Эразм. Бог даст, свидимся. * * * После ночных потрясений день Эраста Петровича при всей своей насыщенности получился каким то дерганым, словно состоящим из отдельных, плохо друг с другом связанных фрагментов. Вроде бы Фандорин и размышлял, и принимал осмысленные решения, и даже действовал, но все это происходило будто само по себе, вне общего сценария. Последний день июня запомнился нашему герою как череда ярких картинок, меж которыми пролегла пустота. Вот утро, берег Темзы в районе доков. Тихая, солнечная погода, воздух свеж после грозы. Эраст Петрович сидит на жестяной крыше приземистого пакгауза в одном исподнем. Рядом разложена мокрая одежда и сапоги. Голенище одного распорото, на солнце сушатся раскрытый паспорт и банкноты. Мысли вышедшего из вод путаются, сбиваются, но неизменно возвращаются в главное русло. Они думают, что я мертв, а я жив – это раз. Они думают, что про них никто больше не знает, а я знаю – это два. Портфель потерян – это три. Мне никто не поверит – это четыре. Меня посадят в сумасшедший дом – это пять… Нет, сначала. Они не знают, что я жив – это раз. Меня больше не ищут – это два. Пока хватятся Пыжова, пройдет время – это три. Теперь можно наведаться в посольство и послать шифрованную депешу шефу – это четыре… Нет. В посольство нельзя. А что если там в иудах не один Пыжов? Узнает Амалия, и все начнется сызнова. В эту историю вообще никого посвящать нельзя. Только шефа. И телеграмма тут не годится. Решит, что Фандорин от европейских впечатлений рассудком тронулся. Послать в Москву письмо? Это можно, да ведь запоздает. Как быть? Как быть? Как быть? Сегодня по здешнему последний день июня. Сегодня Амалия подведет черту под своей июньской бухгалтерией, и пакет уйдет в Петербург к Николасу Кроогу. Первым погибнет действительный статский советник, заслуженный, с детьми. Он там же, в Петербурге, до него они в два счета доберутся. Довольно глупо с их стороны – писать из Петербурга в Лондон, чтобы получить ответ снова в Петербурге. Издержки конспирации. Очевидно, филиалам тайной организации неизвестно, где находится главный штаб. Или штаб перемещается из страны в страну? Сейчас он в Петербурге, а через месяц еще где то. Или не штаб, а один человек? Кто, Кроог? Это было бы слишком просто, но Кроога с пакетом надо задержать. Как остановить пакет? Никак. Это невозможно. Стоп. Его нельзя остановить, но его можно опередить! Сколько дней идет почта до Петербурга? Следующее действие разыгрывается несколько часов спустя, в кабинете директора Восточно центрального почтового округа города Лондона. Директор польщен – Фандорин представился русским князем – и зовет его prince и Your Highness , произнося титулование с нескрываемым удовольствием. Эраст Петрович в элегантной визитке и с тросточкой, без которой настоящий prince немыслим. – Мне очень жаль, prince, но ваше пари будет проиграно, – уже в третий раз объясняет почтовый начальник бестолковому русскому. – Ваша страна – член учрежденного в позапрошлом году Всемирного почтового союза, который объединяет 22 государства с более чем 350 миллионным населением. На этом пространстве действуют единые регламенты и тарифы. Если письмо послано из Лондона сегодня, 30 июня, срочным почтовым отправлением, то вам его не опередить – ровно через шесть дней, утром 6 июля, оно будет на Санкт Петербургском почтамте. Ну, не шестого, а какое там получится по вашему календарю? – Отчего же оно будет, а я нет? – не может взять в толк «князь». – Не по воздуху же оно долетит! Директор с важным видом поясняет: – Видите ли, ваше высочество, пакеты со штемпелем «срочно» доставляются без единой минуты промедления. Предположим, вы садитесь на вокзале Ватерлоо в тот же поезд, которым отправлено срочное письмо. В Дувре вы попадаете на тот же паром. В Париж, на Северный вокзал, вы тоже прибываете одновременно. – Так в чем же дело? – А в том, – торжествует директор, – что нет ничего быстрее срочной почты! Вы прибыли в Париж, и вам нужно пересесть на поезд, идущий до Берлина. Нужно купить билет – ведь заранее вы его не заказали. Нужно найти извозчика и ехать через весь центр на другой вокзал. Нужно дожидаться берлинского поезда, который отправляется один раз в день. Теперь вернемся к нашему срочному письму. С Северного вокзала оно в специальной почтовой дрезине, по окружной железной дороге, доставляется к первому же поезду, движущемуся в восточном направлении. Это может быть даже не пассажирский, а товарный поезд с почтовым вагоном. – Но и я могу сделать то же самое! – возбужденно восклицает Эраст Петрович. Патриот почтового дела строго на это отвечает: – Возможно, у вас в России такое и допустимо, но только не в Европе. Хм, предположим, француза подкупить еще можно, но при пересадке в Берлине у вас ничего не выйдет – почтовые и железнодорожные чиновники в Германии славятся своей неподкупностью. – Неужели все пропало? – восклицает по русски вконец отчаявшийся Фандорин. – Что, простите? – Так вы считаете, что пари я проиграл? – уныло спрашивает «князь», вновь переходя на английский. – А в котором часу ушло письмо? Впрочем, неважно. Даже если вы прямо отсюда броситесь на вокзал, уже поздно. Слова англичанина производят на русского аристократа магическое действие. – В котором часу? Ну да, конечно! Сегодня еще июнь! Морбид заберет письма только в десять вечера! Пока она перепишет… А зашифровать? Ведь не пошлет же она прямо так, открытым текстом? Непременно зашифрует, а как же! А это значит, что пакет уйдет только завтра! И придет не шестого, а седьмого! По нашему, двадцать пятого июня! У меня день форы! – Я ничего не понимаю, prince, – разводит руками директор, но Фандорина в кабинете уже нет – за ним только что захлопнулась дверь. Вслед несется: – Your Highness, ваша трость!… Ох уж, эти русские boyars. И, наконец, вечер этого многотрудного, будто окутанного туманом, но очень важного дня. Воды Ла Манша. Над морем бесчинствует последний июньский закат. Паром «Герцог Глостер» держит курс на Дюнкерк. На носу стоит Фандорин истинным бриттом – в кепи, клетчатом костюме и шотландской накидке. Смотрит он только вперед, на французский берег, приближающийся мучительно медленно. На меловые скалы Дувра Эраст Петрович ни разу не оглянулся. Его губы шепчут: – Только бы она подождала с отправкой до завтра. Только бы подождала… Глава тринадцатая, в которой описаны события, случившиеся 25 июня Сочное летнее солнце разрисовало пол в операционном зале петербургского Главного почтамта золочеными квадратами. К вечеру один из них, превратившись в длинный прямоугольник, добрался до окошка «Корреспонденция до востребования» и моментально нагрел стойку. Стало душно и сонно, умиротворяюще жужжала муха, и сидевшего в окошке служителя разморило – благо поток посетителей потихоньку иссякал. Еще полчасика, и двери почтамта закроются, а там только сдать учетную книгу, и можно домой. Служитель (впрочем, назовем его по имени – Кондратий Кондратьевич Штукин, семнадцать лет службы по почтовому ведомству, славный путь от простого почтальона к классному чину) выдал бандероль из Ревеля пожилой чухонке со смешной фамилией Пырву и посмотрел, сидит ли еще англичанин. Сидел англичанин, никуда не делся. Вот ведь нация упорная. Появился англичанин с самого утра, едва открылся почтамт, и как уселся с газетой возле стенки, так весь день и просидел, не пил, не ел, даже, пардон, по нужному делу ни разу не отлучился. Чистый истукан. Видно, назначил ему тут кто то встречу, да не пришел – у нас это сколько угодно, а британцу невдомек, народ дисциплинированный, пунктуальный. Когда кто нибудь, особенно если иностранного вида, подходил к окошку, так англичанин весь подбирался и даже синие очки на самый кончик носа сдвигал. Но все не те оказывались. Наш давно бы уже возмутился, руками замахал, стал бы всем вокруг жаловаться, а этот уткнулся в свою «Таймс» и сидит. Или, может, податься человеку некуда. Приехал прямо с вокзала – вон у него и костюм дорожный клетчатый, и саквояж – думал, встретят, ан нет. Что ж ему остается делать? Вернувшись с обеда, Кондратий Кондратьевич сжалился над сыном Альбиона, подослал к нему швейцара Трифона спросить – не нужно ли чего, но клетчатый только раздраженно помотал головой и сунул Трифону двугривенный: отстань, мол. Ну, как хочешь. У окошка возник мужичонка, по виду из кучеров, сунул мятый паспорт: – Глянь ка, мил человек, нет ли чего для Круга Николы Митрофаныча? – Откуда ожидаешь? – строго спросил Кондратий Кондратьевич, беря паспорт. Ответ был неожиданным: – С Англии, с города Лондону. Самое удивительное, что письмо из Лондона нашлось – только не на «К», а на латинское «С». Ишь ты, «Mr. Nickolas М. Croog» выискался! Чего только не насмотришься на выдаче до востребования. – Да это точно ты? – не столько из сомнения, сколько из любопытства спросил Штукин. – Не сумлевайся, я, – довольно грубо ответил кучер, залез в окошко своей лапищей и цапнул желтый пакет со срочным штампом. Кондратий Кондратьевич сунул ему учетную книгу. – Расписываться умеешь? – Не хужей других. – И хам поставил в графе «получено» какую то раскоряку. Проводив неприятного посетителя рассерженным взглядом, Штукин привычно покосился на англичанина, но тот исчез. Должно быть, отчаялся дождаться. Эраст Петрович с замиранием сердца поджидал кучера на улице. Вот тебе и Николас Кроог! Чем дальше, тем непонятней. Но главное – шестидневный марш бросок через всю Европу был не напрасен! Опередил, догнал, перехватил! Теперь будет что шефу предъявить. Только бы не упустить этого Круга. У тумбы дремал нанятый на весь день извозчик. Он совсем осовел от вынужденного безделья и очень страдал, что запросил с чудного барина всего пять рублей – за такую муку мученическую можно было и шесть взять. Увидев наконец то появившегося седока, извозчик приосанился и подобрал вожжи, но Эраст Петрович и не взглянул в его сторону. Появился объект. Спустился по ступенькам, натянул синюю фуражку и направился к стоявшей неподалеку карете. Фандорин не спеша двинулся следом. У кареты объект остановился, снова сдернул фуражку и, поклонившись, протянул желтый пакет. Из окна высунулась мужская рука в белой перчатке, взяла пакет. Фандорин заспешил, чтобы успеть рассмотреть лицо неизвестного. И успел. В карете, рассматривая на свет сургучные печати, сидел рыжеволосый господин с пронзительными зелеными глазами и россыпью веснушек на бледном лице. Эраст Петрович сразу его признал – как же, мистер Джеральд Каннингем собственной персоной, блестящий педагог, друг сирот и правая рука леди Эстер. Получалось, что извозчик протомился зря, – адрес мистера Каннингема узнать нетрудно. Пока же было дело более срочное. Кондратия Кондратьевича ждал сюрприз: англичанин вернулся. Теперь он ужасно спешил. Подбежал к пункту приема телеграмм, просунул голову в самое окошко и стал диктовать Михал Николаичу что то очень спешное. И Михал Николаич тоже как то засуетился, заторопился, что вообще то было на него мало похоже. Штукину стало любопытно. Он поднялся (благо, посетителей не было) и как бы прогуливаясь, отправился на другую сторону зала, к телеграфному аппарату. Остановился возле сосредоточенно работающего ключом Михал Николаича, немножко изогнулся и прочел наскоро накорябанное: «В Сыскное управление Московской полиции. Крайне срочное. Статскому советнику господину Бриллингу. Вернулся. Прошу немедля со мной связаться. Жду ответа у аппарата. Фандорин». Вон оно что, теперь понятно. Штукин взглянул на «англичанина» по новому. Сыскной, значит. Разбойников ловим. Ну ну. Агент пометался по залу минут десять, не больше, а Михал Николаич, оставшийся ждать у аппарата, уж подал ему знак рукой и потянул ленту ответной телеграммы. Кондратий Кондратьевич тут как тут – прямо с ленты прочел: «Г ну Фандорину. Господин Бриллинг находится в СПб. Адрес: Катенинская, дом Сиверса. Дежурный чиновник Ломейко». Это сообщение почему то несказанно обрадовало клетчатого. Он даже в ладоши хлопнул и спросил у заинтересованно наблюдавшего Штукина: – Катенинская улица это где? Далеко? – Никак нет с, – учтиво ответил Кондратий Кондратьевич. – Тут очень удобно. Садитесь на маршрутную карету, выходите на углу Невского и Литейного, а далее… – Ничего, у меня извозчик, – не дослушал агент и, размахивая саквояжем, побежал к выходу. Катенинская улица Эрасту Петровичу очень понравилась. Она выглядела точь в точь так же, как самые респектабельные улицы Берлина или Вены: асфальт, новенькие элетрические фонари, солидные дома в несколько этажей. Одним словом, Европа. Дом Сиверса с каменными рыцарями на фронтоне и с ярко освещенным, несмотря на светлый еще вечер, подъездом был особенно хорош. Да где еще жить такому человеку, как Иван Францевич Бриллинг? Совершенно невозможно было представить его обитателем какого нибудь ветхого особнячка с пыльным двором и яблоневым садом. Услужливый швейцар успокоил Эраста Петровича, сказал, что господин Бриллинг дома, «пять минут как прибыли с». Все сегодня шло у Фандорина по шерстке, все удавалось. Скача через две ступеньки, взлетел он на второй этаж и позвонил в начищенный до золотого блеска электрический звонок. Дверь открыл сам Иван Францевич. Он еще не успел переодеться, только снял сюртук, но под высоким накрахмаленным воротничком посверкивал радужной эмалью новенький владимирский крест. – Шеф, это я! – радостно объявил Фандорин, наслаждаясь эффектом. Эффект и в самом деле превзошел все ожидания. Иван Францевич прямо таки остолбенел и даже руками замахал, словно хотел сказать: «Свят, свят! Изыди, Сатана!» Эраст Петрович засмеялся: – Что, не ждали? – Фандорин! Но откуда?! Я уж не чаял увидеть вас в живых! – Отчего же? – не без кокетства поинтересовался путешественник. – Но как же!…Вы бесследно исчезли. Последний раз вас видели в Париже двадцать шестого. В Лондон вы не прибыли. Я запросил Пыжова – отвечают, бесследно исчез, полиция ищет! – Я послал вам из Лондона подробное письмо на адрес Московского сыскного. Там и про Пыжова, и про все остальное. Видимо, не сегодня завтра прибудет. Я же не знал, что вы в Петербурге. Шеф озабоченно нахмурился: – Да на вас лица нет. Вы не заболели? – Честно говоря, ужасно голоден. Весь день караулил на почтамте, маковой росинки во рту не было. – Караулили на почтамте? Нет нет, не рассказывайте. Мы поступим так. Сначала я дам вам чаю и пирожных. Мой Семен, мерзавец, третий день в запое, так что хозяйствую один. Питаюсь в основном конфектами и пирожными от Филиппова. Вы ведь любите сладкое? – Очень, – горячо подтвердил Эраст Петрович. – Я тоже. Это во мне сиротское детство застряло. Ничего если на кухне, по холостяцки? Пока они шли коридором, Фандорин успел заметить, что квартира Бриллинга, хоть и не очень большая, обставлена весьма практично и аккуратно – все необходимое, но ничего лишнего. Особенно заинтересовал молодого человека лакированный ящик с двумя черными металлическими трубками, висевший на стене. – Это настоящее чудо современной науки, – объяснил Иван Францевич. – Называется «аппарат Белла». Только что привезли из Америки, от нашего агента. Там есть один гениальный изобретатель, мистер Белл, благодаря которому теперь можно вести разговор на значительном расстоянии, вплоть до нескольких верст. Звук передается по проводам наподобие телеграфных. Это опытный образец, производство аппаратов еще не началось. Во всей Европе только две линии: одна проведена из моей квартиры в секретариат начальника Третьего отделения, вторая установлена в Берлине между кабинетом кайзера и канцелярией Бисмарка. Так что от прогресса не отстаем. – Здорово! – восхитился Эраст Петрович. – И что, хорошо слышно? – Не очень, но разобрать можно. Иногда в трубке сильно трещит… А не устроит ли вас вместо чая оранжад? Я как то не очень успешно управляюсь с самоваром. – Еще как устроит, – уверил шефа Эраст Петрович, и Бриллинг, как добрый волшебник, выставил перед ним на кухонный стол бутыль апельсинового лимонада и блюдо, на котором лежали эклеры, кремовые корзиночки, воздушные марципаны и обсыпные миндальные трубочки. – Уплетайте, – сказал Иван Францевич, – а я пока введу вас в курс наших дел. Потом наступит ваш черед исповедоваться. Фандорин кивнул с набитым ртом, его подбородок был припорошен сахарной пудрой. – Итак, – начал шеф, – сколько мне помнится, вы отбыли в Петербург за дипломатической почтой двадцать седьмого мая? Сразу же после этого у нас тут начались интереснейшие события. Я пожалел, что отпустил вас – каждый человек был на счету. Мне удалось выяснить через агентуру, что некоторое время назад в Москве образовалась маленькая, но чрезвычайно активная группка революционеров радикалов, сущих безумцев. Если обычные террористы ставят себе задачу истреблять «обагряющих руки в крови», сиречь высших государственных сановников, то эти решили взяться за «ликующих и праздно болтающих». – Кого кого? – не понял увлекшийся нежнейшим эклером Фандорин. – Ну, стихотворение у Некрасова: «От ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови, уведи меня в стан погибающих за великое дело любви». Так вот, наши «погибающие за великое дело любви» поделили специальности. Головной организации достались «обагряющие» – министры, губернаторы, генералы. А наша московская фракция решила заняться «ликующими», они же «жирные и сытые». Как удалось выяснить, через внедренного в группу агента, фракция взяла название «Азазель» – из богоборческого лихачества. Планировался целый ряд убийств среди золотой молодежи, «паразитов» и «прожигателей жизни». К «Азазелю» примыкала и Бежецкая, судя по всему, эмиссар международной анархистской организации. Самоубийство, а фактически убийство Петра Кокорина, организованное ею, было первой акцией «Азазеля». Ну, о Бежецкой, я полагаю, вы мне еще расскажете. Следующей жертвой стал Ахтырцев, который интересовал заговорщиков еще больше Кокорина, потому что был внуком канцлера, князя Корчакова. Видите ли, мой юный друг, замысел террористов был безумен, но в то же время дьявольски рассчетлив. Они вычислили, что до отпрысков важных особ добраться гораздо проще, чем до самих особ, а удар по государственной иерархии получается не менее мощным. Князь Михаил Александрович, например, так убит смертью внука, что почти отошел от дел и всерьез подумывает об отставке. А ведь это заслуженнейший человек, который во многом определил облик современной России. – Какое злодейство! – возмутился Эраст Петрович и даже отложил недоеденный марципан. – Когда же мне удалось выяснить, что конечной целью деятельности «Азазеля» является умерщвление цесаревича… – Не может быть! – Увы, может. Так вот, когда это выяснилось, я получил указание перейти к решительным действиям. Пришлось подчиниться, хотя я предпочел бы предварительно полностью прояснить картину. Но, сами понимаете, когда на карту поставлена жизнь его императорского высочества… Операцию мы провели, но получилось не очень складно. 1 июня у террористов было назначено сборище на даче в Кузьминках. Помните, я еще вам рассказывал? Вы, правда, тогда своей идеей увлечены были. Ну и как? Нащупали что нибудь? Эраст Петрович замычал с набитым ртом, проглотил непрожеванный кусок кремовой трубочки, но Бриллинг устыдился: – Ладно ладно, потом. Ешьте. Итак. Мы обложили дачу со всех сторон. Пришлось действовать только с моими петербургскими агентами, не привлекая московской жандармерии и полиции, – следовало во что бы то ни стало избежать огласки. – Иван Францевич сердито вздохнул. – Тут моя вина, переосторожничал. В общем, из за нехватки людей аккуратного захвата не получилось. Началась перестрелка. Два агента ранены, один убит. Никогда себе не прощу… Живьем никого взять не удалось, нам достались четыре трупа. Один по описанию похож на вашего белоглазого. Глаз как таковых, у него, впрочем, не осталось – последней пулей ваш знакомец снес себе полчерепа. В подвале обнаружили лабораторию по производству адских машин, кое какие бумаги, но, как я уже сказал, многое в планах и связях «Азазеля» осталось загадкой. Боюсь, неразрешимой… Тем не менее государь, канцлер и шеф жандармского корпуса высоко оценили нашу московскую операцию. Я рассказал Лаврентию Аркадьевичу и о вас. Правда, вы не участвовали в финале, но все же очень помогли нам в ходе расследования. Если не возражаете, будем работать вместе и дальше. Я беру вашу судьбу в свои руки… Подкрепились? Теперь рассказывайте вы. Что там в Лондоне? Удалось ли выйти на след Бежецкой? Что за чертовщина с Пыжовым? Убит? И по порядку, по порядку, ничего не упуская. Чем ближе к концу подходил рассказ шефа, тем большей завистью загорался взгляд Эраста Петровича, и собственные приключения, которыми он еще недавно так гордился, блекли и меркли в его глазах. Покушение на цесаревича! Перестрелка! Адская машина! Судьба зло подшутила над Фандориным, поманила его славой и увела с магистрального тракта на жалкий проселок… И все же он подробно изложил Ивану Францевичу свою эпопею. Только об обстоятельствах, при которых лишился синего портфеля, поведал несколько туманно и даже чуть чуть покраснел, что, кажется, не укрылось от внимания Бриллинга, слушавшего рассказ молча и хмуро. К развязке Эраст Петрович воспрял духом, оживился и не удержался от эффектности. – И я видел этого человека! – воскликнул он, дойдя до сцены на петербургском почтамте. – Я знаю, у кого в руках и содержимое портфеля, и все нити организации! «Азазель» жив, Иван Францевич, но он у нас в руках! – Да говорите же, черт возьми! – вскричал шеф. – Полно ребячиться! Кто этот человек? Где он? – Здесь, в Петербурге, – наслаждался реваншем Фандорин. – Некий Джеральд Каннингем, главный помощник той самой леди Эстер, на которую я неоднократно обращал ваше внимание. – Тут Эраст Петрович деликатно покашлял. – И про завещание Кокорина разъясняется. Теперь понятно, почему Бежецкая своих поклонников именно в сторону эстернатов повернула. И ведь как устроился этот рыжий! Каково прикрытие, а? Сиротки, филиалы по всему миру, альтруистическая патронесса, перед которой открыты все двери. Ловок, ничего не скажешь. – Каннингем? – с волнением переспросил шеф. – Джеральд Каннингем? Но я хорошо знаю этого господина, мы состоим в одном клубе. – Он развел руками. – Субъект и в самом деле презанятный, однако я не могу себе представить, чтобы он был связан с нигилистами и убивал действительных статских советников. – Да не убивал, не убивал! – воскликнул Эраст Петрович. – Это я сначала думал, что в списках имена жертв. Сказал, чтоб вам ход своих мыслей передать. В спешке ведь не сразу все сообразишь. А потом, как в поездах через всю Европу трясся, меня вдруг осенило! Если это список будущих жертв, то к чему даты проставлены? И числа то все прошедшие! Не складывается! Нет, Иван Францевич, тут другое! Фандорин даже со стула вскочил – так залихорадило его от мыслей. – Другое? Что другое? – прищурил светлые глаза Бриллинг. – Я думаю, это список членов мощной международной организации. А ваши московские террористы – лишь малое, самое крошечное их звено. – При этих словах у шефа стало такое лицо, что Эраст Петрович испытал недостойное злорадство – чувство, которого немедленно устыдился. – Центральная фигура в организации, главная цель которой нам пока неизвестна, – Джеральд Каннингем. Мы с вами оба его видели, это весьма незаурядный господин. «Мисс Ольсен», роль которой с июня месяца исполняет Амалия Бежецкая, – это регистрационный центр организации, что то вроде управления кадров. Туда со всего мира стекаются сведения об изменении служебного положения членов сообщества. «Мисс Ольсен» регулярно, раз в месяц, переправляет новые сведения Каннингему, который с прошлого года обосновался в Петербурге. Я вам говорил, что у Бежецкой в спальне есть потайной сейф. Вероятно, в нем хранится полный список членов этого самого «Азазеля» – похоже, что организация, действительно, так называется. Или же это у них лозунг, что то вроде заклинания. Я слышал это слово дважды, и оба раза перед тем, как должно было свершиться убийство. В целом все это похоже на масонское общество, только непонятно, при чем здесь падший ангел. А размах, пожалуй, почище, чем у масонов. Вы только представьте – за один месяц сорок пять писем! И ведь какие люди – сенатор, министр, генералы! Шеф терпеливо смотрел на Эраста Петровича, ожидая продолжения, ибо молодой человек явно не закончил свою речь – сморщив лоб, он о чем то напряженно размышлял. – Иван Францевич, я про Каннингема думаю… Он ведь британский подданный, к нему так, запросто, с обыском не нагрянешь, верно? – Ну, допустим, – подбодрил Фандорина шеф. – Продолжайте. – А пока вы получите санкцию, он пакет так запрячет, что мы ничего не найдем и ничего не докажем. Еще неизвестно, какие у него связи в сферах и кто за него заступится. Тут, пожалуй, нужна особая осторожность. Зацепиться бы сначала за его российскую цепь, вытянуть ее звено за звеном, а? – И как же это сделать? – с живейшим интересом спросил Бриллинг. – Через негласную слежку? Разумно. – Можно и через слежку, но, кажется, есть способ повернее. Иван Францевич немного подумал и развел руками, как бы сдаваясь. Польщенный Фандорин тактично намекнул: – А действительный статский советник, произведенный в этот чин 7 июня? – Проверить высочайшие приказы по производству? – хлопнул себя по лбу Бриллинг. – Скажем, за первую декаду июня? Браво, Фандорин, браво! – Конечно, шеф. Даже не за всю декаду, а только с понедельника по пятницу, с третьего по восьмое. Вряд ли новоиспеченный генерал стал бы дольше тянуть с радостной вестью. Много ли за неделю появляется в империи новых действительных статских советников? – Возможно, два три, если неделя урожайная. Впрочем, не интересовался. – Ну вот, установить наблюдение за всеми ними, проверить послужные списки, круг знакомств и прочее. Вычислим нашего «азазельца» как миленького. – Так, говорите, все добытые вами сведения отправлены почтой в московское Сыскное? – по всегдашней своей привычке невпопад спросил Бриллинг. – Да, шеф. Не сегодня завтра пакет поступит по назначению. А что, вы подозреваете кого то из чинов московской полиции? Я для пущей важности написал на конверте «Его высокоблагородию статскому советнику Бриллингу в собственные руки либо, за отсутствием оного, его превосходительству господину обер полицеймейстеру». Так что распечатать не осмелятся. А обер полицеймейстер, прочитав, наверняка свяжется с вами же. – Разумно, – одобрил Иван Францевич и надолго умолк, глядя в стену. Лицо его делалось все мрачнее и мрачнее. Эраст Петрович сидел, затаив дыхание, знал, что шеф взвешивает все услышанное и сейчас сообщит о решении – судя по мине, оно давалось с трудом. Бриллинг шумно вздохнул, горько чему то усмехнулся. – Ладно, Фандорин, беру все на себя. Есть болезни, которые можно вылечить только хирургическим путем. Так мы с вами и поступим. Дело важное, государственное, а в таких случае я вправе не обременять себя формальностями. Будем брать Каннингема. Немедленно, с поличным – то есть с пакетом. Вы считаете, что послание зашифровано? – Безусловно. Слишком важны сведения. Все таки отправлено обычной почтой, хоть и срочной. Мало ли что – попадет в другие руки, затеряется. Нет, Иван Францевич, эти попусту рисковать не любят. – Тем более. Значит, Каннингем дешифрует, читает, по картотеке расписывает. Должна же быть у него картотека! Я опасаюсь, что в сопроводительном письме Бежецкая доносит ему о ваших похождениях, а Каннингем человек умный – в два счета сообразит, что вы могли отчет в Россию отправить. Нет, сейчас его надо брать, немедля! Да и сопроводительное письмо любопытно бы прочесть. Мне Пыжов не дает покоя. А ну как не его одного они перекупили? С английским посольством объяснимся потом. Еще спасибо скажут. Вы ведь утверждаете, что в списке были и подданные королевы Виктории? – Да, чуть ли не дюжина, – кивнул Эраст Петрович, влюбленно глядя на начальника. – Конечно, взять сейчас Каннингема – это самое лучшее, но… Вдруг мы приедем и ничего не найдем? Я никогда себе не прощу, если у вас из за меня… То есть я готов в любых инстанциях… – Бросьте говорить глупости, – раздраженно дернул подбородком Бриллинг. – Неужто вы думаете, что в случае фиаско я стану мальчишкой прикрываться? Я в вас верю, Фандорин. И этого довольно. – Спасибо, – тихо сказал Эраст Петрович. Иван Францевич саркастически поклонился: – Не стоит благодарности. И все, хватит нежностей. К делу. Адрес Каннингема я знаю, он живет на Аптекарском острове, во флигеле Петербургского эстерната. У вас оружие есть? – Да, купил в Лондоне револьвер «смит энд вессон». В саквояже лежит. – Покажите. Фандорин быстро принес из прихожей тяжелый револьвер, который ему ужасно нравился своей тяжестью и основательностью. – Дрянь, – отрезал шеф, взвесив пистолет на ладони. – Это для американских «коровьих мальчиков», спьяну в кабаке палить. Для серьезного агента не годится. Я у вас его отбираю. Взамен получите кое что получше. Он ненадолго отлучился и вернулся с маленьким плоским револьвером, который почти целиком умещался в его ладони. – Вот, бельгийский семизарядный «герсталь». Новинка, специальный заказ. Носится за спиной, под сюртуком, в маленькой кобуре. Незаменимая вещь в нашем ремесле. Легкий, бьет недалеко и некучно, но зато самовзводящийся, а это обеспечивает скорострельность. Нам ведь белку в глаз не бить, верно? А жив обычно остается тот агент, кто стреляет первым и не один раз. Вместо курка тут предохранитель – вот эта кнопочка. Довольно тугая, чтоб случайно не выстрелить. Щелкнул вот этак, и пали хоть все семь пуль подряд. Ясно? – Ясно. – Эраст Петрович загляделся на ладную игрушку. – Потом налюбуетесь, некогда, – подтолкнул его к выходу Бриллинг. – Мы будем арестовывать его вдвоем? – с воодушевлением спросил Фандорин. – Не болтайте глупостей. Иван Францевич остановился возле «аппарата Белла», снял рожкообразную трубку, приложил к уху и покрутил какой то рычажок. Аппарат хрюкнул, в нем что то звякнуло. Бриллинг приставил ухо к другому рожку, торчавшему из лакированного ящика, и в рожке запищало. Фандорину показалось, что он разобрал, как тоненький голосок смешно проговорил слова «дежурный адъютант» и еще «канцелярия». – Новгородцев, вы? – заорал в трубку Бриллинг. – На месте ли его превосходительство? Нет? Не слышу! Нет нет, не надо. Не надо, говорю! – Он набрал в грудь побольше воздуха и закричал еще громче. – Срочный наряд для задержания! Немедленно отправьте на Аптекарский остров! Ап те кар ский! Да! Флигель эстерната! Эс тер на та! Неважно, что это значит, они разберутся! И пусть группа обыска приедет! Что? Да, буду лично. Быстрей, майор, быстрей! Он водрузил трубку на место и вытер лоб. – Уф. Надеюсь, мистер Белл усовершенствует конструкцию, иначе все мои соседи будут в курсе тайных операций Третьего отделения. Эраст Петрович находился под впечатлением волшебства, только что свершившегося на его глазах. – Это же просто «Тысяча и одна ночь»! Настоящее чудо! И еще находятся люди, осуждающие прогресс! – О прогрессе потолкуем по дороге. К сожалению, я отпустил карету, так что придется еще искать извозчика. Да бросьте вы ваш чертов саквояж! Марш марш! Однако потолковать о прогрессе не удалось – на Аптекарский ехали в полном молчании. Эраста Петровича трясло от возбуждения, и он несколько раз попытался втянуть шефа в разговор, но тщетно: Бриллинг был в скверном настроении – видимо, все таки сильно рисковал, затеяв самочинную операцию. Бледный северный вечер едва прорисовался над невским простором. Фандорин подумал, что светлая летняя ночь кстати – все равно спать нынче не придется. А ведь он и прошлую ночь, проведенную в поезде, глаз не сомкнул, все волновался, не упустит ли пакет… Извозчик подгонял рыжую кобылку, честно отрабатывая обещанный рубль, и к месту прибыли быстро. Петербургский эстернат, красивое желтое здание, прежде принадлежавшее корпусу инженеров, по размеру уступал московскому, но зато утопал в зелени. Райское местечко – вокруг были сады, богатые дачи. – Эх, что с детьми то будет, – вздохнул Фандорин. – Ничего с ними не будет, – неприязненно ответил Иван Францевич. – Миледи назначит другого директора, да и дело с концом. Флигель эстерната оказался импозантным екатерининским особнячком, выходившим на уютную, тенистую улицу. Эраст Петрович увидел обугленный от удара молнии вяз, тянувший мертвые сучья к освещенным окнам высокого второго этажа. В доме было тихо. – Отлично, жандармы еще не прибыли, – сказал шеф. – Мы их не ждем, нам главное Каннингема не спугнуть. Говорю я, вы помалкиваете. И будьте готовы к любым неожиданностям. Эраст Петрович сунул руку под фалду пиджака, ощутил успокоительный холод «герсталя». Сердце сжималось в груди – но не от страха, ибо с Иваном Францевичем бояться было нечего, а от нетерпения. Сейчас, сейчас все разрешится! Бриллинг энергично затряс медный колокольчик, и раздалось заливистое треньканье. Из раскрытого окна бельэтажа выглянула рыжая голова. – Откройте, Каннингем, – громко сказал шеф. – У меня к вам срочное дело! – Бриллинг, это вы? – удивился англичанин. – Что такое? – Чрезвычайное происшествие в клубе. Я должен вас предупредить. – Одна минута, и я спускаюсь вниз. У лакея сегодня выходной день. – И голова исчезла. – Ага, – шепнул Фандорин. – Нарочно лакея спровадил. Наверняка с бумагами сидит! Бриллинг нервно постукивал костяшками пальцев по двери – Каннингем что то не спешил. – А он не удерет? – переполошился Эраст Петрович. – Через черный ход, а? Может, я обегу дом и встану с той стороны? Но тут изнутри раздались шаги, и дверь открылась. На пороге стоял Каннингем в длинном халате с бранденбурами. Его колючие зеленые глаза на миг задержались на лице Фандорина, и веки едва заметно дрогнули. Узнал! – What's happening ? – настороженно спросил англичанин. – Идемте в кабинет, – ответил Бриллинг по русски. – Это очень важно. Каннингем секунду поколебался, потом жестом предложил следовать за ним. Поднявшись по дубовой лестнице, хозяин и незваные гости оказались в богатой, но явно не праздной комнате. По стенам сплошь тянулись полки с книгами и какими то папками, у окна, возле необъятного письменного стола из карельской березы, виднелась стойка с ящичками, на каждом из которых красовался золотой ярлычок. Однако Эраста Петровича заинтересовали отнюдь не ящички (не будет же Каннингем хранить на виду секретные документы), а бумаги, лежавшие на столе и наскоро прикрытые свежим номером «Биржевых ведомостей». Иван Францевич, видимо, мыслил сходно – он пересек кабинет и встал подле стола, спиной к раскрытому окну с низким подоконником. Вечерний ветерок слегка поколыхивал тюлевую гардину. Отлично поняв маневр шефа, Фандорин остался возле двери. Теперь Каннингему деваться было некуда. Кажется, англичанин заподозрил неладное. – Вы странно себя ведете, Бриллинг, – сказал он на правильном русском. – И почему здесь этот человек? Я его видел раньше, он полицейский. Иван Францевич смотрел на Каннингема исподлобья, держа руки в карманах широкого сюртука. – Да, он полицейский. А через минуту другую здесь будет много полицейских, поэтому у меня нет времени на объяснения. Правая рука шефа вынырнула из кармана, Фандорин увидел свой «смит энд вессон», но не успел удивиться, потому что тоже выхватил револьвер – вот оно, начинается! – Don't… ! – вскинул руку англичанин, и в тот же миг грянул выстрел. Каннингема кинуло навзничь. Остолбеневший Эраст Петрович увидел широко раскрытые, еще живые зеленые глаза и аккуратную темную дырку посреди лба. – Господи, шеф, зачем?! Он обернулся к окну. Прямо в лицо ему смотрело черное дуло. – Его погубили вы, – каким то ненатуральным тоном произнес Бриллинг. – Вы слишком хороший сыщик. И поэтому, мой юный друг, мне придется вас убить, о чем я искренне сожалею. Глава четырнадцатая, в которой повествование поворачивает совсем в иную сторону Бедный, ничего не понимающий Эраст Петрович сделал несколько шагов вперед. – Стоять! – с ожесточением гаркнул шеф. – И не размахивайте пистолетиком, он не заряжен. Хоть бы в барабан заглянули! Нельзя быть таким доверчивым, черт бы вас побрал! Верить можно только себе! Бриллинг достал из левого кармана точно такой же «герсталь», а дымящийся «смит энд вессон» бросил на пол, прямо под ноги Фандорину. – Вот мой револьвер полностью заряжен, в чем вы сейчас убедитесь, – лихорадочно заговорил Иван Францевич, с каждым словом раздражаясь все больше. – Я вложу его в руку невезучего Каннингема, и получится, что вы убили друг друга в перестрелке. Почетные похороны и прочувствованные речи вам гарантированы. Я ведь знаю, что для вас это важно. И не смотрите на меня так, проклятый щенок! Фандорин с ужасом понял, что шеф совершенно невменяем, и, в отчаянной попытке пробудить его внезапно помутившийся рассудок крикнул: – Шеф, это же я, Фандорин! Иван Францевич! Господин статский советник! – Действительный статский советник, – криво улыбнулся Бриллинг. – Вы отстали от жизни, Фандорин. Произведен высочайшим указом от седьмого июня. За успешную операцию по обезвреживанию террористической организации «Азазель». Так что можете называть меня «ваше превосходительство». Темный силуэт Бриллинга на фоне окна был словно вырезан ножницами и приклеен на серую бумагу. Мертвые сучья вяза за его спиной расходились во все стороны зловещей паутиной. В голове Фандорина мелькнуло: «Паук, ядовитый паук, сплел паутину, а я попался». Лицо Бриллинга болезненно исказилось, и Эраст Петрович понял, что шеф уже довел себя до нужного градуса ожесточения и сейчас выстрелит. Неизвестно откуда возникла стремительная мысль, сразу же рассыпавшаяся на вереницу совсем коротеньких мыслишек: «герсталь» снимают с предохранителя, без этого не выстрелишь, предохранитель тугой, это полсекунды или четверть секунды, не успеть, никак не успеть… С истошным воплем, зажмурив глаза, Эраст Петрович ринулся вперед, целя шефу головой в подбородок. Их разделяло не более пяти шагов. Щелчка предохранителя Фандорин не слышал, а выстрел прогремел уже в потолок, потому что оба – и Бриллинг, и Эраст Петрович, перелетев через низкий подоконник, ухнули в окно. Фандорин с размаху ударился грудью о ствол сухого вяза и, ломая ветки, обдирая лицо, загрохотал вниз. От гулкого удара о землю захотелось потерять сознание, но горячий инстинкт жизни не позволил. Эраст Петрович приподнялся на четвереньки, безумно озираясь. Шефа нигде не было. Зато у стены валялся маленький черный «герсталь». Фандорин прямо с четверенек прыгнул на него кошкой, вцепился и завертел головой во все стороны. Но Бриллинг исчез. Посмотреть вверх Эраст Петрович догадался, лишь услышав натужное хрипение. Иван Францевич нелепо, неестественно завис над землей. Его начищенные штиблеты подергивались чуть выше головы Фандорина. Из под владимирского креста, оттуда, где на крахмальной рубашке расползалось багровое пятно, высовывался острый, обломанный сук, насквозь проткнувший новоиспеченного генерала. Ужасней всего было то, что взгляд светлых глаз был устремлен прямо на Фандорина. – Гадость…, – отчетливо произнес шеф, морщась не то от боли, не то от брезгливости. – Гадость… – И сиплым, неузнаваемым голосом выдохнул. – А за зель… У Фандорина по телу пробежала ледяная волна, а Бриллинг похрипел еще с полминуты и затих. Словно дождавшись этого момента, из за угла зацокали копыта, заклацали колеса. Это прикатили пролетки с жандармами. * * * Генерал адъютант Лаврентий Аркадьевич Мизинов, начальник Третьего отделения и шеф корпуса жандармов, потер покрасневшие от усталости глаза. Золотые аксельбанты на парадном мундире глухо звякнули. За минувшие сутки времени переодеться не было, а уж поспать – тем более. Вчера вечером нарочный выдернул Лаврентия Аркадьевича с бала по случаю тезоименитства великого князя Сергея Александровича. И началось… Генерал с неприязнью взглянул на мальчишку, который сидел сбоку, взъерошив волосы и уткнувшись расцарапанным носом в бумаги. Две ночи не спал, а свеж, как ярославский огурчик. И ведет себя так, будто всю жизнь просидел в высоких кабинетах. Ладно, пусть колдует. Но каков Бриллинг! Это просто в голове не укладывается! – Что, Фандорин, долго еще? Или вас опять какая нибудь «идея» отвлекла? – строго спросил генерал, чувствуя, что после бессонной ночи и утомительного дня у него самого больше никаких идей появиться уже не может. – Щас, ваше высокопревосходительство, щас, – пробормотал молокосос. – Еще пять записей осталось. Я ведь предупреждал, что список может быть зашифрован. Видите, какой шифр хитрый, половину букв не разгадали, а я тоже всех, кто там был, не помню… Ага, это у нас почт директор из Дании, вот это кто. Так, а тут что? Первая буква не расшифрована – крестик, вторая тоже крестик, третья и четвертая – два m, потом опять крестик, потом n, потом d под вопросом, и последние две пропущены. Получается ++MM+ND(?)++. – Чушь какая то, – вздохнул Лаврентий Аркадьевич. – А Бриллинг в два счета догадался бы. Так вы уверены, что это был не приступ безумия? Невозможно представить, чтобы… – Совершенно уверен, ваше высокопревосходительство, – уже в который раз сказал Эраст Петрович. – И я явственно слышал, как он сказал «Азазель». Стоп! Вспомнил! У Бежецкой в списке был какой то commander. Надо полагать, это он. – Commander – это чин в британском и американском флотах, – пояснил генерал. – Соответствует нашему капитану второго ранга. – Он сердито прошелся по комнате. – Азазель, Азазель, что еще за Азазель такой на нашу голову! Ведь получается, что мы ничегошеньки про него не знаем! Московскому расследованию Бриллинга грош цена! Поди, все вздор, фикция, враки – и террористы, и покушение на цесаревича! Убирал концы, получается? Подсунул нам каких то мертвецов! Или вправду кого то из дурачков нигилистов подставил? С него станется – это был очень, очень способный человек… Проклятье, но где же результаты обыска? Уже сутки копаются! Дверь тихонечко приоткрылась, в щель сунулась постная, тощая физиономия в золотых очках. – Ваше высокопревосходительство, ротмистр Белозеров. – Ну наконец то! Легок на помине! Пусть войдет. В кабинет, устало щурясь, вошел немолодой жандармский офицер, которого Эраст Петрович накануне уже видел в доме Каннингема. – Есть, ваше высокопревосходительство, нашли, – негромко доложил он. – Весь дом и сад поделили на квадраты, все перерыли, все прочесали – ноль. Тогда агент Эйлензон, отменного нюха сыщик, догадался в подвале эстерната стеночки простукать. И что вы думаете, Лаврентий Аркадьевич? Обнаружилась потайная ниша, вроде фотографической лаборатории, а в ней двадцать ящиков, в каждом примерно по двести карточек. Шифр странный, вроде иероглифов, совсем не такой, как был в письме. Я распорядился, чтобы ящики перевезли сюда. Поднял весь шифровальный отдел, сейчас приступят к работе. – Молодцом, Белозеров, молодцом, – похвалил подобревший генерал. – А этого, с нюхом, представьте к награде. Ну с, наведаемся в шифровальный. Пойдемте, Фандорин, вам ведь тоже любопытно. Потом закончите, теперь не к спеху. Поднялись на два этажа, быстро зашагали по бесконечному коридору. Свернули за угол. Навстречу бежал чиновник, махал руками. – Беда, ваше высокопревосходительство, беда! Чернила бледнеют прямо на глазах, не поймем в чем дело! Мизинов затрусил вперед, что совсем не шло к его грузной фигуре; золотая канитель на эполетах колыхалась наподобие крылышков мотылька. Белозеров и Фандорин непочтительно обогнали высокое начальство и первыми ворвались в высокие белые двери. В большой комнате, сплошь занятой столами, царил переполох. С десяток чиновников метались над грудами аккуратных белых карточек, стопками разложенных по столам. Эраст Петрович схватил одну, увидел едва различимые письмена, похожие на китайские иероглифы. Прямо у него на глазах иероглифы исчезли, и карточка стала совершенно чистой. – Что за чертовщина! – воскликнул запыхавшийся генерал. – Какие нибудь симпатические чернила? – Боюсь, ваше высокопревосходительство, все гораздо хуже, – сказал господин профессорского вида, разглядывая карточку на свет. – Ротмистр, вы говорили, что картотека хранилась в некоем подобии фотографического чулана? – Так точно, – почтительно подтвердил Белозеров. – А не припомните, какое там было освещение? Не красный фонарь? – Совершенно верно, именно красный электрический фонарь. – Я так и думал. Увы, Лаврентий Аркадьевич, картотека утеряна и восстановлению не поддается. – Как так?! – закипятился генерал. – Нет уж, господин коллежский советник, вы что нибудь придумайте. Вы мастер своего дела, вы светило… – Но не волшебник, ваше высокопревосходительство. Очевидно, карточки обработаны специальным раствором и работать с ними возможно только при красном освещении. Теперь слой, на котором нанесены письмена, засвечен. Ловко, ничего не скажешь. Я с таким сталкиваюсь впервые. Генерал сдвинул мохнатые брови и угрожающе засопел. В комнате стало тихо – надвигалась буря. Однако гром так и не грянул. – Идемте, Фандорин, – упавшим голосом произнес начальник Третьего отделения. – Вам надо закончить работу. Две последние записи в шифровке разгадать так и не удалось – это были сведения, поступившие в последний день, тридцатого июня, и Фандорин их опознать не смог. Настало время подводить итоги. Прохаживаясь по кабинету, усталый генерал Мизинов рассуждал вслух. – Итак, соберем то немногое, чем мы располагаем. Существует некая интернациональная организация с условным названием «Азазель». Судя по количеству карточек, прочесть которые мы уже никогда не сможем, в ней состоит 3854 члена. О сорока семи из них, точнее о сорока пяти, поскольку две записи не расшифрованы, мы кое что знаем. Однако немногое – лишь национальную принадлежность и занимаемое положение. Ни имени, ни возраста, ни адреса… Что нам известно еще? Имена двух покойных азазельцев – Каннингема и Бриллинга. Кроме того, в Англии есть Амалия Бежецкая. Если ваш Зуров ее не убил, если она по прежнему в Англии и если ее, действительно, зовут именно так… «Азазель» действует агрессивно, не останавливается перед убийствами, тут явно есть некая глобальная цель. Но какая? Это не масоны, потому что я сам член масонской ложи, и не из рядовых. Хм… Учтите, Фандорин, вы этого не слышали. Эраст Петрович смиренно потупился. – Это не социалистический Интернационал, – продолжил Мизинов, – потому что у господ коммунистов на такие дела кишка тонка. Да и не мог Бриллинг быть революционером – это исключено. Чем бы он там втайне ни занимался, но нигилистов мой дорогой помощник ловил всерьез и весьма успешно. Что же тогда «Азазелю» нужно? Ведь это самое главное! И никаких зацепок. Каннингем мертв. Бриллинг мертв. Николай Круг – простой исполнитель, пешка. Негодяй Пыжов мертв. Все концы обрублены… – Лаврентий Аркадьевич возмущенно развел руками. – Нет, я решительно ничего не понимаю! Я знал Бриллинга более десяти лет. Я сам вывел его в люди! Сам нашел его! Посудите сами, Фандорин. В бытность харьковским генерал губернатором я проводил всевозможные конкурсы среди гимназистов и студентов, чтобы поощрить в молодом поколении патриотические чувства и стремление к полезным преобразованиям. Мне представили тощего, нескладного юношу, гимназиста выпускного класса, который написал очень дельное и страстное сочинение на тему «Будущее России». Поверьте мне, по духу и биографии это был настоящий Ломоносов – без роду и племени, круглый сирота, выучился на медяки, сдал экзамены сразу в седьмой класс гимназии. Чистый самородок! Я взял над ним шефство, назначил стипендию, определил в Петербургский университет, а потом принял к себе на службу и ни разу об этом не пожалел. Это был лучший из моих помощников, мое доверенное лицо! Он сделал блестящую карьеру, перед ним были открыты все дороги! Какой яркий, парадоксальный ум, какая инициативность, какая исполнительность! Господи, да я собирался дочь за него выдать! – Генерал схватился рукой за лоб. Эраст Петрович, уважая чувства высокого начальства, выдержал тактичную паузу и кашлянул. – Ваше высокопревосходительство, я тут подумал… Зацепок, конечно, немного, но все таки кое что есть. Генерал тряхнул головой, словно прогоняя ненужные воспоминания, и сел за стол. – Слушаю. Говорите, Фандорин, говорите. Никто лучше вас не знает эту историю. – Я, собственно, вот о чем… – Эраст Петрович смотрел в список, подчеркивая что то карандашом. – Тут сорок четыре человека – двоих мы не разгадали, а действительный статский советник, то есть Иван Францевич, уже не в счет. Из них по меньшей мере восьмерых не так трудно вычислить. Ну подумайте сами, ваше высокопревосходительство. Сколько начальников охраны может быть у бразильского императора? Или номер 47F – бельгийский директор департамента, отправлено 11 июня, получено 15 го. Установить, кто это, будет легко. Это уже двое. Третий: номер 549F – вице адмирал французского флота, отправлено 15 июня, получено 17 го. Четвертый: номер 1007F – новоиспеченный английский баронет, отправлено 9 июня, получено 10 го. Пятый: номер 694F – португальский министр, отправлено 29 мая, получено 7 июня. – Это мимо, – перебил генерал, слушавший с чрезвычайным вниманием. – В Португалии в мае сменилось правительство, так что все министры в кабинете новые. – Да? – расстроился Эраст Петрович. – Ну хорошо, значит, получится не восемь, а семь. Тогда пятым американец: номер 852F – заместитель председателя сенатского комитета, отправлено 10 июня, получено 28 го, как раз при мне. Шестой: номер 1042F, Турция, личный секретарь принца Абдул Гамида, отправлено 1 июня, поступило 20 го. Это сообщение особенно заинтересовало Лаврентия Аркадьевича. – В самом деле? О, это очень важно. И прямо 1 июня? Так так. 30 мая в Турции произошел переворот, султана Абдул Азиза свергли, и новый правитель Мидхат паша возвел на престол Мурада V. А на следующий же день назначил к Абдул Гамиду, младшему брату Мурада, нового секретаря? Скажите, какая спешность! Это крайне важное известие. Уж не строит ли Мидхат паша планов избавиться и от Мурада, а на трон посадить Абдул Гамида? Эхе хе… Ладно, Фандорин, это не вашего ума дело. Секретаря мы установим в два счета. Я нынче же свяжусь по телеграфу с Николаем Павловичем Гнатьевым, нашим послом в Константинополе, мы давние приятели. Продолжайте. – И последний, седьмой: номер 1508F, Швейцария, префект кантональной полиции, отправлено 25 мая, поступило 1 июня. Остальных вычислить будет много труднее, а некоторых даже невозможно. Но, если определить по крайней мере этих семерых и установить за ними негласное наблюдение… – Дайте сюда список, – протянул руку генерал. – Немедленно распоряжусь, чтобы в соответствующие посольства отправили шифровки. Видимо, придется вступить в сотрудничество со специальными службами всех этих стран. Кроме Турции, где у нас прекрасная собственная сеть… Знаете, Эраст Петрович, я был резок с вами, но вы не обижайтесь. Я очень ценю ваш вклад и все такое… Просто мне было больно… Из за Бриллинга… Ну, вы понимаете. – Понимаю, ваше высокопревосходительство. Я и сам, в некотором смысле, не меньше вашего… – Вот и хорошо, вот и отлично. Будете работать у меня. Разрабатывать «Азазель». Я создам особую группу, назначу туда самых опытных людей. Мы непременно распутаем этот клубок. – Ваше высокопревосходительство, мне бы в Москву съездить… – Зачем? – Хотелось бы потолковать с леди Эстер. Сама она, будучи особой не столько земной, сколько небесной, (здесь Фандорин улыбнулся) вряд ли была посвящена в суть истинной деятельности Каннингема, но знает этого господина с детства и вообще могла бы поведать что нибудь полезное. Не надо бы с ней официально, через жандармерию, а? Я имею счастье немного знать миледи, она меня не испугается, да и по английски я говорю. Вдруг еще какая то зацепка обнаружится? Может быть, через прошлое Каннингема на что нибудь выйдем? – Что ж, дело. Поезжайте. Но на один день, не дольше. Сейчас отправляйтесь спать, мой адъютант определит вас на квартиру. А завтра вечерним поездом в Москву. Если повезет, к тому времени уже поступят первые шифровки из посольств. Утром 28 го вы в Москве, беседуете с леди Эстер, а вечером извольте обратно, и сразу ко мне с докладом. В любое время, ясно? – Ясно, ваше высокопревосходительство. * * * В коридоре вагона первого класса поезда «Санкт Петербург – Москва» очень важный пожилой господин с завидными усами и подусниками, с бриллиантовой булавкой в галстуке, курил сигару, с нескрываемым любопытством поглядывая на запертую дверь купе номер один. – Эй, любезный, – поманил он пухлым пальцем кстати появившегося кондуктора. Тот мигом подлетел к сановному пассажиру и поклонился: – Слушаю с. Барин взял его двумя пальцами за воротник и приглушенно забасил: – Молодой человек, что в первом едет – кто таков? Знаешь? Уж больно юн. – Самим удивительно, – шепотом доложил кондуктор. – Ведь первое то, известное дело, для особо важных персон резервируется, не всякого генерала пустят. Только кто по срочному и ответственному государственному делу. – Знаю. – Барин выпустил струю дыма. – Сам один раз ездил, с тайной инспекцией в Новороссию. Но этот то совсем мальчишка. Может, чей нибудь сынок? Из золотой молодежи? – Никак нет с, сынков в первое не содют, с этим строго с. Разве что если кто из великих князей. А про этого я полюбопытствовал, в путевой лист к господину начальнику поезда заглянул, – еще больше понизил голос служитель. – Ну! – поторопил служивого заинтригованный господин. Предвкушая щедрые чаевые, кондуктор поднес палец к губам: – Из Третьего отделения. Следователь особо важных дел. – Понимаю, что «особо». Просто «важных» в первое не разместят. – Барин значительно помолчал. – И что же он? – А как заперлись в купе, так, почитай, и не выходили с. Я два раза чаю предлагал – какой там. Уткнулись в бумаги и сидят, головы не поднимают с. Отправление из Питера на двадцать пять минут задержали, помните? Это из за них с. Ждали прибытия. – Ого! – ахнул пассажир. – Однако это неслыханно! – Бывает, но очень редко с. – И фамилия в путевом листе не обозначена? – Никак нет с. Ни фамилии, ни чина. А Эраст Петрович все вчитывался в скупые строки донесений и нервно ерошил волосы. К горлу подступал мистический ужас. Перед самым отъездом на вокзал в казенную квартиру, где Фандорин почти сутки проспал беспробудным сном, явился адъютант Мизинова, велел ждать – поступили три первые депеши из посольств, сейчас расшифруют и привезут. Ждать пришлось почти целый час, и Эраст Петрович боялся опоздать на поезд, но адъютант его успокоил. Едва войдя в огромное, обитое зеленым бархатом купе, с письменным столом, мягким диваном и двумя ореховыми стульями на привинченных к полу ножках, Фандорин вскрыл пакет и углубился в чтение. Депеш поступило три: из Вашингтона, из Парижа и из Константинополя. Шапка у всех была одинаковой: «Срочно. Его высокопревосходительству Лаврентию Аркадьевичу Мизинову в ответ на депешу исх. N. 13476 8ж от 26 июня 1876 г.» Подписаны донесения были самими посланниками. На этом сходство кончалось. Текст же был следующий. «27 июня (9 июля) 1876 г. 12.15. Вашингтон. Интересующее Вас лицо – Джон Пратт Доббс, избранный 9 июня с. г. заместителем председателя сенатского комитета по бюджету. Человек в Америке очень известный, миллионер из тех, кого здесь называют self made man . Возраст – 44 года. Ранний период жизни, место рождения и происхождение неизвестны. Предположительно разбогател во время калифорнийской золотой лихорадки. Считается гением предпринимательства. Во время гражданской войны между Севером и Югом был советником президента Линкольна по финансовым вопросам. Существует мнение, что именно стараниями Доббса, а вовсе не доблестью федеральных генералов капиталистический Север одержал победу над консервативным Югом. В 1872 году выбран в Сенат от штата Пенсильвания. Из осведомленных источников известно, что Доббса прочат в министры финансов». «09 июля (27 июня) 1876 г. 16 ч.45 м. Париж. Благодаря известному Вам агенту Коко удалось выяснить через Военное министерство, что 15 июня в звание вице адмирала произведен контр адмирал Жан Антрепид, недавно назначенный командовать Сиамской эскадрой. Это одна из самых легендарных личностей французского флота. Двадцать лет назад французский фрегат у берегов Тортуги обнаружил в открытом море лодку, а в ней подростка, очевидно спасшегося после кораблекрушения. От потрясения подросток совершенно лишился памяти, не смог назвать ни своего имени, ни даже национальности. Взят юнгой, получил фамилию по названию нашедшего его фрегата. Сделал блестящую карьеру. Участвовал во многих экспедициях и колониальных войнах. Особенно отличился в ходе Мексиканской войны. В прошлом году Жан Антрепид произвел в Париже настоящую сенсацию, женившись на старшей дочери герцога де Рогана. Подробности послужного списка интересующего Вас лица вышлю в следующем донесении». «27 июня 1876 г. 2 часа пополудни. Константинополь. Дорогой Лаврентий, твой запрос меня изрядно удивил. Дело в том, что Анвар эфенди, к которому ты проявил столь спешный интерес, с некоторых пор находится в зоне и моего пристального внимания. Этот субъект, приближенный Мидхат паши и Абдул Гамида, по имеющимся у меня сведениям является одной из центральных фигур зреющего во дворце заговора. Следует ожидать скорого свержения нынешнего султана и воцарения Абдул Гамида. Тогда Анвар эфенди неизбежно станет необычайно влиятельной фигурой. Он очень умен, европейски образован, знает несметное количество восточных и западных языков. К сожалению, подробными биографическими сведениями об этом интересном господине мы не располагаем. Известно, что ему не более 35 лет, родился не то в Сербии, не то в Боснии. Происхождения темного и родственников не имеет, что сулит Турции великие блага, если Анвар когда нибудь станет визирем. Представить только – визирь без орды алчных родственников! Здесь такого просто не бывает. Анвар – нечто вроде «серого кардинала» у Мидхат паши, активный член партии «новых османов». Я удовлетворил твое любопытство? Теперь ты удовлетвори мое. Зачем тебе понадобился мой Анвар эфенди? Что ты о нем знаешь? Немедленно извести, это может оказаться важным». Эраст Петрович уже в который раз перечитал депеши, подчеркнул в первой: «Ранний период жизни, место рождения и происхождение неизвестны»; во второй:"не смог назвать ни своего имени, ни даже национальности»; в третьей: «Происхождения темного и родственников не имеет». Становилось как то жутковато. Получалось, что все трое взялись словно бы ниоткуда! Вдруг в какой то момент вынырнули из небытия и немедленно принялись карабкаться вверх с поистине нечеловеческим упорством. Что же это – члены какой то таинственной секты? Ой, а вдруг это вообще нелюди, явившиеся из иного мира? Скажем, посланцы с планеты Марс? Или того хуже – чертовщина какая нибудь? Фандорин поежился, вспомнив свое ночное знакомство с «призраком Амалии». Тоже ведь неизвестного происхождения особа, эта самая Бежецкая. И еще сатанинское заклинание – «Азазель». Ох, что то серой попахивает… В дверь вкрадчиво постучали, и Эраст Петрович, вздрогнув, сунул руку за спину, в потайную кобуру, нащупал рифленую рукоятку «герсталя». В дверной щели появилась умильная физиономия кондуктора. – Ваше превосходительство, к станции подъезжаем. Не угодно ли ножки размять? Там и буфет имеется. От «превосходительства» Эраст Петрович приосанился и украдкой покосился на зеркало. Неужто правда за генерала можно принять? Что ж, «ножки размять» было бы неплохо, да и думается на ходу лучше. Вертелась в голове какая то смутная идейка, да все ускользала, пока не давалась в руки, но обнадеживала – копай, мол, копай. – Пожалуй. Сколько стоим? – Двадцать минут. Да вы не извольте беспокоиться, гуляйте себе. – Кондуктор хихикнул. – Без вас не уедут с. Эраст Петрович спрыгнул с лесенки на залитую станционными огнями платформу. Кое где в окнах купе свет уже не горел – очевидно, некоторые из пассажиров отошли ко сну. Фандорин сладко потянулся и сложил руки за спиной, приготовившись к моциону, призванному поспособствовать пущей мыслительной активности. Однако в это время из того же вагона спустился осанистый, усатый господин в цилиндре, метнул в сторону молодого человека полный любопытства взгляд и протянул руку юной спутнице. При виде ее прелестного, свежего личика Эраст Петрович замер, а барышня просияла и звонко воскликнула: – Папа, это он, тот господин из полиции! Помнишь, я тебе рассказывала? Ну тот, который нас с фрейлейн Пфуль допрашивал! Последнее слово было произнесено с явным удовольствием, а ясные серые глаза смотрели на Фандорина с нескрываемым интересом. Следует признаться, что головокружительные события последних недель несколько приглушили воспоминания о той, кого Эраст Петрович именовал про себя исключительно «Лизанькой», а иногда, в особенно мечтательные минуты, даже «нежным ангелом». Однако при виде этого милого создания огонек, некогда опаливший сердце бедного коллежского регистратора, моментально полыхнул жаром, обжег легкие огненными искорками. – Я, собственно, не из полиции, – покраснев, пробормотал Фандорин. – Фандорин, чиновник особых поручений при… – Все знаю, je vous le dis tout cru , – с таинственным видом сказал усатый, блеснув бриллиантом в галстуке. – Государственное дело, можете не вдаваться. Entre nous sois dit , cам неоднократно по роду деятельности имел касательство, так что все отлично понимаю. – Он приподнял цилиндр. – Однако позвольте представиться. Действительный тайный советник Александр Аполлодорович Эверт Колокольцев, председатель Московской губернской судебной палаты. Моя дочь Лиза. – Только зовите меня «Лиззи», «Лиза» мне не нравится, на «подлизу» похоже, – попросила барышня и наивно призналась. – А я про вас часто вспоминала. Вы Эмме понравились. И как вас зовут, помню – Эраст Петрович. Красивое имя – Эраст. Фандорину показалось, что он уснул и видит чудесный сон. Тут главное – не шевелиться, а то не дай Бог проснешься. Глава пятнадцатая, в которой убедительнейшим образом доказывается важность правильного дыхания В обществе Лизаньки («Лиззи» у Эраста Петровича как то не прижилось) одинаково хорошо и говорилось, и молчалось. Вагон мерно покачивался на стыках, поезд, время от времени порыкивая гудком, мчался на головокружительной скорости через сонные, окутанные предрассветным туманом валдайские леса, а Лизанька и Эраст Петрович сидели в первом купе на мягких стульях и молчали. Смотрели в основном в окно, но по временам взглядывали и друг на друга, причем если взгляды ненароком пересекались, то это было совсем не стыдно, а наоборот, весело и приятно. Фандорин уже нарочно старался оборачиваться от окна как можно проворней, и всякий раз, когда ему удавалось поймать встречный взгляд, Лизанька тихонько прыскала. Говорить не следовало еще и потому, что можно было разбудить господина барона, покойно дремавшего на диване. Еще не так давно Александр Аполлодорович увлеченно обсуждал с Эрастом Петровичем балканский вопрос, а потом, почти на полуслове, вдруг всхрапнул и уронил голову на грудь. Теперь голова уютно покачивалась в такт стуку вагонных колес: та дам, та дам (туда сюда, туда сюда); та дам, та дам (туда сюда, туда сюда). Лизанька тихо засмеялась каким то своим мыслям, а когда Фандорин вопросительно посмотрел на нее, пояснила: – Вы такой умный, все знаете. Вон папеньке и про Мидхат пашу объяснили и про Абдул Гамида. А я такая глупая, вы даже не представляете. – Вы не можете быть глупая, – с глубоким убеждением прошептал Фандорин. – Я бы вам рассказала, да стыдно… А впрочем, расскажу. Мне почему то кажется, что вы не будете надо мной смеяться. То есть вместе со мной будете, а без меня не будете. Правда? – Правда! – воскликнул Эраст Петрович, но барон шевельнул во сне бровями, и молодой человек снова перешел на шепот. – Я над вами никогда смеяться не буду. – Смотрите же, обещали. Я после того вашего прихода представляла себе всякое… И так у меня красиво получалось. Только жалостливо очень и непременно с трагическим концом. Это из за «Бедной Лизы». Лиза и Эраст, помните? Мне всегда ужасно это имя нравилось – Эраст. Представляю себе: лежу я в гробу прекрасная и бледная, вся в окружении белых роз, то утонула, то от чахотки умерла, а вы рыдаете, и папенька с маменькой рыдают, и Эмма сморкается. Смешно, правда? – Смешно, – подтвердил Фандорин. – Просто чудо, что мы так на станции встретились. Мы к ma tante погостить ездили и должны были еще вчера вернуться, но папенька в министерстве по делам задержался и переменили билеты. Ну разве не чудо? – Какое же это чудо? – удивился Эраст Петрович. – Это перст судьбы. Странное в окне было небо: все черное, а вдоль горизонта алая кайма. На столе уныло белели забытые депеши. * * * Извозчик вез Фандорина через всю утреннюю Москву от Николаевского вокзала в Хамовники. День был чист и радостен, а в ушах Эраста Петровича все не умолкал прощальный возглас Лизаньки: – Так вы непременно приезжайте сегодня! Обещаете? По времени все отлично складывалось. Сейчас в эстернат, к миледи. В жандармское управление лучше заехать потом – потолковать с начальником, а если удастся у леди Эстер выяснить что то важное – так и телеграмму Лаврентию Аркадьевичу послать. С другой стороны, за ночь могли из посольств остальные депеши прийти… Фандорин достал из новенького серебряного портсигара папиросу, не очень ловко закурил. Не поехать ли все таки сначала в жандармское? Но лошадка уже бежала по Остоженке, и поворачивать назад было глупо. Итак: к миледи, потом в управление, потом домой – забрать вещи и переехать в приличную гостиницу, потом переодеться, купить цветов и к шести часам на Малую Никитскую, к Эверт Колокольцевым. Эраст Петрович блаженно улыбнулся и пропел: «Он был титулярный советник, она генеральская до очь, он робко в любви объясни ился, она прогнала его про очь». А вот и знакомое здание с чугунными воротами, и служитель в синем мундире у полосатой будки. – Где мне найти леди Эстер? – крикнул Фандорин, наклонившись с сиденья. – В эстернате или у себя? – Об это время обыкновенно у себя бывают, – браво отрапортовал привратник, и коляска загромыхала дальше, в тихий переулок. У двухэтажного домика дирекции Фандорин велел извозчику ждать, предупредив, что ожидание может затянуться. Все тот же надутый швейцар, которого миледи назвала «Тимофэй», бездельничал возле двери, только не грелся на солнце, как в прошлый раз, а перебрался в тень, ибо июньское светило припекало не в пример жарче майского. Теперь «Тимофэй» повел себя совершенно иначе, проявив недюжинный психологический талант, – снял фуражку, поклонился и сладким голосом спросил, как доложить. Что то, видно, изменилось во внешности Эраста Петровича за минувший месяц, не возбуждал он более у швейцарского племени инстинкта хватать и не пущать. – Не докладывай, сам пройду. «Тимофэй» изогнулся дугой и безропотно распахнул дверь, пропуская посетителя в обитую штофом прихожую, откуда по ярко освещенному солнцем коридору Эраст Петрович дошел до знакомой бело золотой двери. Она отворилась ему навстречу, и некий долговязый субъект в такой же, как у «Тимофэя», синей ливрее и таких же белых чулках, вопросительно уставился на пришедшего. – Третьего отделения чиновник Фандорин, по срочному делу, – строго сказал Эраст Петрович, однако лошадиная физиономия лакея осталась непроницаемой, и пришлось пояснить по английски: – State police, inspector Fandorin, on urgent official business. Снова ни один мускул не дрогнул на каменном лице, однако смысл сказанного был понят – лакей чопорно наклонил голову и исчез за дверью, плотно прикрыв за собой створки. Через полминуты они снова распахнулись. На пороге стояла сама леди Эстер. Увидев старого знакомого, она радостно улыбнулась: – О, это вы, мой мальчик. А Эндрю сказал, какой то важный господин из тайной полиции. Проходите проходите. Как поживаете? Почему у вас такой усталый вид? – Я только с петербургского поезда, миледи, – стал объяснять Фандорин, проходя в кабинет. – Прямо с вокзала к вам, уж очень дело срочное. – О да, – печально покивала баронесса, усаживаясь в кресло и жестом приглашая гостя сесть напротив. – Вы, конечно, хотите поговорить со мной о милом Джеральде Каннингеме. Это какой то страшный сон, я ничего не понимаю… Эндрю, прими у господина полицейского шляпу… Это мой давний слуга, только что приехал из Англии. Славный Эндрю, я по нему скучала. Иди, Эндрю, иди, друг мой, ты пока не нужен. Костлявый Эндрю, вовсе не показавшийся Эрасту Петровичу славным, с поклоном удалился, и Фандорин заерзал в жестком кресле, устраиваясь поудобнее – разговор обещал затянуться. – Миледи, я очень опечален случившимся, однако господин Каннингем, ваш ближайший и многолетний помощник, оказался замешан в очень серьезную криминальную историю. – И теперь вы закроете мои российские эстернаты? – тихо спросила миледи. – Боже, что будет с детьми… Они только только начали привыкать к нормальной жизни. И сколько среди них талантов! Я обращусь с просьбой на высочайшее имя – быть может, мне позволят вывезти моих питомцев за границу. – Вы напрасно тревожитесь, – мягко сказал Эраст Петрович. – Ничего с вашими эстернатами не случится. В конце концов, это было бы просто преступлением. Я всего лишь хочу расспросить вас о Каннингеме. – Разумеется! Все, что угодно. Бедняжка Джеральд… Вы знаете, он ведь из очень хорошей семьи, внук баронета, но его родители утонули, возвращаясь из Индии, и мальчик в одиннадцать лет остался сиротой. У нас в Англии очень жесткие законы наследования, все достается старшему сыну – и титул, и состояние, а младшие часто не имеют и гроша за душой. Джеральд был младшим сыном младшего сына, без средств, без дома, родственники им не интересовались… Вот, я как раз пишу соболезнование его дяде, абсолютно никчемному джентльмену, которому до Джеральда не было никакого дела. Что поделаешь, мы, англичане, придаем большое значение формальностям. – Леди Эстер показала листок, исписанный крупным, старомодным почерком с завитушками и затейливыми росчерками. – В общем, я взяла ребенка к себе. В Джеральде обнаружились выдающиеся математические способности, я думала, что он станет профессором, но живость ума и честолюбие не очень то способствуют научной карьере. Я быстро заметила, что мальчик пользуется авторитетом у других детей, что ему нравится верховодить. Он обладал прирожденным лидерским талантом: редкостная сила воли, дисциплинированность, умение безошибочно выделить в каждом человеке сильные и слабые стороны. В Манчестерском эстернате его избрали старостой. Я полагала, что Джеральд захочет поступить на государственную службу или заняться политикой – из него получился бы прекрасный колониальный чиновник, а со временем, возможно, даже генерал губернатор. Каково же было мое удивление, когда он выразил желание остаться у меня и заняться воспитательской деятельностью! – Еще бы, – кивнул Фандорин. – Тем самым он получал возможность подчинять своему влиянию неокрепшие детские умы, а затем поддерживать контакты с выпускниками… – Эраст Петрович не договорил, пораженный внезапной догадкой. Боже, как все просто! Поразительно, что это не открылось ему раньше! – Очень скоро Джеральд стал моим незаменимым помощником, – продолжила миледи, не заметив, как изменилось выражение лица собеседника. – Какой это был самоотверженный, неутомимый работник! И редкостный лингвистический дар – без него мне было бы просто невозможно уследить за работой филиалов в стольких странах. Я знаю, его врагом всегда было непомерное честолюбие. Это детская психическая травма, желание доказать родственникам, что он всего добьется и без их помощи. Я чувствовала, чувствовала странное несоответствие – при его способностях и амбициях он никак не должен был довольствоваться скромной ролью педагога, хоть бы даже и с очень приличным жалованьем. Однако Эраст Петрович уже не слушал. У него в голове словно зажглась электрическая лампа, высветив все то, что прежде тонуло во мраке. Все сходилось! Неизвестно откуда взявшийся сенатор Доббс, «потерявший память» французский адмирал, турецкий эфенди неведомого происхождения, да и покойный Бриллинг – да да, и он тоже! Нелюди? Марсиане? Пришельцы из потустороннего мира? Как бы не так! Они все – питомцы эстернатов, вот они кто! Они подкидыши, только подброшенные не к дверям приюта, а наоборот – из приюта их подбросили в общество. Каждый был соответствующим образом подготовлен, каждый обладал искусно выявленным и тщательном выпестованным талантом! Не случайно Жана Антрепида подбросили именно на путь французского фрегата – очевидно, у юноши было незаурядное дарование моряка. Только зачем то понадобилось скрыть, откуда он такой талантливый взялся. Хотя понятно, зачем! Если бы мир узнал, сколько блестящих карьеристов выходит из питомника леди Эстер, то неминуемо насторожился бы. А так все происходит как бы само собой. Толчок в нужном направлении – и талант непременно себя проявит. Вот почему каждый из когорты «сирот» добился таких потрясающих успехов в карьере! Вот почему им так важно было доносить Каннингему о своем продвижении по службе – ведь тем самым они подтверждали свою состоятельность, правильность сделанного выбора! И совершенно естественно, что по настоящему все эти гении преданы только своему сообществу – ведь это их единственная семья, семья, которая защитила их от жестокого мира, взрастила, раскрыла в каждом его неповторимое «я». Ну и семейка из почти четырех тысяч гениев, разбросанных по всему миру! Ай да Каннингем, ай да «лидерский талант»! Хотя стоп… – Миледи, а сколько лет было Каннингему? – нахмурившись, спросил Эраст Петрович. – Тридцать три, – охотно ответила леди Эстер. – А 16 октября исполнилось бы тридцать четыре. На свой день рождения Джеральд всегда устраивал для детей праздник, причем не ему дарили подарки, а он сам всем что нибудь дарил. По моему, это съедало чуть ли не все его жалование… – Нет, не сходится! – вскричал Фандорин в отчаянии. – Что не сходится, мой мальчик? – удивилась миледи. – Антрепид найден в море двадцать лет назад! Каннингему тогда было всего тринадцать. Доббс разбогател четверть века назад, Каннингем тогда еще и сиротой не стал! Нет, это не он! – Да что вы такое говорите? – пыталась вникнуть англичанка, растерянно моргая ясными голубыми глазками. А Эраст Петрович молча уставился на нее, сраженный страшной догадкой. – Так это не Каннингем…, – прошептал он. – Это все вы… Вы сами! Вы были и двадцать, и двадцать пять лет, и сорок назад! Ну конечно, кто же еще! А Каннингем, действительно, был всего лишь вашей правой рукой! Четыре тысячи ваших питомцов, по сути дела ваших детей! И для каждого вы как мать! Это про вас, а вовсе не про Амалию говорили Морбид с Францем! Вы каждому дали цель в жизни, каждого «вывели на путь»! Но это же страшно, страшно! – Эраст Петрович застонал, как от боли. – Вы с самого начала собирались использовать вашу педагогическую теорию для создания всемирного заговора. – Ну, не с самого, – спокойно возразила леди Эстер, в которой произошла какая то неуловимая, но совершенно очевидная перемена. Она больше не казалась мирной, уютной старушкой, глаза засветились умом, властностью и несгибаемой силой. – Сначала я просто хотела спасти бедных, обездоленных детенышей человеческих. Я хотела сделать их счастливыми – скольких смогу. Пусть сто, пусть тысячу. Но мои усилия были крупицей песка в пустыне. Я спасала одного ребенка, а свирепый Молох общества тем временем перемалывал тысячу, миллион маленьких человеков, в каждом из которых изначально горит Божья искра. И я поняла, что мой труд бессмысленен. Ложкой моря не вычерпать. – Голос леди Эстер набрал силу, согбенные плечи распрямились. – И еще я поняла, что Господь дал мне силы на большее. Я могу спасти не горстку сирот, я могу спасти человечество. Пусть не при жизни, пусть через двадцать, тридцать, пятьдесят лет после моей смерти. Это мое призвание, это моя миссия. Каждый из моих детей – драгоценность, венец мироздания, рыцарь нового человечества. Каждый принесет неоценимую пользу, изменит своей жизнью мир к лучшему. Они напишут мудрые законы, откроют тайны природы, создадут шедевры искусства. И год от года их становится все больше, со временем они преобразуют этот мерзкий, несправедливый, преступный мир! – Какие тайны природы, какие шедевры искусства? – горько спросил Фандорин. – Вас ведь интересует только власть. Я же видел – у вас там все сплошь генералы да будущие министры. Миледи снисходительно улыбнулась: – Друг мой, Каннингем ведал у меня только категорией F, очень важной, но далеко не единственной. «F» – это Force , то есть все, имеющее касательство к механизму прямой власти: политика, государственный аппарат, вооруженные силы, полиция и так далее. А еще есть категория «S» – Science , категория «A» – Art , категория «B» – Business. Есть и другие. За сорок лет педагогической деятельности я вывела на путь шестнадцать тысяч восемьсот девяносто три человека. Разве вы не видите, как стремительно в последние десятилетия развиваются наука, техника, искусство, законотворчество, промышленность? Разве вы не видите, что в нашем девятнадцатом столетии, начиная с его середины, мир вдруг стал добрее, разумнее, красивее? Происходит настоящая мирная революция. И она совершенно необходима, иначе несправедливое устроение общества приведет к иной, кровавой революции, которая отбросит человечество на несколько веков назад. Мои дети каждодневно спасают мир. И погодите, то ли еще будет в грядущие годы. Кстати, я помню, как вы спрашивали меня, почему я не беру девочек. В тот раз, каюсь, я вам солгала. Я беру девочек. Совсем немного, но беру. В Швейцарии у меня есть особый эстернат, где воспитываются мои дорогие дочери. Это совершенно особый материал, возможно, еще более драгоценный, чем мои сыновья. С одной из моих воспитанниц вы, кажется, знакомы. – Миледи лукаво усмехнулась. – Сейчас, правда, она ведет себя неразумно и на время забыла о долге. С молодыми женщинами это случается. Но она непременно ко мне вернется, я знаю своих девочек. Из этих слов Эрасту Петровичу стало ясно, что Ипполит все таки не убил Амалию, а, видимо, куда то увез, однако напоминание о Бежецкой разбередило старые раны и несколько ослабило впечатление (признаться, довольно изрядное), которое произвели на молодого человека рассуждения баронессы. – Благая цель – это, конечно, замечательно! – запальчиво воскликнул он. – Но как насчет средств? Ведь вам человека убить – как комара прихлопнуть. – Это неправда! – горячо возразила миледи. – Я искренне сожалею о каждой из потерянных жизней. Но нельзя вычистить Авгиевы конюшни, не замаравшись. Один погибший спасает тысячу, миллион других людей. – И кого же спас Кокорин? – язвительно поинтересовался Эраст Петрович. – На деньги этого никчемного прожигателя жизни я воспитаю для России и мира тысячи светлых голов. Ничего не поделаешь, мой мальчик, не я устроила этот жестокий мир, в котором за все нужно платить свою цену. По моему, в данном случае цена вполне разумна. – Ну, а смерть Ахтырцева? – Во первых, он слишком много болтал. Во вторых, чрезмерно досаждал Амалии. А в третьих, – вы же сами говорили Ивану Бриллингу: бакинская нефть. Никто не сможет опротестовать написанное Ахтырцевым завещание, оно осталось в силе. – А риск полицейского расследования? – Ерунда, – пожала плечом миледи. – Я знала, что мой милый Иван все устроит. Он с детства отличался блестящим аналитическим умом и организаторским талантом. Какая трагедия, что его больше нет… Бриллинг устроил бы все идеальным образом, если б не один чрезвычайно настырный юный джентльмен. Нам всем очень, очень не повезло. – Постойте ка, миледи, – наконец то додумался насторожиться Эраст Петрович. – А почему вы со мной так откровенны? Неужто вы надеетесь перетянуть меня в свой лагерь? Если б не пролитая кровь, я был бы целиком на вашей стороне, однако же ваши методы… Леди Эстер, безмятежно улыбнувшись, перебила: – Нет, друг мой, я не надеюсь вас распропагандировать. К сожалению, мы познакомились слишком поздно – ваш ум, характер, система моральных ценностей успели сформироваться, и теперь изменить их почти невозможно. А откровенна я с вами по трем причинам. Во первых, вы очень смышленый юноша и вызываете у меня искреннюю симпатию. Я не хочу, чтобы вы считали меня чудовищем. Во вторых, вы совершили серьезную оплошность, отправившись с вокзала прямо сюда и не известив об этом свое начальство. Ну а в третьих, я не случайно усадила вас в это крайне неудобное кресло с так странно изогнутой спинкой. Она сделала рукой какое то неуловимое движение, и из высоких подлокотников выскочили две стальных полосы, намертво приковав Фандорина к креслу. Еще не осознав случившегося, он дернулся встать, но не смог даже толком пошевелиться, а ножки кресла будто приросли к полу. Миледи позвонила в колокольчик, и в ту же секунду вошел Эндрю, словно подслушивал за дверью. – Мой славный Эндрю, пожалуйста, поскорее приведи профессора Бланка, – приказала леди Эстер. – По дороге объясни ему ситуацию. Да, и пусть захватит хлороформ. А Тимофэю поручи извозчика. – Она печально вздохнула. – Тут уж ничего не поделаешь… Эндрю молча поклонился и вышел. В кабинете повисло молчание: Эраст Петрович пыхтел, барахтаясь в стальном капкане и пытаясь извернуться, чтоб достать из за спины спасительный «герсталь», однако проклятые обручи прижали так плотно, что от этой идеи пришлось отказаться. Миледи участливо наблюдала за телодвижениями молодого человека, время от времени покачивая головой. Довольно скоро в коридоре раздались быстрые шаги, и вошли двое: гений физики профессор Бланк и безмолвный Эндрю. Мельком взглянув на пленника, профессор спросил по английски: – Это серьезно, миледи? – Да, довольно серьезно, – вздохнула она. – Но поправимо. Конечно, придется немного похлопотать. Я не хочу без нужды прибегать к крайнему средству. Вот и вспомнила, что вы, мой мальчик, давно мечтали об эксперименте с человеческим материалом. Похоже, случай представился. – Однако я еще не вполне готов работать с человеческим мозгом, – неуверенно сказал Бланк, разглядывая притихшего Фандорина. – С другой стороны, было бы расточительством упускать такой шанс… – В любом случае нужно его усыпить, – заметила баронесса. – Вы принесли хлороформ? – Да да, сейчас. – Профессор достал из вместительного кармана склянку и обильно смочил из нее носовой платок. Эраст Петрович ощутил резкий медицинский запах и хотел было возмутиться, но Эндрю в два прыжка подскочил к креслу и с невероятной силой обхватил узника за горло. – Прощайте, бедный мальчик, – сказала миледи и отвернулась. Бланк вынул из жилетного кармана золотые часы, посмотрел на них поверх очков и плотно закрыл лицо Фандорина пахучей белой тряпкой. Вот когда пригодилась Эрасту Петровичу спасительная наука несравненного Чандры Джонсона! Вдыхать предательский аромат, в котором праны явно не содержалось, молодой человек не стал. Самое время было приступить к упражнению по задержке дыхания. – Одной минуты будет более чем достаточно, – заявил ученый, крепко прижимая платок ко рту и носу обреченного. «И и восемь, и и девять, и и десять», – мысленно считал Эраст Петрович, не забывая судорожно разевать рот, пучить глаза и изображать конвульсии. Кстати говоря, при всем желании вдохнуть было бы не так просто, поскольку Эндрю сдавил горло железной хваткой. Счет перевалил за восемьдесят, легкие из последних сил боролись с жаждой вдоха, а гнусная тряпка все холодила влагой пылающее лицо. Восемспять, восемсшесть, восемсемь, – перешел на нечестную скороговорку Фандорин, из последних сил пытаясь одурачить невыносимо медленный секундомер. Внезапно он сообразил, что хватит дергаться, давно пора потерять сознание, и обмяк, замер, а для пущей убедительности еще и нижнюю челюсть отвалил. На счете девяносто три Бланк убрал руку. – Однако, – констатировал он, – какая сопротивляемость организма. – Почти семьдесят пять секунд. «Бесчувственный» откинул голову на бок и делал вид, что дышит мерно и глубоко, хотя ужасно хотелось хватать воздух изголодавшимся по кислороду ртом. – Готово, миледи, – сообщил профессор. – Можно приступать к эксперименту. Глава шестнадцатая, в которой электричеству предвещается великое будущее – Перенесите его в лабораторию, – сказала миледи. – Но нужно торопиться. Через двенадцать минут начнется перемена. Дети не должны этого видеть. В дверь постучали. – Тимофэй, это ви? – спросила баронесса по русски. – Come in! Эраст Петрович не решался подглядывать даже через ресницы – если кто заметит, все, конец. Он услышал тяжелые шаги швейцара и громкий, словно обращенный к глухим, голос: – Так что все в лучшем виде, ваше сиятельство. Олл райт. Позвал извозчика чайку попить. Чай! Ти! Дринк! Живучий, чертяка, попался. Пьет, пьет и хоть бы что ему. Дринк, дринк – насинг . Но потом ничего, сомлел. А пролеточку я за дом отогнал. Бихайнд наш хаус . Во двор, говорю, отогнал. Пока постоит, а после уж я позабочусь, не извольте беспокоиться. Бланк перевел баронессе сказанное. – Fine, – откликнулась она и вполголоса добавила. – Andrew, just make sure that he doesn't try to make a profit selling the horse and the carriage . Ответа Фандорин не услышал – должно быть, молчаливый Эндрю просто кивнул. «Ну давайте, гады, отстегивайте меня, – мысленно поторопил злоумышленников Эраст Петрович. – У вас же перемена скоро. Сейчас я вам устрою эксперимент. Про предохранитель бы только не забыть». Однако Фандорина ждало серьезное разочарование – никто его отстегивать не стал. Прямо возле уха раздалось сопение и запахло луком («Тимофэй», безошибочно определил узник), что то тихонько скрежетнуло раз, второй, третий, четвертый. – Готово. Отвинтил, – доложил швейцар. – Бери, Андрюха, несем. Эраста Петровича подняли вместе с креслом и понесли. Чуть чуть приоткрыв глаз, он увидел галерею и освещенные солнцем голландские окна. Все ясно – волокут в главный корпус, в лабораторию. Когда, стараясь не шуметь, носильщики ступили в рекреационную залу, Эраст Петрович всерьез задумался – не очнуться ли ему и не нарушить ли учебный процесс истошными воплями. Пусть детки посмотрят, какими делами их добрая миледи занимается. Но из классов доносились такие мирные, уютные звуки – мерный учительский басок, взрыв мальчишеского смеха, распевка хора – что у Фандорина не хватило духу. Ничего, еще не время раскрывать карты, оправдал он свою мягкотелость. А потом было уже поздно – школьный шум остался позади. Эраст Петрович подглядел, что его волокут вверх по какой то лестнице, скрипнула дверь, повернулся ключ. Даже сквозь закрытые веки было видно, как ярко вспыхнул электрический свет. Фандорин одним прищуренным глазом быстро обозрел обстановку. Успел разглядеть какие то фарфоровые приборы, провода, металлические катушки. Все это ему крайне не понравилось. Вдали приглушенно ударил колокол – видно, закончился урок, и почти сразу же донеслись звонкие голоса. – Надеюсь, все закончится хорошо, – вздохнула леди Эстер. – Мне будет жаль, если юноша погибнет. – Я тоже надеюсь, миледи, – явно волнуясь, ответил профессор и загремел чем то железным. – Но науки без жертв, увы, не бывает. За каждый новый шажок познания приходится платить дорогой ценой. На сантиментах далеко не уедешь. А если вам этот молодой человек так дорог, пусть бы ваш медведь не травил извозчика, а подсыпал бы ему снотворного. Я бы тогда начал с извозчика, а молодого человека оставил на потом. Это дало бы ему дополнительный шанс. – Вы правы, друг мой. Абсолютно правы. Это была непростительная ошибка. – В голосе миледи звучало неподдельное огорчение. – Но вы все же постарайтесь. Объясните мне еще раз, что именно вы намерены сделать? Эраст Петрович навострил уши – этот вопрос его тоже очень интересовал. – Вам известна моя генеральная идея, – с воодушевлением произнес Бланк и даже перестал греметь. – Я считаю, что покорение электрической стихии – ключ к грядущему столетию. Да да, миледи! До двадцатого века остается двадцать четыре года, но это не так уж долго. В новом столетии мир преобразится до неузнаваемости, и свершится эта великая перемена благодаря электричеству. Электричество – это не просто способ освещения, как полагают профаны. Оно способно творить чудеса и в великом, и в малом. Представьте себе карету без лошади, которая едет на электромоторе! Представьте поезд без паровоза – быстрый, чистый, бесшумный! А мощные пушки, разящие врага направленным разрядом молнии! А городской дилижанс без конной тяги! – Все это вы уже много раз говорили, – мягко прервала энтузиаста баронесса. – Объясните мне про медицинское использование электричества. – О, это самое интересное, – еще больше возбудился профессор. – Именно этой сфере электрической науки я намерен посвятить свою жизнь. Макроэлектричество – турбины, моторы, мощные динамо машины – изменят окружающий мир, а микроэлектричество изменит самого человека, исправит несовершенства природной конструкции homo sapiens. Электрофизиология и электротерапия – вот что спасет человечество, а вовсе не ваши умники, которые играют в великих политиков или, смешно сказать, малюют картинки. – Вы неправы, мой мальчик. Они тоже делают очень важное и нужное дело. Но продолжайте. – Я дам вам возможность сделать человека, любого человека, идеальным, избавить его от пороков. Все дефекты, определяющие поведение человека, гнездятся вот здесь, в подкорке головного мозга. – Жесткий палец пребольно постучал Эраста Петровича по темени. – Если объяснять упрощенно, в мозге есть участки, ведающие логикой, наслаждениями, страхом, жестокостью, половым чувством и так далее, и так далее. Человек мог бы быть гармонической личностью, если б все участки функционировали равномерно, но этого не бывает почти никогда. У одного чрезмерно развит участок, отвечающий за инстинкт самосохранения, и этот человек – патологический трус. У другого недостаточно задействована зона логики, и этот человек – непроходимый дурак. Моя теория состоит в том, что при помощи электрофореза, то есть направленного и строго дозированного разряда электрического тока, возможно стимулировать одни участки мозга и подавлять другие, нежелательные. – Это очень, очень интересно, – сказала баронесса. – Вы знаете, милый Гебхардт, что я до сих пор не ограничивала вас в финансировании, но почему вы так уверены, что подобная корректировка психики в принципе возможна? – Возможна! В этом нет ни малейших сомнений! Известно ли вам, миледи, что в захоронениях инков обн аружены черепа с одинаковым отверстием вот здесь? – Палец снова дважды ткнул Эраста Петровича в голову. – Тут расположен участок, ведающий страхом. Инки знали это и при помощи своих примитивных инструментов выдалбливали у мальчиков касты воинов трусость, делали своих солдат неустрашимыми. А мышь? Вы помните? – Да, ваша «бесстрашная мышь», кидавшаяся на кошку, произвела на меня впечатление. – О,это только начало. Представьте себе общество, в котором нет преступников! Жестокого убийцу, маньяка, вора после ареста не казнят и не посылают на каторгу – ему всего лишь делают небольшую операцию, и этот несчастный человек, навсегда избавившись от болезненной жестокости, чрезмерной похоти или непомерной алчности, становится полезным членом общества! А вообразите, что какого нибудь из ваших мальчиков, и без того очень способного, подвергли моему электрофорезу, еще более усилившему его дар? – Ну уж своих мальчиков я вам не отдам, – отрезала баронесса. – От чрезмерного таланта сходят с ума. Лучше уж экспериментируйте с преступниками. А что такое «чистый человек»? – Это сравнительно простая операция. Думаю, я к ней уже почти готов. Можно нанести удар по участку накопления памяти, и тогда мозг человека станет чистым листом, вы словно пройдетесь по нему ластиком. Сохранятся все интеллектуальные способности, но приобретенные навыки и знания исчезнут. Вы получаете человека чистеньким, будто новорожденным. Помните эксперимент с лягушкой? После операции она разучилась прыгать, но двигательных рефлексов не утратила. Разучилась ловить мошек, но глотательный рефлекс остался. Теоретически можно было бы обучить ее всему этому заново. Теперь возьмем нашего пациента… А вы двое, что вылупились? Берите его, кладите на стол. Macht schnell! Вот оно, сейчас! Фандорин изготовился. Однако подлый Эндрю так крепко взял его за плечи, что нечего было и пытаться лезть за револьвером. «Тимофэй» чем то щелкнул, и стальные обручи, давившие узнику на грудь, убрались. – Раз два, взяли! – скомандовал «Тимофэй», беря Эраста Петровича за ноги, а Эндрю, все так же цепко сжимавший пленнику плечи, легко поднял его из кресла. Подопытного перенесли на стол и уложили навзничь, причем Эндрю по прежнему придерживал его за локти, а швейцар за щиколотки. Кобура немилосердно врезалась Фандорину в поясницу. Снова раздались звуки колокола – перемена закончилась. – После того, как я синхронно обработаю электрическим разрядом два участка мозга, пациент совершенно очистится от предшествующего жизненного опыта и, так сказать, превратится в младенца. Его нужно будет снова учить всему – ходить, жевать, пользоваться туалетом, а позднее читать, писать и так далее. Полагаю, что ваших педагогов это заинтересует, тем более вы ведь уже имеете некоторое представление о склонностях этого индивида. – Да. Он отличается прекрасной реакцией, смел, обладает хорошо развитым логическим мышлением и уникальной интуицией. Надеюсь, все это поддается восстановлению. В другой обстановке Эраст Петрович почувствовал бы себя польщенным столь лестной характеристикой, но сейчас его закорчило от ужаса – он представил, как лежит в розовой колыбельке, с соской во рту и бессмысленно гугукает, а над ним склоняется леди Эстер и укоризненно говорит: «У, какие мы нехолосые, снова мокленькие лежим». Нет уж, лучше смерть! – У него конвульсии, сэр, – впервые разомкнул уста Эндрю. – Не очнулся бы. – Невозможно, – отрезал профессор. – Наркоза хватит минимум на два часа. Легкие конвульсивные движения – это нормально. Опасность, миледи, в одном. У меня не было достаточно времени, чтобы точно рассчитать потребную силу разряда. Если дать больше, чем нужно, это убьет пациента или навсегда сделает его идиотом. Если недобрать, в подкорке сохранятся смутные, остаточные образы, которые под воздействием внешнего раздражителя могут однажды сложится в определенное воспоминание. Помолчав, баронесса произнесла с явным сожалением: – Мы не можем рисковать. Пускайте разряд посильней. Раздалось странное жужжание, а потом потрескивание, от которого у Фандорина мороз пробежал по коже. – Эндрю, выстригите два кружочка – вот здесь и вот здесь, – сказал Бланк, коснувшись волос лежащего. – Мне нужно будет подсоединить электроды. – Нет, этим пусть займется Тимофэй, – решительно объявила леди Эстер. – А я ухожу. Не хочу это видеть – потом ночью не усну. Эндрю, ты пойдешь со мной. Я напишу кое какие срочные депеши, а ты отвезешь их на телеграф. Нужно принять меры предосторожности – ведь нашего друга скоро хватятся. – Да да, миледи, вы мне только будете мешать, – рассеянно ответил профессор, занятый приготовлениями. – Я немедленно извещу вас о результате. Железные клещи, которыми были стиснуты локти Эраста Петровича, наконец то разжались. Едва за дверью стихли удаляющиеся шаги, Фандорин открыл глаза, рывком высвободил ноги и, стремительно разогнув колени, пнул «Тимофэя» в грудь – да так, что тот отлетел в угол. В следующее мгновение Эраст Петрович уже спрыгнул со стола на пол и, щурясь от света, рванул из под фалды заветный «герсталь». – Ни с места! Убью! – мстительно прошипел воскресший, и в этот миг ему, в самом деле, хотелось застрелить их обоих – и тупо хлопающего глазами «Тимофэя», и сумасшедшего профессора, недоуменно застывшего с двумя стальными спицами в руке. От спиц тонкие провода тянулись к какой то хитрой, помигивающей огоньками машине. В лаборатории вообще имелось множество всяких любопытных штук, но рассматривать их было не ко времени. Швейцар не пытался подняться с пола и только мелко крестился, но с Бланком, кажется, было неблагополучно. Эрасту Петровичу показалось, что ученый совсем не испугался, а только взбешен неожиданным препятствием, которое могло сорвать эксперимент. В голове пронеслось: сейчас бросится! И желание убить съежилось, растаяло без остатка. – Без глупостей! Стоять на месте! – чуть дрогнув голосом, выкрикнул Фандорин. В ту же секунду Бланк взревел: – Scweinhund! Du hast alles verdorben! – и ринулся вперед, ударившись боком о край стола. Эраст Петрович нажал на спуск. Ничего. Предохранитель! Щелкнул кнопкой. Нажал два раза подряд. Да дах! – жахнуло двуединым раскатом, и профессор упал ничком, головой прямо под ноги стрелявшему. Испугавшись нападения сзади, Фандорин резко равернулся, готовый стрелять еще, но «Тимофэй» вжался спиной в стену и плачущим голосом зачастил: – Ваше благородие, не убивайте! Не по своей воле! Христом богом! Ваше благородие! – Вставай, мерзавец! – взвыл полуоглохший, озверевший Эраст Петрович. – Марш вперед! Толкая швейцара дулом в спину, погнал по коридору, потом вниз по лестнице. «Тимофэй» мелко семенил, ойкая всякий раз, когда ствол тыкался ему в позвоночник. Через рекреационную залу пробежали быстро, и Фандорин старался не смотреть на открытые двери классных комнат, откуда выглядывали учителя и высовывавшиеся из за их спин молчаливые дети в синих мундирчиках. – Это полиция! – крикнул Эраст Петрович в пространство. – Господа учителя, детей из классов не выпускать! Самим тоже не выходить! Длинной галереей, все так же полушагом полубегом достигли флигеля. У бело золотой двери Эраст Петрович толкнул «Тимофэя» изо всех сил – швейцар лбом распахнул створки и едва удержался на ногах. Никого. Пусто! – Марш вперед! Открывай все двери! – приказал Фандорин. – И учти: если что, убью, как собаку. Швейцар только всплеснул руками и зарысил обратно в коридор. В пять минут осмотрели все комнаты первого этажа. Ни души – лишь в кухне, грузно навалившись грудью на стол и вывернув на сторону мертвое лицо, спал вечным сном бедняга извозчик. Эраст Петрович только мельком взглянул на крошки сахара в бороде, на лужицу разлившегося чая, и велел «Тимофэю» двигаться дальше. На втором этаже располагались две спальни, гардеробная и библиотека. Баронессы и ее лакея не оказалось и там. Где же они? Услышали выстрелы и спрятались где то в эстернате? Или вообще скрылись бегством? Эраст Петрович в сердцах взмахнул рукой с револьвером, и внезапно грянул выстрел. Пуля с визгом отрикошетила от стены и ушла в окно, оставив на стекле аккуратную звездочку с расходящимися лучиками. Черт, предохранитель то снят, а спуск слабый, вспомнил Фандорин и тряхнул головой, чтобы освободиться от звона в ушах. На «Тимофэя» неожиданный выстрел произвел магическое воздействие – швейцар повалился на колени и заканючил: – Ваше бла… ваше высокоблагородие… Не лишайте жизни! Бес попутал! Все, все, как на духу! Ведь детки, жена хворая! Покажу! Как Бог свят покажу! В погребе они, в подвале тайном! Покажу, только душу не погубите! – В каком таком подвале? – грозно спросил Эраст Петрович и поднял пистолет, словно и в самом деле собирался немедленно учинить расправу. – А вот за мной, за мной пожалуйте. Швейцар вскочил на ноги и, поминутно оглядываясь, повел Фандорина снова на первый этаж, в кабинет баронессы. – По случаю один раз подглядел… Оне нас не подпускали. Не было у них к нам доверия. А как же – русский человек, душа православная, не англинских кровей. – «Тимофэй» перекрестился. – Только Андрею ихнему туда ход был, а нам ни ни. Он забежал за письменный стол, повернул ручку на секретере, и секретер вдруг отъехал вбок, обнажив небольшую медную дверь. – Открывай! – велел Эраст Петрович. «Тимофэй» еще трижды перекрестился и толкнул дверцу. Она беззвучно отворилась, и показалась лестница, ведущая вниз, в темноту. Подталкивая швейцара в спину, Фандорин стал осторожно спускаться. Лестница кончилась стенкой, но за угол, направо, сворачивал низкий коридор. – Пошел, пошел! – шикнул на замешкавшего «Тимофэя» Эраст Петрович. Свернули за угол, в кромешную тьму. Надо было свечу захватить, подумал Фандорин и полез левой рукой в карман за спичками, но впереди вдруг ярко вспыхнуло и грохнуло. Швейцар ойкнул и осел на пол, а Эраст Петрович выставил вперед «герсталь» и нажимал на спуск до тех пор, пока боек не защелкал по пустым гильзам. Наступила гулкая тишина. Трясущимися пальцами Фандорин достал коробок, чиркнул спичкой. «Тимофэй» бесформенной кучей сидел у стены и не шевелился. Сделав несколько шагов вперед, Эраст Петрович увидел лежащего навзничь Эндрю. Дрожащий огонек немного поиграл в стеклянных глазах и погас. Оказавшись в темноте, учит великий Фуше, нужно зажмурить глаза, досчитать до тридцати, чтобы сузились зрачки, и тогда зрение сможет различить самый незначительный источник света. Эраст Петрович для верности досчитал до сорока, открыл глаза – и точно: откуда то пробивалась полоска света. Выставив руку с бесполезным «герсталем», он шагнул раз, другой, третий и увидел впереди слегка приоткрытую дверь, из щели которой и лился слабый свет. Баронесса могла находиться только там. Фандорин решительно направился к светящейся полоске и с силой толкнул дверь. Его взору открылась небольшая комнатка с какими то стеллажами вдоль стен. Посреди комнаты стоял стол, на нем горела свеча в бронзовом подсвечнике и освещала расчерченное тенями лицо леди Эстер. – Входите, мой мальчик, – спокойно сказала она. – Я вас жду. Эраст Петрович переступил порог, и дверь внезапно захлопнулась у него за спиной. Он вздрогнул, обернулся и увидел, что на двери нет ни скобы, ни ручки. – Подойдите ближе, – тихо попросила миледи. – Я хочу получше рассмотреть ваше лицо, потому что это лицо судьбы. Вы – камешек, встретившийся на моей дороге. Маленький камешек, о который мне суждено было споткнуться. Задетый таким сравнением, Фандорин приблизился к столу и увидел, что перед баронессой на столе стоит гладкая металлическая шкатулка. – Что это? – спросил он. – Об этом чуть позже. Что вы сделали с Гебхардтом? – Он мертв. Сам виноват – нечего было лезть под пулю, – грубовато ответил Эраст Петрович, стараясь не думать о том, что в считанные несколько минут убил двух людей. – Это большая потеря для человечества. Странный, одержимый был человек, но великий ученый. Одним Азазелем стало меньше… – Что такое «Азазель»? – встрепенулся Фандорин. – Какое отношение к вашим сиротам имеет этот сатана? – Азазель – не сатана, мой мальчик. Это великий символ спасителя и просветителя человечества. Господь создал этот мир, создал людей и предоставил их самим себе. Но люди так слабы и так слепы, они превратили божий мир в ад. Человечество давно бы погибло, если б не особые личности, время от времени появлявшиеся среди людей. Они не демоны и не боги, я зову их hero civilisateur . Благодаря каждому из них человечество делало скачок вперед. Прометей дал нам огонь. Моисей дал нам понятие закона. Христос дал нравственный стержень. Но самый ценный из этих героев – иудейский Азазель, научивший человека чувству собственного достоинства. Сказано в «Книге Еноха»: «Он проникся любовью к людям и открыл им тайны, узнанные на небесах». Он подарил человеку зерцало, чтобы видел человек позади себя – то есть, имел память и понимал свое прошлое. Благодаря Азазелю мужчина может заниматься ремеслами и защищать свой дом. Благодаря Азазелю женщина из плодоносящей безропотной самки превратилась в равноправное человеческое существо, обладающее свободой выбора – быть уродливой или красивой, быть матерью или амазонкой, жить ради семьи или ради всего человечества. Бог только сдал человеку карты, Азазель же учит, как надо играть, чтобы выиграть. Каждый из моих питомцев – Азазель, хоть и не все они об этом знают. – Как «не все»? – перебил Фандорин. – В тайную цель посвящены немногие, лишь самые верные и несгибаемые, – пояснила миледи. – Они то и берут на себя всю грязную работу, чтобы остальные мои дети остались незапятнанными. «Азазель» – мой передовой отряд, который должен исподволь, постепенно прибрать к рукам штурвал управления миром. О, как расцветет наша планета, когда ее возглавят мои Азазели! И это могло бы произойти так скоро – через каких нибудь двадцать лет… Остальные же питомцы эстернатов, не посвященные в тайну «Азазеля», просто идут по жизни своим путем, принося человечеству неоценимую пользу. А я всего лишь слежу за их успехами, радуюсь их достижениям и знаю, что если возникнет необходимость, никто из них не откажет в помощи своей матери. Ах, что с ними будет без меня? Что будет с миром?… Но ничего, «Азазель» жив, он доведет мое дело до конца. Эраст Петрович возмутился: – Видел я ваших Азазелей, ваших «верных и несгибаемых»! Морбид с Францем, Эндрю и тот, с рыбьими глазами, что Ахтырцева убил! Это они – ваша гвардия, миледи? Они – самые достойные? – Не только они. Но и они тоже. Помните, мой друг, я говорила вам, что не каждому из моих детей удается найти свой путь в современном мире, потому что их дарование осталось в далеком прошлом или же потребуется в далеком будущем? Так вот, из таких воспитанников получаются самые верные и преданные исполнители. Одни мои дети – мозг, другие – руки. А человек, устранивший Ахтырцева, не из моих детей. Он наш временный союзник. Пальцы баронессы рассеянно погладили полированную поверхность шкатулки и как бы случайно, между делом, вдавили маленькую круглую кнопку. – Все, милый юноша. У нас с вами осталось две минуты. Мы уйдем из жизни вместе. К сожалению, я не могу оставить вас в живых. Вы станете вредить моим детям. – Что это? – закричал Фандорин и схватил шкатулку, оказавшуюся довольно тяжелой. – Бомба? – Да, – сочувственно улыбнулась леди Эстер. – Часовой механизм. Изобретение одного из моих талантливых мальчиков. Такие шкатулки бывают тридцатисекундные, двухчасовые, даже двенадцатичасовые. Вскрыть ее и остановить механизм невозможно. Эта мина рассчитана на сто двадцать секунд. Я погибну вместе с моим архивом. Моя жизнь окончена, но я успела сделать не так уж мало. Мое дело продолжится, и меня еще вспомнят добрым словом. Эраст Петрович попытался подцепить кнопку ногтями, но из этого ничего не вышло. Тогда он бросился к двери и стал шарить по ней пальцами, стучать кулаками. Кровь пульсировала в ушах, отсчитывая биение времени. – Лизанька! – в отчаянии простонал гибнущий Фандорин. – Миледи! Я не хочу умирать! Я молод! Я влюблен! Леди Эстер смотрела на него с состраданием. В ней явно происходила какая то борьба. – Пообещайте, что охота на моих детей не станет целью вашей жизни, – тихо молвила она, глядя Эрасту Петровичу в глаза. – Клянусь! – воскликнул он, готовый в эту минуту обещать все, что угодно. После мучительной, бесконечно долгой паузы миледи улыбнулась мягкой, материнской улыбкой: – Ладно. Живите, мой мальчик. Но поспешите, у вас сорок секунд. Она сунула руку под стол, и медная дверь, скрипнув, открылась вовнутрь. Кинув последний взгляд на неподвижную седую женщину и колыхнувшееся пламя свечи, Фандорин огромными прыжками понесся по темному коридору. Он ударился с разбега о стену, на четвереньках вскарабкался по лестнице, выпрямился, в два скачка пересек кабинет. Еще через десять секунд дубовые двери флигеля чуть не слетели с петель от мощного толчка, и по крыльцу кубарем слетел молодой человек с перекошенным лицом. Он пронесся по тихой, тенистой улице до угла и лишь там остановился, тяжело дыша. Оглянулся, замер. Шли секунды, а ничего не происходило. Солнце благодушно золотило кроны тополей, на скамейке дремала рыжая кошка, где то во дворе кудахтали куры. Эраст Петрович схватился за бешено бьющееся сердце. Обманула! Провела, как мальчишку! А сама через черный ход ушла! Он зарычал от бессильной ярости, и словно в ответ ему флигель откликнулся точно таким же рычанием. Стены дрогнули, крыша едва заметно качнулась, и откуда то из под земли донесся утробный гул разрыва. Глава последняя, в которой герой прощается с юностью Спросите любого жителя первопрестольной, когда лучше всего вступать в законный брак, и вы, конечно же, услышите в ответ, что человек основательный и серьезный, желающий с самого начала поставить свою семейную жизнь на прочный фундамент, непременно венчается только в конце сентября, потому что эта пора самым идеальным образом подходит для отплытия в мирное и долгое путешествие по волнам житейского моря океана. Московский сентябрь сыт и ленив, разукрашен золотой парчой и румян кленовым багрянцем, как нарядная замоскворецкая купчиха. Если жениться в последнее воскресенье, то небо обязательно будет чистое, лазоревое, а солнце будет светить степенно и деликатно – жених не вспотеет в тугом крахмальном воротнике и тесном черном фраке, а невеста не замерзнет в своем газовом, волшебном, воздушном, чему и названия то подходящего нет. Выбрать церковь для свершения обряда – целая наука. Выбор в златоглавой, слава Богу, велик, но оттого еще более ответственен. Настоящий московский старожил знает, что хорошо венчаться на Сретенке, в церкви Успенья в Печатниках: супруги проживут долго и умрут в один день. Для обретения многочисленного потомства более всего подходит церковь Никола Большой Крест, что раскинулась в Китай городе на целый квартал. Кто более всего ценит тихий уют и домашность – выбирай Пимена Великого в Старых Воротниках. Если жених – человек военный, но желает окончить свои дни не на поле брани, а близ семейного очага, в кругу чад и домочадцев, то разумней всего давать брачный обет в церкви Святого Георгия, что на Всполье. Ну и, конечно, ни одна любящая мать не позволит дочери венчаться на Варварке, в церкви великомученицы Варвары – жить потом бедняжке всю жизнь в муках и страданиях. Но лица знатные и высокочиновные не очень то вольны в выборе, ибо церковь должна быть сановной и просторной, иначе не вместить гостей, представляющих цвет московского общества. А на венчании, которое заканчивалось в чинной и помпезной Златоустинской церкви, собралась «вся Москва». Зеваки, столпившиеся у входа, где длинной вереницей выстроились экипажи, показывали на карету самого генерал губернатора, князя Владимира Андреевича Долгорукого, а это означало, что свадьба справляется по наивысшему ранжиру. В церковь пускали по особым приглашениям, и все же публики собралось до двухсот человек. Было много блестящих мундиров, как военных, так и статских, много обнаженных дамских плеч и высоких причесок, лент, звезд, бриллиантов. Горели все люстры и свечи, обряд начался давно, и приглашенные устали. Все женщины, вне зависимости от возраста и семейного состояния, были взволнованы и растроганны, но мужчины явно томились и вполголоса переговаривались о постороннем. Молодых уже давно обсудили. Отца невесты, действительного тайного советника Александра Аполлодоровича фон Эверт Колокольцева знала вся Москва, хорошенькую Елизавету Александровну не раз видели на балах – она начала выезжать еще с прошлого года, – поэтому любопытство, в основном, вызывал жених, Эраст Петрович Фандорин. Про него было известно немногое: столичная штучка, в Москве бывает наездами – по важным делам, карьерист, обретается у самого алтаря государственной власти. В чинах, правда, пока небольших, но еще очень молод и быстро идет в гору. Шутка ли – в такие годы уже с Владимиром в петлице. Предусмотрителен Александр Аполлодорович, далеко вперед глядит. Женщины же больше умилялись на юность и красоту молодых. Жених очень трогательно волновался, то краснел, то бледнел, путал слова обета – одним словом, был чудо как хорош. Ну а невеста, Лизанька Эверт Колокольцева, и вовсе казалась неземным существом, просто сердце замирало на нее смотреть. И белое облакообразное платье, и невесомая вуаль, и венчик из саксонских роз – все было именно такое, как нужно. Когда венчающиеся отпили из чаши красного вина и обменялись поцелуем, невеста ничуть не смутилась, а наоборот, весело улыбнулась и шепнула жениху что то такое, отчего он тоже заулыбался. А Лизанька шепнула Эрасту Петровичу вот что: – Бедная Лиза передумала топиться и вышла замуж. Эраст Петрович весь день ужасно мучился всеобщим вниманием и полной своей зависимостью от окружающих. Объявилось множество бывших соучеников по гимназии и «старых товарищей» отца (которые в последний год все как под землю провалились, а тут обнаружились опять). Фандорина сначала повезли на холостяцкий завтрак в арбатский трактир «Прага», где много толкали в бок, подмигивали и почему то выражали соболезнования. Потом увезли обратно в гостиницу, приехал парикмахер Пьер и больно дергал за волосы, завивая их в пышный кок. Лизаньку до церкви видеть не полагалось, и это тоже было мучительно. За три дня после приезда из Петербурга, где теперь служил жених, он невесты вообще почти не видел – Лизанька все время была занята важными свадебными приготовлениями. Потом багровый после холостяцкого завтрака Ксаверий Феофилактович Грушин, во фраке и с белой шаферской лентой, усадил жениха в открытый экипаж и повез в церковь. Эраст Петрович стоял на ступенях и ждал невесту, а из толпы ему что то кричали, одна барышня кинула в него розой и оцарапала щеку. Наконец, привезли Лизаньку, которой было почти не видно из под волн прозрачной материи. Они бок о бок стояли перед аналоем, пел хор, священник говорил «Яко милостивый и человеколюбивый Бог еси» и что то еще, менялись кольцами, вставали на ковер, а потом Лизанька сказала про бедную Лизу, и Эраст Петрович как то вдруг успокоился, огляделся по сторонам, увидел лица, увидел высокий церковный купол, и ему стало хорошо. Хорошо было и потом, когда все подходили и поздравляли, очень искренне и душевно. Особенно понравился генерал губернатор Владимир Андреевич Долгорукой – полный, добрый, круглолицый, с висячими усами. Сказал, что слышал про Эраста Петровича много лестного и от души желает счастливого брака. Вышли на площадь, все вокруг кричали, но было плохо видно, потому что очень ярко светило солнце. Сели с Лизанькой в открытый экипаж, запахло цветами. Лизанька сняла высокую белую перчатку и крепко стиснула Эрасту Петровичу руку. Он воровато приблизил лицо к ее вуали и быстро вдохнул аромат волос, духов и теплой кожи. В этот миг (проезжали Никитские ворота) взгляд Фандорина случайно упал на паперть Вознесенской церкви – и словно холодной рукой стиснуло сердце. Фандорин увидел двух мальчуганов лет восьми девяти в оборванных синих мундирчиках. Они потерянно сидели среди нищих и пели тонкими голосами что то жалостное. Повернув тонкие шеи, маленькие побирушки с любопытством проводили взглядом пышный свадебный кортеж. – Что с тобой, милый? – испугалась Лизанька, увидев, как побледнело лицо мужа. Фандорин не ответил. Обыск в потайном подвале эстернатского флигеля не дал никаких результатов. Бомба неизвестного устройства произвела мощный, компактный взрыв, почти не повредивший дом, но начисто уничтоживший подземелье. От архива ничего не осталось. От леди Эстер тоже – если не считать окровавленного обрывка шелкового платья. Лишившись руководительницы и источника финансирования, международная система эстернатов распалась. В некоторых странах приюты перешли в ведение государства или благотворительных обществ, но основная часть заведений просто прекратили существование. Во всяком случае, оба российских эстерната приказом министерства народного просвещения были закрыты как рассадники безбожия и вредных идей. Учителя разъехались, дети по большей части разбежались. По захваченному у Каннингема списку удалось установить восемнадцать бывших эстернатских воспитанников, но это мало что дало, ибо невозможно было определить, кто из них причастен к организации «Азазель», а кто нет. Тем не менее, пятеро (в том числе португальский министр) ушли в отставку, двое покончили с собой, а одного (бразильского лейб гвардейца) даже казнили. Широкое межгосударственное расследование обнаружило множество заметных и уважаемых особ, в свое время окончивших эстернаты. Многие ничуть этого и не скрывали, гордясь полученным образованием. Правда, кое кто из «детей леди Эстер» предпочел скрыться, уйти от назойливого внимания полиции и секретных служб, но большинство остались на своих местах, ибо вменить им в вину было нечего. Однако путь на высшие государственные должности отныне им был заказан, а при назначении на высокие посты вновь, как в феодальные времена, стали обращать сугубое внимание на происхождение и родословную – не дай бог, наверх пролезет «подкидыш» (таким термином в компетентных кругах окрестили питомцев леди Эстер). Впрочем, широкая публика произведенную чистку не заметила, поскольку были предприняты тщательно согласованные между правительствами меры предосторожности и секретности. Какое то время циркулировали слухи о всемирном заговоре не то масонов, не то евреев, не то и тех, и других вместе взятых и поминали господина Дизраэли, но потом как то утихло, тем более что на Балканах назревал нешуточный кризис, от которого лихорадило всю Европу. Фандорин по долгу службы был вынужден участвовать в расследовании по «Делу Азазеля», однако проявлял так мало рвения, что генерал Мизинов счел разумным дать молодому, способному сотруднику другое поручение, которым Эраст Петрович занялся с куда большей охотой. Он чувствовал, что в истории с «Азазелем» его совесть не вполне чиста, а роль довольно двусмысленна. Клятва, данная баронессе (и поневоле нарушенная), изрядно подпортила ему счастливые предсвадебные недели. И вот надо же было случиться, чтобы в самый день свадьбы Эрасту Петровичу попались на глаза жертвы проявленного им «самоотвержения, доблести и похвального усердия» (так говорилось в высочайшем указе о награждении). Фандорин скис, понурился, и по прибытии в родительский дом на Малой Никитской Лизанька решительно взяла дело в свои руки: уединилась с мрачным мужем в гардеробной комнате, что находилась по соседству с прихожей, и строго настрого запретила входить туда без спросу – благо домашним хватало забот с прибывающими гостями, которых нужно было занять до банкета. Из кухни веяло божественными ароматами, специально приглашенные повара из «Славянского базара» трудились не покладая рук с самого рассвета; за плотно запертыми дверьми танцевального зала оркестр в последний раз репетировал венские вальсы – в общем, все шло своим чередом. Оставалось только привести в порядок деморализованного жениха. Удостоверившись, что причина внезапной меланхолии вовсе не в какой нибудь некстати вспомнившейся разлучнице, невеста полностью успокоилась и уверенно взялась за дело. На прямо поставленные вопросы Эраст Петрович отвечал мычанием и все норовил отвернуться, поэтому тактику пришлось сменить. Лизанька погладила суженого по щеке, поцеловала сначала в лоб, потом в губы, потом в глаза, и суженый размяк, оттаял, снова сделался совершенно управляемым. Однако присоединяться к гостям молодожены не спешили. Барон уже несколько раз выходил в прихожую и приближался к закрытой двери, даже деликатно покашливал, а постучать не решался. Но постучать все таки пришлось. – Эраст! – позвал Александр Аполлодорович, начавший с сегодняшнего дня говорить зятю «ты». – Извини, друг мой, но к тебе фельдъегерь из Петербурга. По срочному делу! Барон оглянулся на молодцеватого офицера в каске с плюмажем, неподвижно застывшего возле входа. Под мышкой фельдъегерь держал квадратный сверток, завернутый в серую казенную бумагу с сургучными орлами. Из двери выглянул раскрасневшийся молодожен. – Вы ко мне, поручик? – Господин Фандорин? Эраст Петрович? – ясным, с гвардейскими переливами голосом осведомился офицер. – Да, это я. – Срочная секретная бандероль из Третьего отделения. Куда прикажете? – Да хоть сюда, – посторонился Эраст Петрович. – Извините, Александр Аполлодорович (не приучился пока еще именовать тестя по родственному). – Понимаю. Дело есть дело, – наклонил голову тесть, прикрыл за фельдъегерем дверь и сам встал снаружи, чтобы, не дай Бог, не влез кто посторонний. А поручик положил бандероль на стул и достал из за отворота мундира листок. – Извольте расписаться в получении. – Что это там? – спросил Фандорин, ставя подпись. Лизанька с любопытством смотрела на сверток, не выказывая ни малейшего желания оставить мужа наедине с курьером. – Не извещен, – пожал плечами офицер. – Фунта четыре весу. У вас сегодня радостное событие? Возможно, в этой связи? Во всяком случае, поздравляю от себя лично. Тут еще пакет, который, вероятно, вам все объяснит. Он вынул из за обшлага небольшой конверт без надписи. – Разрешите идти? Эраст Петрович кивнул, проверив печать на конверте. Отсалютовав, фельдъегерь лихо развернулся и вышел. В затененной комнате было темновато, и Фандорин, вскрывая на ходу конверт, подошел к окну, которое выходило прямо на Малую Никитскую. Лизанька обняла мужа за плечи, задышала в ухо. – Ну, что там? Поздравление? – нетерпеливо спросила она и, увидев глянцевую карточку с двумя золотыми колечками, воскликнула. – Так и есть! Ой, как это мило! В эту секунду Фандорин, привлеченный каким то быстрым движением за окном, поднял глаза и увидел фельдъегеря, который вел себя немного странно. Он быстро сбежал по ступенькам, с разбегу вскочил в ожидавшую пролетку и крикнул кучеру: – Пошел! Девять! Восемь! Семь! Кучер взмахнул кнутом, на миг оглянулся. Кучер как кучер: шляпа с высокой тульей, сивая борода, только глаза необычные – очень светлые, почти белые. – Стой! – бешено крикнул Эраст Петрович и не раздумывая скакнул через подоконник. Кучер щелкнул кнутом, и пара вороных коней с места припустила рысью. – Стой! Застрелю! – надрывался бегущий Фандорин, хотя стрелять было не из чего – по случаю свадьбы верный «герсталь» остался в гостинице. – Эраст! Ты куда? Фандорин на бегу оглянулся. Лизанька высовывалась из окна, на ее личике было написано полнейшее недоумение. В следующее мгновение из окна вырвался огонь и дым, лопнули стекла, и Эраста Петровича швырнуло на землю. Какое то время было тихо, темно и покойно, но потом в глаза ударил яркий дневной свет, в ушах гулко зазвенело, и Фандорин понял, что жив. Он видел булыжники мостовой, но не понимал, почему они у него прямо перед глазами. Смотреть на серый камень было противно, и он перевел взгляд в сторону. Получилось еще хуже – там лежал катыш конского навоза и рядом что то неприятно белое, глянцево посверкивающее двумя золотыми кружочками. Эраст Петрович рывком приподнялся, прочел строчку, выведенную крупным старомодным почерком, с завитушками и затейливыми росчерками: «My Sweet Boy, This is a Truly Glorious Day!» Смысл слов не дошел до его затуманенного рассудка, тем более что внимание контуженного привлек другой предмет, валявшийся прямо посреди мостовой и лучившийся веселыми искорками. В первый момент Эраст Петрович не понял, что это такое. Подумалось лишь, что на земле этому никак не место. Потом разглядел: тонкая, оторванная по локоть девичья рука посверкивала золотым колечком на безымянном пальце. фантастическое юмористическое произведение, международный приз «Золотой Остап». Родился 1 апреля 1950 года в Барнауле Алтайского края. Жил в различных городах Сибири. Закончил журфак Иркутского университета. Печататься начал с 1967 года (стихи). Рассказы стали выходить с 1978 года, публиковались в местной печати, газетах «Московский комсомолец», «Литературная Россия», «Литературная газета», журналах «Смена», «Юность», «Огонёк». В 1988 году в Красноярском книжном издательстве вышел сборник рассказов «Дурной глаз». Некоторые рассказы читались с эстрады Геннадием Хазановым. В 1990 году в «Библиотеке „Огонька“» — сборник «Из записок Семёна Корябеды». Позднее печатался в сборниках «Музей человека» и «Нечеловек‐ невидимка» издательства «Текст». Несколько рассказов вышли в коллективном сборнике «Die Sintflut» издательства «Fischer» в 1989 году. В 1995 году появился сборник «Там, где нас нет» (роман и две повести). Награждён личной премией Бориса Стругацкого «Бронзовая улитка» в 1993 году за повесть «Чугунный всадник», в 1995 году двумя профессиональными премиями «Странник» за повесть «Дорогой товарищ король» и роман «Там, где нас нет». Кроме того, этот роман получил специальный приз «Меч в камне» за лучшее произведение в жанре фантазии, «Малого Остапа» («Странник») за лучшее а также М. Успенский также написал повесть «Змеиное Молоко» по мотивам Мира Полдня братьев Стругацких. (Смотри статью Бойцовые Коты). Живёт в Красноярске, работает обозревателем) в газете «Комок». журналистом (политическим Семь разговоров в Атлантиде Недалеко от них живут атланты, полудикие эгипаты, блеммийцы, гамфасанты, сатиры и гимантоподы. Если верить писателям, атлантам чужды человеческие обычаи: они не называют друг друга по именам, смотрят на восход и заход солнца как на гибель для них самих и их полей, ужасно проклинают его и не видят во сне того, что остальные смертные. Плиний Старший. ...тогда, не будучи уже в силах выносить настоящее свое счастье, они развратились, и тому, кто в состоянии это различать, они казались людьми порочными, потому что из благ наиболее драгоценных губили именно самые прекрасные; на взгляд же тех, кто не умеет распознавать условия истинно блаженной жизни, они в это-то преимущественно время и были вполне безупречны и счастливы, когда были преисполнены духа корысти и силы. Платон -Итак, вы уверены, что рассказ мальчика - не игра воображения? - Да, уверен. - Но ведь могло же быть, что он начитался разных фантазий и все это увидел во сне? Нет, я этого не думаю... Профессор чуть улыбается... Ю. Шпаков, _Это было в Атлантиде_ 1. -Кто будешь? Да из какой страны будешь? Мать и отец твои на имя кто? Как сюда, к воротам, попал? -Зовусь именем Главк, из заморской страны. Матери-отца не помню, добрые люди воспитали и к делу пристроили. А прислан сюда неким незнакомцем. -Как же ты моря переплыл, мосты миновал, неподкупную стражу подкупил? -А никак не миновал. Повернул он меня трикраты, велел зажмуриться, а когда разожмурился - ввот он уже и ты передо мной в воротах стоишь. Ты, кстати, на имя кто будешь? -Никак не зовут. -Как это никак? У нас всех как-нибудь да зовут. Бывает, и имя-то так себе, срамота, а все равно зовут. Рабам, и тем клички дают для удобства. Может, и ты раб? Что же мне с тобой тогда речи вести? Я и так, без речей пройду... Эх! -Никак не зовут. -Как это никак? У нас всех как-нибудь да зовут. Бывает, и имя-то так себе, срамота, а все равно зовут. Рабам, и тем клички дают для удобства. Может, и ты раб? Что же мне с тобой тогда речи вести? Я и так, без речей пройду... Эх! -Ну вот. Что, прошел? Или не очень? Ага, не больно-то прошел. У нас больно-то не расходишься. Болит лоб-то? -Ой, болит. Кто же мне путь застит? Нету ничего. Может, тонкую бечевку натянули? -Не бечовку. Никакую не бечевку. А валяется тут поперек дорожки одно словечко, оно и не пускает. -Так бы и сказал, что заклято. -Не заклято, а поперек лежит, пройти не велит. Ну что, берешь речи про раба обратно? -Беру, беру. -Нет, не так. Говори: не раб, не раб, но человек ворот. -Не раб, не раб, но человек ворот. -Вот так-то лучше. -А что же ты мне имени назвать не хочешь? -Нету имени. И не надо. Говори, зачем пришел. -Пришел с товаром. Торговать пришел. Меняться, повашему. У нас товар, а у вас, говорят, купец. -Где же товар? Не вижу такого. Руки пустые, ноги босые... -В голове товар. Царю несу вашему. -Царя у нас нет, а у нас вот кто зато есть: Держатель тверди да моря. -И держит? -Еще как держит. Топни-ка ногой. Не проваливается? Вот и хорошо. Держит, куда он денется. -А у нас говорят: Калям-бубу землю держит на каменных руках. -Глупости у вас говорят. Подумай сам хорошенько: как же может Калям-бубу землю держать, да еще море впридачу? А? Замучается! -Не замучается, он бог. -Не знаю, не знаю такого бога. -Ну и плохо, что не знаешь. А вот если бы знал, да приносил ему жертвы почаще, он бы к тебе мирволил. Не торчал бы тогда у ворот на солнце. -Сплюнь. У нас про него, гадину круглую, не поминают, а если и поминают, так сплевывают. -Как же так? Оно же священное. Оно же у Калям-бубу из пуза выскочило, а за ним два арбуза. Без него, говорят, никакой жизни нет, одна тоска. -От него никакой жизни нет - это точно. То вскочит, то свалится, зараза. -А вот есть страна, где река Нил. Там солнце сильно уважают и богом зовут. -Дураки, вот и зовут. Знаем мы эту вашу страну. Нету ее больше. -Как же нету? Три года назад оттуда купец приезжал, финики продавал. Его за это еще дети неразумные финикийцем дразнили, хотя никакой он не финикиец... -Чего три назад проезжал? -А три года. -Какого такого года? -Ты что, годов не знаешь? Калям-бубу не знаешь, счета годам не знаешь... Ну, я тебя обучу. Смотри: день прошел - кладем камешек. Еще день - еще камешек. У жены Калямбубу наподбородке волосы растут, как у мужика. Их немного, правда: три сотни, шесть десятков да еще пяток. Последний волос она, чтобы красоту наблюсти, вырывает, да он через четыре года снова вырастает. Как раз столько дней в году. -Глупости говоришь. Смотри: день прошел - кладу камешек. Ночь пришла убираю камешек. День начался - кладу обратно. Ночь пришла - убираю. Вот так. Один камешек один денек. За все про все. -Ох, человек ворот, ты не злыми ли духами обуян? Голова не болит? -Голова у тебя болит. Ты здесь глупостей не говори, а говори лучше дело. Чего принес? -Про то старшим людям скажу. -Ну, твое дело. Как на имя-то тебя? -Главк. -Как собака пролаяла. -Не собачь меня, человек ворот. Я вам хорошую вещь принес, полезную очень... Да что ты за страж? Болтаешь тут со мной, а город, может, жгут уже и грабят! -Никто нас жечь и грабить не может, до нас не вдруг-то доберешься. -Вот я же добрался. -Ты не добрался, тебя послали. Словечко тебя подхватило да понесло. -Что у вас за словечко такое? -Да уж словечко. -Что же ты им хвастаешься? Вот у нас жрецы Калям-бубу сколько просяного пива не выдуют, секреты свои при себе держат. А ну как ваши боги разгневаются? -Не разгневаются. Очень уж они нас любят. -Боги, говорят, всех людей любят. По закону, ясное дело. Вот взять, к примеру, Калям-бубу... -Боги только у нас есть, а у вас так: камни да бревна. -Как же камни да бревна, когда они чудеса творят? -Бывает, конечно. Редко, но бывает. То наши лазутчики над вами пошучивают. -Легко тебе над моей верой ругаться, если я в чужой стране, без защиты. Я торговый человек, мою веру уважай, я ваших богов не задираю. -И не задерешь. Они далеко, боги-то. -Как далеко? На небе всего лишь. -Сказал бы я тебе, где они, да ты не поймешь. -Этак мы до вечера дела не кончим. Давай не будем про большие вещи говорить. Как ваш город зовут? -Никак не зовут. Город и город. -А страна? -Страна и страна. -Ну как-нибудь да должна ведь называться? -Не называется никак, и все. -То болтаешь все подряд, то тайны какие-то... Вы, может, гамфасанты? -Не знаю. Может, и гамфасанты. -А не авгилы, часом? -Может, и авгилы. -А давно здесь живете? -Как это - давно? -Ну, сколько лет? -Каких таких лет? -Да годов же!!! -Опять он про года. Живем и живем. -А кто главный у вас? Есть ли рабы? Много ли их? Хороши ли ремесла? -У нас главный - Держатель. Без него бы все развалилось. Я тебе про него уже сообщал. Рабов у нас очень много: весь мир. Ремесла нам ни к чему, у нас и так все есть. -А ученые люди есть? Мне к ним нужно. -Ни к чему нам ученые люди. Мы сами ученые. У нас есть словечко, а в нем сила. -Что за сила - слово? -А большая сила. -Да я понимаю, что большая. Вот мы с тобой разговариваем... Э, погоди! На нашем ведь языке разговариваем! Ты его откуда знаешь? -На каком таком вашем? Язык и язык. -На разных языках люди говорят. Левкоэфиопы есть. Рот откроет - и дыр-дыр, быр-быр. На пальцах торгуемся. -Знаем и эфиопов. Черненькие такие, стыда не знают. Да только нету их. -Да как же нету? Страна даже есть специальная Эфиопия. У них золота навалом... -Золота и у нас навалом. А эфиопов нет. Сдуло их наше словечко. -Это ты прилыгаешь. То нильской страны нету, то эфиопов. Куда же они делись? -А так. Нету и все. От них одно беспокойство. -И нильской страны нету? -Ясное дело, нету. -А гробницы их, пирамиды? Ох, здоровы, ох, я видел! -Да вон, выгляни за ворота. Видишь, одна стоит? -Калям-бубу! Она же у вас не так стоит! Она же так грохнется - всех передавит! Кто же так пирамиды ставит на маковку? -Мы. Захотели и поставили. От нее тень. -Спасите, Эники да Беники! -Это кто еще? -Калям-бубу дети. Один луну водит, другой моря баламутит. Ой, спасите! Может, у вас и висячие сады есть? -Есть, конечно. Все как один висят. Корни в небо, ветками земли едва касаются. -Э, боюсь я вас. Заверни меня обратно, человек ворот, а я тебе за это половину денег отдам. -Не знаем никаких денег. И заворачивать тебя не буду. -Ну так я пешочком пойду. Дело привычное, да еще Калям-бубу пособит. -А тебя же словечко держит. А, не идет нога? И другая? Прилип? -Не мучай ты меня. Позови кого поглавнее. -Позову, как не позвать. Где тот камушек, что у нас за денек-то почитался? -Чего шепчешь-то? -Не твое дело. А ну, пошел! -Калям-бубу! Камешек сам попрыгал! Боги, глядите-ка во все глаза: за угол завернул! -Конечно, за угол. Там караулка. Не поскачет же он прямо к Держателю. -Ты чародей, что ли? -Человек ворот. Самому ходить - была охота... А, вон и начальство идет. Воскресни с восходом, начальство! -Тебе того же, человек ворот. Кто это у тебя тут? -Говорит, дело есть. Товар, говорит. Наш человек прислал, говорит. -Еще что говорит? -Еще глупости говорит. Заразу эту круглую славит. Калям-бубу какого-то нахваливает. Не наш человек, словом. Просит отвести его к ученым людям. -Так. Кроме тебя кто его видел? -Никто. -Порадовались боги. Ну так сгинь, человек ворот, у которого трое детей, у которого вчера собака ногу сломала, у которого отец от плохой браги помер, у которого брат косой, у которого колено к дождю болит, который воды во рту на посту не держит, который неведомого человека перевстрел - сгинь и пропади! -Да начальство! Да помилуй! Эх, не милует... Пропадаю! Человек! Имени им своего, смотри, не... -Калям-бубу! Куда мужика дели? -Сгинул да пропал. Имя назови мне. -Э... Как бы сказать ловчее... -Назови имя. -Да мы так, по торговому делу. Купец я, и все. -Не лги, купец. -Да я знал имя с утра, как из дому-то вышел, да забыл. Об словечко какое-то запнулся, башкой об камень - словото и вылетело из нее. Набросали словечек - пройти нельзя, а сами строжатся. Вот и шишка, коли не веришь. -Шишка, верно, свежая... Откуда будешь? -Издалека. Перенесен словечком. -Понятно. Страна какая? -Какая у нас страна? Живем на дубу, молимся Калямбубу, бабе его, детям и всей родове... -Ты, видно, врешь. Надо тебя помучить. -Не надо, начальство! Вот голова пройдет, я и вспомню. Вспомнил: я же привез кое-что. Надо к главному начальству. -А что привез, не забыл? -Накрепко помню. -Как же так - имя не помнишь, это помнишь... -А как человек в беспамятстве за свое добро обеими руками цепляется? Так и я в голове. -Занятно. Иди за мной. -Не могу. Приклеен. -Отлепись! -Гляди - отлепился. Чудно! Далеко ли идти? -Иди и иди. -Иду, раз пришел. А за что ты, начальство, этого, у ворот? -Надо. Побыл и хватит. -А ты большое начальство? -Эх, не такое большое, как надо бы. А для тебя - ох, какое большое! Хочешь, глаз на неподобное место переведу? -Не хочу. Глаза мне для дела нужны. А что это у вас все люди молчком ходят? -Надо так. Я здесь спрашиваю, а не ты! Они молчат потому, что воды в рот набрали. -Для чего? -Ловчее молчать. Опять спрашиваешь! -А что же ты сам воды в рот не наберешь? -Я на службе. Мне допрашивать нужно, докладывать нужно... Тьфу ты, опять спросил, а я ответил. Молчи! Уже пришли. -Э, да это же троглодитсякого царя дворец! Я его видел, когда в первый раз торговать ездил. -Нету такого царя, а дворец наш. -Да ведь он точь-в-точь такой же. -Какой же он должен быть? Молчи, на кол посажу! -Да я уж и так молчу, стараюсь... -Сейчас предстанешь перед Большим Начальством мудрости и Большим Начальством Покоя... 2. -Твое дело - мудрость, мое - покой. Надо этого пришлого сразу, чтобы раз и нет. -Нет, чтобы раз - и нет, это в другой раз. Его же прислали. Зря не пришлют. -Чую, чую, что ничего не чую. Провижу, что ничего не провижу. -Не твое это дело - провидеть. Твое дело - чуять, вот и чуй. Да, начальство ворот ты того... Все про него ведаешь? -Ясно, что все. -Как про меня? Или как я про тебя? -Э, не шути. Плохо кончится. -Ладно, воздержусь. Пусть войдет. Выспросим, тогда посмотрим, что с ним делать. -Многих вам лет, большое начальство! -Чего многих? -Лет, чего же еще. А, вы ведь лет не знаете... -Мы знаем все. А этих твоих лет у нас нет как нет. Тото мне начальство ворот жаловалось, что он все спрашивает. Что ты все спрашиваешь? -На вопросах и ответах беседа зиждется. -Ну вот мы и спрашиваем, а ты отвечаешь. Как твое имя звучит? -Ой, плохо звучит: Птбрсхклзжбррр! -Да, Мудрец, беда с такими именами: не поймешь и не запомнишь тем более. -Ничего, Начальство Покоя, запомню, не бойся. А имя отца твоего? -Ооооооааааааааоооооааауууууоооа. Тяжелый был человек. -Что и говорить. А страна твоя где? -Отсюда и не сказать, где. Знаю, что слева - море, справа - горы и долины. -Глуп же ваш народ. Как его зовут, кстати? -Белыми эфиопами кличут. Эфиопов знавали? Так вот те черные, а мы наоборот. -Все ясно. Врет. Нету белых эфиопов. -Так я и не говорю, что есть. Я говорю, кличут нас так. -Кто же тебя к нам направил? -А Калям-бубу его знает. И хорошо, видно, знает: вон в какую даль пособил меня закинуть! -Чего же ты хочешь в нашей земле? -Продать товар. Чего же еще купцу хотеть? -Где же твой товар? -Мой товар - мое умение. Дали бы, большое начальство, отдохнуть с дороги да поесть... -Потом отдохнешь. Что за умение? -Перекладывать слова на знаки. -Это как? -А вот так. Это палочка, это дощечка вощеная. Назови слово! -Куда хватил! -Смотри, Мудрец, не проболтайся сдуру! -Не учи ученого, Начальство Покоя. Вот тебе слово, купец: _дерево_. -Та-ак... Вот и на дощечке - _дерево_! -Какое же это дерево? Одни корешки какие-то. Вот я говорю: де-ре-во фи-го-во-е! Вот оно! -Калям-бубу! И впрямь дерево! Фиговое! С листочками! -Вот. А у тебя что за дерево? -Ну вот и у меня - _дерево фиговое_. -Вижу - закорючек прибавилось. А толку? У меня оно растет и плодоносит, а у тебя? -Вот, к примеру, напишу я все про это дерево: и как растет, и какие листья, и каковы плоды его на взгляд и вкус. Нашлют боги засуху, и погибнут деревья. А дощечка останется. И те, кто дерева этого не видел, все про него узнают... -Так. Слышал я про это умение. Нам оно ни к чему. Дерево это я и так перед собой и другими представлю. Твое умение - баловство. -Еще один прок: можно вести торговый счет ловчее, записывать, кто кому сколько должен... -Мы никому ничего не должны, а если у кого что и заведется, мы и так заберем: очень любят нас боги. -За что? -Да уж есть за что. А торговое дело - не наше. -Какое же ваше? -Тайна богов. -Ну так вот еще: можно про великие дела богов и героев записывать. Хотя бы про то, как из-за бабы герои десять лет воевали, или как Калям-бубу из двух арбузов мужчину и женщину достал. Наши мудрецы иногда так складно пишут зачитаешься! -Говоришь бессмысленное. Наши деяния все другие затмевают, об этом весь мир знает, а кто не знает, тот узнает вскорости. Лета свои опять приплел. Нет, нет никаких лет! День есть и ночь есть. -День да ночь - сутки прочь. Семь суток - неделя. -Э, Мудрец, он говорит вредное. О таком даже слушать не хочется. -Пусть говорит. Недолго ему говорить. -Что такое, большое начальство? Я к вам как к людям... -А кто тебе сказал, что мы люди? Нас боги избрали! -Ну, у бога всего много. Сегодня избрал, а завтра, глядишь, встал не с той ноги и прибрал. Вот и наш Калямбубу: то ничего, а то как расходится! -Нет такого бога - Калям-бубу! Наших семеро есть - и все. -Так не берете мой товар? Прогадаете! -Еще и грозится. Ну, все, Мудрец, убирать его надо куда подальше. Поболтай с ним, коли охота припадет, а я уж пойду пытошный стан к работе ладить. 3. -Э, Начальство Мудрости, как же он пошел пытошный стан ладить, коли вы ремесла не знаете? -Ремесла не знаем, оно нам ни к чему. А пытать - это разве ремесло? Это же удовольствие одно! -Ничего себе удовольствие. -Так. Звук, наружу не ходи, где раздался, там умри! Вот теперь нас никто не подстлушает. Вижу, купец, что ты не глуп, а глупым прикидываешься. Таким умением овладеть может не всякий. Поэтому давай говорить как умные люди. -Обмен неравный - о чем говорить, когда я ничего о вашем народе не знаю. -Со смертью играешь. -Смерть и жизнь моя у Калям-бубу за пазухой. -У меня в слове жизнь и смерть твоя! Знаю, что многих людей ты города посетил и обычаи видел. Вот это мне и нужно. Умением своим наделишь тайно меня одного... -Ну вот, а говорил - баловство! -Говорил не для тебя - для того, другого. -А ты и вправду в стране самый умный? -Должность такая. И не самый умный, а самый мудрый разницу чуешь? -Почуешь разницу, как воткнут кол в задницу. А то вдруг ты грамоте не научишься? Вот у меня племянник - его и добром, и розгой - все впустую. Стоеросовое дерево. Фиговое. -Глумишься? -Куда мне над мудростью глумиться. Только я крепко любопытен: где миру начало? Кто первое слово молвил и какое? Какая рыба всем рыбам царь? У меня много вопросов... -Оттого, что ложна ваша мудрость. У нас никаких вопросов - одни допросы. Мы и так все про всех знаем. А не знаем, так под пыткой узнаем. Нас боги избрали. -За что избрали, что за боги? -Так и быть, расскажу. Жили мы здесь, как простое людское племя, прах земной. Спустились к нам как-то боги - семеро. И оказали мы им великую услугу, а какую - никто и не помнит уже... -Умели бы писать - и запомнили бы... -А в благодарность дали нам боги семеро силу слова. Слово это лишь нашему народу ведомо. С тех пор чего ни пожелаем - все нам прямо в рот сыплется. Знаем одну только радость. И поэтому велено нам править всем миром. -Так прямо и велено? А что же боги делают? -У них свои дела, божественные... -Что же вы не всем миром правите? -Придет время - будем. -Так вы же времени не знаете, дней не считаете... -А мы его остановили. Каждый день у нас один и тот же. -Зачем это и отчего? -Оттого, что провидим вперед. И провидец один наш великий провидел, что быть нашей славе столько-то и столько-то лет! А мы судьбу перехитрили: остановили время словом. Говорим: _Нет, нет никаких лет!_ - вот и нету их. -А время-то идет. Уже к вечеру дело. -Это и есть наша печаль. Падает проклятое солнце никак не удержать. Правда, мы, к утру сил набравшись, снова его подымаем, а время стоит. -Ага, объяснил мне один тут на камешках. Только у нас мудрецы по-другому говорят. После трудов своих бог наш, Калям-бубу, струю пустил, и потекло время, как река. Всех нас эта река несет. -Вот вас и несет, как мусор. А нас нет. Камень посреди реки видел? Вот так и мы. -Когда-то и камень вода подмоет и покатит. -А укрепить его, подпереть? -Когда-то и река русло изменит. Будете на своем камне одни. -Мы одни не будем. Перетащим к себе весь мир помаленьку. Видел пирамиду на площади? -Вверх ногами-то? Видел. -Перенесся наш человек в нильскую страну, осмотрел пирамиду и вернулся. И мы силой своей такую же мигом воздвигли. И в других странах если что хорошее имеется, к себеутянем. -А зачем вы ее на маковку поставили? Некрасиво ведь. -Чтобы видели силу нашу. Простую-то пирамиду любой дурак построит. -Не скажи. Ее, говорят, тридцать лет строили. Как потрудился, так и погордился. А вам чем гордиться? -Как чем? А силой? -А куда вы нильскую страну дели? Тот, у ворот, говорил, что нету-де ее. -А мы ее отрицаем. Больно близко к нам расположена. Вот мы и сказали хором: _Нет и нет такой страны, нам соседи не нужны!_. Их и не стало. -Я же там недавно бывал. Все на месте. Фараон сидит, командует, рабы вкалывают, крокодилы плавают... -А ты докажи, что все на месте. Докажи. Докажи, что время идет. Докажешь? Нет. Так что давай все это забудь и помогай нам. Будешь хорошо жить, примерно как мы... -Как же я буду избранникам богов помогать? -Говоришь ты складно, уменьем великим владеешь, вот только силы слова у тебя нет... -Еще спрошу: почему без имен живете? -Есть имена, есть, только их каждый друг от друга в секрете держит. От нас, конечно, у народа секретов нет. Потому что если имя человека узнаешь, с ним все сделать можно. Взять, к примеру, Начальника Покоя. Он знаешь, сколько имен помнит? Много. Любого, который без звания, в нети отправит запросто. Потому и держится в должности. -А твое имя знает? -Знает, да что толку? Оно званием заворожено. А вот если он сможет так про меня сказать, что и без имени всяк узнает, тогда мне, конечно, туговато придется. Только он неумеет так, да и никто не умеет. Мы таких повывели. -А у нас есть один такой. Про любого все как есть скажет, да складно притом. Достается от него многим. Злятся, конечно, да что сделаешь? И у нас слово силой бывает. -Плохой человек. Вот бы его да на кол. А ты так не умеешь? -Не привелось. Дар богов, говорят. -Нехороший дар. И зачем это боги что попало да кому попало дарят? Мы таких людей не только у себя, мы их повсюду выводим. Положили такое заклятье, чтобы жизнь у них была короткая да несчастная. Крепко мы их прокляли, выдумщиков этих, и тех даже, которые когда-то еще родятся. Может, и отучатся выдумывать. И до вашего доберемся. Я думаю, ослепнет он... -Вижу, что зря разболтался, хорошего человека подвел... -О других не думай, о себе думай. Дадим тебе дворец, как у вашего царя... Как бишь его? -Да кто там у нас сейчас - не скажу. Сегодня он царь, а завтра, глядишь, баранов холостит... -Ну ладно. Потом вспомнишь. Давай клятву хоть своему Калям-бубу, а я ее скреплю словом. Клянись давай! -Что-то не хочется. У меня дома родни полно, друзей. И вдруг вы их - да в нети? Пусть уж лучше меня одного. -Другого найдем. Хоть один да согласится. -Вот он пусть и соглашается. А я как-нибудь перемогусь. Меня за это Калям-бубу на свою вечную небесную гулянку возьмет. За ним добрые дела не пропадают, нет у него такой привычки. А ты и без грамоты проживешь, и так вон какой мудрый... -Помрешь страшной смертью! -Имя мое сперва узнай... -А мы тебя и без имени. -Сочинишь про меня что-нибудь? Да тебя твое же заклятье и прихлопнет: башка от лишней мудрости лопнет. А грамоты-то жалко, а? Не хватает ее, грамотешки-то? -Да я тебя... Ничего, одумаешься, ползком приползешь. Отдам тебя Начальству Покоя. Очутись-ка у него! 4. -Ну, купец, не договорился? -Не договорился. -А Мудрец наш как тебе? -У нас такие мудрецы обычно грушевые деревья околачивают от вредителей. А ты его, поди, тоже не любишь? -Твоя правда, не люблю. -Что ж ты мне правду говоришь, зачем это? -А как же? Скажи я, что люблю его, а вдруг кто-то поблизости произнесет словечко-то? Я его тогда взаправду полюблю, а мне нельзя. Вот у вас хорошо, у вас можно смело врать что ни попадя. Я так думаю: великий человек был тот, кто первым врать наловчился! От таких цари пошли. Пришел он к людям, сказал, что царь, они и поверили: не знали, чтоврать-то можно. Потом, конечно, опомнились, да уж поздно. Ото лжи пошел на земле порядок. -А правду говорить все же приходится? -Так уж выходит. Безопасно только хором врать. Когда все кругом врут, и держава как-то крепче делается... А Мудрец-то тебе много порассказал? -Да уж как водится... -Узнаю птицу болтливую... Он тебя, между прочим, велел казнить, да полютей. А я не тороплюсь. Ты мне нужен... -И я не тороплюсь. Знаю, что нужен. Дело привычное цену набивать. -Мое условие такое - поможешь мне его место у Высокого Табурета занять отпущу тебя. Прямо на порог родного дома. -У тебя поумней меня советчики есть. -Были бы, кабы сам же не повывел... -И у нас такое случается. -А ты - человек подходящий. Ум есть, а силы нет. И вот мы вкупе, сообща... -Для такого дела время нужно. -Да будет у тебя это... как его... ну, проклятое оно еще... Будет. И грамоте меня научишь. -А это зачем? -Как зачем? Легко ли мне в голове держать все имена и приметы? А так будут они у меня все в подвале, на табличках. Взял табличку, сказал слово - и нет человека. Была страна - нет страны. -Так ты сам пожелай обучиться грамоте - то и будет. -Э, чего нет в гоолове, то в слово не перейдет. Тут нам предел положен, как со светилом окаянным... -Что вы его так невзлюбили? -Мотается по небу, ночь делает. -Чем плоха ночь? Бабу приласкать, отдохнуть, поспать. Сон иногда вещий приснится - тоже на пользу. -Вот-вот, сон. Нам сны видеть нельзя. Особые сторожа по ночам ходят, сны гоняют. -Как же без снов? Во сне, бывает, с богом поговоришь, он дельный совет даст. Помню, снится мне один раз Калямбубу... -Нет, нельзя. Люди разные, им что попало снится. Чуть зазевались сторожа и пропало дело. Одному вот снилось, что всемирный потоп настал. Еле отвели беду. А другому снилась все время всякая дрянь: полулюди-полукони, полубабы-полурыбы, змеевласые девки и прочее. И что же? Разбежалась вся эта пакость по свету. -Слышал про таких полуконей, одного даже издали видел... -Эх, заболтались мы с тобой. А все от того, что интересно со сторонним человеком поговорить. У нас как: он знает, что я спрошу, я знаю, что он ответит... Скука. Так что же мы с мудрецом сделаем? -Думаю. -Ну, думай. Одтыхай, подумай, поешь, поспи... Ох, беда, солнце опять закатывается! Стой! Не движись! Держи его, люди добрые! Эх, опять усилия не хватило... Иди, купец, спать._автра трудный день будет. 5. -Ну что, купец, проспался? -С вами, пожалуй, проспишься: всю ночь песни да пляски, глаз не сомкнул. -А-а, так то сторожа сон гоняли, я же тебе объяснял. -Как же вы при таком шуме спите? -А мы отвар особый пьем на ночь. -И крепкий отвар? -Слона в сон повергнет! -Это вы хорошо придумали - такой отвар пить. -А ты-то придумал насчет Мудреца? -Где тут придумаешь, когда голова от шума трещит! -Ну тогда начинай учить меня грамоте. -Изволь. Вели принести деревянный клин покрепче да колотушку потяжелее. -Это еще зачем? -А что же ты думал - грамота сама в голову пойдет? Нет, в этом деле без клина да колотушки никуда. -А ты-то сам как учился? -В точности так. Сколько клиньев извели на меня целый корабль из того дерева можно бы построить. -А не больно? Людей вот пытаешь, так им больно, говорят. -Еще бы не больно. Недаром пословицу сложили: _Грамоту учат, на всю улицу кричат_. Но потерпеть надо. Первый месяц тяжеловато, зато потом привыкаешь помаленьку. Да и дырки в голове зарастают. Вот потрогай - нету дырок? -Нету дырок... Как это - первый месяц? -Долгое это дело. Вот сегодня подолблю... -Как это - сегодня? -Опять забыл, что без времени обходитесь. Короче, как день, так долбить начинаю. Как ночь - отдыхаю. Как день опять за колотушку. Как ночь - на боковую. Как день подставляй макушку. Как ночь - убирай макушку. Как день подать сюда новый клин. Как ночь - отдохни, начальство. Как день... -Очень страшно. Так и вправду время начнешь понимать! Нет, купец, я передумал тебя домой отправлять. И грамоту твою учить передумал. Лучге я буду при себе грамотного человека держать: тебя то есть. Согласен? -А проведает про то Мудрец, нам обоим окорот выйдет... -Так я же тебя в маленького червячка для удобства превращу. Только имя скажи, а то не получится. -И очень хорошо, что не получится. А то курица склюет, и останешься без писаря. А с врагом твоим поступим так... Есть ли у тебя на примете сочинитель? -Откуда ему взяться? Которые были на примете, так те уже давно... -Понятно. А скульпторы у вас имеются? -Какие скульпторы? -Вот статуя стоит - кто-нибудь ведь ее изваял из камня? -Нет, это краденая. А своих никто не делает. -Худо как... Ну да постараюсь тебя выручить. Никогда за такое дело не брался, да, видно, придется. Где моя табличка с палочкой? Ага, вот... -Это ты что такое делаешь? -Стихи складываю. -Куда складываешь? -На дощечку. Он, Мудрец, сдуру-то сам меня и надоумил. Та-татата-татата-татата-та... Слышишь, будто волна на берег моря накатывается? Целый-то день он сидит при Высоком при том Табурете, Дабы Держатель всегда мог обратиться к нему. Мыслию куцей своей тщится небес он достигнуть, Кратким умишком своим в море нырнуть норовит. Каждое слово из уст его конским навозом Падает в уши владыке и сердце печалит. Он же, награды алкая, все мелет и мелет, Не понимая, что тем рушит державы устой! Теперь говори заклятье. -Сказано! Порадовались боги: небольшим насекомым ползет Мудрец по залу! Вот уж нога Держателя занесена над ним! Вот уж топнуто священной ногой! Ну, спасибо, купец! Уважил ты меня, и я тебя уважу: подарю дворец либо два... -А про Держателя ничего сочинить не нужно? -Про какого Держателя? Про нашего Держателя? Да без него же все рассыплется! Мир под землю провалится, море высохнет! И как ты до такого додуматься мог? -А вдруг да не развалится? -Нет, лучше уж не рисковать. Вы, купцы, народ отчаянный, а нам рисковать нельзя... -А давай попробуем: может, и ты на должность подойдешь. -Не искушай. А то искушусь. -Смотри, дело твое. Вот я однажды побоялся в нильской стране пшеницы закупить побольше, домой приплыл - ан там недород. Уж я локти кусал, кусал - до сих пор шрамы видны... -Эх, была не была! Сочиняй! -Сейчас. Та-татата-татата-татата-та... Эй, начальство, что с тобой? Что ты ежишься, корежишься? Да ты вроде и ростиком поменьше стал... А зачем из тебя лишние лапки лезут?Ну вот, так-то лучше, с вашим братом тараканом у нас, купцов, разговор короткий... 6. -Ну здравствуй, достойный купец! Спасибо тебе: ловко пособил мне от окружавшей меня недобросовестности избавиться. Я давно их на подозрении держал, а вот ты явился, и вся их гнилая сущность явственна стала. Давно, видно, лелеяли они черную измену... -А ты-то кто будешь? -Я-то? Или не узнал? Меня, Держателя тверди да моря? На всей земле самый главный титул. -Можно его переделать, чтобы еще главнее стал! -Неужто можно? Казалось бы, куда уж главнее... Ну-ка? -Прибавить две буковки, всего и делов... -Чего две прибавить? -А буковкию Это значки, которыми слова закрепляются. Так вот, ежели две буковки прибавить, получится Содержатель тверди да моря. Дескать, ты не только держишь твердьда море, а еще и содержишь их за свой счет, вот сколь богат и могуч! А все люди, выходит, у тебя вроде как постояльцы, а за постой деньги платят. -Славно придумано! Оно и вправду будто силы и мощи вдвое прибавилось, а всего-то две закорючки. Большая сила! Пригодишься ты мне. Задумал я заветную мечту всего нашего народа: над всем миром взять власть и силу. Но одна забота гложет царственное сердце: больно много на свете людей! У каждого в голове думка. Куда же это годится, есликаждый свое будет думать? Вот когда все одинаково и враз думать станут, тогда порядок будет гармония называется. Вот я и раздумался: а не внедрить ли единодумие? И эта твоя грамота великому делу способствует! Если человеку мои мысли глашатай на площади будет втолковывать, он их и мимо ушей пропустить может. А вот когда они записаны будут, да покрупнее, да поярче, да на каждом углу, никто мимо не пройдет, всякий усвоит и так же думать примется. Прав ли я? -Прав, как не прав, да только народ у вас неграмотный. -Так ты же всех научишь. Ты же сам говорил Начальствуто Покоя покойному, что деревянными клиньями как-то грамоту вбивают... -Тебе нет, деревянным не обойдешься, каменный нужен, а еще лучше железный. От железного, правда, дырки в голове остаются лишние. А вот простому-то народишку втолковать можно и без клиньев, особенно ребятишкам. Там, если что, простой розгой или подзатыльником управишься... Тебе же нет. Добудь-ка мне для себя хороший железный клин да кувалду... -Нет уж, лучше я так, как есть, пребуду... -Никак тоже меня в писаря прочишь? -Хорошее имя придумал - писарь. Ты не просто писарь будешь, а Главный Писарь. Или Старший. Или Наиглавнейший Писарь тверди и моря. Нравится? -Должность, что и говорить, почетная. Только наши писаря и философы со сказителями смеяться начнут: вчера еще мешки с пшеницей считал, а ныне Наиглавнейший! -А мы их к ногтю! Они что у вас, сильно грамотные? -Да уж пограмотней меня. -А нельзя ли у них грамоту из голов повыбить? Теми же клиньями? -Нельзя, она при человеке до смерти состоит... -До смерти? Это еще лучше. Это нам раз плюнуть... -Понял это давно. А какие мысли записывать будем? -Мудрые, какие же еще? Пусть все люди живут в мире моих мудрых мыслей. Своих-то не будет, одни мои чтобы вокруг... И не на табличках жалких, а на высоких каменных стенах,да чтобы во всю стену... -А вдруг они твои мысли постигнут, но при своих останутся? -И это не беда. Надо, чтобы мои мысли повсюду были. Проснулся - на потолке. Глазами повел - на стене. Даже в отхожих местах пусть будут мои мысли у всех перед глазами! Глядишь, мало-помалу все остальные и вытеснят. -Ловко. Ну, давай, самую главную мысль изобразим. -Изображай. Я, Содержатель тверди да моря... Это что у тебя на дощечке за уродец? -Это буква _я_. Ее, по совести, в азбуке-то в черном теле держат: последней стоит... -Кто же осмелился самую главную букву взад поставить? В нашей грамоте ей будет почет оказан... Но больно она у тебя мелкая. Я ее лучше увеличу и каменной сделаю. Ну, как? -Солидно, что и говорить. В два человеческих роста, как бы не более. -Нет, еще мелковата. Подвысить надобно... -Эй, она же крышу дворца проломит! -Не твоя забота. Нет, еще низковата. Нужно такой высоты сделать, чтобы аж в Египте видно было... -Спаси, Калям-бубу! Под небо буква лезет! Зачем такуюто уж? Хватит! Хватит! Не видишь - верхушка обламывается? Ты же ее без фундамента мастрячишь! Убегай оттуда хотя бы сюда! Берегись! Эх, не уберегся... Помощнички тараканами сгинули, и самого как таракана прихлопнуло... Дворец развалил, дурак, народ без руководства оставил... Они же без власти да со своим заклинанием такого тут наворочают! Ну, натворил я на свою голову... 7. -Эй, купец! ты чего это натворил: развалил весь как есть дворец! -Да не я это, люди добрые! Это Содержатель ваш, то есть Держатель тверди да моря. Его собственное _я_ задавило до смерти. Видите, под камнем мокренько? -И правда мокренько. Не врет купец! Только зачем ты его не остерег, не спас? Мы тебя живо сейчас за это погубим! -Люди, нельзя его губить: посмотрите, где он сидит! -Зачем ты, купец, на Высокий Табурет забрался? -Как пошли камни падать, так и забрался. Со страху не то что на табурет, в ночной горшок залезешь... -А нам что за дело, кто на Табурете? Он залез - он пусть и держит твердь да море, пупок себе рвет. А мы постарому будем жить. Поклонимся-ка новому Держателю! -Не хочу я к вам в Держатели! Я словечка вашего не знаю! -Не беда, научим! У тебя помощники будут, хотя бы меня взять. Я у Начальства Покоя в младших подпыточных ходил, дело знаю... -Я в Начальство Мудрости горазд: семь ученых слов знаю! -Это каких же? -Генезис, остранение, концепция, полифония, гипертекст, технократия да .............! -Ах ты бесстыжий! Да ведь ............... - вовсе не ученое, а срамное слово! Как у тебя язык-то повернулся... -Вот незадача! Не берешь, стало быть, в Начальство Мудрости? Стало быть, сам ты, купец, .............! -Молчи, матерщинник! Э, а что это у вас вода кругом льется? Опять кому-то всемирный потоп приснился? -Нет, не потом. Это народ воду изо рта выливает. Хватит, намолчались! -Люди добрые! Как мне вас называть-то? Раз уж намолчались, то теперь наболтайтесь вволю, я разрешаю и велю! -Сказать ему, что ли? -Еще проклянет... -Не проклянет, он душевный... -Ладно, новый Держатель, темнить не будем: атланты мы. -А страна ваша, надо быть, Атлантида? -Она самая! -Так я и думал. Про вас давно в ученых книгах писано... -Что про нас где? -Все равно не поймете... Вот что, атланты! Давайте я у вас в державе порядком все устрою, а вы меня за это домой отправите! -А как же мы без Держателя будем? Твердь провалится, море вытечет... -У нас в иных городах и вовсе без царя управляются, вот так и вы. Выберите верных людей... -Где их взять-то, верных? Нынче матери родной, и той верить нельзя... -Купец правду говорит. На что нам власть, какая от нее сласть? Погуляем хоть как люди! -Стой! Без власти вовсе все развалится. Ну-ка, скажите мне, атланты, пахать землю и сеять хлеб умеете? -На что оно нам? Хлеба и так полно, только пожелай... -А овец разводить? -На что оно нам? Понадобится - вот и шашлык. -А рыбу-то хоть ловите? -На что оно нам? Охота осетрины - всегда пожалуйста! -Эх, атланты! А ведь хлебушко-то кто-то вырастил, выходил, осетра в сети поймал. Не стыдно воровать-то? -А что, семеро богов зря, что ли, наас избрали? -Не знаю, не знаю. Только нет на земле такого народа, чтобы все поголовно воры были. -Правильно, нету! Может, поэтому нас и избрали! -Военное дело знаете? -На что оно нам! Враги и так замертво повалятся. -А если все ограбленные народы за своим добром придут? Всех-то не повалите! -Повалим! Не таких видали! -А с солнцем справиться не можете! -Тьфу, пакость! Твоя правда, не можем... -Вот так и с врагами будет. Их придет видимо-невидимо. Уже собираются. Какое там - идут уже! Я их ненамного опередил. Они такое вам устроют! И словечко не превозможет. -Поди превозможет... -А ну не превозможет? -И правда, братцы, ну как они всем скопом придут и примутся злобно мстить? Сколько их там идет, говоришь? -Сколько? А все! -Как все? -А вот так! Сколько есть людей на земле, столько и собралось. У каждого если не меч, то дубина хорошая... -Надо стену ставить! Я такую у узкоглазого народа видел, перенять могу... Я понимаю, эфиопам там напинать или шумерам... Но чтобы все-то навалились! -Нет, атланты, не поможет вам стена. Вы лучше пожелайте, чтобы ваша земля ото всех других земель отпихнулась, чтобы не добраться до вас было. Так спокойнее. -Вот это дело! Одно слово - Держатель! -А ну-ка поднатужимся! Как будто в соседние страны шестами упираемся! Раз, два, взяли! Пошла Атлантидаматушка! -Хорошо идет! -Подальше, подальше, страху меньше будет... -Вот здесь в самый раз - от всех вдалеке... -Вот и молодцы, атланты. Теперь учитесь жить как люди. Землю пашите и прочее... -Попробовать, конечно, можно... -Торговлю заведите, деньги в оборот пускайте... -Какие деньги? Золота да серебра навалом у нас... -Вместо золота да серебра возьмите за деньги то, чего у вас мало. -А чего у нас мало? У нас всего много! -Вот незадача... Что же придумать? Ага! У вас всегда тепло? -Конечно, всегда! Что мерзнуть-то? -Значит, нет у вас ни льда, ни снега? -Чего нет, того нет. И не слышали даже. -А я сейчас растолкую. Возьмите чашку с водой и пожелайте, чтобы стало вокруг чашки холодно-холодно... Ага! Вода твердой стала. Вот вам и лед! -Что-то он в руке опять водой становится... -А вы его в погребе, в яме храните. Он и не растает. Но вроде бы холодно становится... Ах вы, ненасытный народ! Что же вы делаете? Куда столько льда? От него же холод! Бежать, бежать надо... Эй, матерщинник, что в Начальство Мудрости мостился, иди сюда! -Слушаюсь, Держатель! -Хочешь сам Держателем стать? -Как не хотеть: тогда весь лед под себя подгребу! -Вот и подгребай, а меня домой отправь. -А куда домой? -Через море напротив нильской страны. -Будь по-твоему. Освободи Табурет, я пока словечко шепну... Да не подслушивай! -Калям-бубу! Они уже целые горы льда наворотили. Уже и домов не видать! Сейчас и пирамиду перевернутую скроет! Какая же это Атлантида? Это прямо Антарктида какая-то... Пусть так и зовется, не забыть бы ее на карту нанести... Эй, матерщинник, готов, что ли? -Го-го-го-готов-в-в-в... Отправ-в-в-ляйся! -Ну, прощай. Смотри не замерзни! -Не твое дело! Я еще себе сейчас ледку спроворю... Эпилог -Здравствуй, певец. -Здравствуй и ты. Узнал твой голос, Главк. Сам видишь - покарали меня боги, а за что - не знаю... -Такая будет судьба теперь у певцов: век короткий да несчастливый... -Так богам угодно? -Да нет, людям. Правда, людьми бы их и не надо звать... О чем песни слагаешь? Записать за тобой не надо ли? -Слышал ли ты про землю атлантов, что погибла в один день и одну бедственнную ночь? Вот про это думаю сложить песню. -Поверь, не стоят они твоей песни. Не хотели жить своим трудом да своим умом, вот и сгинули. Я только что оттуда, околел совсем... -Так рассказывай, Главк, будь моими глазами... -Ну, с чего начать? Значит, когда пройдешь земли полудиких эгипатов, блеммийцев, гамфасантов, сатиров и гимантоподов... Красноярск, 1982 г. Михаил Иосифович Веллер родился 20 мая 1948 года в городе Каменце‐ Подольском в семье офицера. До достижения шестнадцати лет Михаил постоянно меняет школы — переезды по гарнизонам Дальнего Востока и Сибири. В 1966 году заканчивает школу в Могилёве с золотой медалью и поступает на отделение русской филологии филологического факультета Ленинградского университета. Становится комсоргом курса и секретарём бюро комсомола университета. Летом 1969 года на спор, без денег добирается за месяц из Ленинграда до Камчатки, используя все виды транспорта и обманом получает пропуск для въезда в «пограничную зону». В 1970 году получает в университете академический отпуск. Весной уезжает в Среднюю Азию, где бродяжничает до осени. Осенью переезжает в Калининград и сдаёт экстерном ускоренный курс матроса второго класса. Уходит в рейс на траулере рыболовецкого флота. В 1971 году восстанавливается в университете, работает старшим пионервожатым в школе. В университетской стенной газете впервые «публикуется» рассказ. В 1972 году защищает диплом по теме «Типы композиции современного русского советского рассказа». В 1972—1973 годах работает по распределению в Ленинградской области воспитателем группы продлённого дня начальной школы и учителем русского языка и литературы в сельской восьмилетней школе. Уволен по собственному желанию. Устраивается рабочим‐бетонщиком цеха сборных конструкций ЖБК‐4 в Ленинграде. В качестве вальщика леса и землекопа выезжает летом 1973 года с бригадой «шабашников» на Кольский полуостров и Терский берег Белого моря. В 1974 году работает в Государственном музее истории религии и атеизма (Казанском соборе) младшим научным сотрудником, экскурсоводом, столяром, снабженцем и заместителем директора по административно‐хозяйственной части. В 1975 году — корреспондент заводской газеты Ленинградского обувного объединения «Скороход» «Скороходовский рабочий», и. о. завотделом культуры, и. о. завотделом информации. Первые публикации рассказов в «официальной прессе». С мая по октябрь 1976 года — перегонщик импортного скота из Монголии в Бийск по Алтайским горам. По упоминаниям в текстах, вспоминал это время как лучшее в своей жизни. Творчество Вернувшись осенью 1976 года в Ленинград, переключается на литературную работу, первые рассказы отклоняются всеми редакциями. Осенью 1977 года вступает в семинар молодых ленинградских фантастов под руководством Бориса Стругацкого. Летом 1985 года работает в археологической экспедиции в Ольвии и на острове Березань, осенью и зимой — рабочий‐кровельщик. В 1978 году появляются первые публикации коротких юмористических рассказов в ленинградских газетах. Подрабатывает литературной обработкой военных мемуаров при издательстве «Лениздат» и написанием рецензий для журнала «Нева». В 1988 году в журнале «Аврора» опубликована повесть "Испытатели счастья", с изложением основ его философии. Выходит вторая книга рассказов «Разбиватель сердец». Происходит приём в Союз писателей СССР. Работает заведующим отделом русской литературы таллинского русскоязычного журнала «Радуга». Осенью 1979 года переезжает в Таллин (Эстонская ССР), устраивается на работу в республиканскую газету «Молодёжь Эстонии». В 1980 году увольняется из газеты и вступает в «профсоюзную группу» при Союзе писателей Эстонии. Появляются первые публикации в журналах «Таллин», «Литературная Армения», «Урал». С лета по осень путешествует на грузовом судне из Ленинграда в Баку, публикуя репортажи с пути в газете «Водный транспорт». В 1981 году пишет рассказ «Линия отсчета», где впервые оформляет основы своей философии. В 1982 году работает охотником‐промысловиком в госпромхозе «Таймырский» в районе низовий реки Пясины. В 1983 году выходит первый сборник рассказов «Хочу быть дворником», на Московской международной книжной выставке‐ярмарке права на книгу продаются за рубеж. В 1984 году книга переводится на эстонский, армянский, бурятский языки, отдельные рассказы издаются во Франции, Италии, Голландии, Болгарии, Польше. Получает рекомендации для вступления в Союз писателей СССР от Бориса Стругацкого и Булата Окуджавы. В 1989 году выходит в свет книга «Технология рассказа». В 1990 году выходит книга «Рандеву со знаменитостью». Рассказ «Узкоколейка» публикуются в журнале «Нева», рассказ «Хочу в Париж» — в журнале «Звезда», рассказ «Положение во гроб» — в журнале «Огонёк». По рассказу «А вот те шиш» поставлен художественный фильм на Мосфильмовской студии «Дебют». Основатель и главный редактор первого в СССР еврейского культурного журнала «Иерихон». В октябре‐ ноябре читает лекции по русской прозе в университетах Милана и Турина. В 1991 году в Ленинграде под маркой эстонского издательства «Периодика» выходит первое издание романа «Приключения майора Звягина». В 1993 году тиражом 500 экземпляров Эстонским фондом культуры издаётся в Таллине книга новелл «Легенды Невского проспекта». Топ‐десятку «Книжного обозрения» 1994 года возглавляет очередное стотысячное издание «Приключений майора Звягина». Читает лекции по современной русской прозе в университете города Оденсе (Дания). В 1995 году петербургским издательством «Лань» массовыми дешевыми изданиями выпускается книга «Легенды Невского проспекта». Следуют переиздания всех книг в «Лани», издательствах «Вагриус» (Москва), «Нева» (Санкт‐Петербург), «Фолио» (Харьков). 18 декабря 2008 года решением президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса Михаил Веллер был награждён орденом Белой звезды.[1][2] Летом 1996 года со всей семьей на полгода уезжает в Израиль. В ноябре выходит новый роман «Самовар» в иерусалимском издательстве «Миры». Читает лекции по современной русской прозе в Иерусалимском университете. Весной 1997 года возвращается в Эстонию. В настоящий момент Михаил Веллер проживает в Москве. В 1998 году выходит восьмисотстраничная философская «всеобщая теория всего» «Всё о жизни», с изложением теории энергоэволюционизма. Поездка по США в 1999 году с выступлениями перед читателями в Нью‐ Йорке, Бостоне, Кливленде, Чикаго. Выходит книга рассказов «Памятник Дантесу». В 2000 году выходит роман «Гонец из Пизы» («Ноль часов»). Переезд в Москву. 2002‐й: «Кассандра» ‐ следующая итерация философии Веллера, написанная тезисно и местами даже академически. Появляется и название философской модели: ЭНЕРГОВИТАЛИЗМ. Но уже через два года выходит сборник «Б. Вавилонская», где в рассказе «Белый ослик» оно корректируется на ЭНЕРГОЭВОЛЮЦИОНИЗМ. Там же автор приводит отличительные признаки своей модели. В 2009 году выходит в свет книга «Легенды Арбата». Апельсины Ему был свойствен тот неподдельный романтизм, который заставляет с восхищением - порой тайным, бессознательным даже, - жадно переживать новизну любого события. Такой романтизм, по существу, делает жизнь счастливой - если только в один прекрасный день вам не надоест все на свете. Тогда обнаруживается, что все вещи не имеют смысла, и вселенское это бессмыслие убивает; но, скорее, это происходит просто от душевной усталости. Нельзя слишком долго натягивать до предела все нити своего бытия безнаказанно. Паруса с треском лопаются, лохмотья свисают на месте тугих полотнищ, и никчемно стынет корабль в бескрайних волнах. Он искренне полагал, что только молодость, пренебрегая деньгами - которых еще нет, и здоровьем - которое еще есть, способна создать шедевры. Он безумствовал ночами; неродившаяся слава сжигала его; руки его тряслись. Фразы сочными мазками шлепались на листы. Глубины мира яснели; ошеломительные, сверкали сокровища на остирие его мысли. Сведущий в тайнах, он не замечал явного... Реальность отковывала его взгляды, круша идеализм; совесть корчилась поверженным, но бессмертным драконом; характер его не твердел. Он грезил любовью ко всем; спасение не шло; он истязался в бессилии. Неотвратимо - он близился к ней. ОНА стала для него - все: любовь, избавление, жизнь, истина. Жаждуще взбухли его губы на иссушенном лице. Опущенный полумесяц ее рта тлел ему в сознании; увядшие лепестки век трепетали. Он вышел под вечер. Разноцветные здания рвались в умопомрачительную синь, где серебрились и таяли облачные миражи. На самом высоком здании было написано: "Театр Комедии". Императрица вздымалась напротив в бронзовом своем величии. У несокрушимого гранитного постамента, греясь на солнышке, играли в шахматы дряхлеющие пенсионеры. - Ваши отцы вернулись с величайшей из войн, - сказал ему старичок. - Кровь победителей рвет наши жилы! - закричал старичок, голова его дрожала, шахматы рассыпались. Чугунные кони дыбились вечно над взрябленной мутью и рвали удила. Регулировщик с красной повязкой тут же штрафовал мотоциклиста, нарушившего правила. Солнце заходило над Дворцом пионеров им. Жданова, бывшим Аничковым. На углу продавали пачки сигарет - и красные гвоздики. У лоточницы оставался единственный лимон. Лимон был похож на гранату-лимонку. Человечек схватил его за рукав. Человечек был мал ростом, непреклонен и доброжелателен. Человечек потребовал сигарету; на листе записной книжки нарисовал зубастого нестрашного волка в воротничке и галстуке и удалился, загадочно улыбаясь. Он зашел выпить кофе. За кофе стояла длинная очередь. Кофе был горек. Колдовски прекрасная девушка умоляла о чем-то мятого верзилу; верзила жевал резинку. Он пеперешл на солнечную сторону улицы. Но вечернее солнце не грело его. Пока он размышлял об этом, кто-то занял телефонную будку. Дороги он не знал. Ему подсказали. В автобусе юноша с измученным лицом спал на тряском заднем сиденье; модные дорогие часы блестели на руке. На улице Некрасова сел милиционер, такой молоденький и добродушный, что кругом заулыбались. Милиционер ехал до Салтыкова-Щедрина. Девчонки, в головокружительном обаянии юности, смеясь, спешили к подъезду вечерней школы. Напротив каменел Дворец бракосочетаний. Приятнейший аромат горячего хлеба (хлебозавод стоял за углом) перебивал дыхание взбухших почек. "Весна..." - подумал он. ЕЕ не оказалось дома. Никто не отворил дверь. Он ждал. Темнело. Серым закрасил улицу тягостный дождь. Пряча лица в поднятые воротники, проскальзывали прохожие вдоль закопченных стен. Проносились автобусы, исчезая в пелене. Оранжевые бомбы апельсинов твердели на лотках, на всех углах тлели тугие их пирамиды. Кошелёк Черепнин Павел Арсентьевич не был козлом отпущения - он был просто добрым. Его любили, глядя на него иногда как на идиота и заботливо. И принимали услуги. Выражение лица Павла Арсентьевича побуждало даже прогуливающего уроки лодыря просить у него десять копеек на мороженое. Так складывалась биография. У истоков ее брат нянчил маленького Пашку, пока друзья гоняли мяч, голубей, кошек, соседских девчонок и шпану из враждебного Дзержинского района. Позднее брат доказывал, что благодаря Пашке не вырос хулиганом или хуже, - но в Павле Арсентьевиче не исчезла бесследно вина перед обделенным мальчишескими радостями братом. На данном этапе Павел Арсентьевич, стиснутый толпой в звучащем от скорости вагоне метро, приближался после работы к дому, Гражданке, причем в руках держал тяжеловесную сетку с консервами перенагруженного командировочного и, вспоминая свежий номер "Вокруг света", стыдливо размышлял, что невредно было бы найти клад. Научная польза и радость историков рисовались очевидными, - известность, правда, некоторая смущала, - но двадцать (или все же двадцать пять?) процентов вознаграждения пришлись бы просто кстати. Случилось так, что Павел Арсентьевич остался на Ноябрьские праздники с одиннадцатью рублями; на четверых, как ни верти, не тот все-таки праздник получится. Он попытался прикинуть потребные расходы, с тем чтобы точнее определить искомую стоимость клада, и клад что-то оказался таким пустяковым, что совестно стало историков беспокоить. Отчасти обескураженный непродуктивностью результата, Павел Арсентьевич убежал мыслями в предыдущий месяц, октябрь, сложившийся также не слишком продуктивно: некогда работать было. Зелинская и Лосева (острили: "Если Лосева откроет рот - раздается голос Зелинской") даже заболеть наладились на пару, так что когда задымил вопрос о невельской командировке, к Павлу Арсентьевичу, соблюдая совестливый ритуал, обратились в последнюю очередь. Тем не менее в Невеле именно он, среди света и мусора перестроенной фабрики, целую неделю выслушивал ругань и напрягал мозги: с чего бы у модели 2212 на их новом клее стельки отлетают? А по возвращении потребовался человек в колхоз. Толстенький Сергеев ко времени сдал жену в роддом, а "Москвича" в ремонт, вследствие чего картошку из мерзлых полей выковыривал Павел Арсентьевич. Он служил как бы дном некоего фильтра, где осаждались просьбы, а предложения застревали по дороге туда. Слегка окрепнув и посвежев, он прибыл обратно, когда уже снег шел, как раз ко дню получки. Получки накапало семьдесят шесть рублей, да премии десятка. Среди прочих мелочей того дня и такая затерялась. В одной из натисканных мехами кладовых ломбарда на Владимирском пропадала бежевая болгарская дубленка, а в одной из лабораторий административного корпуса фирмы "Скороход", громоздящегося прямоугольными серыми сотами на Московском проспекте, погибала в дальнем от окна углу (как самая молодая) за своими штативами с пробирками ее владелица Танечка Березенько, - с трогательным и неумелым мужеством. Надежды на день получки треснули, и завалилась вся постройка планов на них: до Ноябрьских праздников оставалось четыре дня. Излишне говорить, что Павел Арсентьевич сидел именно в этой лаборатории, через стол от Танечки. В дискомфортной обстановке он проложил синюю прямую на графике загустевания клея КХО7719, поправил табель-календарик под исцарапанным оргстеклом и нахмурился. Молчание в лаборатории явственно изменило тональность, и это изменение Павел Арсентьевич каким-то образом ощутил направленным на себя. Дело в том, что дома у него висел удачно купленный за сто рублей черный овчинный полушубок милицейского образца, а у Танечки в дубленке заключалось все ее состояние. Короче, вызвал тихо Павел Арсентьевич Танечку в коридор и, глядя мимо ее припухшей щеки, с неразборчивым бурчаньем сунул три четвертных. Увернулся от Сеньки-слесаря, с громом кантовавшего углекислотный баллон, и торопливо к автомату пить теплую газировку... И вот поднимался он на эскалаторе, и жалел жену... Среди толчеи площади рабочие обертывали кумачом фонарные столбы, а когда Павел Арсентьевич опустил глаза - на затоптанном снегу темнел прямоугольничек: кошелек. Только он нагнулся, как трамвай раскрыл двери, толпа наперла и так и внесла сложенного скобкой Павла Арсентьевича с кошельком. Пока он кряхтел и штопором вывинчивался вверх, сзади загалдели уплотняться, вагоновожатая велела освобождать двери, даме с тортом и ребенком придавили как первый, так и второго, юнцы сцепились с мужиком, передавали на билеты, трамвай разгонял ход... - момент непосредственности действия как-то исчезал, а злосчастная застенчивость сковывала Павла Арсентьевича все мучительнее. Спросил бы кто... А то вот, мол, благородный выискался, оцените все его честность и кошелечек грошовый... Заалел Павел Арсентьевич (и то - давка), однако собрался с духом уже, - да раздвинулись двери, народ вывалился и разбежался в свои стороны, и остался он один на остановке. И тут обнаружил, что рука-то с кошельком - в кармане. Тьфу. Черт ведь... Теперь в бюро находок завтра тащиться... Кошелечек коричневый, потертый, самый средненький. Срезая пахнущим по-зимнему соснячком путь к подъезду, Павел Арсентьевич не выдержал обследовал... Содержимое равнялось одному рублю, ветхому, сложенному пополам. Эть, - из-за пустяков... - Верочка, - сказал он в дверях, улыбнувшись и ясно ощутив движение лицевых мускулов, создавшее улыбку, - сегодня, знаешь... Жена была верной спутницей жизни Павла Арсентьевича и настоящим другом; они делились всем. Она выразила взглядом дежурную готовность мирно принять известие и помочь найти в нем положительную сторону. Они хорошо жили. - Мамочка! бежит! - запаниковала Светка из кухни, грибной дух и шипение распространились одновременно, Верочка взмахнула руками и исчезла. Проголодавшийся Павел Арсентьевич стал настраиваться к обеду: разуваться, переодеваться, мыть руки и попутно растолковывать Валерке, что такое бивалентность и (поглядев в словаре) амбивалентность, причем соглашался долговязый Валерка высокомерно, - возрастное... За столом Павел Арсентьевич, дуя на суп, изложил про дубленку. Верочка разложила второе, налила кисель, щелкнула по макушке Валерку за то, что он жареный лук из тарелки выуживал, и умело раскинула высшую семейную математику, теория которой ханжески прикидывается арифметикой, а практика сгубила не один математический талант. После, выставив детей и конфузясь, Павел Арсентьевич чистосердечно поведал обстоятельства находки и предъявил кошелек. Верочка ознакомилась с рублем номер ОЕ 4731612, 1961 года выпуска, обязательным к приему, подделка преследуется по закону, и сказала: - Бир сом! - А? - встревожился Павел Арсентьевич. - Бир манат, - сказала Верочка. - Укс рубла. Адзин рубель. Добытчик мой!.. Посмеялись... Назавтра у Верочки после работы проводилось торжественное собрание, так что Павел Арсентьевич должен был спешить домой контролировать детей. В четверг же, следуя закономерности своей жизни, он трудился на овощебазе (неясно, вместо кого): таскал в хранилище ящики с капустой. Когда расселись на перерыв, Володька Супрун, начальник второй группы, стал по рублю народ гоношить. Бутерброды у Павла Арсентьевича были, рубля же нет... А Володька ждет, и все смотрят... Плюнул про себя Павел Арсентьевич, достал найденный кошелек, который потом в бюро сдать намеревался, и подал рубль, под шуточки компании. За портвейном с Володькой он же в очереди давился. Застелили ящики, устроили застолье, встретили предварительно наступающий праздник 7 ноября. По-человечески, по-свойски; хорошо. Праздничным утром Павел Арсентьевич еще кейфовал в постели, а вернувшаяся из универсама Верочка уже варила картошку, перемешивала салат и наставляла Светку не-мед-ленно поднимать ленивых мужчин. И водочка на белой скатерти отпотевала, и шпроты, и огурчики, так что Павел Арсентьевич умильно подивился Верочкиной изворотливости. Ответ ему был: - Пашенька... да я у тебя же в кошельке взяла... Павел Арсентьевич не понял. - Ну... который ты нашел... В куртке нейлоновой, что для овощебазы, во внутреннем кармане... лежал... Павел Арсентьевич совсем не понял. Розыгрыш. - Двадцать рублей, - растерялась Верочка. - По пятерке. Три шестьдесят сдачи осталось... Валерка, паршивец, из туалета голос подал: - Дед-Мороз принес, чего неясного!.. Насели на Валерку, но он с шумом спустил воду. По телевизору загремел парад, Светка индейским кличем потребовала своей доли веселья в торжестве, пожаловал Валерка и нацелился отмерить себе алкоголя, - праздник раскручивал свое многоцветное колесо: утюжить костюм, ехать гулять на Невский, из автоматов обзванивать с поздравлениями знакомых, собираться в гости к Стрелковым на Комендантский аэродром... Возвращаясь ночью, вспоминали, как Верочка однажды из мешочка пылесоса вытряхнула десятку... Мало ли забот... В этих заботах он с легким сердцем пожертвовал жениховствующему, предсвадебному Шерстобитову два билета на Карцева и Ильченко, а сам подменил его в дружине: подняв ворот тулупчика, до полуночи патрулировал пустынную Воздухоплавательную улицу, знакомясь с историями из жизни бывалого двадцатилетнего старшины. Из почтового ящика в подъезде Павел Арсентьевич вынул открытку с напоминанием о квартплате. - Ну-ка... тряхни нашу самобранку! - пошутил он, поцеловав Верочку в прихожей. И как-то... не то чтобы они друг друга поняли... а может, и поняли... Верочка открыла защелку стенного шкафа, достала из синей нейлоновой куртки с надорванными карманами кошелек, с улыбкой открыла, перевернув, и тряхнула. На зеленый линолеум прихожей выпорхнули синенькие пятерки: раз-два, три, четыре... В спальне испуганный совет шел шепотом, хотя дети в другой комнате давно спали. Ночью Верочка грела молоко: Павел Арсентьевич не мог уснуть, а снотворное в их доме отродясь не требовалось. - Товарищи, - храбро вопросил Павел Арсентьевич в лаборатории, - кто мне двадцать рублей возвращал, братцы?.. Прозвучало бестактно. Большинство хмыкнуло, а Танечка Березенько покраснела. Толстенький Сергеев пожал ему плечо и мужественным голосом попросил обождать аванса. Павел Арсентьевич смутился, отнекивался. Отнекиваться у Агаряна, Алексея Ивановича, начальника лаборатории, не приходилось. Алексей Иванович хлопотливо усадил его в кресло, угостил сигаретой, осведомился о жизни, после чего ущипнул себя за кавказские усики и поручил бегленько накидать ему тезисы для выступления на отраслевом совещании, за последние полгода, только основы, ну, как он умеет. Всех след простыл, а Павел Арсентьевич терзался муками слова, пока сдал перелицованный текст злой золотозубой блондинке, распускавшей свитер в пустом машбюро. Перед сном он стукнул кулаком по подушке, извлек из тумбочки возле кровати помещенный туда кошелек и дважды пересчитал восемь бумажек пятирублевого достоинства. - Верочка, - фальшиво и крайне глупо обратился к ней Павел Арсентьевич, - ты зачем сюда-то свой аванс положила?.. Аванс лежал в денежной коробке из-под конфет "Белочка", в бельевом шкафу. Павел Арсентьевич закурил в спальне. Верочка пошла греть молоко. От субботника, проводимого в четверг, Павел Арсентьевич неумело попытался увильнуть. ("С таким лицом отказать в просьбе - значит, обмануть в искреннейших ожиданиях... Непорядочно....") И выгребал Павел Арсентьевич ветошь из закройного без всякого подъема духа. И подозрения его не могли не оправдаться. Плюс двадцать рэ. А в пятницу хоронили директора пятого филиала, и отряженный от лаборатории Павел Арсентьевич стоял с траурной повязкой среди венков с лицом воистину скорбным... Плюс двадцать рэ. В его отсутствие Верочка погасила задолженность за квартплату, прибегнув к сумме из этого кошелька. Грянула сцена. Убедившись в недостаче, Павел Арсентьевич хлопнул своим персональным Клондайком об стену и призвал Верочку в спальню. - Что - это? - твердо спросил он. Верочка засвидетельствовала: - Это деньги. - Откуда? - надавил Павел Арсентьевич. Для него такая интонация являлась признаком значительного раздражения. Верочка ответила: - Из кошелька, - и нервно засмеялась. Ночное совещание постановило: ну его к лешему. Унизительно и небезопасно. Что надо - на то они сами заработают. Еще неизвестно, откуда эти деньги в кошельке берутся. И вообще, что это за кошелек такой. Может, здесь такое замешано, что потом грехов не оберешься. Лучше держаться подальше. А посему сдать в бюро находок, и пусть кому принадлежит - тот и владеет. На Литейном, в бюро находок ("гибрид сберкассы и камеры хранения вокзала"), Павел Арсентьевич заполнил за стойкой бланк. Похожий на гардеробщика в синем халате старик казенно кивнул. Павел Арсентьевич сунулся в карман, засуетился и оцепенел: забыл дома... Конфуз вышел. Перерывали дом всей семьей. Валерка брезгливо возил веником под ванной. Светка, перетряхивая игрушки, деловито разломала старую гармошку и нелюбимую куклу Ваньку под предлогом поисков внутри них. Посреди развала Верочка прозрачно посмотрела Павлу Арсентьевичу в глаза, влезла рукой во внутренний карман его пиджака и достала искомый предмет. Предмет содержал сто десять рублей. Вдвое против вчерашнего. - Паша, - сказала Верочка и оробела, - может, так надо?.. - Кому? - резонно возразил Павел Арсентьевич. И сам себе ответил: Мне - нет. - Подумал и добавил: - Тебе - тоже нет. Еще мысль проплыла, что у Танечки есть дубленка, а у Верочки нет, что у Сергеева имеется знакомый частник-протезист, вставляющий фарфоровые зубы... Вздохнул Павел Арсентьевич и обнял жену. Теперь перед высокой двустворчатой дверью бюро он зафиксировал кошелек в кармане. По заполнении бланка карманы в совокупности содержали: носовой платок, сигареты "Петровские", спички, ключи от дома и почтового ящика и шестирублевую проездную карточку на декабрь. Абзац. В заснеженном сквере у метро "Чернышевская" он закурил на скамеечке; осенился - проверил. Достал. Пересчитал. Двести двадцать как одна копеечка. "Удваивает, негодяй..." - прошептал Павел Арсентьевич. Зажал постыдный рог изобилия в кулаке и направил решительные шаги обратно. Кошелек неукоснительно исчез при пересечении линии порога и появился по выходе. Павел Арсентьевич мрачно произнес не к месту фразу: "Вот так верить людям" и пошел вон. Четыреста сорок. Выкинуть? Ну знаете... Да и... тоже не получится... Следующий отчаянный заход добавил пятерку. Эта мелочность подачки воспринималась особенно оскорбительно. Мол, не ерунди, дядя, ты уже все понял. Умница Верочка самочинно приобрела бутылку "Старого замка", и два зеленоватых стаканчика с вином светились, как в добрую старь, на тумбочке у кровати. Выявленная закономерность не поддавалась материалистическому истолкованию, а в идеалистическом они были не сильны. Ученый совет твердого мнения не вывел. Информацию постановили во избежание труднопредсказуемых последствий не распространять, а в качестве дополнительных мер предпринять походы в филиал Академии наук и районное отделение милиции, а также дать объявление в "Вечерку". Насчет Академии наук Павел Арсентьевич представлял себе туманно, а вывеска милиции молочно белела по соседству. Сержантик в рыжих бакенбардах понимающе проследил, не отрываясь от телефона, как потерянного вида гражданин охлопал себя по груди и бокам, покраснел и ретировался. Обозвав меня аферистом, Павел Арсентьевич за углом ревизовал утаившиеся от органов средства, каковые увеличил таким образом на один ветхий рублишко: кошелек явно издевался. Объявление в "Вечерке" незамедлительно потерялось: никаких отклонений и неожиданностей. Кошелек приветствовал разменной монетой двадцатикопеечного достоинства. Нежелание очевидного позора удержало от контактов с Академией наук. Дома густела неопределенная напряженность. Павел Арсентьевич запретил себе вдаваться в ее анализ, крепя заслон от предательски неверных соблазнов. Воля его подрагивала и держалась, как флагшток среди разрушений и тумана. - А многие бы радовались, - простодушно заметила Верочка. - В конце концов, он же платит тебе за добрые дела... - интонация звучала неопределенно... - И даже за добрые намерения, - помедлив, продолжил неподкупный муж. - Ладно... Под ее боязливым взглядом он вынул из кошелька четыреста сорок шесть рублей двадцать копеек и спустился в морозный и мирный вечер, ощущая себя чужим самому себе. Начав твердым почерком заполнять бланк почтового перевода, он обнаружил, что адреса Министерства финансов не знает. Приемщица, озабоченная краснотой своих глазок девочка, усмотрела в вопросах насмешку, но пошла советоваться с другой девочкой, озабоченной линией челки. Под их взглядами Павел Арсентьевич занервничал, как объявленный к розыску преступник при опознании, и рассудил, что министерство не может принять на баланс сумму неизвестно откуда, а как оформить - он не знает. Да и адрес не выяснился. Назавтра в обеденный перерыв он составил в профкоме фирмы заявление о перечислении в Фонд мира. Оформили деловито и спокойно, но вспоминался Павлу Арсентьевичу медосмотр призывников: стоишь голый перед женщинами, и за профессиональной обыденностью все равно угадывается простецкий и стыдный интерес. - И что теперь? - задала Верочка вопрос после ужина. - А что теперь? - благодушно отозвался Павел Арсентьевич, отметивший славный день двумя кружками пива и теперь размышлявший о парилке. Верочка протянула кошелек: - Пятьсот. - Черт какой, - печально молвил Павел Арсентьевич. - А?.. - А я еще когда за тебя выходила, знала, что все у нас будет хорошо, - прорвало вдруг и понесло Верочку. - Мне девчонки наши говорили: "Смотри, Верка, наплачешься: хороший человек это еще не профессия. Он же такой у тебя правильный, такой уж все для всех, весь дом раздаст, а сами голые сидеть будете". Но ято чувствовала, что все не так. Это признание на шестнадцатом году семейной жизни Павла Арсентьевича задело неприятно... Нечто не совсем ожидаемое и знакомое было в нем... - Паша, - тихо сказала Верочка и вдруг заплакала. - Ну что ты мучишься?.. Уж неужели ты не заслужил?.. - Да что ты несешь? Что заслужил? - в бессилии и жалости вскричал Павел Арсентьевич. Он устал. - Устал я! - Все же... все тобой пользуются. Должна же быть справедливость на свете... - Какая еще справедливость! - закричал Павел Арсентьевич, комкая в душе белый флаг капитуляции. - Квартиру дали, зарплаты получаем, в доме все есть, какого рожна?!. И нелепо подумалось, что ему сорок два года, а он никогда не носил джинсов. А ведь у него еще хорошая фигура. А джинсы стоят двести рублей. А Светка через десять лет станет невестой... По лаборатории ползли слухи. Скромный облик Павла Арсентьевича обогатился новой чертой некоей оживленной злости. Предначертанность отчетливо проступила с прямизной и однозначностью рельсовой колеи. И - лопнул Павел Арсентьевич. Сломался. (И то - сколько можно...) ...В Гостином поскользнулся на лестнице, в голове волчком затанцевала фраза: "На скользкую дорожку...", и он не мог от нее отделаться, когда отсчитывал в кассу за венгерскую кофту кофейного цвета, исландский кофейной же шерсти свитер, куклуакселератку со сложением гандболистки, когда принимал у наглоласковых цыганок пакеты с надписью "Монтана" и на Кузнечном рынке набивал их нежнейшими, как масло, грушами, просвечивающим виноградом, благородным липовым медом желтее топаза, когда в винном, затовариваясь марочным коньяком и шампанским, в помрачении ерничая выстучал чечетку ("Гуляет мужик... с зимовки вернулся", - одобрительно заметили за спиной), когда оставшиеся сорок семь рублей, доложив три двадцать своих кровных, пустил на глупейшую якобы хрустальную вазочку в антиквариате на Невском. - Откуда приехал? - со свойским одобрением спросил таксист у разваливающейся груды материальных ценностей на заднем сидении, меж которыми вертелась кроличья ушанка Павла Арсентьевича. - С улицы Верности, - зло отвечал Павел Арсентьевич. - Дом 36. Себе он приобрел десять пар носков и столько же носовых платков, приняв решение об отмене всяческих стирок. Хотел еще купить стальные часы с браслетом, но денег уже не хватило. Неуверенный возглас и заблудившаяся улыбка Верочки долженствовали изобразить их невинность, непричастность к свалившемуся изобилию - ну, как если бы они получили наследство от дальнего и забытого родственника. Светка возопила о Новом годе; Валерка удивился отсутствию нравоучений. Павел же Арсентьевич издал неумелое теноровое рычание, отведал коньяку, пожалел, что не водка или портвейн, и припечатал точку веху воткнул: "Ну и черт с ним со всем". Перевалив внутренний хребет самоуничижения, он почувствовал себя легче. Валерка высказался в том духе, что лучше б часы, а не свитер. Светка, чуя неладное, опасалась, что утром все исчезнет. Верочка прикинула кофту и пошла в спальню с выражением то ли оценить вид, то ли всплакнуть. А Павел Арсентьевич заполировал коньячок шампанским, мелодично отрыгнувшимся, и напомнил себе записаться на прием к невропатологу и получить рецепт на снотворное. Однако спал он чудно. Снились ему джунгли на необитаемом острове, среди лиан порхали пестрые попугаи с деньгами в клювах, а он подманивал их манной кашей, варящейся в кошельке, втолковывая, что кошелек портится без денег, а попугаи гибнут без каши, и если он не наденет джинсы, то они не научатся говорить, усовещивая, что машина ему не нужна - не пройдет в джунглях, а вездеход ему, как частному лицу, не продадут. - Для вас! - кричал он, шлепая по теплой каше ладонью. Попугаи ворковали, кружась: "Паша, Паша..." - но денег не выпускали. - Паша, - сказала Верочка, дуя ему в лицо. - Не кричи... Ты дерешься... Случай предоставился тут же: в Архангельске упорно не клеил Л-14НТ, зато клеил немецкие моющиеся обои дома Модинов и уламывал каждого откомандироваться за него. Сборы Верочкой "командировочного" чемодана Павла Арсентьевича и проводы в аэропорт носили невысказанный подтекст. Под порошистым небом Архангельска звенела стынь; маленькая одноэтажная фабричка оказала ему прием - авторитет! забронировали гостиничную одиночку, директор попотчевал в ресторашке... неудобно... Возясь до испарины в обе смены, с привычной скрупулезностью проверяя характеристики состава и режима выдержки, не мог он не думать - сколько это будет стоить... Раскумекав простейшее и указав парнишке-директору дать разгон намазчицам за свинскую рационализацию (мазали загодя и точили лясы), честно признал, что и за так работал бы не хуже. На родном пороге, отряхивая с себя пыльцу северной суровости и вручая домочадцам тапочки оленьего меха с вышивкой, оттягивал он ожидаемое... Возмутительной суммой в три рубля оценил кошелек добросовестнейшую наладку клеевого метода крепления низа целому предприятию. Уязвленный и разочарованный Павел Арсентьевич слегка изменился в лице. - Как же так? - произнесла Верочка с обманутым видом. - И здесь тоже... - Подразумевалось, что ее представления о справедливости и воздаянии по заслугам в очередной раз не совпали с действительностью. Так что билеты в Эрмитаж на испанскую живопись, из таковой все равно знавший лишь фамилию Гойя и картину "Обнаженная маха", Павел Арсентьевич уступил Шерстобитову хотя и готовно, но не без некоторого внутреннего раздражения. Все же, когда за добро хотят платить - это одно, но подачки... Однако оказалось - десятка... Хм?.. Участие в составе комиссии по проверке санитарного состояния общежития профессионального училища - двадцать. Составление техкарты за сидящую на справке с сыном Зелинскую тридцать. Передача Володьке Супруну двухдневной путевки в профилакторий "Дибуны" - сорок. С неукоснительной повторяемостью прогрессии вырастала привычка, растворявшая душевное неудобство. В свободные минуты (дорога на работу и с работы) Павел Арсентьевич пристрастился размышлять о природе добра и предназначении человека. В фабричной библиотеке он выбрал "О морали" Гегеля, с превеликим тщанием изучил первые четыре страницы и завяз в убеждении, что философия не откроет ему, откуда в кошельке берутся деньги. Принятие на недельный постой покорного сорокинского кота (страдалец Сорокин по прозвищу "Иов" вырезал аппендицит) девяносто рублей. Провоз на метро домой Модинова, неправильно двигавшегося после отмечания своего сорокалетия, и вручение его жене - сто рублей. Добросовестнейший Павел Арсентьевич постепенно утверждался в мысли о правомерности своего положения. Говорят, период адаптации организма при смене стереотипа - лунный месяц. Так или иначе, - к Новому году он адаптировался. - Не исключено, - поделился он мыслями с Верочкой вечером на кухне, что подобные кошельки у многих. Как ты думаешь?.. Верочка подумала. Электрические лучи переламывались в белых плоскостях гарнитура. Новый холодильник "Ока-3" урчал умиротворенно. Она соотнесла оклады знакомых с их приобретениями и признала объяснение приемлемым. Доставка трех литров клея для нужд школьного родительского комитета сто пятьдесят рублей. Помощь при переезде безаппендиксному Сорокину - сто шестьдесят рублей. И азартность оказалась не чужда Павлу Арсентьевичу: впервые конкретный результат зависел лишь от его воли. Дотоле плавное и тихое течение неярких дней взмутилось и светло забурлило. Краски жизни налились соком и заблистали выпукло и свежо. Прямая предначертанности свилась в петлю и захлестнула горло Павла Арсентьевича. Жажда стяжательства обуяла его тихую и кроткую душу. Павел Арсентьевич втянулся, превращаясь в своего рода профессионала. Деловито вертел головой: что еще он может сделать? Проходя коридором, бросался в дверь, за которой двигали столы. Отправлялся в дружину каждую субботу. Лаборатория переглядывалась: дома, видать, нелады... Дома были лады и человеческая радость подъема. Павел Арсентьевич отыскивал молоток и гвозди и чинил ветеранше фабричной химии Тимофеевой-Томпсон каблук, вечно отвалившийся вследствие ее индейской, подвернутой носками внутрь походки. До полуночи подвергался психофизическим опытам темпераментного отпрыска Зелинской, посещавшей театр. Сдав в библиотеку многомудрого Гегеля, до закрытия расставлял с девочками кипы книг по стеллажам; в благодарность его собрались наградить "Ночным портье", - он отказался с испугом... - Вы похорошели, Павел Арсентьевич, - отметили Зелинская и Лосева, оглядывая его енотовую шапку. - Что-то такое мужское, знаете, угрюмоватое даже в вас появилось. Зеркало ни малейших изменений не отражало, но, уловив несколько "женских" взглядов, Павел Арсентьевич решил, что нравится еще вполне может. Ничего такого. Беспокоила лишь работа. Времени на нее не хватало. Он опасался, что это заметят, но каким-то образом дело двигалось, в общем, ничуть не медленнее, чем раньше. С облегчением убедившись в этом, он успокоился. Верочка (при дубленке) записалась на финский мебельный гарнитур "Хельга", и тут оказалось, что срочно продают новый югославский, но деньги нужны в четыре дня. Исходя из соображений, что мебель дорожает, решили деньги собрать. С оттенком сожаления припоминал Павел Арсентьевич, сколько в прошлом не было ему оплачено. Ну - ... Он приналег. Хватал на тротуаре старушек и переводил их под ветхий локоток через переход. В столовой помогал судомойке собирать грязную посуду. Занимал на всех очередь за апельсинами и бежал предупреждать, выстаивая после два часа в слякоти. Навестил в больнице Урицкого, на Фонтанке, помирающего Криничкина. В густом и теплом запахе урологического отделения Павел Арсентьевич сомлел. Криничкин, желтый, облезлый и старенький, был толковым химиком и работал в их лаборатории с самого ее основания. Все он понимал, кивал и спокойно улыбался с плоской подушки; и казалось, что боль его проявляется в этой улыбке... Павел Арсентьевич принес ему конфеток, свежих журналов, три гвоздички, передал приветы от всех... Ах ты, господи... Сумма сложилась. Кошелек выдавал теперь по триста за раз. Удар настиг с неожиданной стороны. Сергеев, косясь на польские сапожки Павла Арсентьевича, хмурясь и крякая, попросил одолжить тысячу на год: водил рукой по горлу и материл жульеавторемонтников и кандидата-гинеколога, пользовавшего жену частным образом. Павел Арсентьевич сохранил самообладание. - Пашка, ты меня угробишь, - отреагировала на известие Верочка. Вздохнули. Поугрызались. Плюнули. Дали. Разрешилось неожиданно: утром Павел Арсентьевич вручил тысячу деловито-счастливому Сергееву, вечером Верочка вынула из кошелька тысячу двести. - Па-авлик, - прошептала ночью Верочка и потерлась об него носом, - у меня такое ощущение, будто мы с тобой моложе стали... - Ага, - признался он. Новый способ был прост и хорош. Павел Арсентьевич стал давать деньги в долг. Расслоились слухи о наследстве из-за границы. Неопределенными междометиями Павел Арсентьевич оставил общественное мнение пребывать в этом предположении, достаточно для него удобном. Облагодетельствование проводилось с глазу на глаз с присовокуплением просьб - и обещаний в ответ - не распространяться. Однажды Павел Арсентьевич в неприятном смысле задумался об ОБХСС; позже его удивило, что тогда он этой мысли не удивился... Черно-вишневый с бронзовой отделкой югославский гарнитур, компактный и изящный, включал в себя тумбочку под телевизор. На нее-то и поставили цветную "Радугу", свезя старенький "Темп" в скупку в Апраксином. Купаясь мысленным взором в синдбадовых красочных далях "Клуба кинопутешествий", Верочка развесила витиеватую фразу: - И какая же белая женщина не мечтает сидеть дома и заниматься семьей - при наличии достатка, - прибегая к общественно полезной деятельности эпизодически и в необременительной форме, по мере возникновения потребности, но не регулярнее и чаще. Павел Арсентьевич соотнес Гавайские острова с грядущим летом и неуверенно завел речь о Сочи. - Этот муравейник в унитазе? - удивилась Верочка с пугающей прямолинейностью выражений. - Приличные люди давно туда не ездят. И настояла на Иссык-Куле: горный воздух, экзотика и фешенебельная удаленность от перенаселенных мест. Под черным флагом пиратствовал Павел Арсентьевич в обманчивом океане добрых дел. Но петля оказалась затяжной. Павел Арсентьевич пытался сообразить, чего ему не хватает. Первые признаки недовольства он обнаружил в себе через несколько месяцев. В яркое воскресенье, хрустя по синим корочкам подтаявшего снега, Павел Арсентьевич высыпал помойное ведро и с тихой благостностью помедлил, постоял. В безлюдном (время обеда) дворе обряженная кулема на качелях Маришка из второго подъезда - старательно сопя, пыталась раскачаться. "Сейча-ас мы..." - Павел Арсентьевич подтолкнул, еще, Маришка пыхтела и испускала сияние от удовольствия и впечатлений. В лифте он вспомнил... и не то чтобы даже омрачился... но весь тот день не исчезала какая-то тень в настроении. С этого эпизода, крупинки, началась как бы кристаллизация насыщенного раствора. Павел Арсентьевич честно спросил себя, не надоели ли ему деньги, и так же честно ответил: нет. Неограниченность материальных перспектив скорее вдохновляла. Но... Накапливалась одновременно и какая-то связанность, усталость. Он больше не был ни легок, ни чудаковат, и сам знал это. Павел Арсентьевич отметил в себе моменты внутреннего злорадства при совершении своих добрых дел. Мол, нате, - а знали бы вы... Стал ловить себя на нехороших, неожиданно злых мыслях. Он понял, что профессия оказалась тяжелее, чем он предполагал. И, пожалуй, оплата, как ни высока она теперь была, производилась все же по труду. Этот успокоительный вывод, вместо того чтобы укрепить душевное равновесие Павла Арсентьевича, непонятным образом усиливал внутреннее раздражение. Система меж тем функционировала отлаженно, от Павла Арсентьевича даже не требовалось личной инициативы. Однако к каждому поступку ему теперь приходилось понуждать себя, и он отчетливо сознавал это. Бунт вызревал в трюме, как тыква в погребе. Но сначала в марте пришло письмо от брата, из Новгорода. Просил приехать. Затемно в субботу Павел Арсентьевич и отбыл "Икарусом" с Обводного и вкатил в Новгород серебряно-солнечным утром. В ободранной квартире, похмельный - нехорош был брат... После ухода жены (несколько лет назад) он тосковал, запивал иногда, говорил о жизни, жалел всех и все пытался объяснить... Они пили в кухне, нежилой, голой - два брата, два невеселых стареющих мужика. И думал Павел Арсентьевич, что лучше б Нина его разлюбезная душа гораздо раньше, и все бы тогда еще сложилось счастливо, пьянел, считал ее стервой и шлюхой, а потом и ее жалел, и говорил неискренне, что все к лучшему, и искренне - что она из тех, на ком вообще жениться нельзя... Наутро брат встал снова черен, Павел Арсентьевич потащил его выгуливать, под закопченными сводами "Детинца" осетрину помонастырски медовухой запили, а вечером дома он заставил его разгребать мусор, пришивать номерки к грязному белью и менять перегоревшие лампочки. В понедельник, позвонив Агаряну и Верочке на работу, он хозяйничал, купил новые занавески и швабру, мыл пол, все заблестело, а вечером выпили - уже немного, перебирали детство, пили за детей, поминали отца и мать и плакали. Павел Арсентьевич подарил брату кофейный пиджак и приемник "Океан" и велел приезжать на следующие выходные. А дома он вынул из кошелька толстую пачку зеленых пятидесятирублевок. Глупо подумал, что доллары - тоже зеленого цвета... В пушистом кофейном джемпере и вранглеровских джинсах он сел за семейный стол и поковырялся в индейке. Вызревшая тыква оказалась бомбой, стенки разлетелись, локомотив сошел с рельс и замолотил по насыпи. Эффект в лаборатории оказался силен. Даже очень силен. Павел Арсентьевич явился на работу ровно в восемь сорок пять и закрыл за собой дверь, уходя, ровно в семнадцать пятнадцать. Масса ужасных вещей вместилась в этот промежуток времени. В восемь пятьдесят пять он отказался утрясать вопросы с технологами. - Супрун, - с сухим горлом ответил он, - это компетенция начальника группы. Или завлаба. Я запустил работу. Пусть прикажут - тогда пойду. Супрун растерялся, стушевался, просил извинения, если обидел, и только потом обиделся сам. Алексей Иванович Агарян, заглянувший с мягким пожеланием приналечь, получил ответ: - Кто везет - того и погоняют. Агарян обомлел и ущипнул себя за усики. Похолодевший от усилия над собой Павел Арсентьевич стал точить карандаш. Каждый час он выходил на пять минут курить в коридор, и в лаборатории словно включали тихо гудящий трансформатор: "Крупные неприятности... ОБХСС... вызывают в Москву... любовница..." - Извините - я ни-чего не могу для вас сделать, - ласково, с состраданием даже сказал он бескаблучной Людмиле Натальевне Тимофеевой-Томпсон. Старая дама в негодовании ушла к затяжчикам. Теперь Павел Арсентьевич не садился в транспорте, чтоб не уступать потом место. На улице смотрел прямо перед собой: пусть падают кому нравится, его не касается. Отворачивался, когда женщины брались за пальто: не швейцар. Существование его двинулось в перекрестии пронизывающих взглядом; они вели его, как прожекторные лучи намеченный к сбитию самолет. В последующие дни он отказался от встречи с подшефными школьниками, овощебазы, дружины и стояния в очереди за колготками, заполучив неприязнь Тимофеевой-Томпсон, Зелинской и Лосевой, Шерстобитова, который все еще не женился, но уже на другой, и Танечки Березенько. В его отсутствие для успокоения общественного самолюбия решили, что Павел Арсентьевич нажил расстройство нервов вследствие переутомления. Без двадцати семь он являлся домой с продуктами из универсама, с аппетитом обедал, шутил, возился со Светкой, мыл посуду, декламировал прочувственные нравоучения Валерке и читал в постели журнал "Юный натуралист". По истечении пятнадцати суток этого срока испытаний он получил пятьдесят пять рублей аванса, кои и вручил Верочке со скромным и горделивым видом наследника, отрекшегося от миллионов и заколотившего копейку грузчиком в порту. Кошелек пятнадцать суток провел в запертой на ключ тумбочке; ключ был упрятан в старый портфель, а портфель сдан в камеру хранения. По освобождении кошелек предъявил тысячу восемьсот пятьдесят рублей: на полсотни больше последней выдачи, как и наладился. Спорить и бессмысленно ломиться против судьбы они с Верочкой не стали, деньги отложили, а часть пустили на жизнь. Ночью в туалете Павел Арсентьевич составил крайне детальный список: что в жизни делать обязательно, а что - сверх программы. "И никакого произвольного катания, - шептал он, никакой самодеятельности". Жизнь приобрела напряженность эксперимента. Павел Арсентьевич боялся лишний раз улыбнуться. Мучился, взвешивая каждое слово. Дома обедал, смотрел телевизор и ложился спать все. "Как все нормальные мужья", веско объяснил Верочке. Еще пятнадцать суток. Тысяча девятьсот. Нехороший блеск затлел в глазах Павла Арсентьевича. Ночами он просыпался от сердцебиений (по-современному - тахикардия). Назавтра, скованный от злости, он сидел в вагоне метро, отыскивая глазами женщин постарше, поседее; и сидел. Танечке Березенько ни с того ни с сего влепил, что надо соотносить траты со средствами. В скороходовском дворе оглянулся, подобрал камешек и с силой запустил в голубя; не попал. Сергееву велел пошевеливаться с долгом; он не миллионер. Тимофеевой-Томпсон прописал ходить в обуви без каблуков: и по возрасту приличнее, и для ног легче. "А также для чужих рук", негромко добавил. Какие услуги!.. Пружина разворачивалась в другую сторону: треск и щепки летели. В воздухе лаборатории пышным цветом распустились нервозные колючки. Зелинской и Лосевой было велено пройти заочный курс техникума легкой и обувной промышленности, а также бросить бегать в театр и записаться - с целью замужества - в клуб "Тем, кому за 30". Агаряну было положено заявление о десятке прибавки. Агарян вырвал два волоска из усиков, подписал и двинул в бухгалтерию. Павел Арсентьевич ждал конца этих пятнадцати суток, как зимовщик уже показавшегося на горизонте корабля со сменой. Корабль подвалил, и в пену прибоя посыпались с автоматами над головой десантники в чужой форме. Тысяча девятьсот пятьдесят. Любимым местом в доме постепенно стала у Павла Арсентьевича ванная. Там он мог быть один, долго и вроде по делу. Он пристрастился сидеть там часа по два каждый вечер; дети мыли руки перед сном на кухне. Он сидел под душем, хлещущим по разгоряченному лысеющему темени, время от времени высовываясь к прислоненной у мыльницы сигарете. "Гад, шептал он, затягиваясь, - паразит, врешь, что хочу, то и делаю". Чего он хотел, он уже решительно не знал, а делал следующее. Потребовал двухдневную путевку в профилакторий; и получил, и не поехал, но Сорокин тоже не поехал. Совершил прогул: вызвал врача, настучал градусник, подарил коробку конфет и получил больничный по гриппу на пять дней. Позвонил в лабораторию (телефон стоял давно - триста рэ) и злобно потребовал навестить его - как он навещал всех. Вечером примчалась делегация в составе Зелинской и Лосевой с хризантемами и Супруна с "Мускатом", которую Павел Арсентьевич и велел Верочке не пускать: он-де заснул впервые за двое суток. Вышел в день совещания по итогам первого квартала, потребовал слова и вознес ханжеским голосом льстивую и неумеренную хвалу администрации, заработал неожиданно аплодисменты, спохватился и тут же подверг администрацию черной клеветнической критике, а деятельность родной лаборатории смешал с грязью, предложив чистку, ревизию и пересмотр планов работы и штатного расписания, снова сорвал аплодисменты и с легким сердечным приступом был отвезен домой на такси. Кошелек платил. Павел Арсентьевич потерял всякую ориентацию, словно слепой в невесомости. Он обратился к своей душе, узрел в ней скверну и грянул во все тяжкие. Перестал здороваться с соседями по площадке. В комиссионке предложил взятку продавцу за японские электронные часы "Сейко"; часы нашлись тут же. На грани невменяемости Павел Арсентьевич украл в универмаге папку масла и банку сардин, заставил кассиршу дважды пересчитать и вслух сказал: "Жулье". Он стал пить и ругаться. Кошелек платил. В два часа ночи Павел Арсентьевич обнаружил себя в незнакомой комнате и почти в такой же степени незнакомой постели, где лежала незнакомая женщина. Восстановив в памяти предшествующие события, он убедился, что изменил Верочке сознательно. Домой назло не звонил и пришел лишь вечером после работы. Был принят с пониманием и уважением - усталый добытчик, глава семьи. Кошелек заплатил. Ушибившись о бесплодные крайности, Павел Арсентьевич решил попытать счастья в золотой середине. И бросил делать вообще что бы то ни было. Он бросил ходить на работу. И вообще никуда не выходил. Поставил в ванную переносной телевизор, бар и пепельницу и сидел целыми днями среди благоухающих сугробов немецкого шампуня, пил черный португальский портвейн по шесть пятьдесят бутылка, курил крепчайшие кубинские "Партагас" и прибавлял теплую воду. Верочка плакала... Кошелек платил. Холодным апрельским утром Павел Арсентьевич умыл лицо, побрился, выпил крепкого чаю, надел старую синюю нейлоновую куртку, сел в троллейбус, доехал до Дворцового моста и с его середины кинул кошелек в воду. Выпил кружку пива, позвонил на работу, сообщил, что тяжело болел и завтра придет, дома произвел уборку, приготовил обед, забрал удивленную и обрадованную Светку из садика и поведал пришедшей Верочке финал всех событий. - Ну и слава богу, - сказала Верочка, с лица которой словно сняли теперь светомаскировку. - Так и лучше. Вечером они ходили в кино. И весь следующий день тоже был славный, теплый и прозрачный. А дома Павел Арсентьевич увидел кошелек. Он лежал на их постели, отсыревший, и на покрывале вокруг расходилось влажное пятно. На тумбочке испускала струйку кучка мокрых денег. - Ааа-аа!.. - голосом издыхающего барса сказал Павел Арсентьевич. - Пришел, - сказал кошелек. - Мерзавец... Свинья неблагодарная. - И простуженно закашлял. - Ты соображаешь хоть, что делаешь? Павел Арсентьевич взвизгнул, схватил обеими руками мокрую потертую кожу, выскочил на балкон и швырнул ее в темноту, вниз, на асфальт. - Вот так, - хриповато объявил он семье. И не без рисовки стал умывать руки. Назавтра, отворив дверь, по лицам домашних он сразу почуял неладное. Кошелек сидел в кресле под торшером. Нога у него была перебинтована. Он привстал и отвесил Павлу Арсентьевичу затрещину. - Он в травматологии был, - хмуро сообщил Валерка, отведя глаза. Окаменевшая Верочка двинулась на кухню. Кошелек потребовал чаю с лимоном. Отхлебнул, поморщился на чашку и сказал, что даст на новый сервиз, хотя они и не заслужили. Петля стянулась и распустилась сетью: началась оккупация. Кошелек велел, чтоб его величали Бумажником, но откликался и на Портмоне. Запрещал Светке шуметь. Ночью желал пить чай и читать биографии великих финансистов, за которыми гонял Павла Арсентьевича в букинистический. На дверь ванной налепил голую девицу из журнала. По телевизору предпочитал эстрадные концерты и хоккейные матчи, сопровождая их комментарием, кто сколько получает за выступление. Во время передачи "Следствие ведут знатоки" клеветал: говорил, что все они взяточники и сажают не тех, кого следует, и поучал, как наживать деньги, чтоб не попадаться. И за все исправно платил. Под его давлением Верочка записалась в очередь на автомобиль и на кооперативный гараж. Кошелек обещал научить, как провернуть все в полгода. Однажды Павел Арсентьевич застал его посылающим Валерку за коньяком, с наказом брать самый лучший. Валерке сулился магнитофон к лету. Верочка говорила, что теперь уже ничего не поделаешь, а когда они поменяют с доплатой свою двухкомнатную на четырехкомнатную - она уже нашла маклера, - то у Бумажника будет своя комната, и все устроится спокойно и просторно. Именование ею кошелька Бумажником Павлу Арсентьевичу очень не понравилось. Еще менее ему понравилось, когда Кошелек погладил Верочку ниже спины. Судя по отсутствию у нее реакции, случай был не первый. Павел Арсентьевич пригрозил уволиться с работы и пойти в ночные сторожа. Кошелек парировал, что он может хоть вообще не работать - хватит и работающей жены, с точки зрения закона все в порядке. Да хоть бы и оба не работали, плевать, с милицией он сам всегда сумеет договорится. Павел Арсентьевич замахнулся стулом, но Кошелек неожиданно ловко ударил его под ложечку, и он, задохнувшись, сел на пол. Когда Светка гордо объявила, что подарила Маришке из второго подъезда синий мячик и помогала искать котенка, Павел Арсентьевич напился до совершенного забвения, попал в вытрезвитель, из которого и был извлечен через час телефонным звонком Кошелька. ...Билет он взял в кассах предварительной продажи на Гоголя. До Ханты-Мансийска через Свердловск. Там есть и егеря, и промысловая охота, и безлюдность и отсутствие регулярного сообщения, - он прочитал все в энциклопедии. Друг его институтского друга работал в тех краях лесничим. Пристроит. Он оставил Верочке письмо в тумбочке и поцеловал спящих детей. Чемодана с собой не брал. Одолжит денег и купит все на месте. Утро в аэропорту было ветреное и ясное. Самолеты медленно рулили по бетонному полю и занимали место в ряду. Гулко объявили регистрацию на его рейс. Павел Арсентьевич прошел контроль, магнит, стал в толпе ожидающих выхода на посадку и засвистал пионерскую песенку. Подъехал желтый автобус-салон, прицепленный к седельному тягачу-ЗИЛу, дежурная сдула кудряшку с глаз и открыла двери; все повалили. Трап мягко поколебался под ногами, и Павла Арсентьевича принял компактный комфорт лайнера. Его место было у окна. Салон был полупустой и прохладный. Павел Арсентьевич застегнул ремень, улыбнулся и закрыл глаза. Дверца хлопнула. Трап отъехал. Засвистели турбины, снижая мощный тон. Они тронулись. Потом город в иллюминаторе накренился, бурая дымка подернула его уменьшающийся постепенно чертеж, и Павел Арсентьевич задремал. - Минеральная вода, - сказала стюардесса. Павел Арсентьевич протянул руку к подносу, и тут же протянулась к пластмассовой чашечке с ручкой без отверстия рука соседа. Рядом сидел Кошелек. Он солидно раскинулся в кресле у прохода и благосклонно разглядывал круглые коленки стюардессы под смуглым капроном. - А покрепче ничего нет? - со слоновой игривостью поинтересовался Кошелек, поднимая доброжелательный взгляд к ее бюсту. - Покрепче нельзя, - без неудовольствия отвечала стюардесса, и в ее голосе Павел Арсентьевич с тоской и злобой различил разрешение на подтекст. Она повернулась с пустым подносом и пошла за следующей порцией. - А? - сказал Кошелек и подмигнул вслед округлостям под синим сукном. - Ни-че-го... В Свердловске они на отдых пойдут; там посмотрим. Выпьем, причастимся? А то ведь с утра не выпил день пропал. Он вынул из внутреннего кармана плоскую стеклянную бутылочку коньяку. - Потом в туалете по очереди покурим, точно? А в Свердловске хватай в буфете два коньяка и дуй прямо к диспетчеру по пассажирским перевозкам. А то мы с тобой в Ханты-Мансийск до морковскиных заговин не улетим. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Программа предназначена для элективного курса литературы общеобразовательной школы и предусматривает проведение цикла занятий, посвященных творчеству современных авторов. Элективный курс призван ввести старшеклассников в мир новейшей художественной литературы последнего десятилетия хх века. Курс рассчитан на изучение « малоформатной» литературы. Ученик самостоятельно читает текст, а не знакомится с ним « в обзоре». Небольшое по объему произведение удобно для текстуального анализа и позволяет сосредоточиться на выявлении художественного своеобразия текста. Программа элективного учебного предмета “Современный рассказ” Курс предусматривает анализ художественных особенностей текстов, знакомство с критической литературой по проблеме, а также письменные работы учащихся (рецензия, аннотация, путевые заметки, слово о писателе, статья, сопоставительный анализ). Для активизации учащихся программа курса предлагает организовать учебный процесс, активно используя нетрадиционные формы занятий: урок – знакомство, исследования, диспут, презентация, игра. Курс – 34 часа. Цели элективного курса: 1. Научить анализировать произведения в сложном общественном и политическом контексте. 2. Поддержать, закрепить, развить интерес учащихся к чтению. 3. Научить размышлять над прочитанным. 4. Формировать умение писать сочинения различных жанров. 5. Научить самостоятельно проводить дискуссии, диспуты и конференции. По окончании курса ученик должен уметь: ‐выявлять основную проблематику произведения; ‐характеризовать героя произведения; ‐производить целостный анализ художественного произведения; ‐аргументировать собственное видение художественного текста; ‐писать сочинения разных жанров; ‐готовить доклад и реферат на литературную тему. Содержание программы Новеллистика – « эстетически ключевой жанр современной словесности. Введение Человек в кругу семьи.» Все во мне , и я во всем». По рассказу Д. Бакина « Сын дерева».Цена беспамятства. По рассказам из книги Д. Бакина «Страна происхождения». Человек и война. « Никак мы из войны не выйдем, все воюем, воюем…» По рассказу В. Маканина. «Кавказский пленный». « Путь в герои». Выбор жизненного пути. « Анатомия героя». По рассказу А. Цветкова» Герой рабочего класса». « Герой нашего времени». По повести В. Залотухи « Последний коммунист». « Человек создан для счастья». Быт и мечта. Героиня рассказа В. Буйды « Фарфоровые ноги» из книги « Прусская невеста». Рассказ Ю Буйды « Ванда Банда». Общественное благо и счастье человека. По рассказам Ю. Буйды « Отдых на пути в Индию» и « Чудо о Буянихе» из книги « Прусская невеста». Человек и социум. Семинар по романам – антиутопиямЕ. Замятина, О. Хаксли, В. Войновича. Русский национальный характер. « Человек и мир, в котором он живет, глазами современного писателя. По рассказам В. Пьецуха из книги « Драгоценные черты». Человек на земле. Повести Б. Екимова « Пиночет», « Сердечное понимание мира».Рассказы Б. Екимова « Пастушья звезда», « Что там, в душе человеческой». Учебно – тематический план домом». № Тема Образовательн ый продукт Вид урока Количест во часов Дата по пла ну 1 2 Новеллистика – «эстетически ключевой жанр современной словесности». Введение Человек в кругу семьи. « Все во мне, и я во всем». По рассказу Д. Бакина « Сын дерева». Анкетирование « Цели и задачи, которые я ставлю перед собой, посещая этот элективный курс». Урок знакомство Эссе « Размышляя над строками И. Бродского : « Ничем уж их нельзя соединить: Чертой лица, характером, надломом. Но между ними существует нить. Обычно именуемая Урок исследовани е Анализ рассказа « Сын дерева». Дат а фак т. 3 1 4 Цена беспамятства. По рассказам из книги Д. Бакина « Страна происхожден ия». Написание статьи в газету. Человек и война. « Никак мы из войны не выйдем, все воюем, воюем…» Рецензия на рассказ В. Маканина « Кавказский пленный» Урок диспут 2 5 « Путь в герои». Выбор жизненного Подготовка выступления по радио. 2 Анализ рассказа «Стражник лжи». Заседание художествен ного совета. 1 В красках выразить понимание темы и дать Интерпретация произведения По рассказу В. В. Астафьева « Так хочется Маканина « жить». Кавказский пленный».. 2 Урок сотворчество пути. « Анатомия героя». По рассказу А. Цветкова « Герой рабочего класса». 6 7 « Герой нашего времени». По повести В. Залотухи « Последний коммунист». « Человек создан для счастья». Быт и мечта. Героиня рассказа В. Буйды « Фарфоровые ноги» из книги « ему словесное обоснование. Прусская невеста». 2 2. Рецензия на рассказ А. Цветкова. 8 3 Сочинение « Мой современник на страницах произведений последнего десятилетия». 9 Сочинение « Проблема « отцов» и « детей» в повести В. Залотухи « Последний коммунист». Урок экскурс Речь прокурора или адвоката. Суд над литературны м пером 1 0 2 2 1 1 Рассказ Ю Буйды « Ванда Банда». Написание аннотации к произведению. Презентация книги 2 Общественно е благо и счастье человека. По рассказам Ю. Буйды « Отдых на пути в Индию» и « Чудо о Буянихе». Путевые заметки. Урок путешествие Человек и социум. Семинар по романам – антиутопиям Е. Замятина, О Хаксли, В. Войновича. Рецензии на выступления. Русский национальны й характер. « Человек и мир, в котором он Сочинение в жанре слова о писателе. Сопоставитель ный анализ рассказов Ю. Буйды. 2 Урок семинар 2 Слово о писателе 2 живет, глазами современного писателя». По рассказам В. Пьецуха из цикла « Драгоценные черты». 1 2 1 3 1 4 1 5 Человек на земле. « На благословенн ой и такой неуютной земле…» По повести Б. Екимова « Пиночет». « Сердечное понимание мира». По рассказу Б. Екимова « Пастушья звезда». Размышление на тему: « Благостная триада «человек» ‐ «природа» ‐ «Бог» у Екимова и «проблематич но‐трагичное видение жизни и смерти у Бакина». Сравнительн ый анализ 2 2 Интерпретация рассказа Б. Екимова. Человек за колючей проволокой. Написание статьи в газету на тему:»Трагичес кие страницы современной истории» Исторический экскурс Создание своего оригинального рассказа. Литературное кафе Повесть С. Довлатова «Зона» в контексте лагерной прозы. Урок ‐ размышлени е « Что там, в душе человеческой ?» По рассказу Б. Екимова « Фетисыч». 1 6 Русская интеллигенци я в испытаниях времени. Урок ‐ размышлени е 2 Исследователь ская работа по « О, хищные вещи века. На повести. душу наложено вето…» По повести С. Довлатова « Чемодан» 2 2 1 7 Блеск и нищета популярного жанра (детектив, фантастика, авантюрный роман) « Игра с историей» По детективу Б. Акунина « Азазель». Размышление на тему: «Мое отношение к детективным романам Б. Акунина». « Мой любимый детектив». «Филологичес кая фантастика». По роману М. Успенского « Там, где нас нет». Словарь топонимов» книги М. Успенского. Урок с историей 1 Звягина». 1 8 1 9 « Игра в героя». По роману М.Веллера « Приключения майора Урок экспедиция по стране языка Сборник фразеологизмо в , поговорок, пословиц и афоризмов, встречающихся в тексте романа. 1 Презентация 1