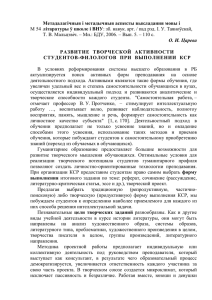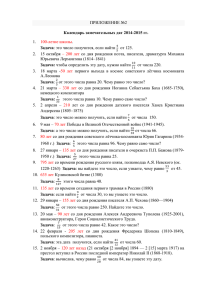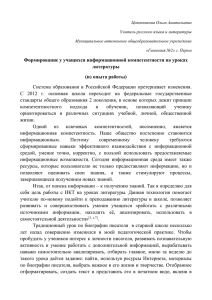(ред.) — Творческая индивидуальность писателя
реклама

Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е А ГЕ Н Т СТ ВО П О О Б РАЗО ВА Н И Ю ГОУ ВПО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ Материалы Международной научной конференции (Ставрополь, 2–3 октября 2008 г.) Ставрополь, 2008 Удк 82.09:801.73 ББК 83.3(2Рос37) Т 28 Т 28 Творческая индивидуальность писателя: тео­ретические аспекты изучения : сб. материалов Междунар. научной конф. [Текст] / ред.-составитель Л. П. Егорова. – Ставрополь : изд-во Ставропольского гос. ун-та, 2008. – 296 с. ISBN 5–88648–623–2 В сборник включен ряд докладов и выступлений на Международной научной конференции, в которых анализируются теоретические аспекты содержания понятия «творческая индивидуальность», рассматриваются дефиниции, соотнесенность с другими ключевыми понятиями современного литературоведения. На материале творчества отечественных и зарубежных писателей выявляются пути и формы воплощения творческой индивидуальности в поэтике художественного произведения. Предназначен для научных работников, преподавателей вузов, аспирантов, студентов. ISBN 5–88648–623–2 УДК 82.09:801.73 ВВК 83.3(2Рос37) © Ставропольский государственный университет, 2008. © Авторы статей, 2008. I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ: ПРОБЛЕМА ДЕФИНИЦИЙ Егорова Л. П., Ставрополь Печать творческой индивидуальности лежит на каждом значительном художественном произведении. Постановка проблемы творческой индивидуальности писателя отвечает задачам изучения художественной антропологии (человековедческого аспекта литературного произведения), ее теоретическому осмыслению в науке о литературе. Рассмотрим проблему дефиниций, раскрывающих значение того или иного понятия, соотнесенность категорий «творческая индивидуальность» и «творческая личность». Как понятие философии и психологии «индивидуальность» обозначает своеобразие, совокупность качеств и исключительных свойств, выражающих сущность особенного, т. е. свойств отдельного индивида. Последний в «Толковом словаре русского языка» определяется как «отдельная личность». Соответственно, определение «индивидуальный» трактуется как «личный», свойственный данному индивиду, отличающемуся характерными признаками от других. Поэтому понятия «индивидуальность» и «личность» порой понимаются как синонимы, хотя они самодостаточны: под индивидуальностью понимаются особенности характера и психического склада, отличающие одного индивида от другого, а под личностью – человек как «носитель каких-нибудь свойств», в том числе и присущих другому. Указанные понятия были четко разграничены еще в словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Индивидуальность, по определению автора словарной статьи, – то, чем одно существо отличается от других (преимущественно в психическом отношении); то, что свойственно только данному существу одному и делает его тем, что оно есть. Понятие «личность» в том же словаре раскрывалось в трех аспектах: телесная личность, психическая личность, социальная личность, что предусматривало констатацию не только индивидуального – особенного – но и общего. Такое философское истолкование понятия сохранилось и в наши дни: в отличие от личности, индивидуальность – специфическое, непо3 вторимое в индивиде [9, с. 176]. «Личность» более широкое понятие, чем «индивидуальность», при изучении личности акценты делаются не только на своеобразии, а на социализации индивида, на его способности интегрироваться в человеческое сообщество, понимать не только себя, но и другого. Применительно к художественной литературе подобное разграничение понятий «индивидуальность» и «личность» встречается еще на рубеже ХIХ–ХХ вв., по крайней мере, у М. Горького. В статье «Разрушение личности» (1909) он, исходя из контекста высказывания, последовательно обращается то к одному, то к другому понятию: «В России каждый писатель был воистину и резко индивидуален, но всех объединяло одно упорное стремление – понять, почувствовать, догадаться о будущем страны, о судьбах ее народа, об ее роли на земле. Как человек, как личность, писатель русский доселе стоял освещенный ярким светом беззаветной и страстной любви к великому делу жизни, к литературе, к усталому в труде народу, грустной своей земле» [3, с. 66]. Известна и другая горьковская характеристика русских писателейклассиков, где акцент сделан именно на индивидуальности каждого: «тоскующий Лермонтов», «грустный Тургенев», «больная совесть наша – Достоевский» и т. д. Горьковские определения, разумеется, не претендовали на научность, но различие между понятиями «личность» и «индивидуальность» они иллюстрировали хорошо. В советском литературоведении оба указанных понятия употреблялись с акцентом на специфике творческого труда художника слова: «творческая индивидуальность», «личность художника», «литературная личность» (последнее было введено Ю. Тыняновым). Но в качестве официального термина признавалась «творческая индивидуальность». Это подтверждают публикуемый ниже историографический обзор О.А. Шатохиной и П.К. Чекалова и данные предметного указателя одного из изданий семинара «Textus» – «Три века русской метапоэтики», где в выступлениях советских поэтов второй половины ХХ в. часто встречается понятие «индивидуальность» [8, с. 941]. Иная картина наблюдается в наши дни. Задумаемся над причинами, по которым на рубеже 1980–1990-х гг. понятие «творческая личность», столь популярное в 1960–1970-х гг., исчезло со страниц литературоведческих изданий. Для советского периода характерно невнимание к личности, и оно определялось исходными идеологическими позициями: в предметном указателе к сочинениям Маркса и Энгельса «личность» занимает неизмеримо меньшую «площадь», чем «человек», тогда как в ХХ в. философия, включая и труды русских религиозных философов, прошла путь от понятия «человек» к образу личности. Положение советской критики и литературоведения усугублялось большевистской доктриной: жесткая ленинская, идущая от радикального народничества, позиция в вопросах партийной дисциплины на4 кладывала отпечаток и на другие стороны жизни, в том числе и на литературу. В. Маяковский – яркая личность в поэзии. Резко полемизируя с противниками его поэтического Я («Я для пролеткультовца все равно что неприличность»), он в поэме «В.И. Ленин», тем не менее, создал уничижительный образ «единицы». Так выстраивалась оппозиция «личность – коллектив» (прежде всего партийный): «Единица! Кому она нужна?! Голос единицы тоньше писка. Кто ее услышит? – Разве жена! И то если не на базаре, а близко. <...> Единица – вздор, единица – ноль». Подобная позиция отражена и в дневнике Д. Фурманова, автора знакового для советской литературы романа «Чапаев»: «Цену человеческой жизни и даже личности мы свели к нулю – тем больше подняли мы цену любого крошечного общественного явления». В.А. Лавров, приведя это высказывание [7], первый полюс оппозиции обозначил горьковскими словами: «Народ должен много потрудиться для того, чтобы приобрести сознание своей личности». (По иронии истории, это было сказано Горьким в «Несвоевременных мыслях», которые вернулись к читателю и в литературоведение лишь в постсоветский период на фоне ужасающей картины правды о репрессиях и преступлениях против личности). В условиях резко негативного отношения к традициям формальной школы в советский период было отвергнуто и забыто тыняновское понятие «литературная личность»; возобладало понятие «творческая индивидуальность». Однако оно толковалось расширительно и обязательно включало в себя личностные характеристики. Так, словарная статья Л.И. Тимофеева и С.П. Тураева – составителей «Словаря литературоведческих терминов» (1974) – была справедливо направлена против тех, кто не видел различий «между одним и другим писателем, если они по происхождению и общим убеждениям принадлежат к одному и тому же классу». Статья внесла свою лепту в борьбу с вульгарным социологизмом от литературоведения, и творческая индивидуальность правильно трактовалась авторами как «неповторимые качества». Однако последние сразу включались в более общий контекст: «неповторимые качества» буквально в рамках одного предложения рассматривались как «отражение особенностей литературы эпохи и направления, к которым он (писатель) принадлежит». Разговор о «своем» у писателя, о его «неповторимых качествах» сразу же сводился к их подчиненности «определенным закономерностям». Фактически определение «творческая индивидуальность» под пером составителей словаря стало синонимом понятия «творческая личность». Так понятия, по сути своей разные, становились рядоположными при лидирующей роли понятия «творческая индивидуальность». Позиция составителей словаря отражала уровень литературоведения 1960–1970-х – трудов И. Неупокоевой, М. Храпченко, Б. Костелянца, Б. Бурсова и др. Вспомним наиболее авторитетное издание под грифом 5 Академии наук – «Художественный текст и творческая индивидуальность писателя» (1964). В статье И. Г. Неупокоевой «Писатель – литературное произведение – общество», утверждалось: понятие «творческая индивидуальность» шире, чем только представление о мастерстве, о характере таланта, артистизме, оно включает и направленность таланта, ту эстетическую позицию писателя, которая никогда не может быть только эстетической, но всегда является выражением определенной общественной его позиции. «Творческая индивидуальность» и «личность писателя» в работах тех лет выступали, в сущности, как одно понятие, которое предполагало, что «все советские писатели стоят на позициях единого марксистско-ленинского мировоззрения». При этом понятие «личность» без эпитета «литературная» больше понималась как личность биографического автора, нежели как литературоведческая категория, выявляемая специальным филологическим анализом. Проблема творческой индивидуальности наиболее подробно разработана в одной из глав книги М.Б. Храпченко «Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы». Понятия «творческая индивидуальность» и «личность писателя» им также трактуются как синонимы: «Творческая индивидуальность – это личность писателя в ее важнейших социально-психологических особенностях, ее видение и художественное претворение мира...» [12, с. 79, курсив мой. – Л.Е.]. Но Храпченко предостерегал против отождествления творческой индивидуальности с «житейской личностью» художника. Известным литературоведом были сделаны и акценты, касающиеся самого существа творческой индивидуальности: к ним он относил индивидуальное видение мира; в его трактовке М.Б. Храпченко следовал за Тургеневым, который в писателе ценил «свой голос», «свои собственные нотки», а так же оригинальность в способе мышления, в убеждениях и, конечно, в стиле [12, с. 60–61]. Но, повторям, в целом под творческой индивидуальностью в советском литературоведении в основном понималась творческая личность – понятие, на наш взгляд, более широкое, чем творческая индивидуальность, выявляющее не только индивидуальное, но и общее, вплоть до общности по направленческим и «теченческим» критериям, по выбору литературных традиций. (Хотя сам выбор той или иной традиции – это тоже проявление творческой индивидуальности.) В периоды «перестройки», а позже – тотального отвержения в 1990-х гг. всего советского, протест против недавнего попрания прав личности, (осознанный, или даже неосознаваемый), выдвинул на первый план именно эту категорию. В литературоведении стало возрождаться и определение Ю. Тынянова «литературная личность». Первым шагом в этом направлении стала опубликованная еще в 1980 г. статья В. Эйдиновой, в которой были подробно репрезентированы основные положения выдающегося представителя формальной школы. Для Тынянова, как показано Эйдиновой, «литературная личность» писателя 6 соотносима с его «биографической личностью», но огтнюдь не равна ей и должна рассматриваться в оппозиции «совпадение/несовпадение». Грани писательского «Я» связаны друг с другом сложно, «не прямо», а подчас и конфликтно, что показано Тыняновым на примере Тютчева. Отношения реальной личности поэта и личности, открывающейся в его творчестве – предмет специальных литературоведческих штудий (а не только биографических изысков), ибо понятие «литературная личность» используется в основном для выявления специфики художественного мира и понимается как нечто создаваемое в самом творчестве художника, в его произведениях. Степень отхода от «живой» личности творца, по Ю. Тынянову, может быть различной. Во-первых, может происходить персонификация авторского Я, его, как говорил Тынянов, «оличение». Особая активность биографического «Я» становится литературным приемом: «Эмоциональные нити, которые идут непосредственно от поэзии Блока, стремятся сосредоточиться, воплотиться и приводят к человеческому лицу за нею» [9, с. 123]. Однако само это «лицо» – плод искусства. Поэтому категория «литературная личность» сопрягается с индивидуальным стилем (сейчас чаще употребляется термин «идиостиль»), с такими понятиями, как персонаж, сюжет, жанр, художественная речь, столь индивидуальная в поэзии Крылова, Катенина, Пушкина в начале ХIХ века, а в следующем столетии у Ахматовой, Маяковского, Пастернака и др. [см.: 11, с. 74–78]. К сожалению, статья В.В. Эйдиновой прошла незамеченной. На рубеже 1990–2000 гг. термин «литературная личность» (или «творческая личность») стал встречаться чаще. Однако в содержательном плане возвращенное понятие отличалось тем же синкретизмом, что в недавнем прошлом «творческая индивидуальность». Фактически понятие «творческая личность», «литературная личность» стали обозначать то же самое, что во времена М.Б. Храпченко обозначалось понятием «творческая индивидуальность». Естественно, что из двух понятий, относимых к одному явлению, одно оказывается лишним, и теперь забвению подверглось именно «творческая индивидуальность», ассоциируемая с советским литературоведением. Но являются ли оба понятия синонимами? На наш взгляд, можно говорить о присущем каждому из них своем содержательном объеме. Поставленная на сегодняшней конференции проблема творческой индивидуальности не должна растворяться в указанном большом массиве научных текстов более широкой направленности. Попытаемся сформулировать, какие именно постулаты антропоцентрической парадигмы [см.: 2] имеют самое непосредственное отношение к решаемой проблеме. Еще в 1983 году в «Кратком словаре по эстетике» под ред. М.Ф. Овсянникова в определении «творческая индивидуальность» более четко, чем в предшествующем одноименном словаре (1980) акцентировалось единство врожденных качеств (музыкальный слух, чувство цвета, 7 ритма, объема, формы, мировоззрения (точнее – видения мира. – Л.Е.), внутреннего мира художника, проявляющихся в художественном творчестве. Особенности индивидуальности проявляются в способности избирательно реагировать на объект творчества, т. е. здесь можно говорить о своеобразии интенциональности (Гуссерль) – направленности сознания на предмет, что позволяет художнику не просто пассивно воспринимать внешний мир, а создавать свою художественную реальность, свой мир, наполняя его неповторимым содержанием, смыслом и значением. «Мирообразующее» сознание художника подтверждает истину: в художественном произведении «нет объекта без субъекта», которая востребована разными направлениями литературоведения [см., например: 5, с. 350]. Как писал в свое время П. Зарев, «Достоевский со своими героями и их сложным внутренним миром приближается к познанию истин, которые неизвестны Толстому. И наоборот, доступное Толстому не только как тема, тип характера, но и как тип переживания чуждо Достоевскому». Достоевский и Толстой – психологи, и все же они различаются друг от друга тем, как понимают психику человека и «какие ее стороны их привлекают» [6, с. 79]. И с этим нельзя не согласиться. Остановился П. Зарев и на другой антиномии русской прозы: «То, что волнует и привлекает Шолохова, не трогает Паустовского» [6, с. 43]. Разумеется, данное противопоставление не может пониматься тотально: литературная личность одного и другого художника слова питалась общечеловеческими идеалами, в том числе и любовью к родной природе (вспомним лирическое отступление «Степь родимая...» в «Тихом Доне» и объяснение в любви к Мещере). Но как творческие индивидуальности Шолохов и Паустовский действительно разнятся: их избирательное отношение к окружающему миру, расстановка смысловых и эмоциональных акцентов; стилевые формы выражения понятого и прочувствованного порой просто несопоставимы. Выразительно сравнение, к которому прибегает современный писатель Сергей Есин, характеризуя мир литературы: «Есть писателиручейки (...), но есть и писатели-океаны». На наш взгляд, в этой образной классификации писателей просвечивают дефиниции понятия «литературная личность». Мы разграничиваем ее по степени масштабности эстетического пересоздания жизненных впечатлений, по ее мировосприятию, идеалам. Но обратим внимание на продолжение высказывания С. Есина: «Масштабы при взгляде изнутри и снаружи – разные» [4, с. 10, курсив мой. – Л.Е.]. Смена ракурсов рассмотрения проблемы, рассмотрение ее «изнутри», выдвигает на первый план изюминку творческой индивидуальности, даже если это писатель-ручеек (как Паустовский) в сравнении с писателем-океаном (Шолохов). Высокая эстетическая ценность творений первого – тоже непреложный факт. Индивидуальность художника – это его интеллектуальный, эмоциональный, нравственный настрой, это только ему присущее чувство прекрасного, неповторимый характер его творческого воображения. «Вели8 чие индивидуальности заключается в специфике отношения к царству ценностей» [10, с. 176, курсив мой. – Л.Е.]. И здесь «разброс» вариаций может быть гораздо большим, чем при сравнительно-типологической характеристике литературной личности писателей одной эпохи, накладывающей отпечаток на их эстетические и этические установки, на общность традиций, на отношение к жизненному материалу, проблематику произведений, предметно-изобразительную сферу. Ведь один писатель «лучше видит, другой – лучше слышит, у одного стереоскопическое зрение, у другого – двухмерное. Один видит мир в ярких живописных пятнах, у другого он подернут, как при дожде, вуалью серого цвета. Но все это лежит за текстом, читатель имеет дело с уже готовой картиной; и, может быть, поэтому так важно признание самого писателя главной “лабораторией изнутри”» [4, с. 6]. В процессе творческой деятельности «творческая индивидуальность» фактически «растворяется» в личности. Тем не менее, она составляет ее «изюминку», ее своеобразие. Творческая индивидуальность – это в большей мере сфера проявления таланта, чем его судьбы: талант может реализоваться или не реализоваться в тех или иных условиях социальной среды, и именно это обстоятельство будет определять характер литературной личности. Масштабность последней определяется всей совокупностью литературного творчества писателя. Творческая индивидуальность проявляет себя в более узком диапазоне литературной деятельности, прежде всего в индивидуальном стиле (в отличие от стиля эпохи или направления). С.Н. Есин, соединяя в себе художника слова и теоретика литературы, справедливо писал, что «прикосновение к слову, расстановка слов в определенном порядке уже несут некий субъективный момент: «Стиль, с моей точки зрения, явление природное (...) Можно родиться с естественным умением складывать слова и ставить их друг возле друга в определенной последовательности, наиболее выгодной для смысла» [4, с. 11–12]. Сказанное относится не только к речевому стилю, о котором говорит Есин: не только речь, но и чувство перспективы словесно-художественного целого, способы гармонизации частей и целого, т. е. вся «закономерность формы» (А.А. Соколов) делают стиль настоящего художника слова индивидуально-неповторимым. Проблема идиостиля самодостаточна, и мы в рамках небольшой статьи рассматривать ее не будем; подчеркнем лишь, что классический афоризм «Стиль – это человек» зримо вписывает проблему стиля в рамки антропоцентрического литературоведения. Проблема творческой индивидуальности позволяет решать и пресловутую проблему интертекстуальности. С. Есин справедливо пишет: «...Чужой текст – лишь «корсет» писательской индивидуальности, которая или есть, или ее нет» (4, с. 11). Творческая индивидуальность раскрывается через писательскую самоидентификацию, которую определяют как «зафиксированную в 9 тексте рефлексию писателя над своей особостью: кто я? каков мир? какое место в нем я занимаю? и какое среди людей? что я им хочу сказать? в чем мой талант? каково мое отношение к слову и к литературе? как я вижу, слышу, чувствую, мыслю? и какими способами перевожу это в слова и в произведения? чем отличаюсь от других писателей? что меня с ними сближает? писательство – это какая-то отдельная сущность во мне (чужой голос Бога, дьявола, вселенной) или моя неотъемлемая часть? в чем моя писательская сила? слабость? и смогу ли? Поставив эти вопросы, Есин подчеркивает: специфика писательской самоидентификации не сводится только к содержанию – рефлексии над особенностями дара словесного творчества, но имеет отношение и к форме – письменной фиксации этой рефлексии, и обобщает: применительно к фигуре писателя такая самоидентификация позволяет раскрыть бытие писателя в писателе [4, с. 8–9]. Отсюда придание особой важности изучению писательского тезауруса, понимаемого как «персональная картина мира». Писательскую самоидентификацию, на наш взгляд, надо рассматривать как автоинтерпретацию и соотносить с метапоэтикой, т. е. с понятийным истолкованием собственного творчества в широком [13] или, скорее, только в узком смысле этого слова (только непосредственно в рамках самого художественного текста). Но и в этом случае самоидентификация касается лишь осознаваемых писателем особенностей своей творческой индивидуальности, осмысления своего места в мире, своего голоса в литературе, а не осмысления произведения как такового, в целом, с какими-то относящимися только к нему частностями и подробностями. Сущность понятия «творческая индивидуальность» может проясниться и на стыке понятий «биографический автор» и «автор как субъект художественного сознания». «Биографический автор» – «реальная творческая личность», существующая во внехудожественной, «первичной», реальности (В. Прозоров). Автор как субъект художественного сознания выражается произведением как целостной художественной системой (Б. Корман); под ним можно поднимать лирический субъект в поэзии (С. Бройтман). Напомним, что существенные коррективы в биографический подход к исследованию внес блестящий критик начала ХХ века Ю. Айхенвальд: «Сущность художественного произведения определяется индивидуальной психикой его творца». Протестуя против сведения биографии писателя к житейским фактам или событиям общественной жизни, он писал: «Внешняя жизнь сама по себе еще ничего не значит. А жизнь внутренняя, то, что только и важно, сама скажется в творении писателя, хочет он того или нет» [1, с. 20, 23]. Нисколько не отождествляя биографического автора с автором в его внутритекстовом художественном воплощении, подчеркнем, что 10 учитывать духовную биографию реального автора необходимо, особенно в лирике. При характеристике творческой личности и при выявлении творческой индивидуальности в лирической поэзии биография поэта обретает большую значимость, нежели в произведениях других литературных родов – в эпических произведениях и драматургии. Как писал М. Бахтин, в лирике автор растворяется во внешней звучащей и внутренней живописно-скульптурной и ритмической форме. Отсюда кажется, что автора нет, что он сливается с лирическим героем, или наоборот, нет лирического героя, а только автор («К философии поступка»). Лирический герой и автор биографический, как говорит Бахтин, вступают в диалог. В поэзии как будто аккумулировано абсолютно неразрывное единство личности поэта (биографического автора) и лирического субъекта, и вопрос о разграничении понятий «творческая личность» и «творческая индивидуальность» (на котором мы делали акцент выше) как будто – подчеркиваем: как будто – снимается. Можно предположить, что разграничение понятий «личность» и «индивидуальность» в литературоведении зиждется на двойственной природе самой художественной литературы, которая выступает и как форма общественного сознания, и как вид искусства. Понятие «творческая индивидуальность» коррелирует именно с последней ипостасью. Однако понятно, что над всем главенствует принцип понимания произведения как художественного целого. Если в научном поиске исследовательская мысль вычленяет те или иные аспекты проблемы, то в реальном творческом процессе и литературная личность, и творческая индивидуальность предстают в органической неразрывности, что предостерегает от упрощения и схематизации. Представленные на конференцию доклады отразили две тенденции в современном понимании творческой личности и творческой индивидуальности. На наш взгляд, категория «творческая индивидуальность», как неповторимость, уникальность писателя, отличающая его от даже очень близких ему по духу собратьев по литературному цеху, зримо выражена во многих публикациях сборника. Вместе с тем в него включены и статьи, репрезентирующие широкое понимание категории «творческая индивидуальность». Дискуссия может быть продолжена. _______________ 1. Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. – М., 1994. 2. Антропоцентрическая парадигма в филологии. В 2-х книгах / Ред. составитель Л.П. Егорова. – Кн. I. Литературоведение. Ставрополь: СГУ, 2003. 3. Горький М. Собр. соч. в 30 томах, Т. 24. – М.: ГИХЛ, 1953. 4. Есин С.Н. Писатель в теории литературы и проблема самоидентификации // Филологические науки. – 2005. – № 6. 5. Западное литературоведение ХХ века. – М., 2004. 6. Зарев П. Стиль и личное мироощущение // Единство и многообразие. Литературно-художественная критика в НБР. – М., 1979. 11 7. Лавров В.А. «Приобрести сознание своей личности» (Над страницами истории советской литературы // Русская литература. – 1998. – № 3. 8. Три века русской метапоэтики. Легитимация дискурса. Антология в 4 томах. Том IV. ХХ век / Под общей ред. проф. К.Э. Штайн. – Ставрополь: СГУ, 2006. 9. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. – Кино. – М., 1977. 10. Философский энциклопедический словарь. – М., Инфра – М., 1997. 11. Эйдинова В.В. Ю. Тынянов о «литературной личности» // Филологические науки. – 1980. 12. Храпченко М.Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. – М., 1972. 13. Штайн К.Э. Метапоэтика: «Размытая» парадигма //Филологические науки, 2007. «творческая индивидуальность» как понятие антропологической поэтики Фокин А. А., Ставрополь Журналист, мыслитель и писатель В. В. Розанов считал любую жизнь занимательной, специфической и интересной для рассказа и задавался вопросом: «Но в чем эта жизнь и ее персонаж особенны и в чем уникальны?» Ответ был однозначным: На эти вопросы должна дать ответ биография. Именно жизнеописание, по мнению В.В. Розанова, может показать писателя и как мыслителя, и как художника слова, и как оригинального стилиста, но прежде всего как человека, как неординарную личность. В сфере искусства человек объективирует свой субъективный мир. Следовательно, «творческая индивидуальность» – понятие антропологическое, если угодно, житийное. Такая посылка может показаться слишком жесткой, но все возражения мы вправе переадресовать к авторитетным источникам. Так, П. Мюнц, солидаризируясь в этом вопросе с Ж. Деррида, писал: «Истина в том, что нет никакого определенного лица, спрятанного за различными масками каждого рассказчика истории, будь он историк, поэт, романист или создатель мифов», произведение не имеет никакого лица, и все, что мы имеем, – это, маски, мифы созданные критиками и филологами [8, с. 16–19]. Таким образом, как только мы покидаем сферу интенционального человеческого действия, произведение лишается свойственного ему внутреннего значения, скрытого или какого-либо другого. Все это актуализирует первостепенность изучения не столько текстов художественных произведений писателя, сколько его биографию, как первопричину всяких 12 его текстов-поступков. Всякое действие (поступок) имеют значение лишь при условии достижения определенной цели, следовательно, и художественное творчество во всей его тотальности есть поступок, действие, предпринимаемое автором-творцом, средство достижения поставленной им цели. Современное литературоведение чаще всего обращается к биографии писателя (автора) лишь как к вспомогательному элементу построения истории литературы. В основе такого похода все еще лежит определение автора, как понятия исторического, то есть меняющегося в процессе истории [5, с. 108]. Историческую изменяемость биографии, в понимании В. Жирмунского, исходя из известных всем событий, которые происходили в ХХ веке, продемонстрировать очень легко. Потому давно назрела необходимость отказаться от данного «постулата», поскольку всякая конъюнктурная биография, делает проблематичным изучение произведений писателя, препятствует их адекватной оценке и интерпретации, то есть сводит на нет не только понятие «творческая индивидуальность», но и саму творческую индивидуальность – человека. Еще Ф. Шлейермахер, герменевтическое учение которого во многом способствовало обоснованию биографического метода в литературоведении, утверждал, что идеи и ценности, в том числе художественные, не могут быть поняты без углубленного анализа их генезиса, а значит – без обращения к фактам жизни конкретного человека [9, с. 150–151]. Без биографического контекста читатели не могут, как правило, рассчитывать на полноценный диалог с произведением как «событием творчества. Как афористически метко заметил А.Н. Веселовский, «художник воспитывается на почве человека» [4, с. 365]. Произведение – это диалог автора и мира. Без автора, в том числе биографического, мы не услышим, не увидим, не почувствуем, в конце концов, не узнаем его мир, тот мир, который он хотел отразить в произведении. То есть диалог не состоится. Произойдет то же самое, если мы не узнаем запечатленную в произведении авторскую картину мира, а не познав ее, мы не увидим автора как творческую личность, не услышим его голос, не представим себе его чувств. Диалог вновь прервется. Произведение – это диалог самой жизни, в котором только отражены мироощущения человека, его реакции на окружающую действительность. Подлинным изучением художественного произведения, подчеркивал П.М. Бицилли, «может быть только то, которое имеет целью свести его ко внутренним переживаниям художника» [3, с. 206]. В работе, посвященной человеческому бытию и поступку как самореализации человека, М.М. Бахтин слову «человек» предпочитает местоимение первого лица «я», подчеркивающее индивидуальную неповторимость, эгоцентризм «я», его уникальность: «В данной единственной точке, в которой я теперь нахожусь, никто другой в единственном времени и единственном пространстве единственного бытия 13 не находился. И вокруг этой единственной точки располагается единственное бытие единственным и неповторимым образом» [2, с. 112]. Согласно логике ученого, «я» причастно бытию «единственным и неповторимым образом», таких «я» больше нет: «То, что мною может быть совершено, никем и никогда совершено быть не может» [Там же]. С такими выводами нельзя не согласиться. Не случайно ведь в былые времена литературу, а вслед за ней и науку о ней называли человековедением. Я и другой, мой мир и мир другого – вот основа той диалогичности, которой, по Бахтину, подчиняется человеческое сознание. Выразить ощущение своей неповторимости писатель может только в «поступке-тексте», который материализует и закрепляет мироощущение его «я» «раз и навсегда». Таким образом, произведение – это самовыражение «я» автора. Каждый поступок, каждое самовыражение каждого я – событие. Из подобных поступков-событий и состоит бытие. Остро чувствующий слово, Бахтин вводит понятия «событие бытия» и «со-бытие», которые объясняют представление философа о проблеме человеческого существования. Бытие «состоит» из событий-поступков. Все они нераздельны и неслиянны. Каждое событие-поступок имеет какой-то смысл лишь в соотнесенности с другими. Поэтому каждый поступок – со-бытие, каждый – реплика в бесконечно длящемся диалоге. И с этой точки зрения поступок художника – «событие творчества», которое осуществляется в словесном тексте. Исследователи, пытающиеся «нащупать» подходы к изучению творческой индивидуальности только через текст, традиционно исходят из данности: слово ведет себя в художественном высказывании не так, как в естественной речи. При этом их усилия направлены на изучение следствия, то есть того, как именно ведет себя слово. Отсюда берут начало все текстоцентрические подходы к анализу литературных произведений. Антропологический – человековедческий – подход [1] строится на интересе к причинам: почему слово ведет себя так, а не иначе. По мнению Бахтина, причина эта в диалогичности слова, то есть в принадлежности произведения конкретному человеку, конкретному «я» автора, который вступает с читателем в диалог, со-бытийствует с ним, посредством своего произведения-поступка. Читатель, в свою очередь, вступая в диалог, тоже должен впустить в свое «Я» «другого», не слиться (это невозможно по определению), а со-бытийствовать с автором и его произведением. Именно поэтому биография представляется нам не вспомогательным, но одним из основных элементов (или компонентов) литературоведческого исследования, во всяком случае, такой его составной части, как история литературы. А в тех случаях, когда произведения биографичны, то есть по своей эстетике и по своей художественной сущности являются глубоко личными произведениями, биография автора должна стать не просто основным, но основополагающим компонентом изучения и интерпретации литературно-художественных текстов. 14 Именно такой подход допустим при изучении индивидуальных особенностей творчества того или иного художника слова: от биографии автора – к истории создания произведения – к его интерпретации – и вновь к биографии, но уже творческой биографии писателя. Такой подход, на наш взгляд, согласуется с представлениями А.М. Скафтымова, который еще в 1923 году утверждал, что рассмотрение творчества писателя при невнимании к личности автора фатально сводится к механической констатации фактов чисто внешних: «Картина общего должна вырастать из изучения частного». По его словам, все факторы, действующие на процесс творчества, «подчинены индивидуальности автора. <...> Соотношение жизни и произведения искусства должно устанавливаться не непосредственно, а через личность автора». Литературоведение, считал А.М. Скафтымов, «открывает двери для признания необходимости общекультурных, общественных и литературных воздействий, которые коснулись личности художника» [7, с. 148–149]. Таким образом, творческая сфера многогранной личности писателя – это ее (личности) трансформация на фоне социокультурной действительности эпохи во временном и пространственном ее измерении. Другими словами, понятие «творческая индивидуальность» в какой-то мере выступает синонимом понятия «творческая биография». Такое сближение понятий, основанное на междисциплинарном синтезе в филологическом знании, с привлечением методов литературоведения, источниковедения, лингвистики, психологии, культурологии, социологии, дает возможность на новом уровне осмыслить и проблемы жанра творческой биографии, особенно в свете антропологического поворота в гуманитарных науках, и расширить возможности понимания и интерпретации художественных произведений, как фактов биографии писателя. Чтобы понять ограниченность и исчерпанность литературоведения в том виде, как оно существует сейчас, необходимо пройти сквозь ограничительные пределы текстоцентризма – к антропоцентризму в филологии, к литературоведческому и лингвистическому человековедению. В этом случае, думается, мы бы не только согласовали существующие литературоведческие термины в определенное концептуальное единство, но и поняли бы, что предметом наших исследований должны стать не только жанры и стили, не только персонажи и конфликты, и не только формы повествования. Все это лишь материал, за которым стоит человек. Именно антропологический подход позволит литературоведению стать в один ряд с теми науками, которые действительно изучают человека – психологией и физиологией, философией и логикой, историей и этнологией, а также воспользоваться их достижениями в познании своего предмета. Примером антропологического постижения творческой индивидуальности писателя является авторологическая литературоведческая концепция И.П. Карпова. Она показывает, что выдвигаемая ученым 15 идея выделения авторологии как науки о человеке-творце, опирается на многовековую традицию понимания авторства и, бесспорно, антропоцентрична по своей природе. Демонстрируя всю глубину и широту преемственности, И. П. Карпов дистанцирует свою идею, противопоставляя ее концепции «образа автора» В. В. Виноградова и концепции «смерти автора» Р. Барта, то есть наиболее влиятельным концепциям автора в ХХ веке, приведшим, по его мнению, саму идею авторства в тупик. Если виноградовское «образ автора» по существу сводится к стилистическому средству, то есть к субъекту текста, то в свете исканий «новой критики», стоявшей на бартовских позициях, и ее последователей (М. Фуко, А. Компаньон, Женетт, Смирнова) вообще стало возможным усомниться в существовании литературоведения как науки. И. П. Карпов утверждает, что, только «поняв язык как деятельность (Гумбольдт), литературно-художественное произведение – как «внутреннюю форму» (Потебня), как «внутренний мир» (Лихачев), как «поэтическую реальность» (Федоров), как «целостность» (Гиршман), вычленив в художественном произведении субъектно-объектные отношения (Корман), – мы сможем преодолеть восприятие литературнохудожественного произведения как чего-то самостоятельного, оторванного от творца» [6, с. 23]. И в этом с ним можно согласиться. Анализ современных литературоведческих концепций, в том числе при рассмотрении понятия «творческая индивидуальность», показал необходимость поиска такой концепции, в которой филология рассматривалась бы как единое интеллектуальное пространство, где теория литературы выступала бы как антропологическая поэтика, а история литературы как история литературно-художественной деятельности. Антропологическая поэтика в данном случае мыслится как рассмотрение художественных открытий не на примере отдельных категорий текстоцентрической поэтики, поскольку привычных категорий метода, жанра, стиля и т. д. не достаточно для описания творческой индивидуальности писателя, а на уровне биографии творческой личности, выступающей носителем художественного сознания и речи. При этом антропологическая поэтика выступает фактором, синтезирующим эстетическое и этическое, вбирающим в себя многие литературоведческие концепции, в которых доминируют антропологические методы и подходы анализа языка и текста: художественная антропология (В.М. Головко, В.В. Савельева, Б.Т. Удодов), поэтическая антропология (В.П. Зинченко), психопоэтика (В.А. Пищальникова, Е.Г. Эткинд), онтологическая поэтика (Л.В. Карасев), филологическая феноменология и метапоэтика (К.Э. Штайн), этнопоэтика (У.Б. Далгат) и другие. Думается, что только при этих условиях любые филологические штудии не будут инородны по отношению к художнику и его произведению, когда возникает проблема параметров и адекватности интерпретаций, а, составляя единое целое с биографией писателя, когда прослеживает16 ся, как в текстах преломляются события жизни писателя, настроения, им пережитые, и идеи, которым он был привержен, позволят с полным правом говорить и об индивидуальности творчества и о творческой индивидуальности. _______________ 1. Антропоцентрическая парадигма в филологии. Кн. 1: Литературоведение / Под ред. Л. П. Егоровой. – Ставрополь, 2003. 2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. Сб. избр. тр. – М., 1986. 3. Бицилли П.М. Этюды о русской поэзии. – Прага, 1926. 4. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – Л., 1940. 5. Жирмунский В.М. Введение в литературоведение. – М. 2004. 6. Карпов И.П. Авторология русской литературы (И.А. Бунин, Л.Н. Андреев, А.М. Ремизов): Монография. – Йошкар-Ола, 2003. 7. Скафтымов А.П. К вопросу о соотношении теоретического и исторического рассмотрения в истории литературы // Русская литературная критика. – Саратов, 1994. 8. Munz P. The Shapes of Time. – Middletone, 1978. 9. Schleiermacher F.D.E. Hermeneutik und Kritik. – Fr.a. – M., 1977. АВТОРСКАЯ МАСКА КАК ФОРМА ВОПЛОЩЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ПИСАТЕЛЯ1 Осьмухина О.Ю.,Саранск Общеизвестно, что в каждом художественном произведении содержится отображение авторского миросозерцания, авторского взгляда на мир, его индивидуальная модель мира, не сводимая лишь к каким-либо философским, политическим, эстетическим и др. взглядам автора «реального». Однако способы проявления индивидуальной авторской позиции в разные эпохи разнятся: так, если в классицизме творец художественной реальности авторитарен, его «голос» легко узнаваем, повествование устанавливает причинно-следственные связи, судит происходящее в рамках сюжета и героев, поскольку все события пропущены через его сознание, что связано с эстетической установкой возводить конкретные явления к абстрактному, общему, судить обо всем с точки зрения абстрактного разума, то к ХХ в. в повествование вносится «драматический» элемент – рассказ и показ событий сочетаются, присутствуют отступления, голос самого автора нередко Статья выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента Российской Федерации (грант МК-1759.2008.6 «Русская литература сквозь призму идентичности: авторская маска как средство самоидентификации писателя в прозе ХХ столетия»). 1 17 устранен, демонстрируется усложнение повествовательной техники, когда в рамках одного произведения функционирует несколько нарраторов и происходит смена лиц повествования, соответственно читателю представляется свобода интерпретации не только самого текста, но и свобода реконструкции авторского образа на основе художественного произведения. Как справедливо указывает Л.А. Софронова, текст «находится в динамических отношениях с автором и читателем, в них вмешивается и литературный герой. В этих разнонаправленных связях решается вопрос об идентичности автора и героя, героя и читателя, автора и читателя» [4, с. 19]. Безусловно, автор определяет построение текста, фабулу, сюжет, все определено единством его личности и взгляда на мир, но читатель не имеет дела с автором как создателем художественного текста (автором «реальным»), поскольку его «формальным заместителем», как правило, становится нарратор, организующий повествование, определяющий последовательность изложения. И если «образ автора – это индивидуальная словесно-речевая структура, пронизывающая строй художественного произведения и определяющая взаимосвязь и взаимодействие всех его элементов» [1, с. 151–152], то повествователь – это не только «более или менее конкретный образ, присутствующий вообще всегда в каждом литературном произведении, но и <...> непременно некая точка зрения на излагаемое <...>, воплощение того сознания, той точки зрения, которая определяет весь состав изображенного в произведении» [2, с. 200]. В связи с этим становится вполне очевидно, что повествователь, рассказчик не равен автору «реальному». Создатель художественного текста, творящий собственную реальность, постоянно идентифицирует мир в его различных проявлениях, равно как и читатель-реципиент предпринимает попытку идентификации и художественного текста, и реальной писательской личности на основе конструируемого в тексте образа повествователя, рассказчика, автора. Читатель зачастую не отличает воображаемый образ автора от самого автора, приписывает последнему черты автора воображаемого, или наоборот, что составляет особое поле литературоведческих, культурологических и психологических исследований [3, с. 226–229]. Затрудняющим для читателя идентификацию реальной писательской личности приемом, наряду с псевдонимом, мистификацией, и одновременно – формой воплощения творческой индивидуальности писателя как автора «реального», как раз и становится авторская маска. Подчеркнем, что автор «реальный», скрываясь за маской нарратора, рассказчика, героя как автобиографического или автопародийного «двойника», не просто стремится к сокрытию собственного облика, но объективирует себя в образе эстетически возможного «другого», предпринимает попытку выхода за границы «реального» бытия, подчеркивая тем самым непроницаемость, индивидуальность своего «реального» образа. 18 Создатель художественного текста, предлагая иной вариант авторства, отчуждаясь в игровом плане от собственного произведения, всегда оказывается носителем маски, которая свидетельствует не о его лицемерии, но о способности добиваться разных видов идентичности, демонстрировать протеичность и непостоянство собственной личности. Автор (в качестве создателя художественного текста, творца «иной» реальности) реален, равно как и читатель, тогда как фабула и сюжет вымышлены, равно как и нарратор, говорящий от «лица» автора, и тем более, нарратор, «замещающий» автора в пространстве художественного текста, выступающий в качестве автора «фиктивного» (авторской маски, предполагающей, кстати, не только поведенческую модель, основанную на определенных правилах, но и «сдвиг» в отношении личности рассказчика). Примечательно, что, несмотря на «разность» фигур автора и нарратора, чье несовпадение подчеркивается, во-первых, в тексте, часто – в предисловии, написанном от имени «издателя», во-вторых, видимым их отождествлением, в-третьих, сознательной мистификацией читателя (текст выдается за письмо, дневник героя или же сугубо вымышленная история репрезентуется как документальное повествование), автор и нарратор не тождественны, нарратор – одна из форм проявления авторского образа, его сознательно избранная маска. Исходя из того, что авторская маска становится неким синтезом самовыражения автора и его перевоплощения из, условно говоря, «реальной» фигуры в художественный образ, функционирующий в пределах текстового пространства, представляется необходимым исследовать феномен маски как одну из идентификаций авторства, одну из форм воплощения авторской индивидуальности. Конструируя собственную маску посредством различных средств, интегрируя личностные черты, литературно-эстетический, жизненный опыт, принимая во внимание или опровергая социальные и культурные стереотипы, автор, одновременно и участвует в создании маски как образа «возможного Другого», и дистанцируется от нее, создавая качественно новое эстетическое явление. Таким образом, вполне правомерным представляется исследование авторской маски как одного из важнейших элементов авторской стратегии. При этом, на наш взгляд, авторская маска выступает как использование автором того или иного образа, способ сокрытия в пределах текстового пространства подлинного «я» с вполне осознанной целью создания у читателя отличного от реального образа автора и построения определенного режима коммуникации, одна из форм взаимоотношений автора и персонажа, в отдельных случаях основополагающий прием литературной мистификации. Авторская маска может рассматриваться в трех формах функционирования. Во-первых, как стилистический прием (слияние изображающей речи с изображаемой, стилизация сугубо авторской речи под манеру изображаемого персонажа; в связи с этим становится очевидно, что не19 посредственно участвует в создании авторской маски стилизация и неотделимая от нее «чужая речь»). Заметим, что в качестве стилистического приема авторская маска присутствует в отечественном литературном сознании от древности («Моление» Даниила Заточника, эпистолография Ивана Грозного и Андрея Курбского, сочинения протопопа Аввакума) до современности (от «Писем русского путешественника» Н.М. Карамзина, творчества В.А. Жуковского и «Арзамаса», романтической прозы, повествовательных экспериментов К. Вагинова, В. Набокова до постмодернистских стратегий В. Пелевина, В. Сорокина и др.). Во-вторых, авторская маска функционирует в качестве художественного образа фиктивного автора (эстетически преднамеренная рефлективно-игровая проекция личности художника в текст, одна из фор взаимоотношений автора и персонажа, образ фиктивного авторанарратора, берущего на себя функции создателя предлагаемого текста и ведущего повествование от первого лица). Здесь необходимо отметить, что повествование от «я-рассказчика» может быть стилизовано под исповедь, дневник, мемуары, устный рассказ, соответственно подобная условность литературной формы, заведомо игровая установка автора «реального» предполагает использование маски. Чаще всего повествование, представляющее рассказ нарратора, не выражает авторскую позицию, по справедливому замечанию Цв. Тодорова, оно (повествование от первого лица) «не только не проясняет облика повествователя (настоящего автора. – О.О.), но, наоборот, скрывает его. И всякая попытка прояснить его ведет лишь к еще большей маскировке субъекта процесса высказывания. Этот вид текста, открыто признавая себя текстом, скрывает свою текстовую природу» [5, с. 77]. Примечательно, что традиция фиктивных авторов в истории русской литературы весьма обширна и связана, прежде всего, со сказовым типом повествования. Именно сказ оказывается той семантико-стилистической нарративной формой, где происходит явное смещение функциональных ролей автора «реального» и берущего на себя функцию не просто рассказчика, передающего «чужую» речь («публикатор» в «Поучении, говоренном в Духов день» Д.И. Фонвизина, И.П. Белкин у А.С. Пушкина в «Повестях Белкина», Рудый Панько в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя), но нередко – создателя и одновременно – героя (И.М. Гомозейко в «Пестрых сказках» В.Ф. Одоевского, Синебрюхов в «Рассказах Назара Ильича господина Синебрюхова» и Семен Семенович Курочкин в «Веселых рассказах» М. Зощенко, дед Антроп в рассказах М. Волкова, Николай Николаевич Фетисов в новеллистике Евг. Попова) предлагаемого читателям текста автора фиктивного (нарратора). На наш взгляд, важнейшим средством «взаимоотношений» автора и нарратора в сказе, маркирующим смену нарративных инстанций и передачу «голосов» от автора к нарратору и наоборот, как раз и становится авторская маска. Нарратор в сказе предстает фиктивным «заместите20 лем автора», он не просто «ведет» повествование, но и импровизирует его, воссоздавая события, участником или свидетелем которых он являлся, в собственном изложении, или же пересказывает услышанное с позиций своего мировидения, мироощущения и культурного уровня. Одновременно сказ передает специфические особенности устной речевой манеры героя-нарратора, не просто создавая тем самым речевую маску повествователя, но становясь авторской маской, необходимой создателю текста (автору «реальному») для конструирования образа рассказчика, принципиально иного, нежели он сам, занимающего иную ценностную, мировоззренческую и речевую позицию. И, наконец, еще одним способом функционирования авторской маски в пределах художественного текста становится появление реального, или якобы реального автора среди персонажей (достаточно вспомнить произведения В. Попова или В. Аксенова, в которых нередко появляется одноименный автору персонаж). Учитывая, что автор как «реальный» человек никогда не присутствует в условном мире художественной реальности, очевидно, что вместо него в тексте представительствует его маска, которая не является автором, но становится его пародийным воплощением, частью игрового поля действия автора («Эдичка» в романе Э. Лимонова «Это я, Эдичка», «Евгений Попов» в «Душе патриота, или различных посланиях к Ферфичкину» Евг. Попова, «Веничка» в «Москве-Петушках» Вен. Ерофеева и др.). «Псевдоавтор», помимо идентичного автору «реальному» имени, наделяется автобиографическими подробностями (сюда же относятся повествователи-литераторы, не скрывающие литературность, условность порождаемого на читательских глазах текста), принимает участие в действии, что демонстрирует стирание границ между художественным вымыслом и документальностью, преодоление условности традиционных повествовательных стратегий, обнажая процесс создания текста. Заметим, что мы отнюдь не идем по пути биографических спекуляций, отчетливо осознавая ложность подобных «методов», однако очевидным остается тот факт, что вольно или невольно автор «реальный» наделяет героя-протагониста или же своего «фиктивного» заместителя в рамках художественной реальности биографическими подробностями, собственными пристрастиями. При этом подобного автогероя можно считать авторской маской, в связи с ее отчетливо выраженным игровым характером: создание подобного образа – это и выражение авторской рефлексии относительно себя самого, и игра с читателем – реципиентом (подобными примерами изобилует отечественная проза ХХ столетия). Кроме того, герой – носитель авторского имени и черт, – подлинный фиктивно, поскольку он противоречит остальным персонажам, не претендующим на портретное или биографическое сходство с кем бы то ни было и не имеющими аналогов в реальной действительности. Такой герой – игровая проекция не просто авторского сознания, но самого себя автором – он одновременно 21 включен в круг других персонажей, теряя право на «всезнание», но при этом продолжает быть «всеведущим» как истинный автор. Заметим, что последние два типа авторских масок как некие рефлексивно-игровые варианты «самого себя» призваны создавать иллюзию аутентичности подобных образов в читательском сознании, как раз в силу их персонифицировнности автором «реальным». В заключении необходимо отметить, что, исходя из изначально заложенных в авторской маске потенций (скрывать, обманывать, являться средством игрового постижения бытия), авторская маска как средство реализации не только эстетической, но и коммуникативной задачи автора (создать комический и игровой эффект, иллюзию достоверности или неофициальности, приблизить/дистанцировать читателя к тексту, отразить и проследить собственную рефлексию, дистанцироваться от читателя и т. д.) в пределах художественного текста маркируется определенными признаками: автобиографические параллели и соответствия (автор, стремясь к литературно-художественному воплощению посредством художественного текста, нередко наделяет героя личными чертами, склонностями, способностями, передает ему некоторые факты собственной биографии), мотив двойничества («раздвоение» цельного образа автора или персонажа на «внешнее» и «внутреннее» «я», а также порождение «раздвоенным» сознанием героя вымышленного или реального «двойника»); мистифицирующие читателя предисловия, в которых автор выдает собственный текст за чужое сочинение, выступая в роли издателя, публикатора и т. д.; переход повествователя от первого лица к третьему и наоборот, а также изменение тона повествователя (семантическое отождествление грамматических лиц, взаимозаменяемость местоимений «я»/«он»» в автореференциальном значении); игровые контаминации с «чужим словом», включенным в рамки собственно-авторского повествования, ведущие к сосуществованию нескольких точек зрения на событие или героя, что придает повествованию стереоскопичность и порождает игровую двусмысленность авторской позиции; автопародирование на уровне интонации, «выворачивания» собственных сюжетов, комическом искажении собственного языка при несоответствии средств описания предмету описания, скрытые автоаллюзии, функциональные автореминисценции. _______________ 1. Виноградов В.В. О теории художественной речи / В.В. Виноградов. М., 1971. 2. Гуковский Г.А. Реализм Гоголя / Г.А. Гуковский. – М.-Л., 1959. 3. Осьмухина О.Ю. Маска / О.Ю. Осьмухина // Знание. Понимание. Умение. – 2007. – № 2. – С. 226–229. 4. Софронова Л.А. О проблемах идентичности / Л.А. Софронова // Культура сквозь призму идентичности. – М.: Индрик, 2006. 5. Тодоров Ц. Поэтика / Ц. Тодоров // Структурализм: «за» и «против». – М., 1975. 22 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ «БЕЗМОЛВИЯ» В ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ (по данным метапоэтики) Ходус В.П., Ставрополь Основополагающим в действенной природе драматургического произведения является слово как «производитель» речевого действия. «Произносительное слово» является той определяющей первоосновой драматургического действия, в котором аккумулируются все событийные и структурно-сюжетные компоненты драмы. Выдвижение действенной функции слова обусловлено ее древней связью с ритмом, мелодикой поэтического повествования: «Преобладание ритмическо-лирического начала в составе древнего синкретизма, уделяя тексту лишь служебную роль, указывает на такую стадию развития языка, когда он еще не владел всеми своими средствами, и эмоциональный элемент был в нем сильнее содержательного, требующего для своего выражения развитого сколь-нибудь синтаксиса, что предполагает в свою очередь большую сложность духовных и материальных интересов. Когда эта эволюция совершится, восклицание и незначащая фраза, повторяющаяся без разбора и понимания, как опора напева, обратятся в нечто более цельное, в действительный текст, эмбрион поэтического» [2, с. 206]. Слово, подчиняясь ритмомелодической организации древних прозаических текстов, становится фигурным элементом произведения, а происходящее в безмолствовании – то есть, не выраженное словами, – действие уходит в позицию фона и постепенно становится лишь знаком «раздела» между звучащим словом, организующим событийный ритм. В XIX веке в европейской и русской драматургии намечается путь переосмысления роли молчания в драматургическом тексте. Феномен молчания постигается человечеством с момента первого произнесенного слова. Молчание (как феномен человеческий) всегда является тем значимым отсутствием звука, когда нарушаемая тишина (феномен природный) восстанавливается. В XIX веке, ко времени расцвета изящной словесности, рассматривается вопрос об «искусстве молчать». Так, А.А. Потебня в книге «Мысль и язык» отмечает, что «молчание есть искусство не давать представлению переходить в движения органов, с которыми оно связано, – искусство, приобретаемое современным человеком довольно поздно и совсем незаметное в детях» [5, c. 88]. Позднее, уже в ХХ столетии, М. Хайдеггер, вслед за Гуссерлем, различает явление и феномен молчания и ставит вопрос о диалектике молчания (феномен) и немоты (явление). «Только в настоящей речи может быть молчание, выражающееся смысловой паузой, а кто не умеет говорить о бытии, тот не умеет и молчать. Поэтому тот, кто молчит, может сказать больше, чем тот, который говорит много» [6]. Молчание о бытии как 23 понимание бытия только и является прологом к разговору. Многословие, наоборот, может придать мнимую ясность, считает Хайдеггер. Наиболее полный и обстоятельный анализ молчания как коммуникативного феномена представлен Н.Д. Арутюновой. Молчание, т. е. отсутствие звуков, по мнению исследователя, само по себе не может быть знаком. Оно не порождает дифференциальных признаков. Смысл молчанию придает контекст, ситуация, регламент социального поведения, поверья, ритуал. Пауза оценивается в разговоре. Молчание в диалоге «значимо как симптом, но не как знак. Это пауза в разговоре, и она оценивается как отступление от коммуникативной нормы. В большинстве [...] контекстов молчание рассматривается как отступление от естественной для человека, наделенного даром речи, речевой практики: дар речи не предназначен для хранения втуне» [1, c. 417]. Если для обыденного разговорного языка молчание всегда являлось непреложным фактом, то в художественных текстах русской литературы молчание как равноправный языковой элемент текста начинает упрочиваться с начала XIX века. Как отмечают исследователи, изначально актуализируется оппозиция «слово – безмолвие», составляющая один из значимых компонентов развития художественного действия. Молчание, выраженное через один из своих семантических признаков – «безмолвие», уже «не просто противопоставлено слову (акту говорения) как «отсутствие звука – наличие звука», а являет собой некую особую природу этого самого Слова: лишение слова значимости (в ситуации признания героя сумасшедшим) или признание слова бессмысленным (в ситуации самозванства). «Безмолвие» реализуется в диалогах и полилогах, характеризуя отношения героев между собою или отношения героя с обществом» [4, c. 3]. Так, например, в «Ревизоре» Н.В. Гоголя вырабатываются принципы конструирования «символа безмолвия», включающего в себя все знаки «безмолвия», рассредоточенные по тексту. В прозаических текстах Ф.М. Достоевского в плане конкретной реализации знаки безмолвия располагаются по горизонтали. В смысловом плане – каждый уровень «поэтики безмолвия» может иметь два предела: высший («безмолвие как инословие») и низший («до-слово», небытие, духовная смерть). В поэтическом тексте художественный знак молчания в XIX веке определяется векторами смыслов стихотворения Ф.И. Тютчева «Silentium». Это создает предпосылки к определению знакового характера молчания в пространстве текста. «Границы экстенсионала молчания определяются тем, что о молчании говорят только на фоне коммуникации» [1, c. 425]. В ситуации диалога молчание становится говорящим и адреснным, приобретает семиотическую функцию. Молчание становится знаком стоящего за ним содержания (означаемое с нулевым означающим), но смысл такого молчания вырастает из конкретной прагматики общения. И это знаковое молчание в пространстве художествен24 ного языка XIX века создаст основу для авангардисткого пути заумной поэзии, которую в статье «Наша основа» В. Хлебников трактует как способ преодоления молчания: «Словотворчество и есть взрыв языкового молчания, глухонемых пластов языка» [7, c. 24]. Обращение писателей к оппозиции слово – безмолвие, язык – немота, речь – тишина, выражающих концептуально значимую роль молчания как знака, становится настолько мощным к концу XIX – начала ХХ века, что молчание «проникает» и утверждается в пространстве драматургического текста. Анализ семантического ряда с центральным элементом молчание представляет следующий ряд: молчание – тишина, немота, пауза, безмолвие, – элементы которого имеют следующие семантические оттенки: МОЛЧАНИЕ (ОТ) МОЛЧАТЬ – Не произносить ничего, не издавать никаких звуков. ТИШИНА. 1. Отсутствие шума, безмолвие. 2. Спокойствие, умиро­ тво­рeнное состояние. НЕМОТА. Отсутствие дара речи, способности говорить. ПАУЗА. ‘Перерыв, приостановка в речи, работе, каких-н. действиях’. БЕЗМОЛВИЕ. 1. Полная тишина. 2. Полное молчание (в ответ на чью-н. речь, среди собравшихся) [MAC]. Для драматургического текста, как синкретичного образования литературной и театральной сферы, молчание было практически несвойственно. Скрепленный репликами, организующими непрерывный драматургический диалог, и ремарками (функциональносемантическими элементами второстепенного плана), драматургический текст репрезентирует действие через активное, «действенное» слово. Именно через слово, а не его отсутствие, проявляется драматургическая семантика. В языке драматургического текста не заданы описательные средства, которые, в отличие от прозаического и поэтического текста, способны описать молчание. Безмолствование в классическом драматургическом тексте означает только удивление или окончание действия (как, например, в «Ревизоре» Н.В. Гоголя). Комический или трагический эффект всегда сопровождался звуком (часто – междометьем). Интересно, что в работах малоизвестных, а порою и полузабытых сегодня авторов первой половины XIX века обнаруживаются «поиски выражения безмолвного». Так, 1837 году была опубликована драма «Хеверь» В. Соколовского (писателя, представляющего большой интерес и для литературного краеведения Ставрополя). Автор предложил читателям свои способы умолчания и паузирования. Д е д а н . Темна теперь, но уяснится скоро, Проявится разливом огневым, И над землей со стуком громовым 25 Д е л ь ф о н . Д е д а н . Падет она погибельной бедою!..... Повременим: суд будет совершен..... Приостановясь, Но где Гофам? Уже собрался он Идти сюда с царицей молодою, Чтобы ее рабыни облекли Как спутницу властителя земли..... Кого? .... Хеверь? – Да! время уж призвало Пору любви..... Она, как день, взойдет, И быстро так с Хевери упадет Заветное девичье покрывало <...> Ремарка приостановясь – типичная для выражения и «прерывания» действия. Обращает на себя внимание метаграфический уровень. Количество точек в многоточии изменчиво на протяжении всей пьесы. Стоит отметить, что во второй части, когда приближается кульминация действия, количество точек стабильно – три. В представленном фрагменте элементы многоточия колеблятся от 4 до 6, создавая рисунок умолчания, паузирования по ходу развертывания сюжета. Другие фрагменты показывают наметившиеся попытки через молчаливую фигуру персонажа ввести момент психологического рисунка: А с а д а й . И все сбылось, – и как песок морской Размножились предизбранные чада!... Останавливается, как бы пораженный внезапным ударом, и потом продолжает, уже не помня о последнем видении своем... Где я? – Я здесь, в печальном бытии... Вот прах и пепл... вот вретища мои: Они со мной по-прежнему остались Но уже на рубеже XIX–XX века в европейской драматургии семантика молчания становится одним из основных элементов языка драмы. Это подтверждает анализ текстов А.П. Чехова и М. Метерлинка. При этом на семантику оппозиции речь – молчание в текстах Чехова-драматурга накладываются структурно-семантические особенности организации коммуникативного пространства прозаического текста, а в драмах Метерлинка обнаруживаются влияния авторского философского осмысления молчания в русле эстетических принципов французского символизма. Подтверждением этому служат данные автометадискрипции. Общностью текстов является непосредственная номинация акта молчания в драматургическом тексте. Однако в текстах Чехова мол26 чание репрезентировано посредством субституционального замещения – лексему пауза. Это условное молчание, ибо в семантическом плане пауза – ‘перерыв, приостановка в речи, работе, каких-н. действиях’ – имеет сему ‘приостановка’, что указывает на обязательное продолжение действия. Молчание, таким образом, находится не в непосредственной оппозиции к речи, а только прерывает ее, формируя акцентные семантические поля. Классификация функциональносемантической природы пауз в чеховской драме утвердилась в работе В. Кузнецова: пауза обнажает эмоцию лица или группы лиц; пауза выступает как признак опущенного потока ассоциаций или посторонних в рамках диалога мыслей персонажа; посредством пауз (суммой пауз) характеризуются отношения персонажей; пауза выполняет сюжетную функцию (через выделение некоторых наиболее существенных реплик; паузы выполняют темпоритмическую функцию (через совокупность пауз произведения). В текстах Чехова непосредственно присутствует лексема тишина, которая выражает феномен природного молчания, которая, однако, постоянно, «взаимодействует» с лексемами семантического поля «звук»: Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву. Среди тишины раздается глухой стук топора по дереву, звучащий одиноко и грустно. Часто, через использование лексемы тихо и лексем со «слабым» звуковым модусом, драматургическое действие «стремится» к тишине: Телегин тихо наигрывает; Мария Васильевна пишет на полях брошюры; Марина вяжет чулок. Вечер. Горит одна лампа под колпаком. Полумрак. Слышно, как шумят деревья и воет ветер в трубах. Стучит сторож. В чеховском тексте нет абсолютной тишины, как нет ее в природе: она всегда подвижна, дополнена «живыми» звуками. Молчание и тишина не идеализируются, а конкретизируются в текстах Чехова. В то же время, стройной метапоэтической теории молчания А.П. Чехов не оставил. Его постижение молчание шло иным путем, о чем скажем немного позже. Особое, метапоэтически осмысленное молчание встречается у Мориса Метерлинка. В его философском трактате Le Trésor des humbles обнаруживается метапоэтический комментарий к осознанию молчания – большая глава Le silence. Рассмотрим одну из существенных метапосылок: Si je vous parle en ce moment des choses les plus graves de l’amour, de la mort ou de la destinée, je n’atteins pas la mort, l’amour ou le de­stin, et malgré mes efforts, il restera toujours entre nous une vérité qui n’est pas dite, qu’on n’a meme pas l’idée de dire, et cependant cette vérité qui n’a 27 pas eu de voix aura seule vécu un instant entre nous, et nous n’avons pas pu songer à autre chose. Cette vérité c’est notre vérité sur la mort, le destin, l’amour; et nous n’avons pu l’entrevoir qu’en silence. (Если я вам говорю теперь о самых значительных признаках любви, смерти и судьбы, я не достигаю еще ни смерти, ни любви, ни дружбы; вопреки всем усилиям, между нами останется навсегда невысказанная истина, открыть которую мы даже не желаем. А между тем одна только эта не имеющая голоса истина о смерти, судьбе и любви; мы могли провидеть ее только в молчании [перевод Н. Минского]). Перед рассмотрением способов выражения молчания в драматургических текстах М. Метерлинка отметим, что во французском языке silence – это основная лексема, выражающая и молчание, и тишину. Синонимы, которые конкретизируют значение, употребляются редко, а четкость значений определяется дистрибуцией. В то же время в приведенном метавысказывании четко намечается ментальная проекция драматурга в отношении истока молчания и одновременно его прагматических задач. В тексте трижды повторяется игра с паронимической аттракцией, закрепленной во француской языковой картине мира. Слова amour (любовь) и mort (смерть), употребляемые с детерминативами (определенными артиклями), уже воспринимаются как знаковое совпадение, приводящее к осмыслению практически тождественности значений. Любовь и смерть осмысляется как единое целое, неразрывное и взаимообусловленное. И в эту диаду Метерлинк вводит еще одну прозрачную лексему символ – le destin (судьба), которая уравновешивает значения двух остальных. Молчание, таким образом, отражает взаимодействие двух сил – судьбы и любви – смерти. В текстах Метерлинка, молчание / silence представлено через непосредственную номинацию. Определенные драматургом как petite drames pour marionettes (маленькие драмы для марионеток) тексты L’Intruse (Непрошенная), Intérieur (Там, внутри), Les Aveugles (Слепые), La Mort de Tintagiles (Смерть Тентажиля) имеют иную драматургическую плоскость. Действие развивается в них не по законам классического театра, в горизонтальном сценическом пространстве, а вертикально. Это подтверждает метапэтический термин «марионетки», предполагающий натянутые нити и присутствие человека над сценой и за ширмой. Пространство, таким образом, предполагает развитие действия сверху и за сценой, на фоне. Время становится не растянутым, а точечным. Важно событие только этого момента, из которого и состоит обыденность. При этом сам тип текста сказки, мифа упрочивается как нечто обыденное, перетекающее из поколения в поколение. Через ирреальную, относительную по связи с реальностью, форму текста репрезентируется повторяемость истины. В текстах Метерлинка наблюдается оппозиция «звук – молчание», однако наиболее значимым определяется silence (‘тишина’) – полное 28 отсутствие звуков. Если наступает момент silence, то он определяется как знак трагедии. Так, например, в драме La Mort de Tintagiles, где смерть (mort) в инициальной части текста уже способствует формированию в сознании знака трагедийности, признаки и причины смерти Тентажиля определяются через знак молчания: Tintagiles. Il n’y a pas d’herbe, petite sœur. Un silence. Qu’est-ce qu’elle fait, la reine? Deuxième servante. Vous savez que la reine ne veut pas qu’elles le sachent... La première servante ouvre la parte avec prudence et entre dans la chambre. Troisième servante. Ah... Un silence. La première servante sort de l’appartement. Знак смерти – la reine (королева), что подтверждается на протяжении всего текста как через структурное соотнесение la reine – silence, а также путем анализа драматургической семантики. Об ушедших из жизни говорят, что они навеки умолкли (замолчали). Речь ассоциируется с жизнью, молчание – со смертью. Однако семантика молчания и тишины различна: тишина – отсутствие звуков, молчание – неговорение. Тишина бессубъектна, безлична, молчание – субъектно и личностно. Поэтому традиционно тишина осознается как природный феномен, молчание – как человеческий. Безмолвие природы ощущается как метафора. В то же время, психологические линии каждого из говорящих не сводятся к единому знаменателю, а получают открытую перспективу. Но эта перспектива оказывается в затекстовом пространстве, где «текст начинает молчать». Однако «текст затем и молчит о многом, чтобы обмен между молчанием и речью был всегда возможен, чтобы негэнтропийная активность – в частности, активность герменевтическая, – могла разворачиваться неустанно, поддерживая фундаментальные условия нашего бытия» [3, с. 16]. На определенном этапе исследования творчества А.П. Чехова создается впечатление близости воззрений драматургов – Чехова и Метерлинка – в постижении драматургического безмолвия. Однако исследование ранних этапов формирования метапоэтики Чехова писателя показывает иную генетическую природу его драматургического молчания. Не отраженное в метапоэтических текстах, понимание молчания рождается в «шуме бытия» энциклопедии жизни, созданной самим Чеховым в хронологически разрозненных рассказах-списках. Дискурсивное пространство метапоэтики ранних рассказов «переполненно» разными типами рассказчиков, и отсутствие тишины через оппозицию порождает ее величие и глубину. Молчание в чеховской драме появляется не от соединения единения любовной и смертной энергии как у Метерлинка, а через поиск безмолвия в разночинном говоре персонажей. 29 Таким образом, безмолвие в художественном тексте, несомненно, имеет типологическую основу. В литературе XIX века тенденция к выдвижению несловесных, «молчаливых конструкций» из фоновой в значимые позиции наблюдается во всех типах текста. Особенно это заметно в тексте драматургическом, где оппозиция речь – молчание составляет основу драматургического действия. Однако в общей типологической модели выделяется индивидуально-авторский подход к осмыслению роли и значения молчания в драматургии. Основу же для понимания индивидуальной авторской позиции представляют метапоэтические данные, содержащие код авторской самоинтерпретации. _______________ 1. Арутюнова Н.Д. Феномен молчания // Язык о языке. – М., 2005. 2. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М., 2008. 3. Виролайнен М.Н. Речь и молчание. Сюжеты и мифы русской словесности. – СПб., 2003. 4. Маркова В.В. Поэтика безмолвия в русской литературе 1820 – начала 1840-х годов. – Тюмень, 2005. 5. Потебня А.А. Мысль и язык. – М., 1999. 6. Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. – М., 1993. 7. Хлебников В. Наша основа // Лирень. – М., 1920. СООТНОШЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ Ларионова М.Ч., Ростов-на-Дону I. Вопрос о творческой индивидуальности писателя может быть рассмотрен и в аспекте соотношения традиционного и индивидуального в авторском творчестве при рассмотрении проблем фольклоризма, мифопоэтики, архепоэтики литературы. В современной науке сложились два, часто изолированных друг от друга направления анализа «исторической поэтики» литературного текста: через фольклор и через миф. Второе направление в наши дни получило большое распространение и породило целый раздел литературоведения – мифопоэтику. Оба эти направления имеют свои достоинства и недостатки. Исследователи фольклоризма литературы руководствуются следующими постулатами: 1. Воспроизведение фольклорного материала в литературном произведении всегда является сознательным процессом. 2. Литературный текст связан с конкретными произведениями фольклора, с установленными прецедентными текстами. 30 Таким образом, формируется следующая методика: 1. Устанавливается факт знакомства писателя с фольлорным материалом на основании биографических данных, дневниковых записей, высказываний самого писателя и т. д. 2. Путем анализа литературного текста выявляются цитаты, аллюзии, реминисценции из устной поэтической словесности. 3. Им дается интерпретация в контексте авторского творчества. Такой подход ограничивает выбор материала: если писатель не оставил свидетельств о знакомстве с фольклорными источниками, то нельзя говорить о его фольклоризме. С другой стороны, если писатель уже объявлен фольклорным, то все факты индивидуального творчества осмысляются через призму фольклора. Известный исследователь этой проблемы Л.И. Емельянов, сторонник положения об осознанном и целенаправленном использовании в литературе фольклорных образов, сюжетов и поэтического языка, в свое время с беспокойством выявил некоторые «осложнения» такого подхода: «Можно смело утверждать, что по крайней мере девять исследователей из десяти, оказавшись перед фактом типологического совпадения литературного и фольклорного произведений, не могут устоять перед соблазном представить это совпадение как генетическую связь» [2, с. 173]. Так, некоторые исследователи объясняют часто встречающийся в поэзии С. Есенина образ лебедя генетическим родством с фольклором, тогда как, по мнению Л.И. Емельянова, структура и функции этого образа у Есенина и в фольклоре различны. Мифопоэтика опирается на следующие постулаты: 1. Любое авторское произведение включает в себя мифологический субстрат. Этот субстрат получил название архетипов, мифологем. При этом архетипы понимаются скорее не по-юнгиански, как образносимволические явления человеческой психики, а как архетипические образы, сюжеты и т. д., сквозные модели словесного творчества [Элиаде, 1987; Мелетинский, 1995 и др.]. 2. Воспроизведение мифа происходит бессознательно, и нет необходимости отыскивать прецедентный текст. Анализ мифопоэтики произведения выявляет в нем космогонические и эсхатологические мотивы, идею цикличности жизни, смерти – возрождения и пр. «Основным способом описания семантики мифопоэтической модели мира служит система мифологем и бинарных оппозиций.., охватывающая структуру пространства (земля-небо, верх-низ и т. д.), времени (день-ночь), оппозиции социального и культурного рода (жизнь-смерть, свой-чужой)» [8, с. 4]. Главная проблема этого метода – многозначное понимание таких основополагающих для него понятий, как миф, архетип, мифологема. В филологической науке существует множество определений мифа. Принято различать миф как повествование и миф как представление. Соответственно и «мифология понимается, с одной стороны, как со31 вокупность повествований о богах, героях или фантастических существах и, с другой, – как система представлений о мире, обусловленная определенным мировоззрением или складом мышления» [14, с. 12]. Под архетипом понимают: 1) первообраз, праобраз, 2) сквозные, порождающие модели словесного творчества, 3) устойчивые литературные модели, сюжеты, образы, символы, восходящие к архаике, 4) образец для подражания, идеальная модель высшего порядка, рождающая имитации и подражания, 5) всякую мифологему. Другая сложность в том, что исследователи мифопоэтики апеллируют к античному или христианскому мифу. И опять встают вопросы: знал ли писатель тот или иной греческий, римский, египетский и т. д. сюжет (даже библейский), как эти мифологические сюжеты дошли до современной литературы. Значит, необходимо признать тождественность всех мировых мифологий. Однако, говоря о мифопоэтике, например, произведений А. Ахматовой или А. Блока, исследователи обращаются к античному или библейскому мифу, а не, допустим, ацтекскому. Почему, если все мифологические системы тождественны? Видимо, не полностью тождественны, и писатель избирает те мифологические модели, которые близки его культурному сознанию. Но ближе всего культурному сознанию русского писателя или поэта должна быть его национальная мифология, а она часто игнорируется, или вопрос переводится в разряд фольклоризма литературы, что рождает новые проблемы (см. выше). Между мифом и литературным произведение образуется лакуна. Ю.М. Лотман, говоря о механизмах активизации мифологического пласта в современном искусстве, неоднократно отмечал трудности в объяснении устойчивости мифологической схемы там, где непосредственная связь с мифом заведомо оборвана. В самом деле, если античные или библейские мифы дошли до нас в записях и толкованиях, то славянская мифология до А.Н. Афанасьева никем научно не систематизировалась. Откуда писатель мог черпать сведения о ней? Получается, что писатель обращается к мифу бессознательно, но сам этот миф знает по записи. Русская художественная словесность (устная и письменная) не сохранила мифов в традиционном смысле слова, т.е как повествований о начале и конце мира, о богах, об их отношенях с людьми, хотя, несомненно, они существовали. Думается, что анализ и реконструкция мифа в литературном произведенииии должна быть опосредована каким-то промежуточным материалом. Это может быть язык, этнография или, в нашем случае, фольклор. Современная фольклористика склоняется к тому, что фольклор – это вся традиционная культура, ее художественные и нехудожественные формы, вербальные и невербальные (акциональные, предметно32 материальные, ментальные и др.) способы выражения. Нетрудно заметить, что мифологические представления народа естественным образом включаются в это определение. Думается, следует выстраивать ряд «миф – фольклор – литература»: «фольклор ... формировался в недрах мифологии, вырастал из нее, питался ею и на всем пути своей истории не мог расстаться с этим наследием» [11, с. 71–72]. Именно в фольклоре миф приобретает художественную форму и эстетическую ценность (особенно в обрядовой поэзии и в сказке – самых древних отмифологических явлениях). Осмысление мифа в русской науке XIX–XX вв. никогда не было изолировано от исследований отечественного фольклора. А.А. Потебня еще в прошлом столетии особо отметил эту взаимозависимость, указав на роль «собирателей сказок и других подобных произведений» в «настойчивом систематическом изучении» мифологии [9, с. 249]. В литературе фольклорно-мифологический комплекс присутствует в виде традиционных культурных представлений и в виде готовых словесных, жанровых, стилистических и др. форм, то есть художественного языка, которым, трансформируя его, пользуется литература. Один и тот же мифологический субстрат, попадая в фольклор или литературу, получает специфические свойства, но частично сохраняет исходную структуру и семантику, то есть образует архетипическую парадигму. Возможно, она и есть та «единица измерения», на установлении которой настаивал Л.И. Емельянов и которая характеризует «литературно-фольклорные связи, по возможности более сложные и органичные, нежели простой фольклоризм» [2, с. 173]. Такой парадигматический подход, объединяющий анализ фольклоризма и мифопоэтики в литературном произведении, может быть назван архепоэтикой, то есть установлением архетипических, фольклорно-мифологических слоев в литературном тексте и осмыслением их структурно-семантической функции. II. Молчание какая радость какое страшное звучание молчание. Г. Сапгир В качестве прецедента произвольно изберем стихотворение Ф.И. Тютчева «Silentium». Фольклорно-мифологический материал, привлекаемый для анализа и интерпретации литературного произведения, позволяет с помощью языка традиционной народной культуры и в его категориях ответить на многие вопросы, порождаемые литературным текстом. Как заметил Д.Н. Медриш, утверждавший единство фольклора и литературы как 33 двух подсистем одной метасистемы – русской художественной словесности, «в ряде случаев фольклорная традиция в определенном смысле более продуктивна в литературе, нежели в фольклоре» [5, с.14]. Однако следует предостеречь молодых исследователей от соблазна механически «накладывать» фольклорно-мифологические данные на литературное произведение. Всякий писатель, сознательно или бессознательно, воспринимает предшествующий культурный опыт, но переосмысляет и трансформирует его в своих произведениях, вплоть до «обращения» (термин В.Я. Проппа) – сохранения структуры с полной переменой значения. Стихотворение Тютчева призывает к молчанию. Почему молчание лучше, чем говорение, бездействие лучше действия? Нетрудно заметить, что стихотворение построено по принципу бинарных оппозиций: молчание/говорение, недеяние/деяние, где вторые части представлены имплицитно, умалчиваются. Мотив молчания, безмолвия – один из важдейших в русской литературе и в силу исторических, и в силу традиционно-культурных причин. По словам С.М. Толстой, «оппозиция «звук (шум) – тишина» и ее коррелят в мире «человеческих» звуков – «голос – молчание» являются одной из главных категорий звукового кода (славянской. – М.Л.) культуры. На семантическом уровне им соответствует противопоставление земного мира людей, звучащего и говорящего, и потустороннего мира мертвых, погруженного в тишину и безмолвие» [12, с. 10]. В традиционной славянской культуре молчание – это форма ритуального поведения человека, находящегося в быту и в религиозных практиках в постоянном контакте со сферой потустороннего. Основные представления славян о смысле и функциях молчания представлены в этнолингвистическом словаре «Славянские древности» [1, с. 292–296] и в сборнике «Мир звучащий и молчащий: Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян» [7]. Коротко их можно свести к следующему: 1. Человек, отказывающийся от речи, отделяется от мира и людей, позиционирует себя как «чужой», принадлежащий иному времени и пространству. Этим объясняется, например, первоначальное молчание сватов в доме невесты до тех пор, пока родители девушки не заговорят с ними, демонстрируя готовность начать обрядовые действия. Ряженые во время святочных или масленичных обрядов не разговаривали не только со встречными, но иногда и между собой. В народных сказках герой, вернувшийся из иного мира, соблюдает запрет молчания о том, что он увидел и узнал. Нарушение этого запрета грозит смертью [10, с. 229]. 2. Молчание имело обереговый (апотропеический) характер. Так, запрещалось некоторе время разговаривать с роженицей, чтобы не подвергнуться враждебным действиям злых сил, поскольку роженица 34 в этот момент воспринимается как пограничное существо, медиатор между мирами. Этот же запрет распространяется и на участников похоронного обряда. Молчание также расценивалось как защита от болезней, нечистой силы и даже диких животных. 3. Молчание соблюдалось участниками обрядов перехода. Нельзя было разговаривать при умирающем, чтобы душа не сбилась с пути. Молчала на свадебном пире невеста, находящаяся «в пути» между старой и новой семьей, старой и новой жизнью. Молчание воспринималось как подготовка к тому или иному событию, подобно христианскому посту. 4. Молчание должно было способствовать успеху хозяйственных или магических действий, например, началу сева или концу жатвы. Вода, набранная при полном молчании до восхода солнца, называлась «молчальной», и ей приписывались лечебные свойства. 5. Молчание осмыслялось как часть бытового и ритуального этикета: молчание младших в присутствии старших, менее социально значительных по отношению к более социально значительным. 6. Молчание с помощью магических процедур навязывалось лицам, говорение которых могло быть опасным для человека. При неожиданной встрече с незнакомцем в лесу следовало сказать: «Все ненавидящие меня молчат, молчат, молчат». После всего сказанного нетрудно заметить, что стихотворение Тютчева воспроизводит некоторые традиционные для славянской и в частности – русской культуры смыслы. Но в художественном мире поэта они представлены в обогащенном предшествующей литературой и личным опытом виде. Внутренний мир лирического героя Тютчева противостоит миру внешнему. Но в отличие от народной традиции именно внешний мир, звучащий и говорящий, наделяется чертами «иного», «чужого». Он враждебен герою. Его звуковая характеристика – «оглушит наружный шум» – хаотична, беспорядочна. Шум, треск, рев, свист и т. д. – это приметы мира хаоса и дисгармонии. Молчание становится, как и в народной культуре, способом очищения, защиты, ведь голос – это часть целого, «поэтому он и уязвим для опасности, поскольку действия (как положительные, так и отрицательные), производимые над частью, как известно, переносятся на целое» [4, с. 61]. Пространство лирического героя, напротив, представляет собой внутренний космос, «целый мир» «таинственно-волшебных дум». Этот мир и есть мыслимый идеальный аналог реального, но утратившего чистоту и цельность мира. Потому человек в нем онтологически одинок. Так в стихотворении фольклорно-мифологическое двоемирие приобретает новый облик, миры в нем меняются местами. Но парадокс! Призыв к молчанию выражен своей противоположностью – говорением, речью, причем речью поэтической. Внутренний 35 мир лирического героя оказывается подлинно «живым». В нем светят звезды и бьют ключи. Голос, слово организуют этот мир молчания, упорядочивают и гармонизируют его, возвращают к состоянию начала, ибо слово и в архаической, и в библейской мифологии обладает способностью к творению. И молчание – это не беззвучие, а пауза, не абсолютно, а относительно: «только пауза создает возможность получения информации «через звук», поскольку она делает возможным членение звукового пейзажа» [13, с. 151]. Следовательно, в стихотворении обозначен момент перехода, своего роди инициации лирического героя. Как заметил исследователь поэзии Тютчева, «темой, содержанием стихотворения является изображение диалектики мысли и слова, диалектической противоречивости мысли и языка, сознания и способов его выражения. В практическом разрезе – проблема мук слова» [3, с. 82]. Разумеется, наша интерпретация не может претендовать на полноту. Предлагаемый метод обычно используется в совокупности с другими. Но он может существенно дополнить любые литературоведческие процедуры. _______________ 1. Агапкина Т.А. Молчание // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. Н.И. Толстого. В 5 т. – Т. 3. – М., 2004. 2. Емельянов Л.И. Методологические вопросы фольклористики. – Л., 1978. 3. Зунделович Я.О. Этюды о лирике Тютчева. – Самарканд, 1971. 4. Левкиевская Е.Е. Голос и звук в славянской апотропеической магии // Мир звучащий и молчащий: Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян / Отв. ред. С.М. Толстая. – М., 1999. 5. Медриш Д.Н. Литература и фольклорная традиция. Вопросы поэтики. – Саратов, 1980. 6. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М., 1995. 7. Мир звучащий и молчащий: Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян / Отв. ред. С.М. Толстая. – М., 1999. 8. Осипова Н.О. Мифопоэтика лирики М. Цветаевой. – Киров, 1995. 9. Потебня А.А. Слово и миф. – М., 1989. 10. Пропп В.Я. Морфология / Исторические корни волшебной сказки. – М., 1998. 11. Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура; In memoriam. – СПб., 2003. 12. Толстая С.И. Звуковой код традицион ной народной культуры // Мир звучащий и молчащий: Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. – М., 1999. 13. Цивьян Т.В. Отражение звукового пейзажа в языке и в тексте (на материале русской загадки) // Мир звучащий и молчащий: Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. – М., 1999. 14. Топорков А.Л. Теория мифа в русской филологической науке XIX века. – М., 1997. 15. Элиаде М. Космос и история. – М., 1987. 36 КОНЦЕПТОСФЕРА ЗАГОВОРОВ КАК ПРЕЦЕДЕНТ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА Пирогова М.Н., Йошкар-Ола Заговоры представляют собой неотъемлемое звено национальной культуры. Связанные с представлениями человека об окружающем, заговоры несут в себе познавательный потенциал, имеют этнографическую, языкотворческую и художественную ценность, которая довольно часто востребуется в литературном творчестве. Однако, до сих пор поэтика заговоров малоизучена с точки зрения понимания системы концептов, формирующих архаическую картину мира древних славян, имеющую большое значение для творческой лаборатории писателя. Заговоры – это «малые» фольклорные тексты, служащие магическим средством достижения желаемого в лечебных, защитных, продуцирующих и других ритуалах. Исполнение заговора носит окказиональный и сугубо индивидуальный характер. Концептосфера заговоров как система, формирующая архаическую картину мира древних славян, достаточно богата и разнообразна. Можно выделить следующие концепты: «дом», «любовь», «грех», «звезда». Особое внимание привлекает концепт «звезда» в силу того, что все неведомое и необъяснимое привлекало внимание людей издавна. Именно сознание людей, их представление о звездах воплотились в заговорах. Как отмечается в работах современных исследователей (Ю.С. Степанова, Ю.Н. Караулова, А.Т. Хроленко и др.), картина мира, т. е. синтетическое панорамное представление о мире и действительности, состоит из определенного набора единиц – концептов. Что же касается самого понятия «концепт», то это один из наиболее популярных и в то же время наименее однозначно дефинируемых терминов современной науки. Он связан, прежде всего, с антропоцентрической методологией и используется наряду с такими ключевыми понятиями, как «дискурс», «картина мира», для репрезентации мировоззренческих, интеллектуальных и эмоциональных интенций личности, отраженных в ее творениях – текстах. Само понятие «концепт» сформировалось в отечественной лингвистике в последнее десятилетие 20 века. В «Философском энциклопедическом словаре» определение предельно кратко: «(от лат. Conceptusсодержание понятия)» [11, с. 278]; в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» этот термин вообще не приводится. С.А. Аскольдов-Алексеев, первый из отечественных ученых, обратившийся к изучению феномена концепта, говоря о составляющих 37 его природы, давал следующую интерпретацию: «Концепт – это туманное «нечто», в котором в области знания всегда, а в искусстве слова, в значительной мере заключается основная ценность» [6, с. 268]. Понимание термина «концепт» чрезвычайно широко и разнообразно, но, как правило, большинство исследователей (Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин, А.А. Залевская и др.) рассматривают концепт как основную единицу ментальности данной культуры, вербально обозначенную. В целом, утверждение в науке понятия «концепт» обозначило новую ступень в постижении способов, закономерностей и особенностей взаимодействия языка, сознания и культуры; а, следовательно, выявило и новые аспекты взаимодействия лингвистики, когнитологии, культурологии, психологии, философии; расширило рамки содержательного анализа языковых явлений и придало значительно большую глубину и эффективность семантическим исследованиям. В настоящей статье мы опираемся на определение концепта В.В. Колесова: «Концепт – это основная единица ментальности данной культуры, которая в границах словесного знака и языка в целом предстает в своих содержательных формах как образ, как понятие и как символ» [1, с. 81]. В соответствии с данным определением описание концепта осуществляется на основании методики А.В. Рудаковой [4, с. 121–126]. В рамках ее определение концепта устанавливается на основе общерусских корреляций, то есть не ограничивается только литературным контекстом, а охватывает ряд составляющих русской культуры. Таким образом, алгоритм описания концепта может выглядеть следующим образом: 1) анализ ключевого слова, 2) анализ синонимических единиц, репрезентирующих концепт, 3) анализ образных номинаций, объективирующих концепт в русском языке, 4) анализ словообразовательной парадигмы ключевого слова, репрезентирующего концепт, 5) анализ репрезентации концепта в русских паремиях, 6) анализ афоризмов и фразеологических единиц, объективирующих в русском языке концепт, 7) анализ вербализации концепта в индивидуальноавторских номинациях. Ядро концепта «звезда» объективируется в русском языке лексемой «звезда». Современные словари дают возможность судить о семантике лексемы, репрезентирующей данный концепт. Так, Толковый словарь русского языка содержит 3 семемы лексемы: 1) небесное тело (раскаленный газовый шар), ночью видимый как светящаяся точка; 2) о деятеле искусства, науки, о спортсмене: знаменитость; 3) фигура, а также предмет с треугольными выступами по окружности [5, с. 221]. Наиболее полное представление о современной семантике исследуемой лексемы содержит Современный толковый словарь русского языка, в котором представлены уже 4 ее семемы: 1) самосветящееся небесное тело, сходное по своей природе с солнцем и видимое на ночном небе как яркая точка (сияние звезд); 2) о знаменитом человеке (обычно 38 в сфере искусства, спорта); 3) геометрическая фигура с остроконечными выступами, равномерно расположенными по окружности; фигура с лучами, исходящими от центра (пятиконечная звезда); 4) светлое пятно на лбу у животного [8, с. 224]. Расширяют представление о понятии «звезда» энциклопедические данные, по которым «звезда – астрономическое, небесное тело, светящееся собственным светом и представляющееся земному наблюдателю светлой точкой» [2, с. 230]. В славянской мифологии звезды – это небесные тела, соотносимые с судьбами людей и оказывающие влияние на земные события. К звездам причисляется также комета (рус. Хвостатая звезда, серб. Репатица) и метеориты. Особое значение в народной астрономии имеют созвездия (Млечный Путь, Плеяда, Орион и др.) и отдельные крупные звезды – Полярная звезда, Венера, представляемая как «утренняя» (болг. Зорник) и «вечерняя» (болг., серб., Вечерница) звезда в соответствии со временем появления на небе в течение суток и др. Звездное небо предстает как отражение земной поверхности. Об этом говорят названия отдельных звезд и созвездий, соотносимых с рельефом земли, людьми, орудиями труда, а также легенды и поверья: «Бог украсил небо звездами, как землю – цветами». Дополняют словарные значения и субъективные дефиниции данные ассоциативного эксперимента со словом «звезда», который проводился среди студентов-филологов четвертого курса и учащихся старших классов (150 человек). Анализ его результатов показал, что в настоящее время в сознании людей преобладают два значения слова «звезда»: 1) небесное тело, 2) популярный человек, известный в шоубизнесе. Причем в Словаре синонимов русского языка синонимов слова «звезда» вообще не приводится (сноска – см. знаменитость). Можно сделать вывод, что слово «звезда» в современном русском языке системный синоним слова «знаменитость». Концепт «звезда» по данным «Словаря языка поэзии» образно вербализуется в языке лексемами «лампада небесная», «лампады божьи», «лампады вечные», «свеча взнесенная», «каменья драгоценные», «руны небесные», «веер огненный», «люстра алмазная», «лучинки», «светило блистающее», «светильники ночные», «свеча взнесенная», «солнце ночное», «красавицы небес», «девы небесные», «кочевницы», «путницы небесные», «спутницы ночей», «шалуньи», «вестницы ночи», «водительницы гордого раздумья», «посланник зари», «цари смеркающейся ночи» [3, с. 205–213]. Особенностью данной группы лексем является однородность, схожесть их семантики, а также стилистической окрашенности. В настоящее время лексема «звезда» является производящей. В «Словообразовательном словаре русского языка» А. Н. Тихонова представлено следующее словообразовательное гнездо (53 единицы): 39 звезд(а) – звезд-очк-а – звезд-инк-а – звезд-иц-а – звезд-овик – звезд(н)ый – /звездн-о – звезд-ист-ый – звезд-чат(ый) – /звездчатк-а – без-звезд-н-ый – квази-звезд(а) – /квазизвезд-н-ый – /ква(з) ар [ква(зи)з(везда)ар] – меж-звезд-н-ый – между-звезд-н-ый – над-звезд-н-ый – не-звезд-а – /незвезд-н-ый – около-звезд-н-ый – под-звезд-н-ый – прото-звезд(а) – /протозвезд-н-ый – сверхзвезда – со-звезд-иj-е – звезд-и-ть – /звездить-ся – /звезд-ин-ы – вы-звезд-е-ть – /вызвездеть-ся – вы-звезд-и-ть – звезд-о-видн-ый – звезд-о-крыл-ый – звезд-о-лет – /звездолет-чик – звезд-онос-ец – звезд-о-нос-н-ый – звезд-о-образн(ый) – /звездообразн-о – звезд-о-образование – звезд-о-пад – звезд-о-плава-тель – звездо-плавание – звезд-о-поклонник – звезд-о-поклон-ств-о – звезд-орыл – звезд-о-чет – /звездочет-ов – кино/звезда – красн-о-звездн-ый – ради-о-звезда – сем-и-звезд-иj-е – сребр-о-звезд-н-ый [9, с. 364]. Данные лексемы репрезентируют концепт «звезда» в русском языке. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля приведены и другие однокоренные единицы, в настоящий момент вышедшие из употребления: звездка, звезданка, звездовой, звездочный, звездковый, звездяный, звездарь, звездун или звездуха, звездын, звездоблюстилище, звездовождение, звездозаконник [10, с. 215–216]. Достаточно последовательно и системно концепт «звезда» вербализуется в русских паремиях. Материалом для данного исследования послужил сборник В.И. Даля в двух томах «Пословицы русского народа». Пословицы и поговорки русского народа, в которых реализуется исследуемый концепт, подтверждают его реальность и значимость. При анализе было выявлено, что концепт объективируется ключевой лексемой «звезда», которая характеризуется средней частотностью (16 единиц). В целом можно отметить, что в русских паремиях воплотились представления народа о звездах и их роли в жизни человека: влияние звезд на судьбу человека («Под счастливой /несчастливой звездой родился», «Закатилась моя звезда, мое красное солнышко», «Звезда с хвостом – к войне»), звезды – окна на небе («Небо – терем Божий, звезды – окна, откуда ангелы смотрят»), представления о мире («На семи поясах Бог поставил звездное течение», «Узвездил творец небо», «Полна печь пирогов, посреди каравай» – звезды и месяц), приметы («Звезда падает, к ветру», «Коли звездисто и Стожар горит – иди смело на медведя», «По звездам корабли ходят»). Анализ фразеологических единиц (10 единиц) по данным Словаря русской фразеологии (19) подтверждает мысль о том, что в современном русском языке слово «звезда» – системный синоним слова «знаменитость»: звездная болезнь, звезда первой величины, восходящая звезда, 40 звезд с неба не хватает, взошла звезда, взошла звезда славы, звездные войны. Но следует учитывать, что данные фразеологизмы восходят к первоначальному значению слова «звезда» – небесное тело и характеризуют человека, пользующегося известностью. Во фразеологизмах воплотились также представления людей о влиянии звезд на судьбу: родиться под счастливой звездой, путеводная звезда, звезда закатилась. Изучение афоризмов современного русского языка по данным «Большой книги афоризмов» (43) – 7 единиц – подтвердило нашу мысль о том, что в настоящее время в русском языке преобладают два значения слова «звезда»: 1) небесное тело – Звезды склоняют, но не принуждают (формула средневековой астрологии); Молитесь, астрологи о беззвездном небе (Станислав Ежи Лец); Не будем все сваливать на наше межзвездное положение (Хенрик Ягодзиньский); Мы будем блохами космоса, скачущими со звезды на звезду (Станислав Ежи Лец); Небо, усеянное звездами, всегда уподоблю груди заслуженного генерала (Козьма Прутков); 2) популярный, известный человек – Голливуд – это место, где провинциалы из штата Айова принимают друг друга за кинозвезд (Фред Ален); Путь к звездам ведет через многолетнее заключение. Астронавтика пахнет тюрьмой (Станислав Леш). Какую же новую информацию о данном феномене предоставляют нам заговоры? Концепт «звезда» в русских заговорах репрезентирован лексемами «звезда» и «звездочка». Семантика лексем в заговорах по преимуществу воплощает представления славян о звездах как о небесных телах. Концепт «звезда», репрезентированный как небесное тело, представлен практически во всех группах заговоров и расположен в начале заговоров: от сглаза («Встану я, раба Божия, благословясь, перекрестясь, пойду из ворот в ворота, из дверей в двери, в восточную сторону, под ночным звездам, под ночной месяц, облаком теплым, облаком нетеплым, ясным красным солнцем, из-за тучи частым звездам»), на красоту («Стану я, раба Божия Наталья, перекрестясь, пойду благословясь, из избы дверьми, из ворот в ворота, выйду в чистое поле под утреннюю зарю, под частые звезды, под млад-свет месяц, под красное солнышко»), в домоводческих и хозяйственных заговорах («Стану я, благословясь, приду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, в восточную сторону под утреннюю зорю, на вечернюю зорю, под красное солнце, под частые звезды, на окиан – сине море»), в лечебных заговорах («выходила раба Божья (имя) из двери в двери, из ворот в ворота, во чистое поле, под светел месяц, под частые звезды») и, наконец, житейских и общественных оберегах («встану, благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, под светел месяц, по частым звездам»). Наиболее часто концепт «звезда» встречается в группе так называемых любовных заговоров. Достаточно часто в этой группе загово41 ров употребляется действие со звездами: «утычуся звездами», «подтычусь звездочкой», «запояшуся частыми звездами», «звездами утруся», «звездами обвешусь»; сравнение субъекта с красотой и яркостью звезд: «всем бы я казалась как часты звезды», «казалась бы я раба Божия (имя), мила и бела, румяна и красна, белее белого света, теплее красного солнышка, светлее злата месяца, красивее частых звезд», «всем бы я казалась как яркой месяц, как ясные звезды», «дай мне красоты да лада, звезды небесные, чудный месяц. Месяц, звезды украшают свет, так и меня бы, девушку украшали». В подгруппе любовных заговоров на любовь и от тоски звезды присутствуют также как неотъемлемая часть целостной картины мира: чаще всего употребляется конструкция – «Как ..., так и раб Божий (имя) друг от дружки сохни, не моги ни пить, ни есть, ни ночи спать, ни дня коротать, ни по месяцу, ни по солнышку и ни по ярким и мелким звездочкам...», «как туманом ясны звезды призакроются, так затми пеленой очи молодецкие». В заговорах также воплотилось представление славян о звездах как о небесных телах, имеющих магическую силу: у звезд просят помощи для больных, от сглаза («Прошу на помощь небо и солнце, месяц и звезды, зори, и ветры, и вихри, сырую мать – землю»). Итак, концепт «звезда» в русских народных заговорах и паремиях репрезентируется лексемами «звезда» и «звездочка», воплощает представления славян о звездах как о небесных телах, имеющих магическую силу, и позволяет восстановить архаическую картину мира, что делает их особенно значительными в творческой лаборатории писателя. _______________ 1. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист / Под ред., с вступит. статьей и коммент. Ю.С. Степанова. – М., Прогресс, 1974. 2. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Современная версия / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – М.: Эксмо, 2002. 3. Иванова Н.Н. Словарь языка поэзии (образный арсенал русской лирики к.18-н.20в.): Более 4500 образных слов и выражений / Н.Н. Иванова, О.Е. Иванова. – М.: АСТ; Астрель; Русские словари; Транзиткнига, 2004. 4. Методологические проблемы когнитивной лингвистики: Научн. изд. / Под ред. И.А. Стернина. – Воронеж: МИОН, 2001. 5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н.Ю. Шведова / РАН, Российский фонд культуры. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ, 1995. 6. Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология / Под ред. В.П. Нерознака. – М.: Academia, 1997. 7. Русские заговоры и заклинания: Материалы фольклорных экспедиций 1953–1993 гг. / Под ред. В.П. Аникина. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 480 с. – (Русский фольклор в новых записях) 8. Современный толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 2003. 42 9. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. Т. 1 Словообразовательные гнезда А-П / А.Н. Тихонов. – М.: Русский язык, 1985. 10. Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля / Сост. Н.В. Шахматова и др. – С-Пб.: ИД «Весь», 2004. 11. Философский энциклопедический словарь / Под ред. Л.Ф. Ильичева. – М.: Советская энциклопедия, 1983. О разработке понятия «творческая индивидуальность писателя» в советском литературоведении Шатохина О.А., Чекалов П.К., Ставрополь В «Литературной энциклопедии терминов и понятий», изданной в 2003 году под редакцией А.Н. Николюкина, нет такой дефиниции, как «творческая индивидуальность писателя», нет ее и в более раннем издании «Литературного энциклопедического словаря» 1987 года, хотя она присутствовала в «Словаре литературоведческих терминов» 1974 года, составленный Л.И. Тимофеевым и С.В. Тураевым. «Понятие творческая индивидуальность писателя вбирает в себя неповторимые качества, принадлежащие тому или иному писателю, но так, что в них отражаются особенности литературы эпохи и направления, к которым он принадлежит, – говорилось в этой словарной статье. – Писатель свободно избирает материал и стиль, но он подчиняется определенным закономерностям, ибо подлинная его сила в том вкладе, который он вносит в литературное развитие, в том влиянии, которое он оказывает на современников и последующие поколения» [3, с. 397]. И после такого определения в словаре дается краткая история вопроса, которую можно изложить в следующей тезисной форме: произведения древней литературы были безымянными, наиболее отчетливо творческая индивидуальность писателя впервые сложилась в эпоху Возрождения, когда с необычайной силой она раскрылась в сонетах Петрарки, трагедиях Шекспира, «Дон Кихоте» Сервантеса. Теоретики классицизма, отмечая наличие индивидуальности у каждой творческой личности, все же стремились к выявлению общих законов течения, нежели к индивидуальности творца. Лишь в эпоху сентиментализма творческая индивидуальность писателя оказывается в центре внимания литературоведения. Важнейшим теоретическим документом этого времени явился трактат Эд. Юнга «Размышление об оригинальном творчестве» (1759). 43 Центральной категорией творческая индивидуальность писателя оставалась и в эстетике романтизма, приобретя идеалистический характер. Здесь «личность художника возвышалась над действительностью, нередко мистифицировалась, даже обожествлялась». Глубокая философская разработка этой проблемы была дана в «Эстетике» Гегеля. «В истинно художественном произведении, по Гегелю, объективные законы литературного процесса преломляются сквозь субъективные особенности художника как его мировоззрение». В связи с тем, что творческая индивидуальность писателя является категорией исторической, она подвержена изменениям, свидетельством чему выступает советский писатель как новый тип творческой индивидуальности, сложившийся уже после Октябрьской революции 1917 года. Все советские писатели стоят на позициях единого марксистско-ленинского мировоззрения, раскрывающей «небывалые возможности для реализации различных творческих индивидуальностей» [3, с. 397–398]. В советском литературоведении интерес к писателю как творческой индивидуальности возник в середине ХХ столетия, и одними из первых содержательных работ по этой теме явились статьи Б. Костелянца «Горький и проблема творческой индивидуальности писателя» и М. Храпченко «Реалистический метод и творческая индивидуальность писателя». Для Храпченко эта тема стала одной из магистральных в его научной деятельности, следствием чего явилась книга «Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы», изданной в 1970 г. и за последующие 7 лет претерпевшей 4 переиздания. В 1974 г. за эту книгу автору была присуждена ленинская премия, и впоследствии она вошла отдельным (третьим) томом в четырехтомное собрание сочинений М.Б. Храпченко (М., 1981). В книге Храпченко рассматриваются различные литературоведческие проблемы, некоторое представление о которых можно получить по заглавиям разделов: «Мировоззрение, идейность, искусство слова», «Проблемы стиля», «Время и жизнь литературных произведений», «Типологическое изучение литературы», «Тургенев и связи эпох», «Горький и современность» и др. Но всех их пронизывает и объединяет центральное понятие книги: творческая индивидуальность писателя, раскрытию которого посвящена вся вторая глава. Здесь приводятся не только суждения автора относительно данной литературоведческой дефиниции, но и конкретные аспекты ее проявления: творческая индивидуальность и личная биография писателя, творческая индивидуальность и реальная личность художника, внутренние связи писателя и читателя, творческая индивидуальность и самовыражение, творческая индивидуальность и литературные течения и направления, творческая индивидуальность и процесс развития литературы... Необходимо отметить, что крупный советский ученый признавал творческую индивидуальность писателя «значительным социально44 эстетическим явлением» [5, с. 92] и свое понимание этой категории выразил следующим образом: «Творческая индивидуальность – это личность писателя в ее важнейших социально-психологических особенностях, ее видение и художественное претворение мира, это личность художника слова в ее отношении к эстетическим запросам общества, в ее внутренней обращенности к читательской аудитории, к тем, ради кого создается литература» [5, с. 87]. Пытаясь раскрыть сущностные черты творческой индивидуальности писателя, Храпченко обращается к пониманию роли и значения художника Л.Н. Толстым и И.С. Тургеневым: «В сущности, когда мы читаем или со­зерцаем художественное произведение нового автора, – писал Лев Толстой, – основной вопрос, возникающий в нашей душе, всегда такой: «Ну-ка, что ты за человек? И чем ты отличаешься от всех людей, которых я знаю, и что можешь сказать мне нового о том, как надо смот­ реть на нашу жизнь?» ...Если же это старый, уже зна­комый писатель, то вопрос уже не в том, кто ты такой, а «ну-ка, что сможешь ты сказать мне еще нового? с ка­кой стороны ты теперь осветишь мне жизнь?» В несколько ином плане об особенностях, характери­зующих подлинного художника, говорил Тургенев: «Важно в литературном... да, впрочем, я думаю, и во всяком таланте, то, что я решился бы назвать своим го­лосом. Да, важен свой голос. Важны живые, особенные, свои собственные ноты, каких не найдется в горле у каждого из других людей... Для того, чтоб так сказать и эту самую ноту взять, надо иметь именно такое, особым образом устроенное горло. Это как у птиц... В этом и есть главная отличительная черта живого ори­гинального таланта» [5, с. 67]. И затем уже ученый делает обобщения из изложенных взглядов великих писателей: «Мысль о «своем голосе» и положение о новом осве­щении жизни в произведениях талантливого писателя очень близко соприкасаются друг с другом. Новое слово писатель именно тогда и высказывает, когда он обладает «своим голосом». И чем сильнее этот «голос», чем ярче творческая индивидуальность художника-реалиста, тем значительнее его вклад в искусство» [5, с. 67]. Затем, дополняя сказанное мыслью армянского прозаика Дереника Демирчяна («Свое, пусть маленькое, но свое – вот что имеет большую цену в литературе, кажется читателю инте­ресным»), Храпченко приходит к еще более широким и глубоким теоретическим обобщениям: «Привнося в литературу «свое», талантливый писатель увеличивает общее достояние, духовные ценности, при­надлежащие народу. Роль творческой индивидуальности определяется не просто своеобразием, взятым в своей имманентной сущности, а тем своеобразием, которое вы­ражается в создании общезначимых художественных цен­ностей. «Свое» приобретает важное значение не в силу лишь несхожести с другими проявлениями индивидуаль­ного в литературе, а тогда, когда 45 оно обогащает ду­ховный мир человека, художественную культуру народа» [5, с. 68]. Обращаем внимание и на следующий вывод, к которому приходит ученый в результате своих размышлений: «Творческая индивидуальность писателя проявляется в различных сторонах его искусства, и, прежде всего, ко­нечно, в самобытности его взгляда на явления жизни, самобытности и общественной значимости его творче­ских обобщений» [5, с. 68]. Рассматривая категорию творческой индивидуальности писателя в исторической перспективе, от устной народной поэзии, от первых этапов литературного развития до социалистического реализма, известный литературовед приходит к мысли, что только реалистическое искусство «дает широкий простор развитию творческой индивидуальности» [5, с. 81]. К проблеме творческой индивидуальности писателя в начале 1960-х гг. обратился и другой видный советский литературовед Б. Бурсов, изложивший свои взгляды в статье «Писатель как творческая индивидуальность»: «Творческая индивидуальность писателя – это не только манера или стиль, ему одному принадлежащие; даже не только свой взгляд на жизнь и свое отношение к жизни; это, прежде всего, смелое и безбоязненное погружение в действительность своего времени, сквозь которую зримо проступают черты будущего; это глубина его духа, который позволяет ему всегда быть верным действительности и своему таланту, непрестанно развивать и двигать его вперед; это сознание правильности избранного пути, уверенность в своем таланте и доверие к своему таланту; это вместе с тем чуткое, отзывчивое отношение к запросам своих современников, к требованиям эпохи и восприятие их как собственных требований к себе» [1, с. 220–221]. Бурсов не только изложил свое понимание сути творческой индивидуальности, он дает представление о многообразии проявлений творческого лица. Беря три эпохи в истории Западной Европы (Возрождение, Просвещение, развитой капитализм), ученый выявляет и три типа писательских индивидуальностей, характерных для каждого периода: Шекспир, Гете и Бальзак. На их примере Бурсов показывает, как менялся характер творческой индивидуальности в связи с происходившими в Европе общественными процессами. Но творческая индивидуальность зависима не только от социальных и политических процессов, литературных течений и направлений эпохи, а и от многих других факторов. На примере Щедрина и Некрасова, Тургенева, Достоевского и Л. Толстого, живших в одну и ту же эпоху, ученый отмечает не только то общее, что сближало этих художников, но и различие их творческих индивидуальностей. На новом литературно-историческом материале эти же вопросы рассматриваются на примере творчества Шолохова, Фадеева и Леонова, помимо 46 того, типологические признаки художественной индивидуальности советского писателя определяется исследованием творчества Николаевой, Пановой, Овечкина и Тендрякова. В 1964 г. в издательстве «Наука» вышла солидная коллективная монография «Художественный метод и творческая индивидуальность писателя», в которой приняли участие советские и чешские ученые: В.В. Кожинов, Н.К. Гей, Д.Д. Благой, В.О. Перцов, Г.Л. Абрамович, Ян Мукаржовский, Юрай Шпитцер, Ладислав Штолл, Милош Томчик и др. Хотя творческая индивидуальность здесь рассматривается в связи с художественным методом, тем не менее, такие статьи, как «Творческая индивидуальность и литературный процесс» Я.Е. Эльсберга, «Творческая индивидуальность и общие тенденции литературного процесса» С.В. Никольского, «Творческая индивидуальность и мировоззрение» Ладислава Штолла, «Соотношение художественного метода и творческой индивидуальности в эстетике Ст. К. Неймана» Феликса Водички представляют определенный интерес как для теоретиков, так и историков литературы. К этой же проблеме в 1978 г. обратилась группа исследователей Воронежского университета, создавших сборник научных статей «Индивидуальность писателя и литературно-общественный процесс». Материалы издания призваны осмыслить место и роль художественной индивидуальности в литературно-общественном процессе своего времени, но нет ни одной статьи, в которой давалось бы теоретическое осмысление понятия, вынесенного в название сборника. Тут рассматриваются творческие связи М.Ю. Лермонтова и К.Ф. Рылеева (Б.Т. Удодов), пути поэтической мысли (Л.Г. Фриман), категории пространства и времени в лирике Лермонтова (М.А. Козьмина), о социальном аспекте темы детства в раннем творчестве Достоевского (А.П. Гатицкий), о мотивах гуманизма в раннем творчестве А.Ф. Писемского (В.А. Малкин), о художественном решении проблемы выбора в рассказе Л. Толстого «Набег» и т. д. Вероятно, все поднятые вопросы имеют непосредственное отношение к индивидуальности писателя, но ни в одном из 14 наименований статей, включенных в сборник, даже не упоминается категория творческой индивидуальности. В этом плане с рассматриваемым сборником перекликается одно из последних изданий по проблеме писательской индивидуальности: «Творческая индивидуальность писателя и литературный процесс. Метод. Стиль. Поэтика», изданный Липецким государственным пединститутом в 1992 г. Здесь, как и в издании Воронежского университета, в первую очередь привлекает разнообразие тематики, с одной стороны, и отсутствие ключевых слов в названиях статей, с другой: «Эволюция жестовой образности в творчестве Гоголя» (О.Г. Мельниченко), «К вопросу о творческих связях А.С. Грибоедова и Д.Н. Бели47 чева» (Г. В. Ситникова), «Образ лирической героини в поэзии Е. П. Ростопчиной» (В. С. Расторгуева), «Художественная природа толстовского критицизма» (Е. Л. Барышников), «Традиции Ф. М. Достоевского в творчестве А. М. Горького» (Н. Н. Комлик), «В. Каменский: эстетика нигилизма» (В. А. Сарычев), «Жанровое своеобразие романа Е. Замятина «Мы» (О. Н. Олейникова) и др. Наблюдения, проведенные над перечисленными источниками, подводят нас к мысли о том, что литературоведческая проблематика, связанная с дефиницией «творческая индивидуальность писателя», в сущности, безгранична, и любая тема, касающаяся биографии писателя, его мировоззрения, стиля, поэтики, сюжета, композиции, образного строя, традиции и новаторства, метода, литературного направления, оказывается связана с понятием творческой индивидуальности. В настоящее время, видимо, настала пора определить четкие границы этого безграничного по сути литературоведческого явления и наполнить его по возможности конкретным и обозримым содержанием. _______________ 1. Бурсов В. Писатель как творческая индивидуальность // Проблемы социалистического реализма. – М.: Сов. писатель, 1961. – С. 206–280. 2. Индивидуальность писателя и литературно-общественный процесс. – Воронеж: ВГУ, 1978. 3. Творческая индивидуальность писателя // Словарь литературоведческих терминов. / Ред. – сост. Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев. – М.: Просвещение, 1974. – С. 397–399. 4. Творческая индивидуальность писателя и литературный процесс. Метод. Стиль. Поэтика. – Липецк: ЛГПИ, 1992. 5. Храпченко М.Б. Собр. соч. в 4 т. Т. 3. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. – М.: Худ. литература, 1981. 6. Художественный метод и творческая индивидуальность писателя. – М.: Наука, 1964. 48 II. УРОКИ КЛАССИКОВ ОБРАЗ ДОРОГИ В ТВОРЧЕСКОМ СОЗНАНИИ ПУШКИНА: ПРОЗА 1830 гг. Меркулова И.И., Саранск Байронический культ странничества, изгнанничества, бегства в чужие края сыграл важную роль в истории русского романтизма и, в частности, в творчестве А. С. Пушкина. Кроме того, существенным фактором активного использования образа дороги А. С. Пушкиным можно считать и биографический момент. Так южные поэмы, «Путешествие в Арзрум» и другие произведения непосредственно связаны с опытом личных путешествий писателя. При рассмотрении «Повестей Белкина» (1830), обращает на себя внимание тот факт, что сам рассказчик постоянно находится в дороге: «...в течение двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны» [1, т. 8, с. 98], на его пути неизбежно случаются встречи, из которых рассказчик черпает свои истории. При этом его путешествия служат не только источником информации, часто его дороги влияют на развитие сюжета повестей, так как И.П. Белкин является их непосредственным участником. Следует отметить и то обстоятельство, что дорога и встречи на ней нередко становятся тем важнейшим моментом, который коренным образом влияет не только на развитие новеллы в целом, но и непосредственно на жизнь самих героев. Влияние данного образа не менее важно и в романе «Капитанская дочка». Сюжет этого произведения практически построен на частых встречах, случайностях, происходящих на дороге. Большое место уделяется дорожным описаниям, характеризующим психологическое состояние героя: дорожным пейзажам («Я приближался к месту моего назначения). Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересечённые холмами и оврагами. Всё покрыто было снегом» [1, т. 8, с. 288], дорожным принадлежностям («На другой день поутру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в неё чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами...») [1, т. 8, с. 283], дорожным размышлениям и снам. Сюжет и дорожные описания неразрывно связаны в романе. В отличие от «Повестей Белкина», здесь гораздо чаще можно встретить довольно подробную обрисовку дорог. «Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Солнце 49 садилось. Кибитка ехала по узкой дороге...» [1, т. 8, с. 288]. Нетрудно заметить здесь и рухнувшие надежды на веселую жизнь в Петербурге, и ожидание скуки на будущем месте службы, унылое настроение путешествующего. Начало жизненного пути главного героя определено – юный Петр Гринев, покидая родительский дом, отправляется на службу в «сторону глухую и отдаленную». Впереди – неизвестность: нет проторенной дороги, есть только «след, проложенный крестьянскими санями». Но даже этот след теряется, кругом только мгла и мрак: «Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгновение тёмное небо смешалось со снежным морем. Всё исчезло...» [1, т. 8, с. 288] Неожиданная встреча решает судьбу Гринёва и определяет весь её характер: «...Что-то там чернеется? <...> должно быть, или волк, или человек» [1, т. 8, с. 289]. Пространство дороги во время метели привлекает не только своей динамичностью, контрастными цветовыми сочетаниями («темное небо смешалось со снежным морем» [1, т. 8, с. 288], мрак, мутное кружение метели), но и звуковыми характеристиками («ветер выл с такой свирепой выразительностию, что казался одушевленным» [1, т. 8, с. 288]). В момент встречи ситуация такова, что «дороги нет, и мгла кругом» [1, т. 8, с. 288]. «Дорожный» выручает из беды, выводит заблудившихся к жилью. А заячий тулуп, подаренный бродяге, позднее избавляет главного героя от петли. Несмотря на то, что погодные условия не меняются, доверие к незнакомцу меняет отношение героя к ним: пение бури и качка тихой езды убаюкивают. Блуждания во время пути в реальности находят свое продолжение во сне героя. Возникает закономерное предположение, что все встречи в романе «Капитанская дочка» происходят в дороге. Значимость образа дороги для автора в построении сюжета подтверждается и двумя встречами на дороге главного героя с Зуриным. Первая остановка в Симбирске – первая встреча с майором. В данном случае пространство дороги характеризуется как чреватое происшествиями и опасностями для Гринева. Во время второй встречи Зурин помогает Петру и Маше избежать ареста по пути из осаждённой Пугачёвым Белогорской крепости. Весьма закономерно поворот случая сопровождается появлением в нужное время проходного персонажа. Дальнейшая дорога Гринева с остановкой в Оренбурге – это своего рода испытание одиночеством и однообразием. Сопутствующий пейзаж, как и ранее, воспринимается героем в черно-белых тонах: «свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом» [1, т. 8, с. 295]. Дважды Гринев оказывается в таком положении, когда «дороги отрезаны» и ничего нельзя предпринять, чтобы изменить ситуацию. В обоих случаях герой решается на рискованный шаг. Он активно участвует в стычках с пугачевцами, благодаря чему получает известия от Маши и отправляется в опасную дорогу, деятельно участвуя в событиях своей судьбы. Дорога к крепости имеет определенный сюжетный смысл, ак50 туализируя любовно-этические коллизии и предваряя одну из встреч с Пугачевым. Надо заметить, что Пушкин использует образ дороги не только в прямом номинативном значении, но и в переносном – как образ действия, направление деятельности. Ярким примером может служить дорога арестованного Гринева: «и поехал я по большой дороге» [1, т. 8, с. 366]. Здесь идет речь о дороге непосредственно в Казань в Следственную Комиссию, в то же время о дороге неприятных допросов, разбирательств, суда, длительной отсрочки «сладкого свидания» с невестой, дорога тягостных размышлений. Среди не менее важных моментов, повлиявших на судьбу главного героя, особое место занимает еще одна встреча – встреча дочери капитана Миронова с императрицей. Маша Миронова, никогда не покидавшая пределов Белогорской крепости и дома Гриневых, решается ехать в Петербург, потому что «вся будущая судьба ее зависит от этого путешествия» [2, с. 318]. На этот раз автор не вводит описания дорожного пространства, свидетельствуя тем самым о том, что Мария Миронова не является героем пути. О поездке героини известно лишь то, что «Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию» [1, т. 8, с. 371], основное внимание акцентировано на состоявшейся здесь встрече. В повести «Дубровский» дорога диалектически связана с образом главного героя Владимира Дубровского. Во-первых, Дубровский – разбойник, человек с большой дороги. В дороге ему приходят мысли о том, чтобы стать разбойником. Дорожный пейзаж, выполняя в произведении психологическую функцию, передает душевное состояние, мысли и намерения героя. Дороги, дорожные встречи определяют будущее героя, символизируют жизненный путь. Условно разделив первую дорогу Владимира (со службы в родовое имение) на два отрезка (дорога до станции и дорога после станции), можно увидеть, как меняется его настроение. Герой осознает, что дорога домой – это граница, разделяющая беззаботную жизнь корнета и «грустный образ жизни, ожидающий его в деревне, глушь, безлюдье, бедность и хлопоты по делам, в коих он не знал никакого толку» [1, т. 8, с. 174]. На втором отрезке пути молодой Дубровский получает информацию о состоянии дел в Кистеневке. Здесь же зарождается основной конфликт молодого Дубровского и Троекурова. В тот момент, когда Владимир проезжает мимо Покровского, на фоне красочных пейзажей, Пушкин сухо констатирует: «Дубровский узнал сии места», он вспомнил, что здесь играл когда-то с маленькой Машей. Из эмоциональных оценок проявляется лишь «какая-то задумчивость» при воспоминании о ней. В данный момент герой не воспринимает имение Троекурова как враждебное пространство. Если на первом отрезке пути «сердце его исполнено было печальных предчувствий» [1, т. 8, с. 174], то во втором случае «сердце в нем забилось» [1, т. 8, с. 176]. Пейзажи, сопро51 вождавшие героя на пути через Покровское в Кистеневку, построены на примере антитезы: широкое озеро, густая зелень рощи, огромный каменный дом, пятиглавая церковь и соответственно просто березовая роща, серенький домик, некошеный луг вместо цветников. Символичен на этом фоне образ спутанной лошади, характеризующий нынешнее состояние хозяина Кистеневки или судьбу молодого Дубровского. Родовое имение становится конечной остановкой на пути Владимира. Здесь же происходит встреча с отцом, резкое ухудшение состояния которого позволяет говорить об этой остановке, как о кратковременной и незавершенной. Однако она несет важное сюжетообразующее значение: преддверие «надвигающихся на героя жизненных утрат и лишений и поворотов в судьбе героя» [2]. По дороге в Кистеневку Троекуров принимает благородное решение, но его появление только усугубляет конфликт. Приезд Троекурова, спровоцировавший смерть Дубровского, означает окончательный разрыв с Владимиром. В движении Владимир ищет средство «заглушить душевную скорбь» [1, т. 8, с. 180] и с той же целью направляется в Кистеневскую рощу. Важным становится тот факт, что его путь характеризует бездорожье: «он шел не разбирая дороги; сучья поминутно вязли в болоте, он ничего не замечал» [1, т. 8, с. 180] и после мрачных размышлений о своем будущем «еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая привела его прямо к воротам дома» [1, т. 8, с. 181]. Обращает на себя внимание «дорожная» примета – встреча с попом как несчастливое предзнаменование. Следующее появление Дубровского уже прочно связано с пространством дороги: «несколько троек, наполненных разбойниками, разъезжали днем по всей губернии, останавливали путешественников и почту...» [1, т. 8, с. 187]. В своих скитаниях Владимир останавливается на дорожной станции, где происходит встреча с французом-учителем, в результате которой герой выдает себя за другого. Данное событие позволяет судить о Дубровском как об авантюрном герое, загадочном разбойнике, склонному к перевоплощениям. Дорога, которую выбрал Владимир Дубровский, и ориентиры, которыми он руководствовался, изменяются. Жизненный путь оказался непредсказуемым, его невозможно продумать до мелочей. Встреча на дороге с Марьей Кирилловной меняет направление его жизненного пути. С дороги, которую Владимир считал знакомой, он поворачивает на дорогу, которой руководит случай. Пушкин все время был в разъездах, нигде не мог оставаться подолгу. Человек, творческие способности которого подпитывались дорожными впечатлениями, не мог обойти стороной жанра путешествия. Путешествие Пушкина на Кавказ в 1829 году легло в основу путевых очерков «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года». В путевых заметках самым важным для поэта становится сама дорога, при этом окружающая природа, встреченные люди, неожиданности и опас52 ности – это те составляющие, благодаря которым наиболее полно раскрывается образ дороги. Следует отметить, что мотив дороги в путевых записках выступает одним из организующих начал данного жанра, поскольку все, что попадает в поле зрения главного действующего лица, т. е. путешественника, принадлежит именно дороге: встречи, раздумья, дорожные происшествия, исторические и природные достопримечательности. Обращает на себя внимание и субъективная оценка пространства путешественником, широкое использование описаний локальных пространств, красочность, информативность и динамичность. Пейзаж здесь тесно связан с наблюдателем и зависит от него. Путевой жанр предусматривает основные этапы путешествия (места остановок, набор достопримечательностей, нередко запланированные встречи с компетентными людьми) и конец путешествия. В той или иной мере автор заранее имеет представление о том, что он может увидеть. Предполагаемый маршрут в данной ситуации служит аналогом сюжета. Соответственно отдельные этапы путешествия можно рассматривать как элементы сюжета. В целом для путешественника – это долгожданная поездка, он спешит и потому «жертвуя хорошим обедом в курском трактире (что не безделица в наших путешествиях)» [1, т. 8, с. 447], сворачивает на прямую тифлисскую дорогу. Здесь он ощущает лишь ужас дорог, грязь которых сдерживает свободное передвижение. Ю.Н. Тынянов указывает на «нейтральность» авторского лица, его нарочитая, намеренная «непонятливость» превращается у Пушкина в метод описания. Отмечает он и особую точность, иногда несколько нарочитую и педантичную, подчеркивающую фактический научный характер сведений. Достаточно велико значение и эмоциональной составляющей в построении реальности. В дороге происходит смена обстановки, окружения, привычного ритма жизни, благодаря чему человек приобретает чувство раскованности и свободы, возможность проявления своих скрытых или подавленных черт и желаний. В то же время дорога не мешает, а напротив – способствует самососредоточенности, уединенности, самопознанию несуетливому контакту с природой, искусством и другими культурами. Таким образом, дорога рассказчика может быть использована в качестве той сюжетной линии, которая объединяет несколько отдельных историй, не связанных между собой по смыслу. Особое соотношение времени и пространства в путешествиях самого рассказчика («Повести Белкина») дает возможность воспринимать дорогу как источник информации, а также обнаружить влияние его дорог на развитие сюжета повестей. Описание пространства дороги и передвижений по ней героев у А.С. Пушкина может быть как довольно скупым («Гробовщик»), так и расцвеченным разными красками («Барышня-крестьянка»). Использование контрастных тонов при обрисовке дороги, опасностей на 53 ней, позволяет автору усилить эмоциональный эффект. В дорогу герои А.С. Пушкина, большей частью, отправляются по необходимости (служба, болезнь отца, желание помочь близкому человеку), реже – в качестве прогулки («Барышня-крестьянка»), в поисках личного счастья (Дуня в «Станционном смотрителе»), дорога избирается в качестве жизненной позиции (Дубровский после потери дома). _______________ 1. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений, 1837–1937: в 16 томах / А.С. Пушкин. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959. – Т. 8. кн. 1. – 1948. 2. Силантьев И.В. Поэтика мотива / И.В. Силантьев. – М.: Языки славянской культуры, 2004. ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И.С.ТУРГЕНЕВА В ОЦЕНКЕ НЕМЕЦКОГО КРИТИКА XIX ВЕКА ЛЮДВИГА ПИЧА Минина С.П., Пятигорск В своих воспоминаниях о великом русском писателе И.С. Тургеневе немецкий критик Людвиг Пич, определяя, какое значение в истории общественной жизни российского общества и мировой литературе имели «Записки охотника», особо подчеркнул творческую и художественную «индивидуальность писателя», проявившуюся не только в этих рассказах, но и в последующих его крупных произведениях [2, с. 79]. В немецкой критике XIX века не раз отмечались художественное мастерство, правдивость и эстетическое совершенство произведений И.С. Тургенева. «Всё, что он даёт, неподдельно, – писал в этюде о писателе Ю. Шмидт, – ни одной деланной черты, ни одного пустого или фальшивого слова. Он никогда не вызывает призрачных видений; всё, что он думает и чувствует, является с полной реальностью перед его умственными очами, переживается им внутренне. Из этой правдивости проистекает сила его образов...» [2, с. 15]. Критики и литераторы XIX века, заметил Ю. Шмидт, «обыкновенно причисляют Тургенева к реалистической школе», но писатель «реалист в том смысле, что не рубит с плеча, но изображает типы и картины на основании глубокого изучения природы; у него наблюдательный, опытный глаз, от которого ничто не ускользает; там, где он пожелает, он может воспроизвести виденное с виртуозностью, поражающей своим совершенством» [2, с. 15]. П. Гейзе, соглашаясь с мыслью Ю. Шмидта о том, что произведения И.С. Тургенева «отличает простота и неподдельная верность изображения», подчеркнул: сила Тургенева-писателя в изображении характеров, в том, что «человек у него на первом месте» [7, с. 114]. 54 С другим немецким литературным критиком Л. Пичем И.С. Тургенева связывала искренняя дружба, плодотворное сотрудничество и почти двадцатилетняя переписка. Отношения между литераторами отличались не только глубокой симпатией друг к другу, но и близостью мировоззренческих, эстетических позиций. Благодаря постоянному личному общению с И.С. Тургеневым Л. Пич, в отличие от других зарубежных критиков, верно понимал авторскую позицию и умел максимально точно выразить её в своих рецензиях на произведения русского писателя. В письме к Т. Шторму от 17 января 1864 г. немецкий критик говорил о духовном родстве с И.С. Тургеневым: «...Я вновь почувствовал, как сильно я его люблю и как он мне душевно близок. Столько импозантной величавости, сколько нежности и привлекательности в сочетании с такой силой, с такой восприимчивостью и чуткостью я едва когда-нибудь встречал» [10, с. 583]. Эти обстоятельства позволили Л. Пичу приблизиться к истинному, глубинному толкованию философского и культурно-эстетического содержания романа «Отцы и дети», вызвавшего неоднозначную оценку в России. Л. Пич определил творческую индивидуальность И.С. Тургенева как «чудное слияние поэтического идеализма и мечтательных образов с ясным созерцанием действительности, богатство наблюдений с меткой изобразительностью, способность немногими словами сказать всё, что нужно, и нарисовать яркую картину...» [2, с. 79]. Л. Пич (наряду с Ю. Шмидтом, Е. Цабелем и др.) был представителем буржуазно-либерального направления в немецкой критике XIX века, одним из методологических принципов которого являлась верность жизненной правде. Реализуя этот принцип в анализе романа «Отцы и дети», критик прежде всего отметил высокую реалистическую манеру И.С. Тургенева. Он подчёркивал, что «писатель живо почувствовал» и отразил с «ясностью и обоснованностью...эпоху внутреннего развития его родины» [8, с. 165]. Рассказ «Призраки», в котором за фантастическим элементом современники И.С. Тургенева увидели проявление мистицизма, психологии, романтизма, Л. Пич, в отличие от русской литературной общественности, охарактеризовал как «сон реалиста» [2, с. 85]. Несмотря на необычность для И.С. Тургенева такого литературного жанра, писатель, сопоставляя картины прошлого и настоящего человеческой истории, истории разных народов, сделал глубокие, философскодраматические выводы об эволюции человечества и его культуры. «На творческую индивидуальность и её связи с житейской личностью писателя время накладывает свою ясную и выразительную печать, – утверждает М.Б. Храпченко. – Развитие социальной жизни нередко рождает такие мощные эстетические импульсы, идейные и эстетические запросы, которые властно захватывают художника даже тогда, когда те или иные существенные черты его личности не конгениальны этим запросам» [9, с. 79]. В процессе работы над романом «Отцы и дети», как 55 художник и философ, И.С. Тургенев наблюдал жизнь представителей молодого поколения 1860-х гг., изучал их взгляды и запросы, сильные и слабые стороны теоретических положений. «...Одного таланта недостаточно. Нужно постоянное общение со средою, которую берёшься воспроизводить; нужна правдивость неумолимая в отношении к собственным ощущениям», – писал И.С. Тургенев в статье «По поводу “Отцов и детей”» [3, с. 39]. Писателя Базаров интересовал, прежде всего, как особая точка зрения на мир и на самого себя, противопоставить которой автор может лишь один объективный мир – «мир других равноправных с ним сознаний» [4, с. 63]. Основное содержание конкретноисторического конфликта, отражённого в романе, Л. Пич видел, прежде всего, в противоборстве разных мироощущений: метафизического, свойственного в большей степени «отцам», и позитивистского, отличающего Базарова, представителя нового поколения. От внимания немецкого критика не ускользнуло и то, что трагизм социального и политического столкновения рассматривался автором романа с философских позиций, в плане осмысления «вечных» вопросов бытия, смены поколений и преемственности культурных и эстетических ценностей. Критическая статья Л. Пича, посвящённая «Отцам и детям», была призвана «реабилитировать» в глазах прежде всего русского читателя образ Базарова и показать его как героя трагического, мучительно ищущего ответы на философские вопросы о смысле человеческого бытия. По мнению Л. Пича, эти трагические искания, духовное смятение, душевные переживания Базарова понятны не только русскому читателю, они выводят его за пределы конкретно исторического времени и придают ему масштаб общечеловеческий. Как и размышления главного героя в «Призраках» относительно злободневных вопросов времени, в которое жил писатель, стали близкими и ценностными для других поколений и эпох. В связи с этими выводами относительно не только романа «Отцы и дети» и рассказа «Призраки» Л. Пич, понимая реализм как метод, неразрывно связанный с острым интересом к объективной реальности и земной человеческой жизни, реалистичность произведений И.С. Тургенева трактовал не как простое копирование окружающего мира и его проблем. «Раз усевшись за работу, – вспоминал критик, – он даже физически переживал всё то, о чём писал. Когда он однажды писал небольшой, безотрадный роман “Несчастная” из воспоминаний его студенческих лет, сюжет которого развивался почти помимо его воли, при описании особенно запечатлевшейся в его памяти фигуры покинутой девушки, стоящей у окна, он был в течение целого дня совершенно болен: “Что с вами, Тургенев? Что случилось?” – “Ах, она должна была отравиться! Её тело выставлено в открытом гробу в церкви, и, как у нас принято в России, каждый родственник должен поцеловать мёртвую. Я раз присутствовал при таком прощании, а сегодня я должен был описать это, и вот у меня весь день испорчен”. Читая его произведения, 56 чувствуешь, как автор переживал со своими героями все их страдания. Даже Флобер, Золя и их последователи не обладают в большей степени этим бесценным даром реалистического писателя» [2, с. 84]. «Жизненная правда в творениях искусства не существует вне индивидуального видения мира, свойственного каждому подлинному художнику, вне особенностей его образного мышления, его творческой манеры, сила и острота его видения мира и характеризуется умением уловить, открыть внутренние процессы жизни, показать характеры и типы, рисующие с новой стороны человеческую деятельность, психологию людей. Чем зорче взгляд писателя, тем глубже он проникает в суть вещей, тем объёмнее его художественные обобщения, его творческие открытия» [9, с. 67]. Например, к «деревенской» теме в отечественной и европейской литературе обращались многие известные писатели. Это и «Картинки русского быта» В.И. Даля, «Очерки из крестьянского быта» А.Ф. Писемского, повести «Деревня» и «Антон Горемыка» Д.В. Григоровича. В европейской литературе о жизненном укладе крестьян писали Ж.С анд, Б. Ауэрбах. Однако, как утверждал М.Е. Салтыков-Щедрин, внимание писателей этой поры исключительно обращено или на черты случайные, или же на черты хотя и характерные, но слишком частые, чтобы исчерпать собою всё разнообразие простонародного быта. «Записки охотника», по замечанию Л. Пича, в этом смысле нельзя назвать «тенденциозным произведением»: «Автор, по-видимому, нисколько не возмущается постыдностью самого института рабства, грубостью, наивной жестокостью и сознательной безнравственностью мучителей народа. Он не ратует за дело освобождения и не восстаёт против тиранствующих помещиков и помещиц» [2, с. 78]. С художественной и эстетической позиций оценивал Л. Пич поэтическое мастерство художника как самую действенную силу в борьбе за справедливость и человека, подчёркивая тем самым антропоцентричность цикла «Записки охотника»: «Он рассказывает просто и кратко, с неподражаемым искусством и с убедительной силой истины, всё, что он видел и пережил на родине. Он заставляет господ, чиновников, а также и всех, которые страдают, благодаря им и вследствие установленного порядка, жить, действовать, говорить на наших глазах так, как они делают это в действительной жизни. И, однако, ни одна красноречивая обвинительная речь, проникнутая самым справедливым негодованием, не возбудила такого глубокого отвращения к негативному злу, которое она должна была победить и уничтожить, не могла привести к сознанию страшного позора крепостничества успешнее, чем эти простые, рисованные с натуры картинки поэта» [2, с. 78]. «Рассказчик «Записок...» не изымал своих знакомцев из привычных им бытовых условий, не рядил в несвойственные им одежды, не идеализировал. Но, внимательно и заинтересованно наблюдая и слушая их, фиксируя их отношение друг к другу, общественному устройству других стран, природе (в «Хоре и Калиныче»), к смерти (в одноимённом очерке), народной песне (в «Певцах») и 57 народным поверьям (в «Бежином луге»), к Богу, евангельским заветам и христианским подвижникам (в «Касьяне с Красной Мечи» и «Живых мощах»), он рассмотрел и показал в подневольных мужиках людей, которым поистине ничто человеческое не чуждо» [6, с. 9]. Высокая эстетическая природа художественного творчества И.С. Тургенева позволила, по мысли немецкого критика, писателю выявить социальные проблемы, связанные с положением русского народа, обременённого крепостным правом. Разработанные же И.С. Тургеневым приёмы повествования дали ему возможность глубоко и «экономично» раскрыть отношения и конфликты между героями, опосредованно (через поведение, диалог, портрет) передать жизнь их души. Так, в рассказе «Бурмистр» помещик Пеночкин, забыв о своих либеральных взглядах, образованности и других внешних знаках культурности, в гневе кричит на старика, вздумавшего жаловаться на притеснения старосты: «– А тебя кто спрашивает, а? Тебя не спрашивают, так ты молчи... Это что такое? Молчать, говорят тебе! молчать!.. Ах, боже мой! да это просто бунт. Нет, брат, у меня бунтовать не советую... у меня...» [1, Соч., IV, с. 146]. В скобках к реплике героя дана краткая авторская ремарка: «Аркадий Павлыч шагнул вперёд, да, вероятно, вспомнил о моём присутствии, отвернулся и положил руки в карманы» [1, Соч., IV, с. 146]. Только присутствие постороннего человека заставило остановиться помещика. Но можно не сомневаться в том, что Пеночкин собственноручно расправился бы с крепостным, который искал у господина защиты и справедливости, как это он сделал уже с Федотом, подавшим не подогретое до нужной температуры вино. И.С. Тургенев не рисует ужасающие натуралистические картины бесправного положения крестьян, как это было в западноевропейской и русской литературе. Приём «умолчание», недосказанности помогает писателю не только «экономить» художественные средства выразительности, но и придать произведениям сильное эмоциональное воздействие на читателя, который сам определяет свою позицию относительно описанного общественного явления. Творческая индивидуальность И.С. Тургенева в оценке Л. Пича не исчерпывалась только реалистическим изображением действительности, социальных и политических проблем эпохи, в которую жил писатель. Не раз немецкий критик отмечал сближение произведений И.С. Тургенева с «истинной поэзией». Лирическая взволнованность, эмоциональная приподнятость стиля И.С. Тургенева позволили Л. Пичу характеризовать искусство писателя как поэтический реализм: «Фон и окружение, ландшафт и место действия, своеобразное освещение и атмосфера которых окутывает образы героев, достигает, как и они, благодаря подобному искусству такой же степени реальности, и над всем этим истинная поэзия простирает тонкими и сдержанными средствами нежное дуновение изменчивого настроения...» [8, с. 167]. При кажущейся на первый взгляд простоте произведений писателя, далее размышляет Л. Пич, они «истинны, глубоки и богаты», что читателю до58 ставляет «всё более полное удовлетворение и растущее наслаждение», возвращая его к первоистокам осмысления мира и человека – к «природе, из чистого созерцания и познания которой творения собственно и произросли» [2, с. 167]. В своей оценке произведений И.С. Тургенева немецкий критик определил их глубинное философское содержание относительно смысла и истинности человеческого бытия, отношений между поколениями, системы культурных ценностей как одну из составляющих творческой индивидуальности писателя. В тургеневской философии природы нашла отражение «целостная система отношений человека и природы, человека и общества, стройная композиция, по которой можно судить о смысле жизни в понимании писателя» [5, с. 118]. Особенность творческой манеры И.С. Тургенева, в понимании Л.Пича, заключалась в умении передать самые мимолётные звуки великой гармонии природы, выражающей в произведениях писателя идею мироздания, идею вечного движения жизни. Впервые в мировой литературе, заметил немецкий критик, природа в произведениях И.С. Тургенева – не фон для переживаний героев и размышлений автора, она первоисток осмысления бытия, величайшей трагичности и незащищённости человека перед её силой и мудростью. Во всём своём творчестве И.С. Тургенев проявил себя как мастер философского пейзажа, исполненного нежного поэтического чувства. Содействующий идейнохудожественной стройности «Записок охотника» рассказчик – живой участник событий, не скрывающий своего отношения не только к тем или иным героям, но и к природе. В рассказе «Касьян с Красной Мечи» он описывает свой привал в лесу в жаркий летний ден:. «Удивительно приятное занятие лежать на спине и глядеть вверх! Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что оно широко расстилается под вами, что деревья не поднимаются от земли, но, словно корни огромных растений, спускаются, отвесно падают в те стеклянно ясные волны; листья на деревьях то сквозят изумрудами, то сгущаются в золотистую, почти чёрную зелень. Где-нибудь далеко-далеко, оканчивая собою тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба, и рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плеса... Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака, и вот вдруг всё это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем, – всё заструится, задрожит беглым блеском, и поднимется свежее, трепещущее лепетание, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь – вы глядите: и нельзя выразить словами, как радостно, и тихо, и сладко становится на сердце» [1, Соч., IV, с. 124]. Именно посредством природы, утверждал Л. Пич, человеку в произведениях писателя удаётся приобщиться к небесному, возвышенному, тайному. Творческая индивидуальность И.С. Тургенева, по мысли Л. Пича, прежде всего нашла своё выражение в эстетической концепции писа59 теля, которой он неукоснительно следовал: «Серьёзное, благоговейное отношение к делу, неподкупная любовь к правде, откровенность и строгость художественной совести, которые казалась ему, наряду с гениальностью, первыми и главными условиями настоящего искусства» [2, с. 90]. Это позволило писателю в своём творчестве запечатлеть историческое движение времени, воссоздать духовный облик современников, воплотить глубокую жизненную правду и приблизиться к истинному пониманию человеческого бытия и предназначения. _______________ 1. Тургенев И.С. Полн.собр. соч. и писем: В 28 т. – Соч.: 15 т. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960–1968. Сочинения: В 15 т. – М.; Л.: Изд-во АН СССР. – 1961–1968. В тексте работы сноски приводятся по данному изданию с указанием индекса С. (Соч.), тома (римск.), стр. 2. Иностранная критика о Тургеневе. – СПб., 1908. 3. Тургенев И.С. По поводу «Отцов и детей» // Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» в русской критике. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. 4. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1972. 5. Войтоловская Э.Л., Румянцева Э.М. Практические занятия по русской литературе XIX века. – М.: Просвещение, 1975. 6. Недзвецкий В.А. Предшественники и истоки «деревенской» прозы. // Литература в школе. – 1996. – № 6. 7. «Записки охотника» в оценке Пауля Гейзе.// Турген. сб. Материалы к Полн. собр. соч. и писем И.С. Тургенева. – М.; Л., 1966. – Т. 2. 8. Пич Л. «Отцы и дети» Ивана Тургенева. Авторизированное издание. С предисловием автора. Митава. Издательство Бере.// Турген. сб. Материалы к Полн. собр. соч. и писем И.С.Тургенева. – М.; Л., 1966. – Т. 2. 9. Храпченко М.Б. Собр. соч.: В 4 т. – т. 3 // Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. – М.: «Художественная литература», 1981. 10. Шульце-Леман К. Тургенев в переписке Теодора Шторма с Людвигом Пичем. // Турген. сб. Материалы к Полн. собр. соч. и писем И.С. Тургенева. – М.; Л., 1966. – Т. 3. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СЮЖЕТА В ПОВЕСТЯХ Л. Н. ТОЛСТОГО «СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА» И И. Д. СУРГУЧЕВА «ГУБЕРНАТОР» (к проблеме творческой индивидуальности) Логунова О.Н., Ульяновск Творчество Л.Н. Толстого в огромной степени повлияло на мировоззрение и творческий стиль И.Д. Сургучева. Как справедливо отмечено в критике, «возвышенность толстовского слова, нравственная проповедь писателя нашла резонанс и в книгах Сургучева» [3, с. 9]. 60 Повесть Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» создавалась в 1884–1886 гг., и можно с уверенностью сказать, что И.Д. Сургучев знал это произведение. На наш взгляд, целесообразно провести параллели между повестями Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» и И. Д. Сургучева «Губернатор» на сюжетном уровне, тем более что эта проблема о сюжетных параллелях в критике практически не поднималась. Между тем сравнителтный анализ произведений Л. Н. Толстого и И. Д. Сургучева может дать многое для понимания творческой индивидуальности. Повесть Л. Н. Толстого построена ретроспективно: сначала дан конечный результат (смерть главного героя), и потом уже все события осмысливаются через призму смерти Ивана Ильича. В повести И.Д. Сургучева некоторые эпизоды сюжета тоже даны ретроспективно, и в этом, на наш взгляд, потрясающая находка автора. Губернатор вспоминает в основном ключевые моменты своей жизни: убийство Волчка, измена жены, ссоры с женой – те моменты, когда он был кардинально не прав. Эти воспоминания даны уже через призму прошедшего времени, когда известен конечный результат. Происходит переосмысление событий персонажем, который знает, что скоро умрет. Повесть Л.Н. Толстого – это исследование человеческой души, в котором не параллельно друг другу текут два разных потока и в разных мирах происходят два разных события. Первое – это предыстория смерти человека, прекращение его повседневного присутствия в жизни окружающих его людей, то есть это событие можно назвать внутренним. Второе событие – внешнее, событие ухода человека из жизни, или, другими словами, преображение любого дня жизни в последний. Фабула довольно проста. Можно сказать, что в повести Толстого присутствует притчевое начало: это повествование о том, как живут все, но как жить нельзя. Основным пафосом повести Л.Н. Толстого является обличение фальши, лживости жизни Ивана Ильича и его круга. Внутренний голос говорит Ивану Ильичу накануне смерти: «Не то. Все не то, чем ты жил и живешь, – есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть» [5, с. 169–170]. Иван Ильич всегда стремился в своих отношениях с людьми «исключить все сырое, жизненное, что всегда нарушает правильность течения служебных дел» [5, с. 140]. Герой Л.Н. Толстого изгоняет все человеческое и из своих отношений с семьей. Так сложилась его жизнь, которую он считал правильной и хорошей. Болезнь, близость смерти помогли понять Ивану Ильичу, что все призрачные радости, скрывали его страшное одиночество и ненависть, которые окружали его. Поняв это, Иван Ильич увидел, что жить так на раю погибели надо было одному, без одного человека, который бы понял и пожалел его. Как ни ужасны были его физические мучения, еще более страшны были его нравственные муки. Состояли они в том, что Иван Ильич никак не мог примириться с мыслью, что жизнь его была «не то». 61 Как отмечалось в критике, сюжет этой повести – это «неуклонный, напряженно размеренный ход от экзистенциального остраннения писателем литературного персонажа. Ход от намеренно спокойной (но спокойной все-таки нестерпимо) ироничности тона к страстному сопереживанию. К готовности не только осмыслить тяготы одинокого человеческого страдания, но восчувствовать и разделить их» [7, с. 385–386]. Авторское же сопереживание герою наступает не сразу. Оно усиливается по мере того, как автор начинает всматриваться в подробности ухода героя из жизни, и с этого момента герой становится ближе автору. История жизни Ивана Ильича сначала описывается как история моральной болезни, «самой ужасной». Но потом сам Толстой не выдерживает испытания сочувствием к своему морально осужденному герою. По мере движения повествователя внутрь личности Ивана Ильича ноты осуждения постепенно приглушаются. Сюжет повести Л.Н. Толстого не насыщен большим количеством событий, в нем также нет резкой смены событий. То же самое можно сказать и о повести И. Д. Сургучева «Губернатор». Как отмечает А.А. Фокин, «отсутствие напряженного сюжета в повести вызвало недовольство в среде модернистов» [6, с. 108]. Один из критиков писал, что в повести и революция, и физиология, и психология, но сюжета нет. Он весь заключается в том, что губернатор собирался умирать, умирал-умирал и умер [6, с. 108]. Можно с уверенностью сказать, что все события в повести предсказуемы. Одной из главных особенностей сюжета повести является то, что событие как факт перемены в действительности, в обстоятельствах действия выражает также и перемену во взгляде губернатора на мир. У героя эта перемена происходит в результате осознания неизбежности смерти, то есть в результате развития сюжета. Сюжет повести строится на столкновении представлений о жизни: жестокость была нормой поведения для губернатора; перед смертью он прозревает, начинает осознавать свои ошибки, и с этого момента главный герой становится близок автору. Губернатор теперь совершенно по-иному смотрит на мир. Как на чудо, как на открытие он смотрел на ночной город, ночной бульвар, на звезды и думал о том, что сон – это репетиция смерти и что совсем не нужно всю жизнь заботиться и суетиться о «какой-то чепухе, убивать людей, чтобы в два месяца сгнить в склепе Андреевского собора» [4, с. 111]. Изменившийся губернатор открывает для себя вещи, о которых он раньше даже не задумывался. Он становится глубже, добрее, лучше. Теперь все обычное и повседневное ему кажется волшебным. Герой понимает, что раньше он жил, как слепой. Вернувшись с лечения, губернатор стал ходить со Свириным на гору к кафедральному собору. Этой ночной прогулкой губернатор прощается с городом и подводит своеобразный итог своей неправильно прожитой жизни. Сейчас, когда смерть близка, когда все больше и больше в губернаторе раскрывается человеческое, 62 ему вдруг стало необходимо сходить на Крепостную гору и посмотреть на ночной город, которым он столько лет правил и не знал, что если посмотреть на него ночью сверху, он поразительно красив. Следует отметить, что происходит не приращение прежнего качества событийности, а возникновение нового. С особой ясностью это обнаруживается, конечно же, благодаря тому, что темой повести является прозрение героя. Герою становится ведомо то, что автор знал, видел изначально. В этом случае понятие события предстает в двух планах. Во-первых, в плане автора событие предстает как перемена в мировоззрении героя, как сюжетообразующий фактор. Его идейноэстетическую функцию композиционная закономерность: кульминация, как средоточие этого события, приближена к развязке, знаменуя трагедийность происходящего. И, во-вторых, в плане героя входящие в саму структуру сюжета жизненные явления прозревшим героем воспринимаются как события. Движение, изменение художественного времени-пространства выступает в повести как форма сюжетного движения. Следует отметить, что поездка губернатора и Сони в Ярославль несколько компенсирует фабульную однонаправленность, однолинейность, наполняет сюжет, придавая ему еще большую эмоционально-психологическую содержательность. Параллели между этими произведениями можно провести и на уровне системы персонажей. Типичность Ивана Ильича и губернатора сигнализирована уже заглавиями произведений: и Иван Ильич, и губернатор – центральные персонажи повестей, они вынесены в заглавие. У губернатора нет даже имени. Его должность – губернатор – воспринимается как собственное имя, и это имя (вернее, социальный статус) оказывается для героя чужим (даже сам персонаж в одном из эпизодов представляет себя не генералом, а профессором). Эти характеры строятся на нетождественности прошлого и настоящего самоопределения героев. Вернувшись с лечения, губернатор больше не носит своего генеральского мундира, а предпочитает ему обыкновенный штатский костюм. В этом костюме (губернатор никогда в жизни не носил штатского платья) он чувствует себя обычным профессором, а не жестоким, бессердечным генералом, от одного взгляда которого трепетала вся губерния. После курорта губернатор стал ходить со Свириным к кафедральному собору. Этой ночной прогулкой губернатор прощается с городом и подводит своеобразный итог своей неправильно прижитой жизни: «Давно он слышал, что оттуда открывается чудесный ид на город, но все как-то за всю жизнь некогда было сходить и посмотреть, да и неловко, казалось, заниматься губернатору рассматриванием видов» [4, с. 52]. А сейчас, когда смерть близка, когда все больше и больше в губернаторе раскрывается человеческое, ему вдруг стало необходимо сходить на Крепостную гору и посмотреть на 63 ночной город, которым он столько лет правил и не знал, что, если посмотреть на него сверху, он поразительно красив. Идя по площади в штатском платье, губернатор вспоминает, как, будучи блестящим генералом, принимал парады в царские дни. Как справедливо отмечает Л.П. Егорова, «теперешняя немощь губернатора доказуема тем, что уже не пройти ему по ней (по площади. – О. Л.) перед войсками» [1, с. 64]. Губернатор осознал, что в жизни есть другие ценности, другая жизнь, не та, которой жил он. Помимо тьмы, в которой жил губернатор, есть еще и свет, а в чем он заключается, герой не знает, но постоянно думает об этом. Раньше он никогда не задавал себе этих вопросов о добре и зле, о смысле жизни, а теперь они вдруг становятся насущными. И.Д. Сургучев, как и Л. Толстой, применяет внутренний монолог героя как способ построения характера. Губернатор мысленно беседует с Соней, со своей неродной дочерью, и в этих исповедях он ничего от нее не скрывает, и в то же время герой анализирует себя, делает выводы о своей прошедшей жизни: «Здравствуй, милая Сонюшка! Вот спасибо, что приехала к старику – скучному, больному. Ты не моя дочь, но ты мне милее и ближе, чем родная. У меня болит, сильно болит душа, Сонюшка! Я измучился. Я убил ногою человека, Сонюшка; он корчился на земле, как червяк. Теперь перед смертью я почуял правду жизни: вот она где-то близко от меня, но где она, что она – своим стариковским умом понять не могу. И живу, как птица, у которой выкололи глаза» [5, с. 102]. Губернатор, беседуя мысленно с Соней, раскрывает перед ней свою душу. Герой безмерно благодарен ей за то, что она к нему приехала. Становится ясно, что перед нами не суровый губернатор – гроза всей губернии, а старый человек, осознающий грехи и кающийся в них, уже потерявший надежду на обретение семьи, но внезапно обретший ее. Губернатор переживает из-за Сониной грусти и шепчет простые слова, которые нужно было бы сказать вслух: «Милая, милая дочь моя Сонюшка! Ты любишь. Ты, нелюбимая, страдаешь. Оставь, деточка. Забудь. Я знаю, это трудно, но забудь, прошу тебя. Ты молода, ты прекрасна, как звезда земная, утренняя. Ты еще впереди полюбишь, и тебя полюбят, тебе ответят горячо, щедро... Милая, милая дочь моя Сонюшка! Любовь – как буря на море. Пройдет» [4, с. 159]. Эти внутренние монологи характеризуют губернатора как человека, способного сопереживать и любить. Из-за болезни губернатор не спал целыми ночами. По ночам он думает о своей неправильно прожитой жизни, о том, сколько зла он сделал на земле, что он не знает добрых душевных слов, поэтому не может написать хороших писем. Губернатор думает о том, что он мог бы сказать сейчас молодым студентам о жизни, о том, в чем заключается ее смысл и как нужно жить. Но однажды, когда герой на горе во время пожара встречает группу студентов, ему становится стыдно своих мыслей о том, что он 64 мог бы быть профессором и учить молодежь. Он вдруг понимает, что это лишь возможность ненадолго уйти от смерти, лишь страх смерти. Героя вдруг осеняет, что если он бросит свое губернаторство, то его жене и дочерям не на что будет жить. В этот момент все человеческие качества расцветают в губернаторе как никогда, потому что сейчас он начинает думать не о себе, больном и одиноком, а о своей семье, то есть о других людях. Он размышляет о том, что пусть лучше его чуждаются студенты, с которыми он сейчас пил вино, чем его семья будет жить впроголодь, пусть все люди думают о нем, как о плохом человеке, зато у его жены и дочерей будет уютная квартира. Губернатор понимает, что не в силах изменить свою жизнь хотя бы из-за своей семьи, и становится неважно, что подумают о нем другие люди. На наш взгляд, это наивысшая точка развития духовного мира героя. Губернатор останавливается перед собором, и ему кажется, что сейчас в соборе воскресли умершие архиепископы и губернаторы, стоят рядом с ними и расстрелянные 18 марта полицмейстером люди, и им ясна правда жизни, они узнали истину, потому что за гробом уже нет лжи. Поэтому герою кажется, что и он, скоро узнающий правду, сейчас ничтожный, и все люди вокруг него тоже ничтожны. Этот прием построения характера (внутренний монолог) восходит к традициям Л.Н. Толстой. Его герой, поняв, что скоро умрет, размышляет над силлогизмом о Кае: «Если б и мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это, так бы и говорил мне внутренний голос, но ничего подобного не было во мне... А теперь вот что! – говорил он себе. – Не может быть. Не может быть, а есть. Как же это? Как понять это?» [5, с. 152]. Сначала Иван Ильич не верит в собственную смерть и мысленно рассуждает о том, что его болезнь – это всего лишь обычное недомогание, следует только точно выполнять все рекомендации докторов, и он сможет поправиться. «Неужели я так умственно ослабел? – сказал он себе. – Пустяки! Все вздор, не надо поддаваться мнительности, а, избрав одного врача, строго держаться его лечения. Так и буду делать. Теперь кончено. Не буду думать и до лета буду строго исполнять лечение. А там видно будет. Теперь конец этим колебаниям» [5, с. 146]. Но со временем герой понимает, что речь идет уже не о больной почке или слепой кишке, а о его жизни и смерти: «Слепая кишка! Почка, – сказал он себе. – Не в слепой кишке, не в почке дело, а в жизни и... смерти. Да, жизнь была и вот уходит, уходит, и я не могу удержать ее. Да. Зачем обманывать себя? Разве не очевидно всем, кроме меня, что я умираю, и вопрос только в числе недель, дней – сейчас, может быть. То свет был, а теперь мрак. То я здесь был, а теперь туда! Куда?» [5, с. 150]. Перед смертью Иван Ильич понимает, что ему жалко жену и детей: «Да, я мучаю их, – подумал он. – Им жалко, но им лучше будет, когда я умру» [5, с. 171]. Герой уже не боится смерти: «Как хорошо и как просто, – подумал он. – А боль? – спросил он себя. – Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?» 65 Он стал прислушиваться. «Да, вот она. Ну что ж, пускай боль». «А смерть? Где она?» Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет» [5, с. 171]. С главными героями произведений Л.Н. Толстого и И.Д. Сургучева в самый важный момент их жизни находятся верные друзья: Герасим и Свирин. Иван Ильич, уставший ото лжи, от своей неправильной жизни, находит настоящую жизнь в буфетном мужике Герасиме. У него ловкие сильные руки, улыбка показывает крепкие белые зубы, на его лице сияет радость жизни, и он старается ее сдерживать, чтобы не оскорбить ею умирающего. И вся сила Герасима – в этой радости жизни, в соприкосновении со всем окружающим, в отсутствии лжи, в глубоко серьезной и простой значительности жизни перед такою же серьезною и простою значительностью смерти. Как отмечает М. Еремин, «Герасим – человек из другого, лежащего за гранями касты, неведомого Ивану Ильичу и его близким мира» [2, с. 247]. Именно поэтому Герасим по-другому относится к болезни своего барина, он с жалостью, с сочувствием смотрит на Ивана Ильича, не так, как жена, дети, друзья; именно поэтому Герасим так привлекает Ивана Ильича. Отношения сургучевского губернатора и Свирина напоминают нам помощь Герасима Ивану Ильичу. Свирин тоже, как и Герасим, человек из народа, и он, стараясь помочь губернатору, следит за его лечением: напоминает о лекарствах. Герасим и Свирин обладают особой, «народной» философией, о которой даже не догадываются Иван Ильич и губернатор, легко отвечают на мучившие героев вопросы. По словам самого Свирина, он читает Священное Писание и поэтому в «жизненных» вопросах губернатора для него нет тайны. Читая «Губернатора» И.Д. Сургучева сразу отмечаешь сходство этого произведения с повестью Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича». И на это, безусловно, есть весьма веские основания. В самом деле, и в этом и в другом произведении герои переосмысливают свою прошедшую жизнь перед лицом смерти. И там и тут герои приходят к заключению, что их жизнь, казавшаяся им безупречной, на самом деле была прожита плохо, изобиловала ошибками, что в ней не было чегото самого важного и основного, что она была «не то». Повесть И.Д. Сургучева свидетельствует об обращении к традициям Льва Толстого в литературе ХХ века. _______________ 1. Егорова Л.П. Город Ставрополь в повести Ильи Сургучева «Губернатор»: (Фрагмент) // Сургучевские чтения – 2006: Илья Сургучев – человек и писатель. – Ставрополь, 2006. 66 2. Еремин М. Подробности и смысл целого (Из наблюдений над текстом повести «Смерть Ивана Ильича») // В мире Толстого. – М.: Советский писатель, 1987. 3. Кузнецов А.М. «Сургучев обещает немало»: [Вступ. статья к сб.И. Д. Сургучева (М. Современник, 1987)] // Сургучев И.Д. Губернатор: Повесть, рассказы. – М., 1987. 4. Сургучев И.Д. Губернатор: Повесть, рассказы. – М.: Современник, 1987. 5. Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича: Повести и рассказы. – Л., 1983. 6. Фокин А.А. И.Д. Сургучев. Проблемы творчества. – Ставрополь, 2006. 7. Холкин В. «Время есть замедление вещей преходящих...»// Континент. – 2004 – № 119. ПРОБЛЕМА КОММУНИКАЦИИ И ЕЕ ВОПЛОЩЕНИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ТОЛСТОГО И ЧЕХОВА Груздева Ю.А., Ульяновск На сегодняшний день в литературоведении немало сказано о личных и творческих отношениях двух классиков отечественной литературы – Льва Николаевича Толстого и Антона Павловича Чехова [1]. Нам представляется интересным проследить отражение проблемы «коммуникации» в произведениях писателей, а также определить роль, которую играет эта проблема в концепциях личности двух художников. Данная статья, конечно, не претендует на исчерпывающее исследование проблемы, хотя последняя кажется нам перспективной для дальнейшей разработки. Человеческое общение является предметом несомненного интереса и детального изучения как для Толстого, так и для Чехова. О.В. Сливицкая отмечает, что уже автобиографическая трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» «пронизана многочисленными рассуждениями, мыслями, попутными наблюдениями, касающимися общения. Их высокая концентрация говорит о том, что общение – это проблема, с которой Толстой вступает в литературу» [6, с. 132]. «Проблема человека» всегда выступает у Толстого как проблема «человек и мир» [6, с. 8]. Согласно логике Толстого, взаимодействие человека с миром распадается на несколько составляющих. К ним относятся восприятие мира, познание себя, понимание другого и, наконец, общение между людьми (терминология О.В. Сливицкой). По Толстому, в человеке сосуществуют одновременно врождённое и приобретённое; личность его замкнута и в то же время является частью мира; она постоянно меняется, но какая-то её часть, «ядро», остаётся неизменной всегда. При восприятии мира человек очень зависит от этого неизменного ядра своей личности, субъективно окрашивающего все его впечатления от объективной реальности. Поэто67 му ум человека неизменно заблуждается относительно себя самого и других людей, что ставит под сомнение возможность понимания себя и общения между людьми. Познание самого себя для героев Толстого необходимо, во-первых, для самоусовершенствования, а, во-вторых, для того, чтобы лучше понимать другого человека, а значит и для более успешного общения с ним. При этом чрезмерная сосредоточенность на себе, на своих эмоциях воспринимается Толстым как эгоизм, очевидно не способствующий полноценной коммуникации. Как было отмечено выше, человек обречён заблуждаться относительно самого себя, и даже в процессе самопознания не способен обрести полную истину о себе, хотя потребность в познании себя служит для писателя показателем нравственного здоровья. Понимание человеком другого человека также не свободно от препятствий, среди которых могут быть разъединяющие чувства и состояния, например, состояния счастья или горя, когда человек инстинктивно не допускает впечатлений, которые могут ему помешать ощущать счастье или, напротив, не признаёт ничего помимо своего горя. Неполнота понимания воспринимается как естественная и не составляет препятствия к вербальному общению. В непосредственном же общении людей совмещаются и актуализируются, на наш взгляд, все вышеперечисленные уровни взаимодействия человека с миром. У Толстого «между отвлечённым восприятием и активным общением находится зона, пронизанная токами взаимных притяжений и отталкиваний – симпатий и антипатий» [6, с. 114], некое связующее звено, которое отражает начинающееся общение индивидуальностей, двух замкнуто-открытых «я», наделённых субъективными знаниями о мире, себе самих и окружающих людях. Через всё творчество Толстого проходит мысль о трудности общения, он видит и показывает всё то, что мешает полноценной коммуникации и даже заставляет сомневаться в её реальности. Изображая общение героев, писатель всегда исходит из того, что один человек неизбежно нуждается в общении больше другого, поэтому отдаёт ему больше сил, больше своей души, более склонен не к простому обмену информацией, а к глубокому проникновению в личность собеседника. При этом важно как бы двойное освещение произносимого героем слова: оно адресуется собеседнику как результат умственной и душевной работы, тогда как читатель вместе с этим видит сам процесс такой работы. Конечно, отражение проблемы человеческой коммуникации не оставалось неизменным на протяжении творческого пути Толстого. Угол зрения на эту проблему меняется после духовного кризиса писателя 70-х годов. Так, «докризисное» произведение, «Войну и мир», называют «энциклопедией коммуникабельности» [6, с. 3]. В ней Толстой показывает, «какие глубины личности участвуют в общении, как усваивается «чужое», как «своё» расширяется, становится проницаемым, открытым для мира» [6, с. 184]. В посткризисном творчестве, в частности, 68 в романе «Анна Каренина» не находит места взаимопонимание как результат состоявшегося общения, и для читателя, и для героев очевидно, что они (герои) из «своего» или не выходят, или опять к нему же и возвращаются, то есть не преодолевают границ своей личности. В позднем творчестве Толстого на первый план выходит пафос отрицания существующего общественного устройства, изображение лицемерия и лжи, царящих в обществе. В таких условиях глубокому духовному общению состояться крайне сложно, так как каждый человек сосредоточен более на своём внутреннем мире, своих переживаниях, а к окружающим либо равнодушен, либо воспринимает их как «фон» для своей жизни. «Человек приносит страдания и себе, и ближним в сумасшествии эгоизма» [4, с. 89]. В частности, в рассказе «Смерть Ивана Ильича» герой жил «только для того, чтобы ему было хорошо, для своего блага». В жертву благополучию Иван Ильич приносит свою личность и подлинные человеческие отношения с окружающими, что приводит к его отчуждённости и одиночеству во время болезни. Если в «Войне и мире» герои находят счастье в обретении живых и многообразных человеческих связей, таким образом, расширяя свой мир, то мир Ивана Ильича, напротив, сужается, он сам избегает естественных отношений с людьми. В произведении «Отец Сергий» герой также сознательно «сужает» свой мир со светского общества до монастыря, а затем и до уединённого отшельничества. Но в итоге в обоих рассказах после жизни в отчуждении от мира герои обретают истинное понимание смысла бытия через общение (Ивану Ильичу помогает Герасим, отцу Сергию – Пашенька). Таким образом, общение в произведениях позднего Толстого оказывается связано с нравственной стороной жизни человека, и может как отдалить его от истины, так и помочь её обрести. Своим творчеством Л.Н. Толстой показывает, что «всё самое существенное для личности происходит в процессе общения» [6, с. 189]. При этом общение у него является социально-психологическим феноменом: личность и мир в процессе общения взаимосвязаны и влияют друг на друга. При всей ограниченности знаний человека о мире и себе самом, при всех трудностях, препятствующих общению, человек, по Толстому, может преодолеть свою замкнутость, так как, идя к другому, он идёт к себе. Чехов исследует проблемы человеческой коммуникации «во всех взаимосвязанных измерениях, выявляя ограничения, опасности и шансы, предоставляемые языком...» [2, с. 22]. В отличие от Толстого, Чехов понимает личность как «цепь автономных состояний» [8, с. 311], которая не имеет отчётливо оформленного ядра. Но даже если бы это ядро в ней и было, оно неизбежно было бы размыто «постоянными разнородными притяжениями тел и сил внешнего мира, от которых человек, по Чехову, не свободен ни в одно мгновение жизни.» [8, с. 311–312]. В структуре такой личности взаимодействуют, с одной стороны, влия69 ющая на неё повседневность, с другой же, – нередко прорывающиеся «высшие», далёкие от повседневной жизни стремления, причём появление последних, как правило, неожиданно и немотивированно. Герой Чехова – странник в этом мире, он одинок, затерян среди окружающих его людей и ищет путей, которые могли бы привести его в иной, высший мир, лучший по сравнению с тем, в котором ему суждено жить. Вот почему невозможно общение сути с сутью, то есть глубокое полноценное взаимодействие личностей, поскольку истинная личность человека, его тяга к «высшему» скрывается за облаком повседневных фраз, впечатлений, поступков, а в контакт вступают лишь периферийные, неглавные сферы личности. На вопрос, возможно ли преодоление персонажами Чехова своей отчуждённости, замкнутости, в литературоведении можно выделить, на наш взгляд, три точки зрения. Представители первой точки зрения утверждают абсолютный характер разобщённости героев писателя и невозможность коммуникации между ними (А. Новикова, В.Я. Гречнев, В.В. Мухин, В.И. Камянов); в частности, В.Б. Катаев утверждает, что «людей как будто разделяют невидимые, но почти непроницаемые перегородки. Контакт, коммуникации, взаимопонимание невозможны или чрезвычайно затруднены» [3, с. 19]. Другие чеховеды говорят, что «только осознав себя в живой связи с другими людьми, герой может избежать мучительной тоски от мысли о случайности и мгновенности собственной жизни» [5, с. 85]. Наконец, согласно третьей точке зрения герои Чехова могут преодолеть свою отчуждённость от окружающих и наладить контакт с ними лишь на время (В.И. Тюпа). Мы придерживаемся третьей точки зрения, так как она, по нашему мнению, наиболее соответствует логике произведений Чехова. Таким образом, проблема общения применительно к творчеству Чехова может быть обозначена скорее как проблема его несостоятельности, нарушения коммуникации. При этом Чехов не показывает и не объясняет причин, препятствующих общению, он изображает только «теперешнее» положение дел, не заостряя внимания на том, как герой приходит к этому. В противоположность Толстому, показавшему в «Войне и мире» общение, затрагивающее глубинные слои личности человека, преображающее героев и окружающий их мир, Чехов изображает общение «периферийное», не помогающее герою найти то, что он ищет, не избавляющее его от тоски по чему-то лучшему. Как правило, герой и сам до конца не осознаёт, почему он одинок. Иногда по тем или иным причинам не умеет или боится высказать то, что его действительно тревожит, поэтому говорит лишние, ненужные слова, создавая впечатление вполне полноценного общения. Тем не менее, встречаются в произведениях писателя и моменты истинно глубокого понимания людьми друг друга. Например, в позднем рассказе «Дама с собачкой» «стена уединённости человеческого «я» рухнула в тот мо70 мент, когда его внутреннему «сердечному» знанию открылась...ничем не измеримая уникальность другой жизни, её личностная самобытность. Это точка подлинного сближения» [7, с. 43]. Трактовка проблемы общения в произведениях Чехова также меняется в зависимости от периода творчества. Так, на раннем этапе герои его юмористических рассказов совсем не ощущают потребности в общении, а к своим «неудачам» в этом плане (разговор на разных языках, непонимание, которые выглядят комично для читателей) относятся легкомысленно, не ощущая неполноты взаимодействия с миром. В произведениях 80–90х годов несостоятельность коммуникации обусловливается как равнодушием героев друг к другу и сосредоточенностью на своих чувствах («Страх», «Тоска», «Свадьба»), так и неумением героя общаться, рассказать о своей потребности в общении и понимании. Так, в рассказе «Случай из практики» героиня, Лиза, болеет, тоскует и мучается, не понимая, отчего, но никому до доктора Королёва не говорит об этом. Характерно, что подобная сосредоточенность персонажей на своём внутреннем мире не представляется Чехову проявлением эгоизма (как это было у Толстого), она выглядит вполне естественной, поскольку ей обладают едва ли не все герои в мире, изображённом писателем. Произведения этих лет, а в большей степени рубежа веков, подобно поздним произведениям Толстого, связаны с темой осмысления человеком прожитой жизни, прожитой, как правило, в отчуждении, замкнуто. Однако, если герои Толстого (Иван Ильич, отец Сергий) сознательно отказываются от контактов с миром, то персонажи Чехова (преосвященный Пётр в рассказе «Архиерей», Надя, рассказ «Невеста») как-то неожиданно, вдруг осознают неправильность своей жизни, словно просыпаясь от повседневности, от привычного общения, которого становится недостаточно после подобного «озарения». Заметим, что у Толстого «неправильность» жизни героев связана с устройством общества в целом, тогда как Чехов делает акцент на индивидуальной жизни, которую герои «строят» сами, делая определённый выбор. Для Чехова ценна не столько способность человека «влиться» в общий ход жизни и повлиять на мир, преобразить его, сколько способность остаться самим собой в потоке неумолимо текущего времени; ценна мера личной свободы человека и умение противостоять повседневности, затягивающей его и размывающей его личность. Итак, проблема общения людей была актуальна для Толстого и Чехова на протяжении всего их творчества и, очевидно, находилась во взаимодействии с другими составляющими художественного мира обоих писателей. Общим в их трактовке данной проблемы можно считать, пожалуй, веру в человека, в его способность преодолеть препятствия на пути к достижению взаимопонимания с окружающими, веру в возможность такого общения, которое поможет человеку обрести смысл жизни и осознать своё место в мире. 71 Но воплощение данной проблемы у каждого из писателей сугубо индивидуально, как индивидуальны их творческие концепции и установки. Толстому важен человек в мире и мир в человеке, их взаимовлияние, выражающееся в обретении человеком единства с миром через связи с окружающими его людьми. Для Чехова главное, чтобы человек смог сохранить себя под «натиском» повседневности, смог преодолеть замкнутость, как бы изначально и естественно ему присущую. Если Толстой признаёт и показывает трудности общения, то у Чехова герой не встречается в определённый момент жизни с временными трудностями, которые объяснимы и преодолимы; он скорее настолько привык к своему душевному одиночеству и отчуждённости, что не замечает отсутствия коммуникации с окружающими или не понимает, что именно это мешает ему жить. Таким образом, рассмотрение проблемы общения (людей, конкретнее – героев) в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова помогает, на наш взгляд, глубже проникнуть в художественный мир писателей и охарактеризовать некоторые немаловажные его составляющие. _______________ 1. Лакшин В.Я. Лев Толстой и А. Чехов / Ред. Полонская К.Н. – М., 1963; Чехов и Лев Толстой. Сборник научных трудов / Ред. коллегия Опульская Л.Д., Паперный З.С., Шаталов С.Е. – М., 1980. 2. Енджейкевич А. Рассказы Антона Чехова – исследование человеческого общения. Варшава, 2000 // Rambler. http:// chekhoviana. narod. ru/ vest 9. 3. Катаев В.Б. Сложность простоты. Рассказы и пьесы Чехова – М., 1999. 4. Линков В. Я. Мир и человек в творчестве Л. Толстого и И. Бунина – М., 1989. 5. Линков В.Я. Художественный мир прозы А.П. Чехова – М., 1982. 6. Сливицкая О.В. «Война и мир» Л.Н. Толстого: Проблемы человеческого общения – Л., 1988. 7. Тюпа В.И. Художественность чеховского рассказа. – М., 1989. 8. Чудаков А.П. Мир Чехова. Возникновение и утверждение – М., 1986. ПРЕДМЕТНЫЙ ОБРАЗ У КУПРИНА И ШМЕЛЕВА Завельская Д.А.,Москва Многообразие предметных образов у писателей реалистической направленности столь велико, что данный вопрос стоит рассматривать в узких рамках значимых образов, указывая на их место в сюжетном контексте произведений. Речь идет о роли предметности в том случае, когда на такой предмет падает смысловой акцент. Акцент выразительный, т. е. относящийся к плану выражения чувства, идеи, 72 мысли. Также мы будем касаться только предметов в их буквальном, материальном, представимом при прочтении аспекте, а не условно упоминаемым. У предмета материального есть два свойства, обуславливающих возможность придания ему иного смысла помимо буквального: его внешний облик, оказывающий эстетическое воздействие и ассоциативное поле , связанное с бытованием его в культуре. Рассмотрим наиболее хрестоматийный пример – гранатовый браслет в одноименной повести Куприна, автора, который ближе именно к реалистическому, нежели неореалистическому направлению. Браслет в своей эстетической функции красив, изящен, в функциональной он – украшение и связан с комплексом таких ассоциаций, как богатство, подарок (дар, подношение), роскошь. Также много значит камень, из которого он изготовлен. Темно-красный цвет выражает определенное настроение, по ассоциации связан с кровью, благодаря чему тема дара приобретает оттенок жертвы, что соответствует и сюжетной линии – самоубийству героя. Очевидно, что все эти смысловые и экспрессивные оттенки не разграничены, а напротив – динамически взаимодействуют друг с другом. Также важно учесть, что в художественном тексте восприятие этого комплекса смыслов выстраивается не рационально, через логическую цепочку, а в единстве. Рациональный разбор разделяет некоторые аспекты, цельный текст их объединяет. Сюжетно браслет функционирует как материальный предмет, как причина конфликта. Образно он выражает многообразие чувств, оттенков отношений между героем и героиней. Телеграфист Желтков, не осмеливаясь лично выразить свою любовь Вере, посылает ей подарок. Таким образом, можно считать браслет символом, поскольку символ означает нечто, отсылает к понятию или совокупности понятий, представлений. (Заметим, что в отличие от символа метафора выражает некий экспрессивный смысл. Но эти аспекты далеко не отрицают друг друга, они могут вступать в сложное взаимодействие). Однако, помимо столь известного примера многоаспектного предметного образа, у Куприна есть и другие, на которых стоит остановиться подробнее. Выберем для анализа два менее хрестоматийных произведения писателя: «Большой фонтан» и «Фиалки». В обоих есть один центральный образ, сосредоточивший предметный, сюжетный и экспрессивный планы. В обоих случаях это цветы. Роль «цветочных» образов в в мировой культуре, конечно, очень значима. Эти образы могут нести и символический, и метафорический смысл, и атрибутивный. Первоначальный вариант рассказа «Большой фонтан» [5] назывался как раз «Белая акация» [4], но представлял собой не эпизод встречи двух приятелей, а письмо одного из них – другому. Но в целом сохранена и сама история (женитьба на совершенно чужой по духу, неприятной, нелюбимой женщине), и аналогия с запахом акации, про73 изводящим то романтическое впечатление, то совершенно фальшивое и отталкивающее. Основа для подобной аналогии – сильнейший дурман, ассоциативная связь запах – атмосфера. Именно атмосферой всеобщей влюбленности герой объясняет скоропалительное решение связать себя с человеком грубой душевной организации. Но обратимся к тексту: «Белая акация – цветок колдовской, коварный и злобный. Однажды утром неопытный северянин идет по дорожке Ковалевского парка и вдруг останавливается, изумленный диковинным, незнакомым, никогда доселе не слыханным ароматом. Какая-то щекочущая радость заключена в этом пряном благоухании, заставляющем ноздри широко раздуваться и губы невольно улыбаться. Так пахнет белая акация. Однако назавтра совсем другое впечатление. Вы чувствуете, что весь Большой Фонтан, повинуясь дурацкой моде, продушен теми сладкими, крепкими, терпкими теперешними духами, от которых хочется чихать и от которых в самом деле вертят носом и чихают чуткие собаки. На следующий день уже пахнет не духами, а противными, дешевыми, пахучими конфетами или тем ужасным душистым мылом, запах которого на руках не выветривается в течение недели» [6, т. 6, с. 33]. Далее от описания акации писатель непосредственно переходит к описанию всеобщего состояния влюбленности. «Нигде нет спасения от одуряющего цветка и от его возбуждающего наркотического действия. Все Фонтаны – Малый, Средний и Большой – охвачены на несколько недель повальным безумием, одержимы какой-то чудовищной эпидемией любовной горячки. Таково свойство этого дьявольского растения! Влюблены положительно все: люди, животные, насекомые, деревья, травы» [6, т. 6, с. 333]. Здесь очевидны несколько моментов: выстраивание прямой зависимости состояния влюбленности от вездесущего аромата; сосуществование и акации и персонажей в едином описываемом реальном пространстве; постоянный перенос свойств запаха на свойства влюбленности: одурь, назойливость, неосознанность и неодолимость ощущений, нездоровая атмосфера и – в конечном итоге – фальшь. Перенос же свойств предмета на эмоциональные процессы есть ничто иное, как метафора. Далее эта метафора дополняется другими: «Тут-то Мишенька Говорков и захватил свою болезнь, постигшую его в смертельной форме <...> Уподобился он летней мухе на липкой бумаге: и сладко, и противно, и... не улетишь...<...>У него был жар в шестьдесят градусов, вздорный бред, слюнотечение и на лице идиотская улыбка» [6, т. 6, с. 334]. Сцепка понятий: болезнь – ловушка – безумие осуществляется здесь на различных уровнях взаимодействия смыслов, связанных каждый, в свою очередь, с образом акации, со всем комплексом ощущений. Например – «и сладко, и противно» – очевидно, согласуется с аналогия74 ми «противные, дешевые, пахучие конфеты» и «сладкими, крепкими, терпкими теперешними духами». И этот же экспрессивно-смысловой комплекс проецируется на образ самой героини – пошлой, грубой, цепкой, жадной. Таким образом, акация совмещает и атрибутивный ряд: цветы, духи, конфеты (ухаживание за женщиной), и метафорическое воплощение свойств одного явления в другом, и символическую связь понятий, закрепленную в культуре. В рассказе «Фиалки» образ цветка несет совершенно иную системную и смысловую нагрузку. Главный герой – Дмитрий Казаков – переполнен новыми чувствами, которые ему трудно осознать и выразить. И его юная любовь – часть благоговейной, счастливой любви ко всему миру, с которым он хочет сродниться в наивном душевном порыве. «Но теперь он живет в странном очаровании, точно опоенный неведомым дурманом. Он просыпается, спешит к окну, садится на подоконник, и точно впервые, с новым удивлением – не говорит себе, а глубоко чувствует: вот синее небо, вот легкие сквозные облака, и трава, и деревья там, далеко, за зданиями» [6, т. 7, с. 8–9]. И в этом отрывке есть слово «дурман», однако контекст – совсем иной, нежели в «Большом фонтане». Если там создается ощущение стеснения, духоты, несвободы («и сладко, и противно, и... не улетишь...»), то здесь – напротив – преизбыток простора, воздуха, легкости. И совсем другие образы растений: «А Казаков в это время мчится под верной защитой развесистых ив быстрее степного ветра. Он не может умерить своего бега до самого конца пруда и останавливается, только достигнув пригорка, на котором тесно столпились кусты бузины, волчьей ягоды и дикой жимолости» [6, т. 7, с. 10]. «Старинные липы, современницы Петра Великого, подарившего когда-то этот парк с дворцом любимому вельможе, так сказочно, так невероятно высоки, что каждый человек, идя под ними, невольно чувствует себя маленьким. Здесь всегда зеленая полутьма и сыроватая прохлада» [6, т. 7, с. 11]. С дикими растениями по смыслу связано ощущение свободы, с парковыми – покоя и торжественности. И эти, и другие ощущения переполняют Диму Казакова, и в природе он находит отражение их, а потом снова и снова ищет то, что может быть близко его внутренним переживаниям. В сроднении с природой он неоднократно уподобляется молодому зверю, но без унижающего оттенка, поскольку в мировоззрении Куприна естественность животной жизни чиста и прекрасна своей близостью природной стихии. И подобно юному зверю Дмитрий улавливает запахи: «...неожиданно его обоняния касается удивительный аромат – тонкий, нежный и упоительно скромный. Следя за ним, поворачивая голову в разные стороны, вдыхая воздух расширенными ноздрями, точно собака на охоте, он спускается вниз, в сырой, мокроватый овраг, 75 куда ручейком стекает вода, переполняющая чашу. Чудесное открытие. Целый оазис наших милых, темных, маленьких северных фиалок, благоухающих, как нигде в целом мире» [6, т. 7, с. 11]. И это открытие, находка становится как бы средоточием и воплощением чувств героя. «Он осторожно, ползая на коленях, рвет цветы, стараясь их не мять, делает с бессознательным изяществом небольшой букетик, обворачивает его круглыми влажными листьями и, наконец, обматывает ниткой, которую зубами выдергивает из казенного платка» [6, т. 7, с. 11]. Важно отметить то, что герой делает это без определенной цели, и та, которой он потом приносит в дар цветы, появляется внезапно (логика волшебной сказки). Эта, нежданно появившаяся героиня и названа в тексте «сказочной принцессой» – так видит ее Дмитрий. Он совершил нечто по наитию, откровению, и явление прекрасной дамы, принцессы – чудо, награда за это. И в отличие от дара-жертвы Желткова в «Гранатовом браслете» со смысловым оттенком крови и гибели, фиалки – дар-подношение – чистое, беззаветное и наивное. Желтков после своего дара расстается с жизнью, Казаков наоборот – начинает жить, получает некое благословение от всего мира, освящающее его дальнейший путь. «И как бы потом ни сложилась его жизнь со всеми его падениями и удачами, дружбой и ненавистью, любовью и отвращением, – он всегда, даже в старости, – он, позабывший имена и лица любивших его женщин, – благодарно и счастливо улыбнется, вспомнив фиалки, приколотые к груди принцессы из сказки. Потому что на его долю выпало редкое счастье испытать хоть на мгновение ту истинную любовь, в которой заключено все: целомудрие, поэзия, красота и молодость» [6, т. 7, с. 13]. И здесь, и в «Большом Фонтане» – вполне конкретные цветы, включенные и в общую предметную сферу мира, его реальность. Однако ассоциативные поля, комплекс ощущений сильно разнятся. И разнятся не в последнюю очередь на основании вполне материальном: акация цветет в жаре и духоте, фиалки – в свежей прохладе (еще один примыкающий образ – вода, с которой связано утоление жажды, омывание, «первичная» природная чистота); акация всем видна, фиалки – скрыты в траве. Во всех трех произведениях: «Гранатовый браслет», «Большой Фонтан», «Фиалки» – воплощение многообразных чувств в предмете находит не только писатель, но и сам герой. Иное функционирование предметного образа у Шмелева и Сургучева. Хотя, как и у Куприна, их произведения наполнены предметными реалиями. «Бытовизм» и ослабление сюжета в творчестве И.С. Шмелева исследователи уже довольно давно отмечают как главные особенности его метода и одно ставят в зависимость от другого. С этим нельзя не 76 согласиться. Впрочем, это свойство присуще не только самому Шмелеву, но и многим писателям начала ХХ в. Современные им критики и литературоведы более позднего времени склонны объяснять подобную тенденцию неким «контрнаступлением» реализма против беспредметности и умозрительности модернистских течений от символизма до футуризма [2]. Причем к признакам реалистического метода относят и пристальное внимание к вещественному миру, обыденности в самых разнообразных ее проявлениях, и нивелирование сюжета как «искусственного» элемента, противоречащего циклическому, бессобытийному течению жизни. Основное внимание сосредоточено именно на предметном мире, он выдвинут на первый план и составляет главную часть художественной информации. Это дало основание А. Дерману утверждать, что в «Росстанях» смерть героя становится фоном для быта, а не наоборот [1, с. 75]. Утверждение парадоксальное и не совсем оправданное с точки зрения строгого научного подхода. Скорее здесь мы видим смещение традиционной иерархии, нарушение текстовых пропорций в сторону описательной стороны, что зависит, безусловно, от фокусировки внимания. В рассказе «Пугливая тишина» событийная линия действительно «растворяется» среди бытовых сцен и описаний природы. Однако, значимые события явлены и в этом «бытовом» контексте: в имение родителей приезжает промотавшийся корнет, угрозами самоубийства добивается от близких, чтобы ради покрытия его долга забили целое поголовье свиней. Попутно развращенный молодой человек успевает проявить интерес к неразвившейся еще девочке-подростку и миловидной гувернантке (которой он, не замечая, разрушает жизнь). Описание деталей в «Пугливой тишине» расположено в последовательности получения внешних впечатлений, так что рядом оказываются детали ключевые для сюжета (свиньи, сперва во всем богатстве животного существования, затем в зловещих подробностях физиологической смерти), и не имеющие к нему никакого отношения, но обрисованные с той же подробностью и экспрессией. Однако, в определенном смысле именно образы сперва живых, а потом убитых животных становятся центральными, ибо в наибольшей степени насыщенны и красками, и эмоциями. Говоря об импрессионизме, набирающем силу в литературе той эпохи, нельзя упускать мощное (и часто декларируемое) стремление именно к субъективности. Это вполне логично объясняет и столь характерное замедление времени, охват момента и проникновение вглубь бытия, стремление позиционировать себя внутри него. Поэтому весьма спорны следующие рассуждения одного из первых критиков И.С. Шмелева, Н. Коробки: «Субъективного элемента почти нет в этом изображении. Но оно не переходит в бесстрастную объективность. Личность автора и его отношение к изображаемому обнаруживаются в 77 прорывающихся элегических нотках, в противопоставлении пошлости жизни красоте природы, поэтичному воспоминанию или мелькающему красивому образу...» [2, с. 345]. Скорее всего, именно из-за крайнего субъективизма и возникает иллюзия некой объективности, непосредственности и необусловленности восприятия реальной жизни во всей ее целости. И эстетизация этих впечатлений, и впечатлений от забоя свиней может скорее вызвать упрек в безнравственности. Однако противопоставление происходит именно на уровне осознания, контраст силен не внутри текста, а вне его, как индикатор нравственного чувства читателя, и тем острее. И фокусировка внимания на убитых свиньях сообщает внутренний ужас псевдоидиллической картине вроде бы благополучного существования, в определенном смысле «разверзает» некую бездну подспудного кошмара. Сходный, но несколько иной принцип взаимодействия явного и скрытого можно проследить в рассказе «Карусель» 1914 г. Любопытно, что вынесенный в заглавие образ карусели отнюдь не является центральным, однако присутствует в произведении и несет определенную образную, предметную и смысловую нагрузку. Герой рассказа, Аким Иванович, собирается на праздничную ярмарку, судя по всему – в связи с Пасхальными торжествами, заодно рассчитывая приобрести заложенное поместье, о разорении хозяев которого он узнал, но держит это при себе. На протяжении рассказа, однако, не происходит самой сделки, но разворачиваются диалоги, сцены, зарисовки, представляющие сборы и путь на праздничную ярмарку. Их именно потому нельзя назвать фоном, поскольку ничего так и не случается в рамках рассказа. И карусель только ждет своего часа, но читатель не видит ее в действии, как динамический образ. Однако предметная и эмоциональная ткань произведения крайне богата описательными элементами, речевыми интонациями, настроениями, впечатлениями. То, что мы видим в творчестве Шмелева от «Распада» до «Лета Господня». И общее настроение произведения внешне очень празднично. Парадоксальным образом празднично, нарядно и радостно предстает появление лишь в третьем эпизоде наследников поместья. Причем не просто перед читателем, а перед самим героем. «Слышен чекот копыт. А катит со станции чудной васильчихин экипаж, черный лакированный коробок, точно гроб на высоких рессорах, – едут наследники. Правит Павел Степаныч в белых перчатках, – далеко виден алый околыш и красный шарфик на зеленом пальто <...>, а с ним Лизавета Степановна, тонкая, как камышинка, смехотунья. Рыжий куцый американец в шорах выкидывает широко ноги, задрана голова, широкая грудь навылет – дорогу! Черный короб завален свертками и пакетами, всякими праздничными покупками, торчит высокий белый картон, – должно быть, кулич; кучер сзади, на гнездышке... Сме78 ются, не знают ничего... До станции сорок верст, кучер еще с вечера выехал... Гонит-то как, в мыле весь...Так и сядут для праздничка-то! <...>И так хочется сообщить им страшную новость, заваленным цветными пакетами, уже открывается рот, видит совсем еще детское херувимочное лицо Лизаветы Степановны, быстрые усмехающиеся глаза, которые скоро заплачут, – и только еще раз кланяется и кричит: – С наступающим!» [7, с. 18]. Во всем описании лишь одно сравнение с гробом звучит зловеще, как предвестье драмы, так и оставшейся за рамками повествования. Остальной образный ряд вписывается в общее полотно радостного праздника: подарки, кулич, наряды. Разумеется, здесь можно с полным правом говорить и об атрибутике праздника, и о трагедийной символике, и о выразительности метафоры («херувимочное личико»). Но именно в целостном настроении и во внутреннем контрасте наиболее остро чувствуется горький парадокс ситуации. Аким Иванович хочет сказать правду и одновременно не в силах ее сказать. Его поздравление – и часть праздника, и страх перед разрушением праздника, столь целостного в единстве предметной насыщенности и общего настроя. Можно сказать, что этот эпизод по внутренней напряженности – узловой в рассказе. Хотя опять же внешне не происходит ничего переломного. Все напряжение идет изнутри взаимодействия различных смысловых слоев художественного текста. При этом оно не скрыто, не зашифровано, а вполне ощутимо воспринимается при прочтении. Тем не менее, образ карусели как реального предмета все же появляется в финале, однако в несколько парадоксальном контексте. Карусель так и не запущена, она замерла в ожидании вместе со всем окружающим миром. Причем ожидание это непостижимо и загадочно, неопределенно. Разумеется, данные примеры не охватывают все многообразие смысловых взаимосвязей и пластов, обусловленных употреблением предметных образов в произведениях русских писателей, близких к реалистическому направлению. Это некоторые варианты и тенденции, в которых можно уловить и сходство и различие. Тем не менее, на данных примерах видно, что реальность предметного образа не только не противоречит метафорическому, символическому и атрибутивному значению их в тексте, но определенным образом – через материальные свойства и ассоциативные ряды – обеспечивает целостность и взаимодействие этих значений. _______________ 1. Дерман А. // Русские записки. – 1916. – № 6. 2. Дунаев М.М. Своеобразие творчества И.С. Шмелева (к проблеме «бытовизма» в произведениях писателя) // Русская литература. – 1978. – № 1. 3. Коробка Н. Шмелев (критический очерк) // Вестник Европы. – 1914. – № 3. 4. Куприн А.И. «Белая акация» // «Сатирикон». – 1911. – 11 ноября, № 46. 79 5. Куприн А.И. Большой Фонтан //Иллюстрированная Россия. – 1927. – 6 августа, № 2. 6. Куприн А.И. Собрание сочинений в 9 тт. – Т. 6. – М., 1972. 7. Куприн А.И. Собрание сочинений в 9 тт. – Т. 7. – М., 1972. 8. Шмелев И.С. Рассказы. – Т. 6. – М., 1916. – с. 18. 9. Там же. 10. Там же, с. 334. 11. Там же, с. 10 12. Там же, с. 11. 13. Там же. 14. Там же. 15. Там же, с. 13. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА В СТРУКТУРЕ ТЕКСТА («Бег времени» А. Ахматовой) Бронская Л.И., Ставрополь Поэзия – это особый способ познания действительности. Так, М. Хайдеггер считал, что поэтический талант, творческое мышление получают статус единственного аутентичного способа постижения действительности. Произведение искусства, и поэзия в частности, как занимающая выдающееся место в системе искусств, является одновременно, по мысли философа, и способом становления и свершения истины, так как здесь заключено и стремление к творению (к художественной деятельности) и к раскрытию истины [1, c. 28]. Истина это доводится до читателя через сложную систему поэтических кодов, знаков. Наш современник, основоположник нерационалистического направления в современной философии, Г. Башляр, разделяя речь поэтическую, специфику ее формы от собственно речи, утверждал: «Время просодии – горизонтально, время поэзии вертикально... Присвоив результат поэтического мгновения, просодия берется благоустроить прозу, изреченную мысль, пережитую любовь, социальную ситуацию – жизнь, текущую скользящую, летящую, непрерывную... Цель – это вертикальность, глубина или высота. Это остановленное мгновение, в котором одновременности, упорядочиваясь, убеждают, что поэтическое мгновение обладает метафизической перспективой» [2, c. 347]. Когда-то А.А. Блок в беседе со своими единомышленниками утверждал: «Всякое стихотворение – покрывало, растянутое на остриях слов. Эти слова светятся как звезды. Из-за них существует стихотворение. Тем оно темнее, чем отдаленнее эти слова от текста» [3, c. 128]. Иными словами, Блок выделяет в поэтическом тексте особые слова, которые играют в нем конструктивную роль, конденсируют его содержание, служат условием его создания и сигналами авторских интенций и, в конечном итоге, позволяют понять своеобразие творческой инди80 видуальности поэта. Здесь уместно вспомнить рассуждения польского поэта Норвида, который размышлял об «умолчании» как основе поэтического текста, о языке ежедневности языке поэта, о «слове натуральном» и «слове социальном». Здесь проявляется тонкое понимание специфичности функции слова в литературе и поэзии. В его понимании, слово – это соединитель психической акции и видения. [4, c. 249]. Именно слово (эмоционально, семантически окрашенное), наряду с другими элементами, организующими поэтический текст (ритмическими, эвфоническими, семантическими...) определяет границы идейно-эмоционального поля произведения. М.Я. Поляков предполагал, что если «условно назвать каждый из этих элементов голосами, то допустимо сказать, что произведение как бы увеличивает совмещением силу и звучность этих голосов и тем самым формирует наш образ мира» [4, c. 250]. Ю.И. Левин в разборе шести стихотворений О. Мандельштама указывает на слова, которые не впервые встречаются в поэзии Мандельштама, но «необычна степень насыщенности ими текста, благодаря чему приобретают необычную окраску и другие, нейтральные в поэтическом словаре слова». Интерпретируя стихотворение «Умывался ночью на дворе...», Левин указывает на слово «соль» как на его лексический центр, указывает на его семантический вес [5, c. 9, 10]. С точки зрения исследователя, в тексте любого стихотворения есть слова, определяющие смысл и значение всего произведения в целом. Своего рода слова-знаки. В научной литературе для обозначения подобных знаков используются различные термины, наиболее распространенным из которых является термин «ключевые слова». Кроме того, существует ряд метафорических терминов, определяющих эти слова-знаки: «смысловые вехи произведения», «опорные элементы», «смысловые ядра», – которые подчеркивают роль определенных знаков, прежде всего, в семантической организации текста. «Ключевые слова обладают рядом существенных признаков, которые позволяют дифференцировать их на фоне других лексических единиц. Такими признаками являются: 1) высокая степень повторяемости данных слов в тексте, частотность их употребления; 2) способность знака конденсировать, свертывать информацию, выраженную целым текстом, объединить «его основное содержание»; ключевые слова в этом плане уподобляются «тексту-примитиву» – минимальной модели содержания того текста, ключом к которому они служат; этот признак особенно ярко проявляется у ключевых слов в позиции заглавия; 3) соотнесение двух содержательных уровней текста: собственно фактологического и концептуального и получение в результате этого соотнесения нетривиального эстетического смысла данного текста» 81 [6, c. 186–187]. В свое время Анна Ахматова добивалась от литературных критиков именно такого нетривиального прочтения своих стихотворений, особенно поздней лирики. Ахматова 1940–1960-х годов – это поэтфилософ, поэт высокого трагического накала. «Бег времени» – седьмая книга поэта, в которую по ее замыслу должны были войти социальнофилософские инвективы 1930-х годов, цикл «Венок мертвым», «Поэма без героя» и другие достаточно «острые» произведения. Рукопись книги была отклонена литературно-партийными функционерами. В последний прижизненный сборник «Бег времени», вышедший в 1965 году, были включены ранее опубликованные книги и ряд новых стихотворений, преодолевших цензурные препоны. Здесь следует уточнить одну вещь: Ахматова, будучи все-таки представительницей Серебряного века, очень тщательно относилась к составлению своих поэтических сборников, предполагая видеть в них законченное единое эстетическое целое. Однако цензурные рогатки 1930–1960-х годов сводили ее усилия к нулю: поэтому сборники «Из шести книг» и «Бег времени» – всего лишь сборники стихотворений Анны Ахматовой, составленные редакторами, опиравшимися даже на свой вкус, но на идеологические установки партийноправительственных документов. В связи с этим при интерпретации стихотворений, включенных в сборник «Бег времени» следует учитывать и стихотворения, выделяемые в современных публикациях в раздел «Из стихов последних лет». В них прослеживается близость ключевых слов и их поэтических функций. Г.О. Винокур, размышляя о лексико-семантических элементах, которые, наряду с другими же элементами, участвуют в создании особой целостности художественного произведения, уточнял, что «смысл литературного произведения представляет собою известное отношение между прямым значением слов, которыми оно написано, и самим содержанием, темой его... Язык со своими прямыми значениями как бы весь опрокинут в тему и идею художественного замысла». Из этого следует и особое конструктивное значение в поэтическом тексте «словарных цепочек», поскольку именно они формируют не прикладной, а поэтический смысл произведения [7, c. 246–248]. Уже в цикле «Вереница четверостиший», в который, в частности, входит четверостишие «Бег времени», по сути дела расшифровывающее заглавие последнего прижизненного сборника поэта, выстраивается такая «цепочка слов»: приговор, ужас, беда, распятие, болящая плоть, проклятие, предавшие, страдальческий конец и т. д. Если обратиться к поэме «Реквием», которая, по замыслу автора, должна была входить в состав сборника «Бег времени», то и в ней повторяется та же «цепочка слов»: «В страшные годы ежовщины...», «Перед этим горем гнуться 82 горы...», «Приговор... И сразу слезы хлынут...», «На губах твоих холод иконки, Смертный пот на челе... Не забыть!», «Нет, это не я, это ктото другой страдает...», «О твоем кресте высоком...», «И синий блеск возлюбленных очей последний ужас застилает» Горизонтальный ряд от слога и до предложения пресекается с вертикальным рядом чисто художественных элементов (звук и смысл). Слова «приговор, ужас, беда, проклятие и т. д.» и в сборнике, и в поэме, несомненно, составляют «отдельные звенья одной и той же словарной цепи, так как объединены своими вторыми, поэтическими значениями» [7, c. 248]. Указанные слова передают не только общее эмоциональное состояние, как автора, так и лирической героини, но определяют масштаб и качество переживаемого: как правило, они являются завуалированными микроцитатами из Библии. Так, в одном из четверостиший «Бега времени» «В каждом древе распятый Господь...», Ахматова апеллирует к важному для верующего человека церковному обряду – причащению, где метафорические осмысленное понимание «тела и крови Христовой» символически отождествляется в хлебе и вине. Однако символы обряда причащения выводятся в стихотворении за пределы храма: «В каждом древе распятый Христос, В каждом колосе тело Христово...». Храмом становится вся вечная и непостижимая земля, как вечны и непреодолимы страдания людские. Спасение, считала Ахматова в 1946 году, в молитве: «И молитвы пречистое слово Исцеляет болящую плоть...». Мотив распятия встречается и в сборнике и в поэме довольно часто. Так, в шестой главе «Реквиема» читаем: Легкие летят недели. Что случилось, не пойму, Как тебе, сынок, в тюрьму Ночи белые глядели, Как они опять глядят Ястребиным жарким оком, О твоем кресте высоком И о смерти говорят. Можно предположить, что Анна Ахматова имплицирует евангельский сюжет на реалии современного ей мира, тем самым придавая им эсхатологическое звучание. О масштабности и исключительности событий, «которым не было равных», мы сталкиваемся в стихотворении «Подражание Кафке»: А где-то чернеет от зноя Огромный небесный простор, И полное прелести лето Гуляет на том берегу... Я это блаженное «где-то» Представить себе не могу. Я глохну от зычных проклятий, 83 Я ватник сносила дотла. Неужто я всех виноватей На этой планете была? «Выход книги» (Цикл «Из заветной тетради»). Безусловно, выделенные нами ключевые слова в сборнике «Бег времен» и «Реквиеме» дают представление лишь об одном только социально-философском плане позднего творчества Анны Ахматовой, хотя идейно-эмоциональное поле произведений этого периода дает возможность говорить о более разнообразных интеллектуальных ценностях, заложенных в ее лирике последних лет. Так, например, семантической доминантой ахматовской лирики этого периода является слово «дом». Обратимся к наиболее значимым поэтическим фрагментам (где это слово доминирует) из стихотворений «Многим», «Все ушли и никто не вернулся...», «Цикл из заветной тетради», «Предыстория», «В том доме было очень страшно жить...», «Есть три эпохи у воспоминаний...» (цикл «Северные элегии»), «Ты выдумал меня...» (цикл «Шиповник»): Тот день всегда необычаен. Скрывая скуку, горечь, злость, Поэт – приветливый хозяин, Читатель – благосклонный гость. Один веден гостей в хоромы, Другой – под своды шалаша, А третий – прямо в ночь истомы, Моим – и дыба хороша... ...Вот отчего вы даже не спросили Меня ни слова никогда о нем И чадными хвалами задымили Мой навсегда опустошенный дом. «Многим» ...И ты пришел ко мне, как бы звездой ведом, По осени трагической ступая, В тот навсегда опустошенный дом, Откуда унеслась стихов казненных стая.. «Ты выдумал меня. Такой на свете нет...» Все ушли, и никто не вернулся, Только верный обету любви, Мой последний, лишь ты оглянулся, Чтоб увидеть все небо в крови. Дом был проклят и проклято дело... «Все ушли, и никто не вернулся...» ...Шуршанье юбок, клетчатые пледы, 84 Ореховые рамы у зеркал, Каренинской красою изумленных, И в коридорах узких те обои, Которыми мы любовались в детстве, Под желтой керосиновою лампой, И тот же плюш на креслах... «Предыстория» В том доме было очень страшно жить, И ни камина жар патриархальный, Ни колыбелька моего ребенка, Ни то, что оба молоды мы были И замыслов исполнены............ ...............................и удача От нашего порога ни на шаг За все семь лет не смела отойти, – Не уменьшали это чувство страха... «В том доме было очень страшно жить...» ...Уже не свод над головой, а где-то В глухом предместье дом уединенный, Где холодно зимой, а летом жарко, Где есть паук и пыль на всем лежит, Где истлевают пламенные письма, Исподтишка меняются портреты, Куда как на могилу ходят люди, А возвратившись моют руки мылом, И стряхивают беглую слезинку С усталых век – и тяжело вздыхают... Но тикаю часы... «Есть три эпохи у воспоминаний...» Конечно, ключевое слово «дом» в поздней лирике Анны Ахматовой представлено рядом других, семантически приближенных к нему слов, таких, как «дворец», «залы», «паркет», «окно», «двор», «забор» и т. д. Следует заметить, что весь шлейф смыслов, которые порождены ключевым словом «дом», определяется в художественном сознании Ахматовой как традицией в предшествующем поэтическом языке, так и творчески переосмысленном фольклорном начале, столь характерном для ее поэтического наследия. Анализируя архетип дома в славянской фольклорной модели мира, Т. Цивьян пишет: «В словаре модели мира дом представляет собой одно из основополагающих семантики. Прежде всего, дом – важнейшее промежуточное звено, связующее разные уровни в общей картине мира. С одной стороны, дом принадлежит человеку, олицетворяя 85 целостный вещный мир человек. С другой стороны, дом связывает человека с внешним миром, являясь в определенном смысле репликой внешнего мира, уменьшенной до размеров человека» [8, c. 65]. Дом объединяет в своем значении как материальное (жилище, строение, хозяйство, двор), так и духовное (семья, род, родина, отечество). Организованная структура микрокосма Дома противостоит упорядоченному макрокосму внешнего пространства. «В мышлении человека Дом способствует созданию бинарных оппозиций замкнутого – разомкнутого пространства (дом – дорога, верх – низ, дом – космос), т. е. горизонтальных и вертикальных осей организации пространства» [8, c. 65]. Так, и поздней лирике Ахматовой, и в ее «Поэме без героя», довольно часто мы сталкиваемся с такими деталями урбанистического пейзажа, как дорога от дома или дерево (ветви дерева), растущее под окном, порой, эти ветви врываются комнату, ложатся на подоконник. Это особый знак ахматовского космоса, в котором взаимодействую, взимососедствуют, переплетаясь, пространство Дома и пространство Мира. Выше мы уже обращались к ситуации, когда поэт расширяет пределы храма (Дома) до пределов земного окоема. К подобному же приему Ахматова прибегает и в последнем из трех стихотворений, посвященных Б. Пастернаку (Цикл «Венок мертвым»): Словно дочка слепого Эдипа, Муза к смерти провидца вела, А одна сумасшедшая липа В этом траурном мае цвела Прямо против окна, где когда-то Он поведал мне, что перед ним Вьется путь золотой и крылатый, Где он вышнею волей храним. Здесь сливаются несколько значений слова «путь» («дорога»). Путь, золотой и крылатый – как метафора творческого пути поэта, который наделен божественной долей говорить за всех; жизненный путь – как хождение по мукам (Эдип – мученик), путь – реальная дорога у дома, по которой шла похоронная процессия. И очень ахматовский поворот «лирического сюжета – прежде времени зацветшая липа напротив окна опустевшего (осиротевшего) дома. Дом для любого человека – это центр его эмоциональной жизни. Связи между человеком и его Домом не прерываются и в случае физического удаления их друг от друга. Таким же центром эмоциональной жизни был Дом в художественной картине мира Анны Ахматовой. Большинство исследователей творчества поэта убеждены, что для поздней Ахматовой характерно трагическое мировидение. Это подтверждается и теми уточняющими словами, выстраиваемыми вокруг слова Дом: осиротевший дом, бесприютный дом, опустевший дом, покинутый дом, разрушенный дом, опостылевший дом, прокля86 тый дом, в дом, в который приходят как на могилу, опустошенный дом и т. д. Такого рода словообразы повторяются и в «Беге времени», и в лирике последних лет, и в «Реквиеме», и «Поэме без героя». Весь этот лексико-семантический комплекс структурно организует поэзию Ахматовой с 1956 по 1966 годы в единое идейно-эстетическое целое, определяя доминирование эмоционального переживания утраты, обездоленности, бездомности: Тщетно песня звенела нежней, И глаза я поднять не посмела Перед страшной судьбою моей» («Все ушли и никто не вернулся...) Утрата дома как личная трагедия лирической героини Ахматовой сливается с трагедией вселенского масштаба: Что войны, что чума? – конец им виден скорый, Им приговор почти произнесен. Но кто нас защитит от ужаса, который Был бегом времени когда-то наречен? Следует заметить, что еще одним ключевым словом в ахматовской поэзии позднего периода было слово «поколение»: De profundis...Мое поколенье Мало меду вкусило. И вот Только ветер гудит в отдаленье, Только память о мертвых поет. Наше было не кончено дело, Наши были часы сочтены, До желанного водораздела, До вершины великой весны, До неистового цветенья Осталось лишь раз вздохнуть... Две войны, мое поколенье, Освещали твой страшный путь. Начало стихотворения представляет собой фрагмент 129 псалма «Из глубины воззвах...». Однако латинизированная формула давала Ахматовой возможность уточнения лексемы «глубина» – De profun­ dis – буквально означает «из бездны». В контексте поздней ахматовской лирики, «бездна» стоит в одном синонимическим ряду с лексемой «дом». Кроме того, речь здесь может идти и о скрытой, может быть, даже неосознанной полемике с символистами: когда-то в одном из манифестов акмеизма было провозглашено, что роза должна пахнуть (то есть быть) розой. Так, излюбленная символистами метафорическая бездна превращается в лирике Ахматовой в собственно бездну. Для поэта важно осознавать, что он горит от лица своего поколения, он повторяет судьбу своего поколения, и его обездоленность – это всеобщая, глобальная обездоленность, бесприютность, бездомность. 87 В стихотворениях, написанных Ахматовой в последние годы жизни (начина с конца 1950-х годов), она открывается как поэт просветленнотрагического миропереживания. Лирическое «я» отождествляется с самой «перстью» стихов, оно почти бесплотно, как бы разомкнуто в пространство и вечность, но в то же время «слито» с историей, эпохой. _______________ 1. Хайдеггер М. Закон тождества // Хайдеггер М. Тождество и различие. – М., 1997. 2. Башляр Г. Мгновение поэтическое и мгновение метафизическое // Г. Башляр. Новый рационализм. – М., 1987. 3. Судьба Блока. – Л., 1928. 4. Поляков М. Вопросы поэтики и художественной семантики. – М., 1978. 5. Левин Ю. И. Избранные труды: Поэтика. Семиотика. – М., 1998. 6. Николина Н. А. Филологический анализ текста. – М., 2008. 7. Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. – М., 1959. 8. Цивьян Т. Дом в фольклорной модели мира // Семиотика культуры. Труды по знаковым системам. – Вып. 10. – Тарту, 1978. РАЗМЫШЛЕНИЯ О СТИХОТВОРЕНИИ МАЯКОВСКОГО «ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ» Головчинер В.Е.,Томск Период между 1917 и 1922 годом – это кульминационное, переломное время в логике поэтического развития Маяковского. По авторитетному мнению М.Л. Гаспарова, именно этот период в его творчестве характеризуется наибольшей ритмической раскованностью акцентного стиха [3, с. 422], заметим, и наибольшим разнообразием интонаций, жанров – в подписях к рисункам «Окон Роста», в агитплакатах, газетных стихах, в былинной поэме «150000000», в балаганной по своей эстетике пьесе «Мистерия-буфф», в иронических и лирических миниатюрах («Весна», «Гейнеобразное»), в сатирических стихах «О дряни» и «Прозаседавшиеся». Показательно, что именно в эти годы, как никогда, много создается произведений с нетрадиционным, «маяковским» осмыслением традиционной поэтической темы поэта и поэзии: «Приказ по армии искусства», «Поэт рабочий», «Радоваться рано», «Той стороне», «Приказ № 2 по армии искусства», «Необычайное приключение...». Интенсивный процесс самоопределения поэта в новых исторических условиях ощущается и в других стихах первых лет революции, в частности, в одном из начинающих послереволюционный период стихотворении «Хорошее отношение к лошадям» (1918). Прежде чем непосредственно размышлять о нём, коснусь одной 88 из сторон индивидуальной поэтики Маяковского, которая существенно проявляет и смысл его поэзии. Особая значимость зрительных образов в поэзии Маяковского была замечена давно [4]. Приведу фрагменты из наиболее известной в этом плане монографии: «Никто из русских поэтов не был так близко связан с живописью, как Маяковский» [5, c. 158], «детали городского пейзажа скомпонованы, как натюрморт» [5, c. 173] (здесь и далее выделено мной. – В.Г.). «Собственно говоря, сложность стиха Маяковского, его «густота» во многом связаны с тем, при чтении мало... слышать интонацию – надо еще и многое видеть» [5, c. 182]. «Маяковский смело реализует метафоры, создавая фантастические по форме и глубоко реальные по чувству картины» [5, c. 193]. Все сказанное В.Н. Альфонсовым о живописности поэзии Маяковского вырастало на материале анализа ранней лирики. Стихотворение 1918 г. (а также другие, написанные в то же и последующее время) свидетельствуют о том, что натюрморты, картины с пронзительно яркими деталями, жестами, ракурсами экспрессионистической природы раннего творчества сменяются зрелищем балаганной природы, массовыми сценами с участием – взаимодействием разных лиц, с драматическим развертыванием их отношений в эстетике примитива [6]. Стихотворение Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» интересно незамеченным до сих пор диалогом с классиками отечественной литературы: Некрасовым («Вчерашний день часу в шестом» [9, с. 69]), Достоевским (сон Раскольникова из «Преступления и наказания» [10, с. 64]), наконец, Горьким (заметка из цикла «Несвоевременные мысли», опубликованная в том же, что и стихотворение Маяковского номере газеты «Новая жизнь» за 9 июля 1918). В трансформации рассмотренных ситуаций, в представлении другого поведения героя, отчетливо видна позиция Маяковского. Маркером общности всех указанных ситуаций, становится, во-первых, пространственное решение происшествия как «уличного», публичного. Причем, в двух случаях место действия имеет отчетливо столичную, государственную «прописку»: петербургской Сенной времен Некрасова соответствует московский Кузнецкий советской поры. Во-вторых, в центре внимания авторов – страдания беззащитного существа. У Маяковского, как и у Достоевского и Горького, – это лошадь, у Некрасова кнутом бьют женщину. Но еще важнее, думается, трансформации, вырастающие в отличия. За пределы содержания и времени публикации «Хорошего отношения» выводит информация Л.Ю. Брик о том, что еще в конце марта 1918 г. Маяковский в разговоре с ней сказал: «Стихов не пишу, хотя и хочется очень написать что-нибудь прочувствованное про лошадь» [8, с. 532]. И 1 мая, т. е. более чем за месяц до публикации, он уже читал перед публикой «самое свое новое... О том, как лошадь поскользнулась 89 на Кузнецком, и ее окружила праздношатающаяся толпа» [8, с. 145]. На фоне неизменного – низменного (отчетливо у Достоевского) проявления толпы новым предстает поведение лирического героя. Его порыв, устремленность к обижаемому существу имеют иную природу, чем у лирического героя Некрасова и маленького Роди из сна Раскольникова. Герой Маяковского живет в настоящем времени, прорывается из толпы – действует, как в драме, и меняет ситуацию. Лошадь уже повержена, но жива, и его слово – слово человеческого сочувствия, ободрения поднимает ее. Она сбрасывает груз усталости, тяжесть оскорблений улюлюкающей («звякающей» смехом) толпы: «рванулась, / встала на ноги, ржанула/ и пошла. / Хвостом помахивала...». В четырехчастной композиции стихотворения первая часть, самая короткая – 8 слов, 6 строк – характеризует, как и начало блоковской поэмы «Двенадцать» (впервые опубликована 18 февраля 1918 г.), состояние мира в целом. Только Блок использует назывные предложения из существительных с прилагательным (Черный вечер./ Белый снег...), а Маяковскому сразу нужны глагольные, действенные формы: «Били копыта. / Пели будто: / – Гриб. / Грабь Гроб. / Груб» [7, с.174]. штаны, пришедшие Кузнецким клешить, сгрудились, cмех зазвенел и зазвякал: – Лошадь упала! – – Упала лошадь! – Смеялся Кузнецкий. Угрожающие сочетания согласных, усиленные в анафорах, восходящие ассоциативно к практике насилия времени революции, подготавливают появление толпы. Растущая толпа с ее смехом, восходящая к соответствующему изображению во сне Раскольникова, предстает главной причиной страданий и своеобразным «антигероем» второй части стихотворения. Кульминация проявления ее, как «героя» в драме, – прямая речь, тупое однообразие выкриков: «Упала лошадь!/ Лошадь упала!». Одинаковость действий – поведения Кузнецкого как множества «зевак» в толпе позволяет иронически-презрительно обозначить их одним неодушевленным существительным – непоэтическим словом «штаны» (штаны... сгрудились) в длинном, специально неудобном для произнесения стихе. Товарищ Маяковского по группе кубофутуристов В. Хлебников создал 11 новых слов в 11 строчках своего демонстрирующего новую технику стихотворения «Заклятье смехом»: поэт освобождал заключенную в них энергию, радовался сам и нес радость открытия читателю. У Маяковского повторение корня того же слова «смех» в другом контексте создает ощущение безысходно безобразного – «звякающий смех» чуть ниже окажется «воем». Вторая часть стихотворения, представившая знакомое по Достоевскому поведение толпы в уличном происшествии, завершается отделением от нее, выделением героя – иначе, 90 чем она, чувствующего, иначе ведущего себя. Лишь один я голос свой не вмешивал в вой ему. Подошел и вижу глаза лошадиные... Слова свой/вой в одной строке поставлены в положение подчеркнуто не рифмующихся – не может «рифмоваться», сближаться, совпадать поведение лирического героя и толпы – «голос свой» и «вой». Толпа на Кузнецком обнаруживает в вое проявления животного уровня, а лирический герой в рифме «один я / глаза лошадиные» – со-страдание, сближение. Последнее дважды фиксируется с разной разбивкой по строкам: подошел и вижу. Приблизившись, лирический герой обнаруживает то, что в его глазах очеловечивает лошадь – ее страдания в фокусе и масштабе «улицы опрокинутой». Опрокинутая улица в глазах лошади как кадр немого кино сменяется другим: лирический герой видит, как беззвучно катятся, прячутся в шерсти каплищи. Внутреннее состояние лошади передается через экспрессивные детали визуального «крупного плана». Увиденные героем в глазах лошади «улица опрокинутая», «текущая по-своему», слезы-«каплищи» – центральная часть стихотворения; в ней концентрируется тема и образ страдания. Она определяет для героя линию единственно возможного дальнейшего его поведения. Маяковский отделяет части стихотворения пробелами, но использует возможности созвучия, перетекания деталей, ракурсов изображения из одной части в другую. ...Подошел и вижу глаза лошадиные... и расплылась Улица опрокинулась, течет по-своему... Подошел и вижу – за каплищей каплища по морде катится, прячется в шерсти... и какая-то общая звериная тоска плеща вылилась из меня в шелесте. «Лошадь, не надо. Лошадь, слушайте – чего вы думаете, что вы их плоше? Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь». Последняя, четвертая часть стихотворения начинается с того, что на первый план как действующее лицо выходит лирический герой. По сути, первые четыре стиха этой последней части (от слов «И какая-то 91 общая тоска...»), выражающие состояние героя, оказываются своеобразным перевертышем предшествующих четырех стихов с изображением лошади. Он разделяет ее звериную тоску, тоска становится общей, и уже из него эта «тоска» «выливается» «в шелесте». Её состояние, ее слезы-каплищи, что прячутся в шерсти, рифмуются с его состоянием – звериной тоской, что вылилась и расплылась в шелесте: в шелесте-лепете слов. Слово, прямая речь лирического героя в «Хорошем отношении к лошадям» может восприниматься как момент, восходящий к некрасовскому стихотворению. Но, если сочувствие поэта середины XIX страдающей, униженной женщине выражено не прямо, а опосредованно: «виртуальному лицу» – Музе как итог размышлений на следующий день после увиденного, то чувство героя Маяковского деятельно и действенно реализуется в поступке – в настоящий момент. Он как герой драмы выделяется из толпы, говорит, и речь его воздействует на партнера, меняет настроение, состояние духа, ситуацию в целом. В сцене на Кузнецком безысходно-мертвенное, горизонтальное положение лошади сменяется после обращения е ней лирического героя своеобразной вертикалью, подъемом духа: «рванулась, / встала на ноги», еще и «хвостом помахивала». Меняется личностное, психическое, социальное ощущение себя: отступает «тоска», прибывают силы, ощущение независимости от толпы, растет готовность жить и работать. Она чувствует себя помолодевшей: «И все ей казалось – / она жеребенок./ И стоило жить, / и работать стоило». Напечатанные как два слова «она жеребенок» в устном варианте (а Маяковский, как известно, охотно выступал с чтением своих стихов пред публикой) могут звучать как «она же ребенок». Тема молодости, как и темы движения, будущего в поэзии Маяковского принципиально важны. И будущее лошади как «лирической героини» связано теперь не с раз и навсегда уготованной статикой «стойла», а с дважды утвержденной динамикой осмысленного существования: «и стоило жить, / и работать стоило». В двух последних строках стихотворения все четыре самостоятельных слова – глаголы. Первоначальное название стихотворения Маяковского «Отношение к лошадям» не исключало восходящей к сну Раскольникова возможности разного отношения к лошадям. В окончательном названии актуализируется утверждение единственно возможного – «хорошего отношения». Это утверждение могло показаться прямолинейноназидательным, как в детском стихотворении «Что такое хорошо и что такое плохо», если бы не множественное число существительного. Слово «лошадям» в названии прямо соотносится с тихо и лично прозвучавшим обращением героя к лошади в процессе «сближения», с его признанием: «Все мы немножко лошади / каждый из нас по-своему лошадь». Таким образом, существительное множественное число в на92 звании включает и прямое, и переносное, и объединяющее их, окрашенное легкой самоиронией значение: «все мы немножко лошади». Это позволяет интерпретировать стихотворение не только и не столько как лироэпическое с объективированными героями, сколько как лирическое и гуманистическое по своему пафосу. И еще один аспект позиции Маяковского стоит обозначить в объединяющем выражении «все мы...». В этом выражении по-своему концентрируется ноосферное мироощущение Маяковского. Оно особенно заметно на фоне есенинских стихов, в которых, как нам сегодня представляется, ощутимо биосферное сознание. Лошадь ощущается героем Маяковского как существо ему соприродное, с которым он может вступить в диалог, которому можно и нужно помочь, и тем хоть немного увеличить энергетический потенциал общего целого. Последовательность выражения подобной позиции Маяковского можно видеть в самых разных произведениях: в трагедии «Владимир Маяковский», герой которой, ощущая себя «ненужной слезою», стекающей «с небритой щеки площадей», «разницу стер/ между лицами своих и чужих»; в стихотворениях «Скрипка и немножко нервно», «Вот как я сделался собакой», в самоиронии стихотворения «Разговора на одесском рейде десантных судов: «Советский Дагестан» и «Красная Абхазия», в проникновенно-личном «разговоре» с товарищем Нетте – «пароходом и человеком» (этот план мироощущения своеобразно-комически выразился в реальном предъявлении Маяковским себя: в письмах к Л.Ю. Брик он подписывался «Щен», «Твой Щен», «Щенок», «Щен Маяк», «Урожденный Щен», «Счен», часто рисовал вместо подписи скучающего, тоскующего или счастливого щенка [11, с. 101–175].). Эта тема требует специального изучения. Пока лишь отметим: отличающийся – биосферный тип мышления в поэзии С. Есенина проявился в том, что для него «зверье» – «объекты внимания». Они хоть и «братья», но «меньшие», низшие, и герой в отношении к ним характеризуется через «отрицание» действия («и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове»). Граница между мирами у Есенина непреодолима: в природный мир можно уйти только навсегда («Я хотел бы затеряться в зеленях твоих стозвонных...», «Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать...»). Лирический герой Есенина может сочувствовать птахам малым, суке, лишившейся щенков, обращаться к «собаке Качалова» («Дай, Джим, на счастье лапу мне...»), но он предстает только в монологе, и, в лучшем случае, может надеяться на то, что умный пес «даст лапу». В 1918 г., в начале нового времени, после революции-потопа Маяковский просит-требует хорошего отношения к «лошадям-людям» (все мы...), утверждает мысль о необходимости поддержки всякого, кому «плохо». В «Письме Татьяне Яковлевой» (1928) он пишет о том времени: «Ста мильонам было плохо...» На фоне упоминавшихся классических текстов в стихотворении «Хорошее отношение к лошадям» 93 особенно заметен, лирически укрупнен человек, преодолевающий инерцию поведения «зрителя», вступающий с «другим» в диалог, действующий, помогающий «другому». –––––––––––––––––––––––– 1. Карабчиевский Ю. Воскресение Маяковского // Театр, 1989, № 7–10. 2. Жолковский А.К. О гении и злодействе, о бабе и всероссийском масштабе (Прогулки по Маяковскому) // Блуждающие сны и другие работы. – М., 1994. 3. Гаспаров М.М. Современный русский стих. Метрика и ритмика. – М., 1984. 4. Харджиев В. Маяковский и живопись // Материалы и исследования. М., 1940; Харджиев В., Тренин В. Поэтическая культура В. Маяковского. – М., 1970. 5. Альфонсов В.Н. «Нам слово нужно для жизни...» В поэтическом мире Маяковского. – Л., 1984. 6. Головчинер В.Е. Эстетика примитива как направление научных поисков в русской литературе ХХ века // Русская литература ХХ-ХХI веков: проблемы теории и методологии изучения. – М., МГУ, 2004. 7. Маяковский В.В. Собр. соч. В 12 т. Т.1. – М., 1978. 8. Катанян В. Маяковский. Хроника жизни и деятельности. – М., 1985. 9. Некрасов Н.А. АСС. В 15 т. Т 1. – Л. , 1981. 10. Достоевский Ф.М. Собр. соч. В 10 т. Т.5. – М., 1957. 11. Новое о Маяковском // Литературное наследство. Т. 65. – М., 1958. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛЕОНОВА-РОМАНИСТА Вахитова Т.М., Санкт-Петербург Проблемы идентификации Леонида Леонова в художественном поле русской и мировой литературы всегда были в центре внимания ученых и критиков, писавших о его творчестве. Поэтика Леонова рассматривается как структура, в общих чертах соответствующая противоречивому и компромиссному сознанию времени. В рамках общей противоречивости индивидуальные особенности Леонова составляют весьма интересные и странные отвлечения, которые не только некоторым образом меняют общую структуру, но имеют и свой идеал, и свою собственную иерархию, и разветвленную подсистему, пронизывающую многие слои текста. Художественная картина мира Леонова представляет собой глобальный образ, созданный писателем на протяжении многих десятилетий эпохи тоталитарного давления. Она является результатом всей ду94 ховной активности писателя выраженной либо явно, четко, детально, либо зашифрованной, закамуфлированной, спрятанной от цензуры и слишком «придирчивого» читателя. Воображение Леонова как человека, познающего окружающую его историческую среду, имеющую всегда изменяющийся и преходящий характер, стремилось создать свою Вселенную с помощью опосредующих символических структур и образов (мифологических, религиозных, традиционно-литературных, научных, искусствоведческих). Ей присущи собственные атрибуты, повторяющиеся на протяжении всего творчества и развивающиеся по своим определенным законам. Леоновский мир имеет и свою оригинальную структуру, состоящую из определенных компонентов, выражающих определенные контакты героя с миром. В романистике Леонова картина мира представляет собой образ, близкий классической русской модели, в центре которой находился храм. Но писатель, по-видимому, не только из политических соображений, заменяет этот центр либо разрушенным храмом, либо природным комплексом, либо трактиром, либо утопической мечтой. Леонов постоянно менял центр своих романов между этими составляющими. Русская жизнь закольцовывалась в этих параметрах, развиваясь по кругу. Сначала центром была природа («Барсуки»), потом – трактир («Вор»), затем – разрушенный скит («Соть»), наконец Леонов возвращается к природе («Скутаревский»), потом обращается к утопической мечте («Дорога на Океан»), потом снова развертываются картины природы («Русский лес») и вновь появляется трактир («Вор», 2-я редакция). В последнем романе «Пирамида» снова появляется полуразрушенный храм, где происходят таинственные и странные для русского православия вещи. Можно говорить о возвращении писателя к определенным центрам, намеченным еще в первых романах. Леонов глобализирует этот компонент: костер в лесу в «Барсуках» преобразуется в роман о русском лесе, разрушенный скит в «Соти» превращается в «Пирамиде» в полуреальный храм с погостом, где встречаются глобальные силы и ведут разговор вселенского содержания. Трактир в первой редакции «Вора» выполнен в черно-белом варианте, а во второй – расцвечен многими красками и окружен множеством деталей. Лишь утопическая мечта остается в неприкосновенности, отражая надежду своего времени. Выделенные центры вне их повторяемости воспроизводят парадигму русской жизни – от природы к монастырю – утопической мечте – трактиру – храму и погосту. Несмотря на то, что каждый из центров имеет свою философско-нравственную и религиозно-ментальную проблематику, о чем было сказано выше, эта «цепочка» отражает и русскую антропологию как определенную форму жизни, испорченную, по мнению Леонова, «порочным геном». Леонов не раскрывал метафору, доверяя своему читателю самому вы95 числить ее из всего его творчества. «Вид сверху» придает этим процессам, с одной стороны, четкую и графически оформленную картину, расширяет поле обозрения, с другой – соединяет эту картину с горизонтом надежды и опасностью обрыва. Он придает некий философский вид пространству, вызывая у героев стремление к размышлениям о глобальном и вечном. Высотные объекты у Леонова все время меняют свои характеристики. Если в раннем творчестве были мифологическая башня Калафата и библейская гора Арарат, то в романистике появились реальные объективные предметы. В последнем романе уже возникает «иррациональная высота» ангела Дымкова наряду и с другими вполне реальными на вид. Пространство у Леонова ограничено определенными знаками, которые не только представляют свойственный Леонову визуальный ряд, но и несут сложный, постоянно меняющийся смысл. В динамике его можно представить как насыщение разными составляющими, вплоть до полного уничтожения. История «как бывшее время» вводится в романистику Леонова сначала в виде отдельных знаков, примет, деталей, а потом соединяется с каким-либо персонажем, который ее актуализирует в разных формах: беседы, художественного произведения, внутреннего монолога, метафизического спора (Сталина и Иваном Грозным в «Пирамиде). История может существовать в произведениях Леонова в библейском оформлении, в виде записок полуграмотного человека («Записи Ковякина»), в реалистическом изложении (юность Вихрова в «Русском лесе»), с ироническим подтекстом (описание 1930-х г. в «Пирамиде). История как «будущее время» может составлять целый трактат («Дорога на Океан») или представать в видениях Дуни («Пирамида»), которая жалеет человечество, идущее к своему концу. Историческими реалиями разного времени и эпох насыщен весь текст Леонова: то в виде метафоры, то развернутого сравнения, то «случайно» названного имени. Природные стихии у Леонова «вмешиваются» во все процессы внутреннего и внешнего состояния мира, изменяя его время и пространство. Они пронизывают все визуальные объекты и всю духовную жизнь, постоянно придавая движение сюжету и мысли. Изменчивость мира воплощается писателем с помощью изображения стихий, которые олицетворяют Судьбу, Рок, Наваждение, Мираж. В мире Леонова природные стихии являются основой жизни, по его словам, «большим сущим», которое вовлекает человека в иной мир, связанный с изменением его внутреннего духовного состояния. Однако меняется не знание, а интуитивно-эмоциональный комплекс, который предвещает нечто новое, еще неясное, но уже способствующее рождению человека другого времени и другой судьбы. Стихии, являясь мощной и безудержной силой, владеют миром, грозя катастрофой, смертью человечеству, но одновременно придают жизни необъяснимую прелесть, тайну и кра96 соту. Леонов, как и А. Белый, был увлечен стихиями, он умел создавать ярко раскрашенные картины весеннего ливня, загадочные метели, завораживающие героев, притягивающие взоры костры, полыхающие на фоне звездного неба. И последний эпизод «Пирамиды», в котором горит Старо-Федосеевский погост, взвиваясь вихрями искр, был последней страницей его творчества. Герои, которые живут в леоновском мире, несмотря на разный социальный статус и интеллектуальные возможности, в принципе, отражают состав русской патриархальной деревни. Леонов всегда находит возможность подчеркнуть связь современного ему человека с патриархальным типом. Эти связи не остались без внимания его критиков. Только инфернальные героини (ведьмы) никогда не привлекали внимания исследователей. Леонов этих героинь прятал от взора ученых (лишь Маша Доломанова рассматривалась в их трудах, и то только рядом с Векшиным). Эти инфернальные дамы в раннем творчестве выписывались Леоновым более обобщенно, без особой личностной составляющей. Только у Доломановой и Юлии Бамбалски есть своя сложная история, которую автор рассказывает с большими перебивами, оставляя тайну их поведения не раскрытой до конца. Леонов переименовывает этих героинь, выводя их в другую реальность. Маша Доломанова становится королевой воровского мира – Манькой-Вьюгой. А вокруг Юлии возникает целый ореол знаковых фигур, как исторических, так и культурных. Леонов придает им одинаковый (блоковский) облик, т. е. осуществляет визуализацию персонажа в особом ракурсе. Но пунктирно в разных ситуациях он все-таки называет каждую из них ведьмой. И каждая ведьма отличается от всех других героинь необыкновенной красотой. Почему Леонов связывал женскую красоту с инфернальным началом? То ли это связано с какимито биографическими моментами его жизни, то ли было определенной философской установкой. Красота в мире связана с дьявольскими силами, ибо гордыня лишает их обладательниц доброты, сострадания, веры. Ответ на этот вопрос найти не удается. В «Пирамиде» этот дьявольский оттенок усиливается, доводится до последней крайности. В последнем романе Леонова сконцентрированы почти все темы и мотивы его прозы, он имеет, по выражению А. Г. Лысова, «соборный характер». Однако многие константы оказываются «вывернутыми наизнанку». Леонова в конце жизни интересовала именно «изнанка бытия», где реальное легко и свободно перетекает в нереальное и метафизическое. Картина мира в «Пирамиде» ирреальна, а реалистические детали лишь «привязывают» ее к эпохе 1930-х годов, которая «смешивается» с другим временем – началом 1990-х годов. Все выявленные в монографии поэтические приемы – «вид сверху», «ход коня», принцип «матрешки», принцип «вывернутости наизнанку», принцип движения по кругу – имеют глобальный характер, они действуют в рамках практической картины мира (бытовой) и имеют вселенский масштаб. Особенно 97 явно они прослеживаются в «Пирамиде», обладая свойствами создавать целостное представление о мире, которое вырабатывается постепенно на основе своих собственных художнических переживаний. В «Пирамиде» Леонов, по-видимому, поставил себе неразрешимую задачу, которая, естественно, казалась ему разрешимой и эстетически возможной – совместить в одном произведении реалистическую картину мира, картину мнимых миров и религиозную картину бытия. С одной стороны, он вроде бы возвращался к новеллистике 1920-х годов, создавая мнимый облик действительности со своими парадоксами, провалами, полемическими заострениями, интуитивными прозрениями и мыслительными тупиками. С другой – «привязывая» мнимые события к эпохе 1930-х годов, Леонов терял ту тонкую грань между иронически подаваемой советской реальностью и необъяснимостью или «непереводимостью» метафизического мира на «язык родных осин». Религиозная картина мира, в основе которой лежит апокриф Еноха, одновременно «вписывалась» и в реальный, и в метафизический пласт произведения, что существенным образом запутывает читателя. Если рассматривать прозу Леонова в ее целостности и непрерывном потоке, вне жанровых характеристик, то нельзя не заметить (особенно после выхода в свет «Пирамиды»), что всю творческую жизнь писателя продолжался диалог художника с самим собой. Диалог нередко переходил в отказ от каких-то идейных и стилевых позиций. Леонов с течением времени все больше и больше сомневался в выборе художественных решений, предпочитал выстраивать собственную стратегию в многоверсионном философском контексте, чтобы авторская точка зрения была скрытой, более зашифрованной. Поэтому он после «Русского леса» использовал такой тип романа (2-я редакция «Вора» и «Пирамида»), где одним из главных героев являлся писатель, образ которого был одновременно и противопоставлен автору, и имел с ним общие биографические и творческие черты. Особенно образ писателя сложен в «Пирамиде», он все время меняет свои обличья. Начальные главы сюжетно и типологически перекликаются с прологом «Вора». Как и в «Воре», на окраину Москвы, «дно жизни», на трамвае приезжает автор. Но если в «Воре» это писатель-персонаж Фирсов, то в «Пирамиде» это автор по имени Леонид Максимович. Оба пытаются сблизиться с обитателями мест, которые они посещают, с обоими не хотят общаться персонажи, оба обращают свои взоры к небесам, чтобы постичь тайну свершающихся на земле событий. Но начальные главы этих романов имеют и существенные отличия. Пролог «Вора» написан в объективной манере (от третьего лица), а «Пирамида» начинается главами, написанными от первого лица. Причем Леонид Максимович излагает реально постигшее его несчастье – яростную критику его последней пьесы («Метель», 1940), которая может иметь самые страшные последствия для него и его семьи. И 98 место на кладбище не случайно выбрано им для темы романа, который начинает звучать в его сознании. Далее этот Леонид Максимович, хотя и знакомится с некоторыми героями, вовсе не обнаруживает свой собственный взгляд на неожиданные события, он ограничивается лишь внешней точкой зрения, пересказывая факты, доставшиеся ему из чужих рук, постоянно оговариваясь, что он что-то не так понял или чтото забыл, или перепутал. Другую роль играет повествователь, появляющийся в главе IV первой части романа. Повествование ведется в классической манере «от третьего лица», сочетая внутреннюю и внешнюю точки зрения. Этот повествователь дает моральную оценку действиям персонажей: то прямо (к примеру, называя мысли о. Матвея еретическими), то через естественную природную форму поведения персонажей (пожатие рук, объятия, поддерживающий взгляд) и т. д. Он представляет собой тип рассказчика, перешедший в русскую прозу XX века из века XIX. Однако в «Пирамиде» есть еще один рассказчик, который смотрит на все происходящее отстранение, с каких-то надмирных высот. Он обозревает историю человечества с библейских времен до его предполагаемого конца. Повествовательная ткань романа имеет еще одну особенность. Многие абзацы этого монументального произведения начинаются с неопределенно-безличных конструкций: «надо оговориться», «казалось», «похоже», «показательно», «неизвестно», «требовалось подумать», «вовсе не значит», «гипотетически», «уместно напомнить» и т. д. и т. п. С одной стороны, эти фрагменты выражают вроде бы сомнение автора в высказываемых тезисах, а с другой – Леонов стремится включить мысль читателя, чтобы он разобрался в этих запутанных фразах и сам подумал и решил, возможно ли такое наяву или во сне. Идейная сфера романов Леонова также требует серьезного анализа, ибо она достаточно сложна и запутана, и ее воспринимали на уровне советского менталитета. А ведь писатель даже в «застойные времена» позволял себе в той или иной форме выступать против определенных взглядов, внедряемых в сознание советских людей. Если в советском обществе насаждалась идея поступательного движения к светлому будущему, то Леонов обращал внимание на сложности этого пути, трагические провалы, возвращение вспять, топтание на месте. Если утверждалась идея «переделки и покорения природы», то Леонов отстаивал мысль о разумном использовании природных возможностей, говорил об экологической чистоте жизни. Если в общественном сознании занимали приоритетное положение идеи ускорения технического прогресса, то Леонов предупреждал о том, что любая «песчинка», попавшая по неосторожности или незнанию в этот сложнейший механизм, может взорвать и уничтожить цивилизацию. Леонов отстаивал идею культурной и гуманистической цельности человечества, предупреждая о том, что процессы культуры должны находиться в определенной гармонии 99 с процессами цивилизованного развития. Он часто говорил о том, что в жизни есть иерархия, обусловленная биологическим, культурным, нравственным и духовным содержанием личности, развитие и сохранение которой и составляет смысл прогресса. В «Пирамиде» эти идеи подвергаются ироничному рассмотрению, ибо человечество движется, как кажется Леонову, к своему концу, теряя свои материальные достижения от колеса – до сложнейшей атомной установки, духовные богатства, культурные сокровища и нравственные ценности. Автор оставляет человечеству в виде чуда «только пару столетий». Разумеется, этот пессимизм вызван «наваждением» автора, который в своем разностороннем глобальном пространстве уже не может справиться со словом, оно «победило» его, заменив реальность. Художественная картина мира у Леонова, казалось бы, ориентированная на классическую русскую модель, все-таки принадлежит XX в. Новаторство Леонова проявилось в том, что он сумел в эту традиционную систему «втиснуть» по принципу «матрешки» другие культурные версии бытия, принадлежащие прошедшим эпохам – египетской, античной, раннехристианской, ренессансной, символистской и др. Система знаков, определенных культурных блоков в каком-то пространстве текста концентрируется и обретает свою историю патриархальнокрестьянского уклада. Культурная история человечества является в прозе Леонова элементом ироничной театральной игры и вместе с тем средством проверки общей современной культурной ситуации, либо откликающейся на исторический призыв культуры прошлого, либо игнорирующей ее импульсы. Эти культурные блоки также требуют своего осмысления, чтобы представить картину мира у Леонова как символическую форму, опирающуюся не только на образы эмпирической реальности, но и культурно-исторический контекст в его метафорическом и иносказательном значении. ОБРАЗ АВТОРА КАК ОБЪЕКТ МЕТАПОЭТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ В. НАБОКОВА Пиванова Э.В., Ставрополь Метапоэтика – синкретичная область знания, объединяющая науку и искусство, отражающая эстетические и теоретические принципы художественного. Осмысление познавательной сущности языка, художественного творчества и в целом искусства принадлежит такой комплексной лингвоэстетической теории как отечественная ономатопоэтическая парадигма (А.А. Потебня, Д.Н. Овсянико100 Куликовский, А.Г. Горнфельд, П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев), в которой деятельность языка, произведения языка и научное творчество понимаются как продукты единого творчества [20, с. 11–12]. Понимание искусства как познания – один из основных постулатов метапоэтики. Художник слова в той или иной степени приходит к осознанию того, что интенции к познанию бытия и самого процесса творчества заложены в слове как первоэлементе произведения; метапоэтика становится особой формой воплощения творческой индивидуальности писателя. Для метапоэтики важен тот аспект внутренней организации текста, который поддается описанию в категориях лингвистики. С другой стороны, присутствующие в текстах авторские посылки, связанные с индивидуальным пониманием процесса творчества, можно сопоставить с данными психолингвистики, занимающейся, в частности, исследованием особенностей творческого мышления, и герменевтики, разрабатывающей проблемы понимания текстов. Одно из положений герменевтики, способствующее актуализации исследования текста, в том числе и в метапоэтической парадигме, заключается в том, что «художественное пространство выстроено с помощью достаточно сложных текстов, которые, будучи структурно далеки от текстов научного содержания, в познавательном отношении им зачастую не уступают» [5, с. 12]. Мыслительный акт, его структура и динамика, сопровождающие рефлексию над языком в момент порождения (и восприятия) художественного текста, должны занять равноправное положение среди процедур анализа смыслов текста. Самонаблюдение в отношении когнитивных процессов, сопровождающих порождение и восприятие текста, может предоставить информацию о том, каким образом знание языка и знание о языке и художественном тексте структурирует мышление и само структурировано в сознании и мышлении. Присутствующая в скрытой или явной форме в художественном тексте указанная информация становится доступной для метапоэтического исследования. Наша исследовательская стратегия связана с установкой на скрытые и явные метапосылки автора, структурированные в тексте как интроспективное наблюдение либо рефлексия. В философии рефлексия (лат. reflexio –отражение) – принцип мышления, направленный на осмысление и обоснование собственных предпосылок, требующий обращения сознания на себя [15]. В психолингвистике рефлексия определяется как акт осознания, отражение ситуации на дополнительном, внутреннем экране, это «размышление, полное сомнений, противоречий; анализ собственного психического состояния» [18, с. 10]. В рефлексии осуществляется диалогическое оперирование собственными образами в режимах анализа и синтеза, что приводит к созданию нового смысла, контрастирующего с исходным [4, с. 282]. Рефлексия совершается в размышлении, то есть требует не простой фиксации фактов (в частности, о собственном творчестве, языке, слове), но соответствует 101 высшим ступеням познания. В нашем понимании, рефлексия над собственным творчеством отображена в сепаративном (эксплицированном) метапоэтическом тексте, тогда как иннективные (имплицитные) компоненты, содержащие элементы метаязыка поэтики, лингвистики, опосредованны представляющими данными о творчестве, рассредоточенные в пространстве текста и не структурированные как отдельное размышление, рассуждение с целью самопознания в творчестве, воспринимаемые как целое только при вертикальном прочтении текста. Их следует рассматривать как текстовую реализацию не рефлексии, а интроспекции автора. Интроспекция (лат. introspectare – смотреть внутрь) – психологическое самонаблюдение [14]; Р. Декарт ввел принцип интроспекции в научную парадигму как самоотражение сознания в себе самом [15]. Интроспекция рассматривается как метод, в котором собственная психика для нас самих выступает как данность; интроспекция есть фиксация собственной способности к возникновению языковых ассоциаций, зрительных, звуковых образов в ответ на какоелибо слово [18, с. 22]. После того, как получены некоторые данные методом интроспекции, настает этап размышлений, рассуждений. В метапоэтической парадигме интроспекция – это фиксация языковых явлений, происходящая в момент порождения текста, выраженная в иннективном метапоэтическом тексте, соответствует низшим ступеням познания – фиксации, систематизации и идентификации, в гносеологическом плане она предшествует рефлексии. Язык, по мысли В. Набокова, содержит в себе такое культурное знание, которое не всегда осознается, но обязательно, хотя и в неявном, имплицитном виде, переносится в речь (обыденную и художественную), передается независимо от воли говорящего (пишущего); с другой стороны, выбор языковых средств осуществляется автором в силу имманентных его мышлению и творческому видению внутренних установок. В «Лекциях по русской литературе» сам В. Набоков подчеркивает, что любая речевая деятельность неизбежно осложняется элементами личностной характеристики субъекта речи: «... в самом худом положении, в какое может попасть писатель, утратив способность измышлять факты и веря, что они могут существовать сами по себе. Беда в том, что голых фактов в природе не существует... <...> Простая колонка чисел раскроет личность того, кто их складывал, так же точно, как податливый шифр выдал местонахождение клада Эдгару По. Самая примитивная curriculum vitae кукарекает и хлопает крыльями так, как это свойственно только ее подписавшему. Сомневаюсь, чтобы можно было назвать свой номер телефона, не сообщив при этом о себе самом» [12, c. 109]. Особенности языковой личности всегда присутствуют в речевой деятельности, передаются независимо от воли говорящего (пишущего) и могут быть обнаружены, рационально представлены в ходе исследования; «шифр», заключающий в себе характерные особен102 ности языковой личности, В. Набоков определяет как «податливый» [12, с. 108] доступный пониманию и интерпретации. Анализ метапоэтических данных, эксплицированных из текстов В. Набокова, проводится с учетом субъекта речи (автора или героя). Необходимо оговорить особенности образов автора и героя, важные для оценки их речевых характеристик и степени достоверности представленной от их лица метапоэтической информации. Исследователи романов В. Набокова (В.В. Ерофеев, М. Липовецкий) приходят к выводу о том, что целостность набоковского метаромана, помимо других оснований к объединению, обеспечивается близостью образов автора и героя. По отношению к прозаическим художественным текстам (преимущественно, романам) В. Набокова многими исследователями употребляются термины «метароман», «надроман», «метапроза», Ю.Д. Апресян говорит о «метакниге» В. Набокова [3, с. 665]. В статье В.Ф. Ходасевича «О Сирине» было положено начало определению стиля набоковской прозы как избыточного: «Сирин не только не маскирует, не прячет своих приемов... но напротив: Сирин сам их выставляет наружу, как фокусник, который, поразив зрителя, тут же показывает лабораторию своих чудес» [19, с. 197]. Н. Анастасьев поддерживает эту традицию, утверждая, что в прозе В. Набокова «стиль слишком резко обнаруживает себя, Набоков не просто изображает, но и он еще и рассуждает по поводу способов изображения. Перед нами одновременно и результат, и процесс, мы пребываем разом в музее и мастерской художника» [1, с. 133]. М.Я. Дымарский считает, что объединяющими характеристиками для набоковских текстов являются энтропия пространственновременной неопределенности, многократное умножение субъекта, разрушение элементарных логических связей, перевернутый субъектнообъектный дейксис, превращение метатекста в эпитекст [8, с. 39]. М. Липовецкий обозначает жанровую специфику произведений В. Набокова как метапрозу на основании актуализированной тематизации процесса творчества, высокой степени репрезентативности вненаходимого автора-творца, обнажения приема и процесса конструирования повествования [10, с. 78–83]. В ходе исследования метапоэтики В. Набокова важно подчеркнуть, что при многообразии подходов и аспектов, в которых романы объединяются исследователями в единый метароман, интегрирующей идеей остается утверждение о превалировании темы творчества, искусства, воображения в художественных текстах В. Набокова, что можно отнести не только к романам, но и к текстам рассказов В. Набокова. При безусловном первенстве романов рассказы занимают в творчестве В. Набокова весьма важное место. Как отмечали многие исследователи набоковского творчества, рассказы являются своего рода «спутниками» либо «прообразами» его романов, в них зачастую «набросаны подгото103 вительные этюды к позднейшим замыслам автора» [2, с. 226]. В интервью В. Набоков говорит, что «...многие широко распространенные виды бабочек за пределами лесной зоны производят мелкие, но не обязательно хилые разновидности. По отношению к типичному роману рассказ представляет собой такую мелкую альпийскую или арктическую форму. У нее иной внешний вид, но она принадлежит к тому же виду, что и роман» [13, с. 494]. Целостность структуры набоковского метаромана – в данном случае речь идет о русской его части – наводит исследователя на мысль о том, что «изучение всей художественной системы позволяет создать точное представление о каждом романе в отдельности; в примере с Набоковым это только очевиднее, чем с другими» [9, с. 23]. Все множество метапоэтических посылок, в которых выражается интроспективное наблюдение либо рефлексия над языковыми, речевыми явлениями, процессом художественного творчества, равномерно распределено в текстовой ткани романов и рассказов, что обусловило расположение романов и рассказов на одном уровне в иерархии текстов, привлеченных для метапоэтического исследования. Ввод автора-творца в художественный текст позволяет сфокусировать внимание читателя на самом процессе текстопорождения, подчеркивает статус мыслимого мира произведения как представляющего собой продукт творческой воли субъекта. В. Набоков «постепенно создает особую систему взаимоотношений “автор – герой – читатель”, которая содержит возможность открытого обращения автора к читателю» [6, с. 12]. Метароманное повествование В. Набокова характеризуется постоянным присутствием в тексте субъекта речи, рефлексирующего над процессом текстопорождения; таким субъектом в набоковском тексте может быть и автор, и герой. Интерес В. Набокова к вариантам проявления авторской позиции в тексте обнаруживается в «Лекциях по русской литературе»: «Хотя Толстой постоянно присутствует в книге, постоянно вторгается в жизнь персонажей и обращается к читателю, в тех знаменитых главах, которые считаются его шедеврами, он невидим – чего так истово требовал от писателя Флобер, говоря, что идеальный автор должен быть незаметным в книге и в то же время вездесущим, как Творец во Вселенной» [12, с. 226]. В. Набоков не стремится к строгому разграничению понятий о фактическом авторе и авторе-повествователе как субъекте речи в тексте, считает, что фактический автор напрямую может транслировать собственную позицию в художественный текст. Подчеркивая постоянство присутствия личности автора в тексте, В. Набоков строит описание типологии образа автора в романе Ч. Диккенса: «Но даже в произведениях, где автор идеально ненавязчив, он тем не менее развеян по всей книге и его отсутствие оборачивается лучезарным присутствием... В “Холодном доме” мы имеем дело с одним из тех авторов, которые... наведываются в свои книги под различными 104 масками или посылают туда множество посредников, представителей, приспешников, соглядатаев или подставных лиц» [11, с. 145]. В. Набоков выделяет три типа таких представителей: «сам рассказчик, если он ведет повествование от первого лица (автор, герой, вымышленный автор)»; «фильтрующий посредник», который «процеживает все происходящее в книге через собственные эмоции и представления» и «так называемый “перри”... я сам изобрел этот термин много лет назад. Он обозначает авторского приспешника низшего порядка..., чья единственная цель в том, что он посещает места, которые автор хочет показать читателю, и встречается с теми, с кем автор хочет познакомить читателя» [11, с. 146]. В индивидуальной трактовке субъектов повествования (вплоть до изобретения термина) герой определяется как «представитель» фактического автора. В этой связи интересно отметить, что, по мнению А. Долинина, «героя “Соглядатая”, больше всего ценящего в себе свою фантазию и литературный дар, ведет свое начало ряд набоковских все менее и менее надежных рассказчиков (unreliable narrators) – фантазеров, лжецов, обманщиков, безумцев, слову которых нельзя полностью доверять, ибо они стремятся утаить или исказить правду, смешать воображаемое и действительное, чтобы навязать читателю собственную версию происходящего» [7, с. 9]. Набоковские рассказчики, особенно в художественных текстах, наиболее тесно связанных с темой творчества («Адмиралтейская игла», «Отчаяние», «Пассажир», «Тяжелый дым», «Уста к устам»), будучи «ненадежными» с точки зрения сюжетных событий, наделены, тем не менее, силой воображения и в той или иной степени литературным даром. По мнению И. Толстого, «все сиринские герои – подлинные, высокие художники... Полубезумный Лужин, недовоплощенный Мартын Эдельвейс, мечтатель Пильграм, не пишущие, но художественно мыслящие Лик, Синеусов, Цинциннат, герои-повествователи “Посещения музея”, “Весны в Фиальте”, “Истребления тиранов”, “Круга”... В по-своему религиозном мире Набокова все эти малые творцы соответствуют Творцу большого мира человеческого. Соответствуют, не дополняя, а целиком подменяя его и не испытывая недостатка в своей творящей силе» [16, с. 8]. В текстах русскоязычных романов и рассказов В. Набокова метапоэтические компоненты имплицитно присутствуют в речи автора и творчески мыслящих героев, которые как «посредники», «представители автора», в терминах В. Набокова (подчеркнем, что В. Набоков имеет в виду фактического автора), транслируют его позицию по отношению к языку и творчеству. При исследовании всего множества метапоэтических компонентов художественной прозы В. Набокова можно говорить о языковой личности, единой в своих проявлениях. Метапоэтические посылки, эксплицированные из текстов романов и рассказов В. Набокова, не противоречат метапоэтическим данным, присутствующим в 105 текстах других типов (лекциях, рецензиях, интервью), в совокупности они складываются в единый текст В. Набокова о творчестве. В ходе изучения метапоэтики систематизация обнаруженных фактов, посылок о творчестве, присутствующих в текстах имплицитно, осуществляется с учетом принципов и подходов, заявленных автором на этапе его собственной рефлексии в сепаративных метапоэтических комментариях. Все множество иннективных метапосылок и сепаративных метапоэтических высказываний, присутствующих в стихотворных и прозаических текстах (романах, рассказах, рецензиях, лекциях), в текстах интервью и писем В. Набокова, можно определить как метапоэтический текст В. Набокова, состоящий из системы знаков, организованных в вертикали основного текста, имеющих дискретный характер, представленных множеством голосов (субъектов речи), объединяющим моментом для которых служит автометадескриптивная функция (самоописание языка, принципов творчества), в чем выражается идея искусства как познания. Несмотря на полифонию набоковских текстов, принадлежность их к разным жанрам, метапоэтическое исследование стремится к выявлению системы основных посылок о творчестве, представлению их в качестве интегрального текста, принадлежащего русскоязычной части творчества В. Набокова, ядром которой признаны тексты романов и рассказов. Русскоязычные стихотворения, тексты рецензий, эссе, предисловий, лекций, интервью, занимающие маргинальное положение по отношению к художественной прозе, содержат элементы сепаративного метапоэтического текста и имплицитные метапосылки, также привлекаемые к исследованию. Таким образом, описание системы метапоэтических взглядов В. Набокова на сущность языка, творчества и его отдельных категорий осуществляется, во-первых, с учетом способа представления (имплицитного или эксплицитного) метапоэтических компонентов в текстах, то есть отображения процессов интроспекции или рефлексии В. Набокова. Во-вторых, обращается внимание на субъект речи («авторское слово», «чужое слово»), от лица которого сообщаются метапоэтические посылки, что принято в теории анализа художественного текста [17, с. 60]. С учетом указанных факторов определяется иерархия текстов, репрезентирующих метапоэтику В. Набокова русского периода. 1. Русскоязычные стихотворные тексты. Субъектом речи в них является лирический герой, способ представления метапоэтических данных преимущественно имплицитный. В стихотворных текстах, создававшихся В. Набоковым в начальном периоде творчества, выражается «предзнание» о собственной поэтике, формируются метапоэтические представления, которые затем будут транслироваться в прозаические тексты. 2. Русскоязычные романы и рассказы. Субъекты речи – автор и 106 герой, метапоэтические данные также преимущественно имплицитно встраиваются в основной текст, носят фрагментарный характер замечаний о слове, речи, языке, литературных приемах, а также о гармонии в сферах обыденного и художественного. 3. Рецензии на прозаические и стихотворные тексты современников. Субъектом метапоэтической рефлексии здесь является фактический автор – В. Набоков. Рецензии являются сепаративными метапоэтическими текстами, в которых критические замечания касаются лингвистических особенностей рецензируемых текстов, оценивается новизна и эстетические характеристики художественных средств, мелодичность, гармония, ясность изложения, проводятся параллели с классическими текстами. 4. Тексты «Лекций по русской литературе», «Лекций по зарубежной литературе» также можно отнести к сепаративным метапоэтическим текстам, в которых объективно присутствует рефлексия В. Набокова. Содержащиеся в лекциях метапоэтические комментарии в аккумулированном виде репрезентируют систему представлений В. Набокова о творческом процессе. По стилю изложения лекции не относятся к строго научным текстам, не стремятся подключиться к конкретной литературоведческой парадигме, но отображают индивидуальную набоковскую трактовку принципов мастерства. В. Набоков субъективен даже в отношении выбора текстов для анализа в ходе занятий со студентами, пренебрегая стандартами программы: «Во мне слишком мало от академического профессора, чтобы преподавать то, что мне не нравится» [12, с. 176]. Важно отметить, что основания и принципы научного описания художественных текстов В. Набоков находит в самих текстах, система «понятий» и адекватный «метод» анализа, по мнению В. Набокова, входят в структуру художественного текста. Так, лекцию, посвященную текстам Л.Н. Толстого, В. Набоков строит, «опираясь на понятия автора, то есть на толстовский художественный метод» [12, с. 256]. 5. Интервью и фрагменты писем В. Набокова, содержащие эксплицированные и имплицитные метапоэтические данные, привлекаются для подтверждения данных, полученных в ходе анализа текстов других типов. Таким образом, метапоэтические данные о субъекте повествования, выраженные в тексте как отображение процессов рефлексии и интроспекции автора, обладают структурирующим потенциалом в отношении целостного метапоэтического текста В. Набокова. _______________ 1. Анастасьев Н. Владимир Набоков. Одинокий король. – М.: ЗАО Издво Центрполиграф, 2002. 2. Андреев Н. Сирин // В.В. Набоков: Pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и 107 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. исследователей. Антология. – СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1997. Апресян Ю.Д. Роман «Дар» в космосе Владимира Набокова // Ю.Д. Апресян. Избранные труды: В 2 т. – Т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. Борботько В.Г. Принципы формирования дискурса: От психолингвистики к лингвосинергетике. – М.: КомКнига, 2007. Брудный А.А. Психологическая герменевтика. Учебное пособие. – М.: Издательство «Лабиринт», 1998. Дмитриенко. Автор – герой – читатель в рассказах Набокова // В. Набоков. Посещение музея: Рассказы. – СПб.: Азбука-классика, 2004. Долинин А. Истинная жизнь писателя Сирина: от «Соглядатая» к «Отчаянию» // Набоков В.В. Русский период. Собр. соч.: В 5 т. Т. 3. – СПб.: Симпозиум, 2000. Дымарский М.Я. Дейктический модус текста и дейктический паритет в классической и модернистской моделях нарратива («Машенька» как предтеча набоковского модернизма) // «Техtus»: Избранное. 1994– 2004: Сборник статей научно-методического семинара «Техtus». – Вып. 11. Ч. 1 / Под ред. д-ра филол. наук, проф. К.Э. Штайн. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2005. Ерофеев В.В. Русская проза В. Набокова // Набоков В.В. Собр. соч.: В 4 т.: Т. 1. – М.: Правда, 1990. Липовецкий М. Эпилог русского модернизма (художественная философия творчества в «Даре» Набокова) // Вопросы литературы. – 1994. – Вып. 3. Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе / Пер. с англ. Под редакцией Харитонова В.А. – М.: Независимая Газета, 2000. Набоков В.В. Лекции по русской литературе. – М.: Независимая газета, 1999. Набоков В.В. Рассказы. Приглашение на казнь. Роман. Эссе. Интервью. Рецензии. – М.: Книга, 1989. Новый психологический словарь. – М., 1999. Новый философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. – Мн.: Изд-во. В.М. Скакун, 1998. Толстой И. Несколько слов о «главном герое» Набокова // В. Набоков Лекции по русской литературе. – М.: Независимая газета, 1999. Успенский Б.А. Поэтика композиции: Структура художественного текста и типология композиционной формы. – М.: Изд-во МГУ, 1995. Фрумкина Р.М. Психолингвистика: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. Ходасевич В. О Сирине // Октябрь. – 1989. – № 1. Штайн К.Э. Повседневное – художественное мышление: отечественная ономатопоэтическая парадигма // Этика и социология текста: Сборник статей научно-методического семинара «TEXTUS». – Вып. 10. – Санкт-Петербург – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2004. ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 108 В.В. НАБОКОВА В ПОЭТИКЕ АВТОРИЗОВАННОГО ПЕРЕВОДА («Лолита») Дегтярева А.А., Волгодонск В.В. Набоков в авторизованном переводе романа «Лолита» при оформлении синонимичных темпоральных конструкций учитывает наличие фонового, прагматического уровня информации обоих языков. Специфическая цель конкретного акта перевода заключается в стремлении оказать воздействие как на англо- так и русскоязычного читателя, непосредственно связанное с содержанием, прагматическим потенциалом оригинала и подлинника. Поскольку перевод предназначен для иного реципиента, нежели оригинал, возникает необходимость прагматической адаптации перевода, т. е. внесения определённых поправок на социально-культурные, психологические и иные различия между реципиентами оригинального и переводного текстов в соответствии с их языковыми картинами мира. При этом адекватность перевода напрямую зависит от сохранения прагматики оригинала. В целом, схема отношений между адекватностью и эквивалентностью оригинала и перевода романа может выглядеть следующим образом: Сходство Прагматичккий Синонимичные с оригиналом аспект темпоральные романа детерминанты Таблица Понятия адекватности и эквивалентности, как это видно из таблицы, предстают синонимами, когда речь идет о прагматическом аспекте, эффекте производимом на адресата. Создавая художественную реальность в романе «Лолита», В.В. Набоков порождает внутри него определенное художественное время. Собственно, создаётся несколько форм времён. Автор-переводчик в этом случае выступает как активный интерпретатор темпорального содержания текста английского языка, так как он создаёт новый текст на русском языке не просто путём подбора синонима, грамматико-семантической замены, а посредством прагматической реконструкции текста на исходном языке и его прагматической адаптации к русскоязычной картине мира. В романе языковыми средствами писатель выражает, интерпретирует своё понимание времени (что существенно зависит от авторской позиции в решении проблемы существования, бытия). Читательское восприятие романа становится одним из способов интерпретации его многозначности. Другими словами, интерпретация художественного произведения со стороны читателя представляет собой процесс во времени. В связи с этим В.В. Набоков в процессе перевода своего рома109 на «Лолита» на русский язык обращает особое внимание на способы привнесения в объективное время субъективного момента, что и становится плацдармом авторского воздействия на русскоязычного читателя. Прагматика темпоральных конструкций основывается на дихотомии «писатель-читатель», причем писатель пользуется информацией о системе знаний читателя, чтобы вызвать у него определенную реакцию при порождении текста с опорой на темпоральные конструкции, которые можно рассматривать как «психоглоссы» (Караулов) художественного произведения. В двуязычной языковой картине мира В.В. Набокова темпоральные конструкции предстают определенным семиотическим объектом, т. е. знаком, функционирующим в семиотической системе в соответствии с законами английского и русского семиозиса. В оригинале и авторском переводе романа «Лолита» между семиотически значимыми темпоральными планами повествования, создаваемыми соответствующими конструкциями, образуется как унисонное единство, так и значимый семантический «зазор». Единство и несовпадение планов художественного времени в оригинале и переводе романа определяется как картиной мира самого писателя, так и семиотическими системами времени английского и русского языков, которыми руководствовался В.В. Набоков при написании (на английском языке) и переводе (на русский язык) романа «Лолита». В.В. Набоков знал в совершенстве оба языка – язык оригинала и язык перевода романа «Лолита». Причём не только знал, но и умел переходить от одного языка к другому, т. е., выражаясь языком теории информации, знал правила «кодовых переходов», а также понимал ту реальную ситуацию, ту внеязыковую действительность, которая в данном тексте описывается. Из всего многообразия проблем, связанных с анализом отношений между оригиналом романа «Лолита» и его авторским переводом на русский язык, в данной статье нас интересует, прежде всего, выявление зависимости передачи прагматики художественного текста от выбора синонимичных для обоих языков темпоральных конструкций. Прагматика текста романа образуется сочетанием прагматических значений, свойственных темпоральным конструкциям, входящим в состав данного текста. Вместе с тем, прагматика художественного текста зависит также и от того, как сочетаются между собой прагматические значения разных темпоральных конструкций данного текста, как они соотносятся с контекстом, с авторской пресуппозицией в оригинале и авторском переводе. Мы считаем возможным выделить следующие постулаты для определения прагматических аспектов авторизованного перевода темпоральных конструкций в набоковском художественном тексте: – существование пропозиции как акта говорения; – обнаружение категорий «писатель» и «читатель» в художе110 ственном тексте; – тождественность между речевым актом и художественным текстом; – намеренность, целеустремленность синонимизации темпоральных конструкций; – сознательное/подсознательное изменение референта (темпоральных конструкций) автором-переводчиком; – адекватность перевода темпоральных конструкций зависит от передачи прагматического аспекта. Прагматическое действие данных постулатов позволяют нам в сравнительном плане проследить специфику языковых средств отражения личностной организа­ции времени жизни и деятельности главного героя романа как в оригинале, так и в авторском переводе, т. е. той временно-пространст­венной композиции, в которой строятся ценностные отношения личности Г. Гумберта с миром на протяжении времени жизненного пути. С учетом выделенных нами постулатов для определения прагматических аспектов перевода темпоральных конструкций синонимичными средствами мы выявляем три уровня исследования. Первый уровень исследования – это анализ темпоральных конструкций в их прямом номинативном значении. Однако в языке В.В. Набокова выражение семантического уровня может служить выражением для нового коннотативного, «образного» содержания. Это новое содержание является предметом исследования на втором уровне, где изучается функционирование темпоральных конструкций в художественном контексте, т. е. учитываются дополнительные оттенки значений или «коннотации», приобретаемые ими в контексте. Чтобы проникнуть в подлинный смысл романа «Лолита», необходимо понять намерение автора, для осуществления которого использовались те или иные семантические приёмы, и, следовательно, необходим анализ текстов на третьем уровне. Для этого следует изучить индивидуальный стиль автора, его мировоззрение. Лингвостилистический анализ должен применяться на всех трёх уровнях при работе над осмыслением и переводом текстового материала. Текст только тогда будет воздействовать на получателя, когда он будет понят. В результате, как представляется, нам удастся объяснить своеобраз­ие темпов художественного времени в переводе, считающихся в метатексте романа (оригинале) субъективными, но на самом деле имеющих онтологический статус процессуально-динамических характеристик жизнедеятельности Г. Гумберта. С учетом языковых картин мира английского и русского языков в оригинале и авторском переводе романа синонимичные темпоральные конструкции не всегда одинаково представляют то, что объективно существует длительно и последовательно, и, наоборот, психическое переживание, растягиваемое во времени, придающее дли­тельность 111 тому, что объективно одномоментно. Иными словами, объективное художественное время воспроизводится синонимичными темпоральными конструкциями в переводе не всегда за счет симметричных средств отражения времени и темпов психических процессов сознания героя в подлиннике романа. Выявление прагматической авторской информации, заложенной в данной асимметрии, как и в симметрии темпоральных детерминантов в оригинале и подлиннике, и составит предмет нашего дальнейшего рассмотрения. Сравнивая друг с другом структуру и семантику синонимичных темпоральных конструкций в подлиннике и переводе, нельзя оставлять в стороне проблематику ассоциативного плана обоих текстов. Следует также учитывать внеязыковой контекст, влияющий на конкретные целенаправленные решения авторапереводчика о предпочтении тех или иных языковых средств. Мы должны оценить не эквивалентность исследуемого нами пласта перевода, а избранную автором-переводчиком стратегию в отражении темпорального плана романа. Эту стратегию мы может считать гипотетической с точки зрения воссоздания временного плана текста, но используемые автором-переводчиком методы и приемы (конкретные переводческие решения при оформлении синонимичных темпоральных конструкций) следует оценивать в аспекте их соответствия переводческой стратегии, поскольку прагматика перевода не всегда соотносится с временной семантикой исходного текста. В перспективе интересным, на наш взгляд, представляется сопоставительное изучение вопроса об употреблении соотносительных синонимичных темпоральных конструкций в разных языках, в частности, в русском и английском. В нашем исследовании мы не ставим для себя задачи пока­зать вхождение этих единиц в синонимические ряды. На примере романа В.Набокова, написанного в русском и английском вариантах, попытаемся провести сопоставительную характеристику темпоральных конструкций в русском и английс­ком языках. В нашем исследовании наиболее часто встречаются временные конструкции, обозначающие действие, одновременное с действием остальной части предложения (50%) Например: В тридцать лет он женился на англичанке... Английский вариант у В.Набокова: At thirty he married an English girl... (предложная конструкция, вводимая предлогом at). Осенью мы с тобой едем в Англию. Английский вариант у В.Набокова: In the fall we are going to England, (предложная конструкция); Сидя у бара, она внимательно следила за тем, как вялая, бледная девушка симфонщица накладывала лед в высокий бокал... Английский вариант у В.Набокова: She watched the listless pale fountain girl put in the ice, pour in the coke... (отсутствует темпоральная конструкция). Достаточно распространенными являются также конструкции, обозначающие событие, предшеству­ющее событию в главной части (30%). Например: Насколько помню, прошла ровно неделя со време112 ни нашего последнего купания ... Английский вариант у В.Набокова: I think it was exactly a week after our last swim... (предложная конструкция, вводимая предлогом after); Затем я оделся и распорядился, коридорный пришел за багажом. Английский вариант у В.Набокова: Then I finished dressing and had the hoary bellboy come up for the bags. (наречие времени); Войдя в коттедж, она села на стул у раскладного стола... Английский вариант у В.Набокова: Upon entering the cabin, she sat down on a chair at a card table... (герундиальный оборот, вводимый предлогом upon). Наименее частотны детерминанты, обозначающие событие, следующее за событием главной части предложения (20%). Например: Перед вашим прибытием (перед тем как вы прибыли) был сделан полный (подчеркнуто) инвентарь. Английский вариант у В.Набокова: All equipment was carefully checked upon your arrival. (предложная конструкция с предлогом upon). При сопоставлении темпоральных конструкций, используемых в русском и английском языках, мы видим, что автор прибегает в одном случае, к одинаковым конструкциям. Например: Перед моим приездом, моя хозяйка предполагала позвать старую деву, по имени Фален...Английский вариант у В.Набокова: Before my actual arrival, my landlady had planned to have an old spinster, a Miss Phalen... (предложная конструкция, с предлогом before). В другом случае, автор прибегает к разному использованию темпоральных конструкций, а иногда, вообще не применяет их. Так, например: Отъезжая, я слышал, как она раскатистым воплем звала своего Дика. Английский вариант у В.Набокова: As I drove away, I heard shout in a vibrant voice to her Dick. (СПП с придаточным временем, вводимое союзом as); Сидя у себя за столом, я наносил на мысленную картумаршрут черезвесь дом. Английский вариант у В.Набокова: From my chair, I mentally mapped out... (предложная конструкция с предлогом from); После долгого спора мы выработали компромисс... Английский вариант у В.Набокова: We wrangled out a compromise... (отсутствие темпоральной конструкции). Исследование механизма коммуникативно-прагматической интенции Набокова-переводчика, выявило три потенциальных варианта его действий: он может остаться на позициях реципиента исходного (английского) языка, а также делает попытку переноса элементов темпоральной ситуации исходного языка в язык перевода или полностью воссоздает темпоральную ситуацию исходного языка в языке перевода. Основным моментом в работе Набокова-переводчика, как представляется, был процесс подыскания соответствующей формы коммуникативно-прагматической номинации для русских реалий (соответствующего синонима), обусловленный взаимодействием текстовой и экстралингвистической информации, которые имеют не типо113 вые, а индивидуальные формы в исходном языке и языке перевода. Стержнем этой работы стал процесс интерпретации и истолкования темпорального содержания текста на исходном языке с установкой на определённого получателя. О ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА Бушуева Л.П., Ставрополь С первого появления в печати повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (1962), стало бесспорным, что в литературе заявила о себе яркая, самобытная творческая индивидуальность. Казалось невозможным, чтобы повествование о «модели поведения человека в лагерном мире» [10, с. 130] появилось на страницах такого авторитетного государственного издания как журнал «Новый мир». Между тем, исследователи отмечают, что за рубежом этот жанр существовал довольно давно. Уже с 30-х годов на Западе появляются откровения мемуаристов, таких как Ю. Безсонов, В. Чернявин, И. Солоневич, с детальным описанием лагерного режима Соловков, Медвежегорска, Свирлага. В 1946 году появилась книга В. Кравченко «Я выбираю свободу». О восприятии лагерной реальности писал Ю. Марголин в книге «Путешествие в страну з/к». Уникальными являются воспоминания Маргарет Бубер-Нойман, испытавшую на себе ужасы как сталинских, так и гитлеровских лагерей. В начале 1950-х появляются воспоминания очевидцев, принадлежащих «второй волне эмиграции». Это В. Петров, Н. Приходько, Иванов-Разумник, С. Максимов. В Советском Союзе А. И. Солженицыну удалось стать первым автором, «приоткрывшим в литературе завесу, за которой томились и гибли миллионы честных людей десятки лет» [11, с. 31]. Но огромную популярность Солженицына, интерес мировой общественности к его имени нельзя объяснить только этим фактом. Дебютная повесть и последующие за ним произведения, такие как пьеса «Олень и шалашовка», рассказ «Случай на станции Кречетовка», «Матренин двор», доказывали несомненную цель автора: поднять целый пласт русской истории, не предававшейся гласности. В связи с этим можно сказать, что он не ограничился повествованием о своей судьбе или данными очевидцев. В его творчестве потребность свидетельства – не самое главное. Желание представить пережитой личный опыт на суд истории, психологические переживания личности, оказавшейся на изломе судьбы, решаются попутно с более глобальными задачами. Жанр исторического романа не смог бы вместить в себя столь разные художе114 ственные средства, которые применял Солженицын. Им создана новая сложная литературная форма, в которую вошли автобиографические воспоминания, историческая хроника, публицистичность рассуждений, авторская точка зрения на происходящие события, т. е. средства, позволяющие создать и художественное произведение, и исследование одновременно. Монументальные произведения Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», эпопея «Красное колесо» дали основания для вывода, что «русские люди наступившего века будут изучать национальную историю по его произведениям» [1, с. 242]. Со времен историка Карамзина, Солженицын беспристрастен и честен, отражая целые периоды истории XX века, что дает основание назвать его летописцем современной эпохи. Некоторыми исследователями творчества Солженицына отмечается, что он по типу мышления близок средневековому летописцу Аввакуму. Потрясающая энергетика художественного слова воспринимается как пророчество. Солженицын отличается особой тщательностью в работе с архивными данными. Он «скурпулезно документален» [1, с. 242]. Его произведения – «неотразимый человеческий документ, написанный с полной достоверностью» [4, с. 75]. Это подтверждалось многими именитыми современниками: В. Некрасовым, А. Дементьевым, А. Кондратовичем, В. Лакшиным, А. Твардовским. Правда, отображенная в его произведениях, торжество разума над эмоциями дает право сказать, что Солженицына –художника отличает «высокий уровень культуры философско-исторического мышления» [3, с. 144]. Для того чтобы опубликовать свои произведения, в которых было явное расхождение с официальной точкой зрения, нужно было обладать огромной несгибаемой силой воли и уверенностью в своей правоте. Ж. Нива справедливо заметил, что Солженицын – человек прямой линии, органически неспособный на любой компромисс, и сравнивает его с библейским персонажем Китоврасом. (Китоврас разрушал те дома в Иерусалиме, которые встречались на его пути, но пощадил дом вдовы, попросившей его об этом. Обходя его, стремясь уклониться от прямой линии, сломал себе ребро. Однако промолвил: «мягкое слово кость ломит, а жестокое гнев вздвизает»). Принципиальность и бескомпромиссность писателя рождали непримиримые противоречия в отношениях с людьми, воспринимались как эгоизм, а зачастую и душевная черствость. Но автобиографические записки «Угодило зернышко промеж двух жерновов» полностью опровергают предвзятый взгляд. Солженицын предстает перед нами порой растерянным, глубоко переживающим разрыв с Родиной, разлуку с родными человеком, интересным собеседником, не лишенным чувства юмора наблюдательным путешественником. Но судьба автора и его произведений необыкновенно сложна. Большинство из уже ставших классикой книг впервые было опубликовано на Западе, а на Родине ходили самиздатовские копии. В них цензура находила лишь политическую сатиру. 115 Философская глубина его произведений, неразрывность этического императива и эстетического начала, новаторские художественные средства, отвергались заодно со справедливой критикой, объявленной как клевета. Но многие понимали, что его произведения «это выражение самой жизни: и злобность, и духовное величие. Солженицын не рассматривает действительность сквозь призму своих чувств и политической позиции, а стремится как можно более точно передать то, что есть...» [6, с. 143]. Сейчас политические пристрастия Н. В. Гоголя или Л. Н. Толстого интересны только специалистам, исследователям творчества, но воздействие их творчества на литературу и на читателей огромно. Тоже можно сказать и в отношении Солженицына. Рассматривать его творчество как разоблачение тоталитарного общественного строя было бы слишком узко. Главным преимуществом его произведений является постановка и решение нравственных задач человека. При этом Солженицын «мастер переломных, значительных положений» [4, с. 75]. М. Голубков заметил, что Солженицын запечатлел «русский характер в процессе деформаций» [1, с. 245]. Он показывает человека перед лицом порой неразрешимых противоречий. Например, Эктов, из рассказа «Эго», должен пожертвовать жизнью близких или предать своих бывших товарищей, а Нержин, из романа «В круге первом», делает выбор между моральным освобождением и возможной гибелью. Как многообразна жизнь в своем проявлении, так и бесчисленны способы поведения человека в безвыходных ситуациях. Поэтому выводы о необходимости преодоления соблазна пагубного компромисса, пожалуй, не могут являться главными направлениями, заявленными в творчестве писателя. Можно ли говорить, что маршал Жуков был бы более высоким нравственно в наших глазах, если не упомянул в своих мемуарах Брежнева? Или если бы Эктов отдал бы на растерзание своих детей в угоду спасения антоновского штаба? Особенность произведений Солженицына скорее состоит в том, что дает почувствовать, что человек – не Бог. Особенно наглядным это становится при создании образов вождей, высокопоставленных чиновников, царей... Самое страшное – искать оправдания своих оплошностей, тем самым усыпляя совесть. И самое трудное – это признавать свои ошибки и раскаиваться, усмиряя свою гордыню. Возможно, что страдание, которым переполнены произведения Солженицына, «это и есть жизнь. Без страдания все обратилось бы в один бесконечный молебен: оно свято, но скучновато» [2, с. 359]. Целая галерея персонажей Солженицына может служить продолжением мысли Достоевского из «Братьев Карамазовых»: «Совесть! Что совесть? я сам ее делаю. По привычке мучаюсь, так отвыкнем и будем боги» [2, с. 371]. Произведения Солженицына призывают к борьбе с равнодушием, ответственности человека перед Богом и обществом, к стремлению внутреннего развития, чтобы «покинуть жизнь существом более высоким, чем начинал ее» 116 [8, с. 327]. Солженицын концентрирует в своем творчестве самосовершенствование, характерное для Толстого и отчасти религиозность Достоевского. Но Бог Солженицына – это отражение внутренней сути, «нашей собственной еще недостигнутой высоты, бесконечно высокий образ, по которому мы созданы» [5]. Еще в романе «В круге первом», он устами своего прототипа Нержина задает вопрос: «Если я в целом (веру) принять не могу? что мне выдвинуть? чем загородиться?» [7, с. 188]. Ведь его всеми признанная бескомпромиссность в отдельных вопросах не согласуется с христианским смирением и терпимостью. В то же время он с неподдельной горечью пишет о разрушении храмов, церквей в рассказах «Путешествуя вдоль Оки», в романе «В круге первом»... Полна благоговения, схожа с псалмом его «Молитва». Как бы продолжает мысли о том, что с разрушением веры и отрицанием Бога сбылось еще одно предвидение Достоевского о падении прежнего мировоззрения и прежней нравственности, и наступлении всего нового. Его страшит наступившее новое (очерк «Пасхальный крестный ход»), он тонко подмечает, что внешний ритуал, будь то молитва или участие в Крестном ходе ценен тогда, когда человеком задействованы душевные силы и понимание происходящего (рассказ «Приступая ко дню»). Презрения явно достойны те, кто забыл, что «человек рожден со справедливостью в душе» [7, с. 352], что «каждый человек носит в себе Образ Совершенства» [7, с. 345]. Именно с этих позиций идея Бога носит всеобъемлющий, глобальный характер, объединяющий всех разумных людей на планете без исключения. Сила таланта Солженицына в том, что к его произведениям возвращаешься в любые времена за поиском решения бесчисленных и многогранных проблем, а «если до сих пор все никак не увидим, все никак не отразим бессмертную чеканную истину, – не потому ли, значит, что движемся куда-то? еще живем?..» [9, с. 285]. _______________ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Голубков М.М. История русской литературы XX века. – М., 1998. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. – М., 1981. Евсюков В. Люди бездны // Дальний Восток. – 1990. – № 12. Лифшиц М. О рукописи А. И. Солженицына «В круге первом» // Вопросы литературы. – 1990. – № 7. Минкина З. Противостояние на плоскости // Литературная газета. – 1992. – 22 января. Решетовская Н.Н. Отлучение: Из жизни Александра Солженицына. Воспоминания жены. – М., 1994. Солженицын А.И. В круге первом. – М., 1990. Солженицын А.И. Публицистика. Т. 1. – Ярославль, 1995. Солженицын А.И. Рассказы. – М., 2004. Урманов А.В. Творчество Солженицына. – М., 2001. Чекалов П.К. А. И. Солженицын: штрихи к творческому портрету. – Невинномысск, 2002. 117 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В МАЛОЙ ПРОЗЕ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА Толпаева Г.П., Ставрополь Национальным летописцем, Гомером нашего времени соотечественники и современники назвали А.И. Солженицына. При всей значимости лагерной темы, борьбы с казарменнобюрократической системой в СССР центральная проблема его творчества – историческая судьба России ХХ в., пережившей события Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революций, коллективизации, Великой Отечественной войны. Тема Великой Отечественной войны органична для А. Солженицына – художника эпического склада, в военные годы окончившего артиллерийские офицерские курсы, командира звукобатареи, награжденного орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и медалями. Тема Великой Отечественной войны звучит в ряде прозаических и драматургических его произведений: «В круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ», «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «Случай на станции Кочетовка», «Адлиг Швенкиттен», «Желябугские Выселки», «Пир победителей». В статье предлагаются наблюдения над проявлением творческой индивидуальности писателя в малой прозе о Великой Отечественной войне. В рассказе «Один день Ивана Денисовича» (1962) критики и литературоведы уделяли основное внимание проблеме трагического противостояния человека тоталитарной системе. Мы же сделаем акцент на трагической военной судьбе русского солдата Ивана Денисовича Шухова, попавшего в окружение. Герой вспоминает: «...С самолетов ...ничего жрать не бросали, а и самолетов тех не было. Дошли до того, что строгали копыта с лошадей околевших, размачивали ту роговицу в воде и ели. И стрелять было нечем. И так их помалу немцы по лесам ловили и брали». Всего Иван Денисович «в плену побыл пару дней». Пятеро убежавших «чудом в своим попали», но уцелело лишь двое: «Двоих автоматчик свой на месте уложил, третий от ран умер, – двое их и дошло. Были б умней – сказали б, что по лесам бродили, и ничего б им. А они открылись: мол, из плена немецкого. Из плена?? Мать вашу так! Фашистские агенты! И за решетку. Было б их пять, может, смягчили показания, поверили б, а двоим никак: сговорились, мол, гады насчет побега». Мировоззренческий монизм автора, ориентация на доминирующие нравственно-философские идеи находит непосредственное выражение в стиле, поэтому обратим внимание на стилистические особенности фрагмента: эпически сдержанная интонация начала воспоминания обретает эмоционально насыщенную тональность, в лексику 118 подключаются бранные выражения, синтаксис становится эллиптическим, рваным, встречаются неполные, восклицательные предложения. В приведенном отрывке реализуется главная особенность солженицынского повествования: – «преодоление границ между «я» автора и «я» героя», в разрушении препятствий – «шкуры мужика» – между изображающим субъектом и изображаемым объектом. Осуществляется сильнейшая авторская субъективация повествования» [2, с. 25]. В контрразведке «били Шухова много», и он подписал показания, что «сдался в плен, желая изменить родине, а вернулся из плена потому, что выполнял задание немецкой разведки. Какое ж задание – ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто – задание». Здесь ощутима интонация трагической иронии, свойственная стилистике писателя. Русский крестьянин – защитник Отечества – окруженец – пленник фашистского лагеря – зэк Щ–854, осужденный на 10 лет – такова трагическая цепочка превращений героя. При этом Иван Денисович понимает, что сидит в лагере «за то, что в сорок первом к войне не подготовились». Нагнетение таких ситуаций мотивирует использование отмеченных стилистических средств. Драматизации военной судьбы Ивана Денисовича способствует и монтаж фронтовых воспоминаний с перебивкой временных планов, когда нарушается хронология и усиливается психологическое наполнение образа, актуализируется сам феномен памяти. Подчеркнем типичность ситуации Ивана Денисовича: таких шпионов, как он, «в каждой бригаде по пять человек, но это шпионы деланные, снарошки. По делам проходят как шпионы, а сами пленники просто». В рассказе упоминается, например, «здоровый сибиряк» Ермолаев – и в скобках, бегло, как нечто привычное, «тоже за плен десятку получил». Более подробно А. Солженицын останавливается на военной судьбе Сеньки Клевшина: «... он тихий, бедолага. Ухо у него лопнуло одно, еще в сорок первом. Потом в плен попал, бежал три раза, излавливали, сунули в Бухенвальд. В Бухенвальде чудом смерть обминул, теперь отбывает срок тихо», «Сенька, терпельник, все молчит больше: людей не слышит и в разговор не вмешивается. Так про него и знают мало, только то, что он в Бухенвальде сидел и там в подпольной организации был, оружие в зону носил для восстания. И как его немцы за руки сзади спины подвешивали и палками били». Три раза он бежал из плена и три раза ловили. За то, что Сенька жил потом в американском лагере два дня (вспомним: два дня в немецком лагере был и Иван Денисович), «четвертную закатали». Подобные ситуации Великой Отечественной войны (фронт – плен – контрразведка – тюрьма – лагерь) встречаются в прозе А. Солженицына нередко (история дворника Спиридона Егорова, Прянчикова и других заключенных марфинской шарашки, неслучайно разыгрывающих сцену «суда» над князем Игорем в романе «В круге первом»). 119 В рассказе «Матренин двор» (1963) можно найти сходные с «Одним днем...» приемы проявления творческой индивидуальности автора. Думается, эти произведения объединяет тот же мировоззренческий монизм, пафос утверждения духовности, дающей человеку силы противостоять бездушной государственно-административной машине, и стилистика сказа. Исключительно велика здесь, как и в «Одном дне...» роль ретроспекции, воспоминаний Матрены о прежней, довоенной и военной жизнях, прием самораскрытия героини, которое происходит постепенно, по мере привыкания Матрены к постояльцу. Игнатич «не бередил» прошлого «сегодняшней, потерянной старухи». Он знал только, что «муж Матрены не вернулся с этой (Великой Отечественной. – Г. Т.) войны. Похоронного тоже не было. Односельчане, кто был с ним в роте, говорили, что либо в плен он попал, либо погиб, а только тела не нашли. За одиннадцать послевоенных лет решила и Матрена сама, что он не жив. И хорошо, что думала так. Хоть и был бы теперь он жив – так женат где-нибудь в Бразилии или в Австралии. И деревня Тальново, и язык русский изглаживаются из памяти его...». Не исключено, думается, что «без вести пропавший», муж Матрены мог разделить и судьбу Ивана Денисовича. Матрену Васильевну Григорьеву постигла участь миллионов российских женщин доживать свой век в одиночестве, без опоры на мужское плечо. Первая мировая война отняла у Матрены любимого, Вторая Великая мировая – мужа, Отечественная война и тоталитарная система разлучили Ивана Денисовича Шухова с родными (женой и двумя дочерьми), в сущности, погубили русскую крестьянскую семью. Это ли не страстная авторская отповедь всем режимам на Земле, рождающим войны и революции, выраженная не в прямой публицистической форме, а выстраданная всей системой изобразительно-выразительных средств? Мировоззренческий монизм писателя позволяет сближать его произведения и выстраивать параллели как на уровне содержания, так и на уровне стиля. Например, в связи с рассуждениями критиков о дегеризации персонажей В.В. Кузьмин пишет: «Жанровое значение Матрены как героини в этом смысле сходно с положением Ивана Шухова. Матрена – характер сильный и глубокий, но не героический. Как Шухов – едва ли не последний лагерник, так и Матрена – самый неудачный вариант остановки героя-рассказчика, когда у других комнат не нашлось» [2, с. 109]. А. Латынина еще в статье «Солженицын и мы» (1989) отметила типологическое родство душ Ивана и Матрены – «не выжить любой ценой «для пользы дела» (подобную цель в «Архипелаге» писатель с презрением отвергает), но сохранить свою душу, не оскверняя ее насилием, предательством и прочиними мерзостями» [3, с. 39]. Общеизвестными стали указания ряда исследователей и на родственную стилистику обоих рассказов, предельное сужении расстояния между автором и субъектом речи в самих произведениях, соз120 дание атмосферы несобственно-прямой речи. В.В. Кузьмин считает, что при этом осуществляется сильнейшая «авторизация» героя, актуализируется аксиологический аспект произведения: «Из многомерного пространства сказа автор удален только внешне. Возможность же его оценочного проявления велика в те моменты развития повествования, когда событийное отступает на второй план. В сказе не только передаются события жизни героя, но и возникает попытка их анализа, к которой подключается автор» [2, с. 87]. Творческая индивидуальность А. Солженицына проявилась также в умении соединять, сопрягать обыденные, повседневные явления с символическим обобщением их на самом высоком уровне. А. Архангельский назвал эту особенность противоречием между чрезмерной символической нагрузкой «повествовательного пространства – и явственной установкой на «саморазвертывание действительности» [1, с. 17]. Рассмотрим эту позицию и некоторые другие моменты выражения творческой манеры писателя в рассказе «Случай на станции Кочетовка» (1963). Следует отметить строгую документальную основу произведения, на что указывает сам автор, говорится в примечаниях к изданиям (например, к текстам «Малого собрания сочинений», т. 3. М., 1991): «Кочетовка – реальное название станции, где и произошел в 1941 описанный подлинный случай. <...> Географические пункты остались названными точно». В рассказе есть точная временная маркировка «случая» – не только год, но и месяц, число, а именно – 1 ноября 1941года, и – что особенно важно и символично – канун 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, «любимого праздника в году, радостного наперекор природе, а в этот раз рвущего душу» помощника военного коменданта лейтенанта Зотова. Вначале рассказа читатель «слышит», а затем, благодаря мастерски воссозданной звуковой картине жизни маленькой военной железнодорожной станции, и «видит» Кочетовку (телефонные звонки, голоса диспетчеров, гул толпы, добивающейся посадки в эшелон, рапорты и приказы военных, разговоры конвойных, шум дождя). Создается впечатление пространственно-временного единства. Тревожно-напряженную атмосферу первых месяцев Великой Отечественной войны передают многочисленные детали и лаконично очерченные ситуации, работающие на «закон экономии»; один из основных параметров творческой манеры А. Солженицына. К военным деталям можно отнести эшелоны с консервированной кровью, два десятка остовов сгоревших в бомбежке вагонов, четыре открыто стоящие на платформах дивизионные пушки, маскировочные бумажные шторки на окнах, цветной портрет Кагановича в железнодорожном мундире, розовый листок на входной двери, какие всюду развешивались по Кочетовке: «Берегись сыпного тифа!». 121 Это и упоминания о массовой торговле на станции, т.к. продукты на эвакуированных не отпускались, о прорывах немецких бомбардировщиков к рязань-воронежской линии, о двух «шальных немецких мотоциклистах», которые влетели в Кочетовку и на ходу строчили из автоматов, сообщения «из черного раструба» радиорепродуктора о вяземском и волоколамском направлениях, разговоры об угле и картошке, на которых зимой можно «ребятишков передержать». Поэтикой произведения восхищался Р. Плетнев: «Нужно прочесть и перечесть рассказ и только тогда станет ясно, насколько он сжат, художествен и правдив. Всякая мелочь обстановки подмечена и посвоему освещена» [4, с. 29]. В рассказе нагнетаются детали и ситуации, передающие атмосферу недоверия, подозрительности, сверхбдительности. Так, упоминается начальник отряда спецназначения, ведающий взрывами в случае эвакуации, который при появлении двух «шальных немецких мотоциклистов» «успел рвануть водокачку заложенным ранее толом», и теперь ее надо восстанавливать. По приказу коменданта станции со стены снимают карту путей сообщения, потому что в комнату «входят люди и если среди них затешется враг, то, скосясь, он может сориентироваться, какая дорога куда». Военному диспетчеру Вале «не положено было знать ни содержания, ни назначения грузов, а только номера вагонов», лейтенант закрывает от нее шифровку и свои записи чистым листом. Вслух опасно спрашивать: не сдадут ли Москву? Перед читателем проходит целая галерея персонажей (более двадцати) – главных, второстепенных, эпизодических, внесценических: сержанты Гайдуков и Дыгин, мастер железнодорожных путей Гаврила Никитич Кордубайло, который присягал еще Александру Третьему и «до войны десять лет на печи сидел». И хотя большинство персонажей очерчено всего несколькими штрихами, они запоминаются, их биографии включаются в контекст эпических и трагических событий русской истории ХХ века. Создается впечатление не просто массовости, но многолюдья, что свойственно таким мастерам малого жанра, как Чехов, Платонов, Шукшин. Структура рассказа такова, что круг персонажей постепенно сужается, авторское внимание фокусируется на двух действующих лицах «случая» – Зотове и Тверитинове, который появляется, по наблюдениям В.В. Кузьмина, только на тридцать пятой странице 52-страничного рассказа. Мастерство композиции произведения заключается и в том, что «случая» на станции Кочетовка, собственно, два: «случай с эшелоном окруженцев» и «случай с Тверитиновым». Сущность же конфликта, приведшего к трагическим исходам и в той и в другой ситуации, одна: столкновение законов тоталитарного общества с законами человечности. Так в первом случае молоденький часовой, «совсем еще паренек», единственным выстрелом в голову уложил окруженца, одного из тех 122 голодных людей, которые «атаковали полувагоны» с мукой: «Окруженцы, когда убили их товарища, оставили мешки с мукой и бросились с ревом на мальчишку-часового. Они уже вырвали у него винтовку – да, кажется, он ее и отдал без сопротивления, – начали бить его и просто бы могли растерзать, если б наконец не подоспел разводящий. Он сделал вид, что арестовал часового, и увел». Во втором случае помощник военного коменданта лейтенант Зотов сдает службам НКВД отставшего от своего эшелона немолодого ополченца Тверитинова, бывшего артиста московского театра, которого подозревает в шпионаже. Первый случай, являющийся своеобразным микросюжетом, зернышком второго, занимает всего полстраницы, но автор подробно передает спор по этому поводу служащих станции. Второй случай становится эпицентром повествования, занимает около двадцати страниц, а рефлексия Зотова на него передается несколькими фразами и уходит в подтекст. Остановимся на «главном», втором случае и пронаблюдает за особенностями мимики, жестов, интонации и авторских ремарок, что позволит увидеть проявление творческой индивидуальности писателя не только в области сюжетостроения и композиции, но и драматургии, кинематографичности текста. А.Н. Солженицын дает подробное описание внешнего облика Тверитинова и его одежды. Такую «привязку» к одежде вообще Р. Темпест убедительно связал с автобиографическим началом, анализируя рассказ «Один день Ивана Денисовича»: «Знающий читатель ощущает в описании этих истертых тряпок связь с реальной жизнью самого Солженицына». Тверитинов одет был «в какую-то долгополую, но с окороченными рукавами, тяжелую рыжую куртку невоенного образца, обут же – в красноармейские ботинки с обметками, в руке он держал красноармейский небольшой засаленный вещмешок. Другой рукой, входя, он приподнял солидную кепку...». По ходу действия уточняется, что кепка не только «солидная» и «рябая», но и «припыленная углем». «Суконник его был вовсе без ворота, а верней, ворот был оторван, и теплый шерстяной шарф окутывал оголенную шею. Расстегнувшись, подо всем этим вошедший открыл летнее, сильно выгоревшее, испачканное красноармейское обмундирование...». Внешний облик Тверитинова вызывает симпатию лейтенанта Зотова: «Очень симпатичная, душу растворяющая улыбка была у этого небритого чудака. Он и стрижен не был наголо. Короткие и негустые, но покрывали его крупную голову мягкие волосы, сероватые от искорок седины. Не был он похож ни на бойца, ни на гражданского». Важен диалог Тверитинова и Зотова, подчеркивающий роль формы в военное время в представлении бдительного лейтенанта и трагическую ситуацию на фронте. Приведенные примеры свидетельствуют о действии «закона экономии» в тексте и дают, пусть и в общем плане, представление о фрон123 товых мытарствах, характеризуют героя как человека сугубо штатского, мирного, искреннего и мягкого. Внешний облик и особенно улыбка Тверитинова, две фотокарточки с изображением его семьи (жены, дочери, сына) вызывают в памяти Зотова ассоциации с образами Третьяковской галереи, театра, книг (вероятно, русской классики). Сильнейшим приемом драматургии текста является его интонирование. Интересно, что описание внешнего облика Тверитинова предваряет его голос, который удивил Зотова – «богатый, низкий и благородно-сдерживаемый, чтобы не хвалиться». Ответы отставшего ополченца чаще всего сопровождаются комплексными авторскими ремарками, включающими интонацию, жесты, мимику, чаще всего улыбку: «Скажите, пожалуйста», – очень вежливо <...> спросил вошедший», «обернулся, улыбаясь», «Я... от эшелона отстал...» – виновато улыбнулся тот», «Да если откровенно говорить... – та же сожалительная улыбка тронула крупные губы Тверитинова, – пошел... вещички поменять. На съестное что-нибудь...», «...опять с той же виноватой улыбкой потупился Тверитинов», «доброжелательно улыбнулся». Как видим, многие реплики героя сопровождаются обезоруживающей улыбкой. «Тверитинов смотрел на Зотова в полноту своих больших доверчивых мягких глаз. Зотову была на редкость приятна его манера говорить; его манера останавливаться, если казалось, что собеседник хочет возразить; его манера не размахивать руками, а как-то легкими движениями пальцев пояснять свою речь». Особенно трогателен жест благодарности после неудачной попытки Зотова накормить отставшего от эшелона окруженца: «Не беспокойтесь, ради Бога, Василь Васильич. – Тверитинов приложил развернутый веер из пяти пальцев к своей засмуроженной гимнастерке с разными пуговицами. – Я и так бесконечно вам благодарен». Жест этот, но уже не благодарности, а отчаяния, повторится в кульминационный момент задержания Тверетинова. Не менее выразительна драматургия и образа лейтенанта Зотова. Автор отмечает два характерных жеста: в минуты волнения надевать или поправлять очки, «придававшие строгое выражение его совсем не строгому лицу», и надевать зеленую фуражку («фуражка была маловата ему, но на складе другой не нашлось»), отчего его «беззащитное курносое лицо» становилось строже. Очки и фуражка защищают лицо Зотова, которое без них теряет «деловитость и быстрый смысл», становится «ребяческим». Чувствуя «невольное расположение» к пожилому ополченцу, Зотов даже не требует, а просит «материального доказательства» правдивости его слов, и предъявленные в этом качестве фотоснимки с изображением жены и детей Тверитинова очень понравились лейтенанту. Допрос все более приобретает характер беседы, которая становится все более дружеской и даже не лишенной элементов исповедальности, особенно после того, как лейтенант узнает, что допрашиваемый в мирной жизни был арти124 стом московского драмтеатра. Читатель узнает в скобках, что «акты о сгоревшем эшелоне кричали, что в них надо разбираться, но на то нужно было полных два дня все равно. А лестно познакомиться и часок поговорить с большим артистом!» И далее: Вася (не лейтенант Зотов!) «зная, что не время сейчас болтать, вспоминать, но уж очень был редок случай отвести душу с внимательным интеллигентным человеком». Он угощает Тверитинова легким армянским табаком (сцена, отмеченная исследователями как параллель с образом Пети Ростова). Но характер беседы резко меняется после того, как Тверитинов обнаружил незнание города Сталинграда: «И – все оборвалось и охолонуло в Зотове! Возможно ли? Советский человек – не знает Сталинграда? Да не может этого быть никак! Никак! Никак! Это не помещается в голове!» Поток звучащей речи лейтенанта Зотова сокращается, и «основное повествование закономерно перемещается в сферу сознания героя – мир его мыслей и чувств» [2, с. 140]. Чтобы заострить драматизм конфликта личных и общественных интересов, А. Солженицын использует удачный прием маркировки внутреннего состояния и речи персонажа скобками, разграничивая тем самым внешнюю линию поведения и внутреннее ее содержание. Индивидуальным авторским графическим приемом является пробел текста во всех трех рассказах перед заключительной частью, где концентрированно выражается авторская позиция, возводящая произведения на онтологический уровень. В рассказе «Случай на станции Кочетовка» таких пробела два. После первого читаем: «Прошло несколько дней, миновали и праздники. Но не уходил из памяти Зотова этот человек с такой удивительной улыбкой и карточкой дочери в полосатеньком платьице». После второго: «Но никогда потом во всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека...». Одним из проявлений «закона экономии» в малой прозе А. Солженицына, как уже отмечалось, становится ее интонирование. _______________ 1. Архангельский А. Поэзия и правда // Солженицын А.И. Избранное. – М.: Мол. Гвардия, 1991 (Рус. писатели – лауреаты Нобелевской премии). 2. Кузьмин В.В. Поэтика рассказов А.И. Солженицына. Тверской государственный университет. – Тверь, 1998. 3. Латынина А. Солженицын и мы / Латынина А. За открытым шлагбаумом. – М., 1991. 4. Плетнев Р. Рассказы и стихотворения в прозе / Плетнев Р. А.И. Солженицын YMCA-PRESS, Paris V. 5. Темпест Р. Геометрия ада: поэтика пространства и времени в повести «Один день Ивана Денисовича // Звезда, 1998. 125 ИГРОВОЕ НАЧАЛО В РАССКАЗЕ В.М. ШУКШИНА «СУРАЗ» Остапенко Л.А. Белгород Творчество В.М. Шукшина на протяжении вот уже нескольких десятилетий является объектом пристального внимания исследователей. Предмет данной работы составляют различные формы проявления игровой поэтики в рассказе В.М. Шукшина «Сураз». Сюжет последнего повторяет сюжетные перипетии повести А.С. Пушкина «Выстрел» (наличие интертекста в данном рассказе обнаружил Куляпин А.И.: [4, с. 57–58]). В данной работе ставится цель уточнить классификацию форм игры в рассказе В.М. Шукшина «Сураз», выявить функции игры в текстовом пространстве данного рассказа. Множество рассказов В.М. Шукшина можно отнести к игровым текстам и описывать их с позиций игровой поэтики. Игровая атмосфера в тексте создается и на композиционном уровне, а также включает и языковые художественные средства. Игровая атмосфера в тексте рассказа «Сураз» проявляется и в форме интертекстуальной игры, обеспечивающей внедрение в текст данного рассказа элементов повести А.С. Пушкина «Выстрел». Прочитывая тексты повести А.С. Пушкина и В.М. Шукшина, обнаруживаешь, что оба эти текста несут в себе повышенный потенциал игровых ситуаций. В обоих текстах отношения между героями разворачиваются, прежде всего, как поединок, причем победитель возможен только один. Игровое пространство определяется ролевым поведением персонажей. Можно говорить о наличии героя – игрока и в повести Пушкина (Сильвио), и в рассказе «Сураз» (Спирька). В пушкинской повести Сильвио пытается создать ситуацию игры как точки «возможного будущего», в которой он способен установить свои правила. Сильвио отвергает жизнь реальную, где возможно торжество случайности, понимая, что физического уничтожения противника ему не нужно, а нужно лишь моральное торжество над ним, он намеренно избирает (просчитывает) единственно возможную форму мщения – заставляет врага унизиться, пренебречь законом чести, – и во имя спасения собственной жизни и благополучия семьи воспользоваться выстрелом, ему не принадлежащим [1, с. 487]. Сильвио моделирует ситуацию следующим образом: он вынуждает графа поменяться ролями: жертва готова совершить выстрел, мститель преднамеренно приносит себя в жертву. Победа Сильвио в том, что он так и не сделал ожидаемого графом выстрела. Сродни игре и ролевое поведение Спиридона Расторгуева. В самом начале жизни он избирает себе «социальное лицо» – «лихого парня», надевает маску «благородного разбойника» (помогает вдове, ста126 рикам), но, как и подобает «благородному разбойнику», совершает разбойное нападение на сельповскую телегу, похищает ящик водки, запирается в бане, разыгрывает не сдающегося всем врагам «героя», а, протрезвев, добровольно сдается милиции. Однако можно отметить слабость Спиридона как игрока – он, вступив в состязание из-за женщины с учителем, сам не выбирает внутреннее пространство игры, а вынужденно реагирует на действия соперника. Спирька пытается действовать по модели поведения героя пушкинской повести – в качестве мстителя, разыгрывает в мечтах схему отмщения, наказания ненавистного мужа, но, в конечном итоге, оказывается не способен реализовать это в жизни. Ему мешают это совершить его нравственные принципы. Литературовед М.Н. Эпштейн, обнаруживая в литературе, живописи и музыке множество игровых элементов, подчеркивает, что в литературе «игра заключена почти в каждом слове, которое одним своим смыслом обращено к наружному восприятию, а другим – к внутренней правде вещей» [7, с. 300]. Игра в рассказе Шукшина «Сураз» присутствует уже в семантике названия. В сноске уточняется, что сураз – 1) внебрачно рожденный; 2) бедовый случай, удар, огорчение (сиб.) Однако в словаре Даля мы можем увидеть, что на первом месте в словарной статье дается следующее толкование слова сураз- видный, пригожий, казистый, пск. влад. тмб [2, с. 362]. Стоит отметить, что Шукшин, объясняя в сноске значение слова «Сураз», намеренно теряет еще одно значение этого слова, хотя текстом 1-е значение слова «сураз» подтверждает и неоднократно акцентирует внимание читателя на нем. То есть, исходя из одного названия, читатель уже прогнозирует характеристику героя: раскрывается и внутренняя сущность героя (обладает бедовым характером) и его социальное лицо (внебрачно рожденный), и его облик (казистый, пригожий). «Спирьке Расторгуеву – тридцать шестой, а на вид двадцать пять, не больше. Он поразительно красив...» [6, с. 22]. Интересна и история имени Спиридон. Внимательный читатель обнаруживает подвох: почему Спиридон? Шукшин изображает своего ровесника (в войну Спирька был подростком). А довоенные годы отличались агрессией по отношению к Церкви, особым богоборчеством. Мать же называет главного героя редким старинным православным именем, в то время как модны были имена Ким, Ноябрина, Сталина и т. д. В святцах можно обнаружить толкование этого имени – «цветок незлобия». В тексте мы находим подтверждение этому. «Но... Спирька даже заерзал на сиденье; он понял, что не находит в себе зла к учителю. Если бы он догадался подумать и про всю свою жизнь, он тоже понял бы, вспомнил бы, что вообще никому никогда не желал зла» [6, с. 41]. Таким образом, имя у Шукшина – это орудие познания его героев. Спиридон, отличительным свойством которого было незлобие, рожден вне закона, и жить по законам того времени, не имея зла ни к кому, не может. 127 Игра автора с читателем проявляется в том, что Шукшин не обнаруживает открыто и прямо свои размышления по поводу изображаемой действительности. Описывая гибель своего героя, Шукшин бросает вызов официальному общественному мнению. Спирька Расторгуев – самоубийца, а ведь в Советской стране самоубийц быть не должно. Шукшин тем самым сразу становится аутсайдером. Читатель же, разгадывая загадку самоубийства главного героя, тем самым сближается с миром автора, становится соучастником игры его ума. Шукшин в тексте своего рассказа водит параллель Сильвио – Сураз. Однако эта параллель осложнена введенным в текст шукшинского рассказа неоднократным упоминанием имени Байрона. Поведение Спирьки разбивает прямолинейность сопоставления его с Байроном и создает новую его оценку. Оба героя находятся в процессе обретения личного достоинства, чести. Но по-разному происходит процесс морального самоутверждения. Оба героя приходят к идее самопожертвования: один (Сильвио) жертвует собой ради свободы православных греков, другой (Сураз) – ради того, чтобы не допустить зло. Сильвио отождествляет собственное человеческое достоинство со своим личным первенством, отсутствие которого воспринимает как поругание чести [5, с. 20]. Здесь мотивы обиды и чести можно охарактеризовать как «псевдочесть». А самого героя можно назвать «антибайроническим» героем. Шукшин же своего героя, играющего роль «лихого парня», но по сути своей незлобивого, предъявляет как собирательный образ русского народа. Символична фамилия героя – Расторгуев. На его примере Шукшин показывает, как в течение первых десятилетий изменилась психология людей. Подавлялись основные силы, формирующие русское чувство самосознания: православная вера, традиционная культура и крестьянский образ жизни. Но тот подвиг, память о котором пронес Спиридон в Великую Отечественную войну («...И вспомнились далекие трудные годы, голод, непосильная, недетская работа на пашне...» [6, с. 27]) очистил его. Шукшин представляет нам человека, растерявшего свои ценности, но очистившегося страданиями, пытающегося обрести утраченное. Мотив чести здесь звучит по-иному, чем у Пушкина. Шукшин вводит параллелизм (Байрон – Сильвио – Сураз) не просто так. Им движет желание раскрыть и акцентировать проблему более глубокую, чем сходство трёх героев разных временных слоев. Однако проблематика как бы убрана в подтекст. В шукшинском рассказе судьба главного героя дважды кардинально меняется после его общения с учителями (в первом случае – с учительницей немецкого языка, тоже элемент языковой игры, во втором случае – с учительницей музыки и учителем физкультуры). Учитель – тем более на селе – это просветитель, носитель культуры, представитель интеллигенции. Шукшиным в этом рассказе поднята проблема – 128 отношение интеллигенции и народа. Им делается попытка осмыслить эту проблему на протяжении двух последних столетий. Еще со времен преобразований Петра русский культурный слой стал чуждым своей стране и своему народу. Трагические результаты петровских преобразований были явлены в той страшней бездне, которая разделила людей одной страны – мужика и барина. Пушкин углубляет эту проблему, поднимая такой важный вопрос, как отношение «Россия – Запад», показывая рабское преклонение перед западной культурой, отсутствие в большинстве случаев национального достоинства. Доказательством этому служит то, что его герой, русский человек, носит иностранное имя Сильвио и подражает Байрону. Люди культуры, интеллигенция уже в XIX веке постепенно начали утрачивать духовность, перестали быть ее носителем. А ведь именно интеллигенция формирует умы и настроения в обществе. Шукшин жил в иную историколитературную эпоху, в которой была создана новая советская интеллигенция, часто вышедшая «из низов». Однако он своим творчеством выражает ту же национальную проблему. «Новая интеллигенция переживала столь же быстрый, иногда менее мучительный, чем старая (в силу отсутствия комплекса вины и необходимости покаяния), процесс отчуждения от народа» [3, с. 33]. И в шукшинском тексте Спирька потянулся к этим новым людям: учительнице музыки (как человеку, несущему прекрасное в мир) и учителю физкультуры, а в ответ получил грубую физическую силу. Шукшин в игровой форме обострил проблему ответственности интеллигенции. Он показал, что современные представители интеллигенции не способны понять и принять людей типа Сураза, людей из народа. Языковую игру Шукшин реализует в специфических явлениях поэтического языка: это и использование семантической емкости языковых символов, которые уходят корнями в библейские тексты (например, земное – Небесное). Главный герой рассказа Шукшина говорит о явлении в мире «Земной Божьей матери». После неосуществленного выстрела Спиридон прибегает на кладбище. Шукшин раскрывает нам мысли героя, показывает нам, что Спирька представляет свой труп, обращенным лицом к Небу. Однако Шукшин в момент самоубийства героя намеренно намеренно показывает его обращенным лицом к земле, окруженного красотой лесной поляны, ушедшего от реальности и так и не смогшего обратиться к Богу. Языковая игра в рассказе В.М. Шукшина проявляется и в том, что автор использует метафору, позволяющую сочетать далекие друг от друга понятия, создающие оригинальные образы. «...и крепость руки была какая-то нечеловеческая, точно шатуном толкали сзади». «Шатун сработал, Спирька полетел вниз с высокого крыльца и растянулся на сырой соломенной подстилке, о которую вытирают ноги» [6, с. 31]. Шукшиным намеренно введено это уточнение, чтобы подчеркнуть сте129 пень унижения Спирьки. «Шатунами» Шукшин называет руки учителя, перенеся на них свойство механизма, вала. Это намеренно необычное использование средств языка Шукшин использует для создания художественного эффекта. Игра у Шукшина проявляется и в употреблении таких форм как « стащит с себя недельную шоферскую грязь» [6, с. 22], которые приобретают неожиданное звучание за счет нарушения сочетаемости семантики указанных слов. Игра с формой текста реализуется за счет использования авторской пунктуации в прямой речи персонажей и для их характеристики. Чаще всего он прибегает для этой цели к таким знакам препинания, как многоточие. «Еще Спирька подумал, что, наверное, учитель выбросил те цветы, которые Спирька привез учительнице, наверно, они лежат под окном, завяли… Красивые такие цветочки, красные. Спирька усмехнулся. Пижон Спиря… Здесь тоже есть цветочки. Вот они: синенькие, беленькие, желтенькие… Вон саранка цветет, вон медуница...» [6, с. 42]. «– Вылазь из кровати, – велел Спирька. – Спиридон... тебе же будет расстрел, неужели... – Я знаю. Вылазь. – Спиридон! Неужели...» [6, с. 34]. Игровое использование многоточия в прямой речи служит для имитации паузы, прерывистости речи, возникающей при эмоциональном возбуждении персонажа (учителя). Итак, Шукшин в данном рассказе обращается к особым художественным средствам, способствующим созданию игровой специфики его рассказа. Игровое начало служит проводником оригинальных и глубоких мыслей автора, позволяет автору избежать морализаторства, излишней назидательности. –––––––––––––––––––– 1. Вацуро В.Э. «Повести Белкина» // Пушкин А.С. Повести Белкина. 1830– 1831. – М.: Книга, 1981. 2. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – М.: Рус.яз., 1999. – Т. 4. – 1999. 3. Левашова О.Г. В.М. Шукшин и традиции русской литературы XIX в. (Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой): Монография. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2001. 4. Куляпин А.И. Рассказ В.Шукшина «Сураз»: эхо интертекстуальности //В.М. Шукшин – философ, историк, художник. – Барнаул: Изд-во Алтайского госуниверситета, 1992. – С. 57– 62. 5. Хализев В.Е., Шешунова С.В. Цикл А.С. Пушкина «Повести Белкина». – М.: Высш. школа, 1989. 6. Шукшин В.М. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 4.: Рассказы. – М.: Литература; Престиж книга; РИПОЛ классик, 2005. 7. Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны: О литературно- художественном развитии XIX–XX веков. – М., 1988. 130 . ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ . В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХХ ВЕКА III В.А. ЖУКОВСКИЙ: К ПРОБЛЕМЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА Степанова Т.М., Аутлева Ф.А., Майкоп Один из феноменов художественного перевода заключается в оценке его как явления вторичного, «репродуктивного» по сравнению с оригиналом, в котором ярко выражена творческая индивидуальность автора. Однако мнение о некоей служебной роли переводчика всего лишь как посредника оказывается ошибочным, когда речь заходит о В.А.Жуковском. В. А. Жуковский переводил как лучшие стихотворения немецких поэтов, например, песню Арфиста и песню Миньоны из «Годов учения Вильгельма Мейстера», балладу «Рыбак» Гете, так и произведения более посредственные. «Ундина» – одна из поразительных переводческих удач Жуковского, a для русской культуры – такое «достояние, без которого, ненаучно выражаясь, и жить невозможно» (С. Аверинцев). Прозаическая повесть Ф. де ла Мотт Фуке «Undine» (1811) занимает определенное место в истории немецкого романтизма; но в стиле Фуке «слишком много жест­кости и слишком мало энергии, слишком много манерности и слишком мало настоящего своеобразия, и можно только поражаться, в какие гибкие, интонационно подвижные, свободно льющиеся гекзаметры переработал Жуковский эту прозу, и на сей раз, выявляя нереализованные смысловые потенции» [1, с. 251]. «Несовершенство оригинала требовалось, – замечает С. Аверинцев, – для того, чтобы оставалось место для нового творче­ского порыва к совершенству, которое предуказано ори­гиналом, но которого еще нет на свете» [1, с. 251]. Похоже, что это довольно широкое явление, касающееся не только поэти­ческого перевода. Наилучшая вокальная музыка, как правило, вдохновлялась словесным материалом, который находится примерно на уро вне «Зимнего пути» Виль­гельма Мюллера – поэтического цикла, послужившего Шуберту: ей нужны стихи, «достаточно подлинные, чтобы вдохновлять, но не настолько сильные, чтобы сполна нести в 131 себе всю свою музыку и этим делать всякую иную музыку в своем присутствии просто излиш­ней» [1, с. 251]. Параллель между работой Жуковского как переводчика литературного текста и работой над этим текстом композитора обретает неожиданную конкретность, если вспомнить, как много музыки родилось в связи с вышеупомянутой «Ундиной» дела Мотт Фуке (оперы T. А. Гофмана, X. Ф. Гиршнера и А. Лорцинга, балет, поставленный в Берлине в 1836 г.). «Переводчик теряет собственную личность, – писал Гоголь в «Выбранных местах из переписки c друзьями», – но Жуковский показал свою личность в переводах больше всех русских поэтов». Прочитав оглавление его стихотворений, мы видим: одно взято из Шиллера, другое из Уланда, третье у Вальтера Скотта, четвертое у Байрона, и «все – вернейшая копия, личность каждого поэта удержана, негде было и «высунуться» самому переводчику; но когда прочтешь нескoлькo стихотворений вдруг и спросишь себя: чьи стихотворения читал? – то предстанет перед глаза твои ни Шиллер, ни Уланд, ни Вальтер Скотт, но поэт, от них всех отдельный, достойный поместиться не у ног их, но сесть с ними рядом, как равный c равными. Каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность, – это загадка, но она так и видится всем, – задается вопросом Н. В. Гоголь. – Нет русского, который бы не составил себе из самих же произведений Жуковского верного портрета самой души его. (...) Переводя, производил он переводами такое действие, как самобытный и самоцветный поэт» [4, с. 41]. Пожалуй, трудно точнее Н.В. Гоголя выразить мысль о наличии творческой индивидуальности в деятельности переводчика. С. Аверинцев в своих дальнейших размышлениях о переводе отталкивается от мыслей Гоголя: «Если Гоголя можно в чем-то упрекнуть, то лишь в одном: что он удо­влетворился самой парадоксальностью парадокса и этим низвел свой же собственный вопрос: «Каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность?» – до степени риторического вопроса, на кото­рый отвечать не полагается» [1, с. 245]. А ведь это реальный вопрос, и, если на него невозможно дать исчерпывающий ответ, думать над ним нужно. Правда, парадокс Жуковскогопереводчика – «гений переимчивости и гений субъективности в одном лице» – указывает на парадоксы более общего свойства. С. Аверинцев выделяет, по меньшей мере, два. Один из них – это парадокс романтизма как такового. «Каждому известно, что романтический поэт ощущает себя личностью, и личностью чуть ли не самодостаточной» [1, с. 252]. С. С. Аверинцев справедливо замечает, что например, такой немецкий романтик, как Клеменс Брентано, поэт «личный до надрыва», не только собирал вместе c Арнимом подлин­ные народные песни, составившие знаменитый сборник «Волшебный рог мальчика», но необычайно широко вво­дил в собственное творчество, т.e. в свою литературную исповедь, «чужое» – отголоски тех же песен или переводы 132 иноязычных текстов, подчас остро специфических, напри­мер причудливых итальянских сказок, причем «чужое» и «свое» соединяются в самых неожиданных и непредсказуемых пропорциях. Немецкая романтика поставила неизвестную прежде задачу: средствами художественного перево­да сделать доступным для своих читателей, то есть образо­ванных людей романтической культуры, более или менее полный круг шедевров поэзии всех времен и народов. Данте и Тассо, «Махабхарату» и «Шахнаме» (то, что Рюккерт переводил обе упомянутые восточные поэмы, име­ет к Жуковскому самое прямое отношение). В Анг­лии Кольридж начал c того, что перевел шиллеровского «Валленштейна». Даже во Франции, где художественный перевод всегда стоял дальше от центра литературы, Же­рар де Нерваль переводил «Фауста», ту самую «Ленору» Бюргера, которая вызвала знаменитое состязание между Жуковским и Катениным, и другие произведения немец­кой поэзии. Жуковский как поэт, в руках которого имен­но переводческая практика была орудием эксперимента в родной литературе, – замечает Аверинцев, – «не изолированное или локальное явление, а равноправный участник всеевропейского куль­турного переворота. Во вдохновлявшей его «тоске по ми­ровой культуре» не было ничего провинциального» [1, с. 256]. Баллада Шиллера «Рыцарь Тогенбург», написанная в 1797 г., занимает достаточно скромное, почти незаметное место среди стихотво­ рений немецкого поэта, между тем как баллада Жуковского, написанная в 1818 г., получила не только в творчестве Жуковского, но и во всей русской культуре место очень важное. Роль того и другого стихотворения в соответствующей национальной традиции различается не только по масштабу, но и по другим признакам. Русские читатели воспринимали «Рыцаря Тогенбурга» как прямое обращение к их эмоции, как текст, предназначенный трогать и потрясать и принципиально открытый для проецирования на данную в нем картину сугубо личного опыта ныне живущих людей (начиная c самого переводчика). У немецких читателей такого впечатления не возникало. B России герой баллады мог служить предметом обсуждения как идеал. «Баллада Шиллера живет настроением исторического анекдота – конечно, в старом, вполне почтенном смысле этого слова. Ее цель – не «воскрешение», a воссоздание, и обращается она не к чувству, а к воображению; ее интерес – характерность и конкретность, холодноватая точность детали. Ее ге­рой – не вневременный психологический тип и уж подав­но не идеал, а колоритный персонаж истории нравов. У Жуковского все по-другому», – делает вывод С. С. Аверинцев. B конкретном, неповторимо-индивидуальном настроении поэта выражаются чаще всего имею­щие общечеловеческий характер, «универсальные» чувства понимания, сострадания, дружеского расположения. Уме133 ние понять другого, проникнуться его настроением особенно характерно для лирики Жуковского (это был первый бурный прорыв русской лирики к обще­человеческому). Свойство это сделало бессмертными переводы и многочисленные подражания Жуковского. Это свойство подсказывать чужому воображению, «заражать» своим чувством, делая его доступным каждому. Спра­ведливо замечено о Жуковском: «...поэт открывает в своей душе только те чувства, которые являлись общечеловеческими». Очень важно то, что, будучи принципиально близким романтикам в решении проблемы свободы, наделяя героя своих произведений способностью развития и движения, Жуковский вместе c тем противопоставляет идее романтической исключительности героя ориентацию на обыкновенного человека, пафос общечеловеческого в искусстве. Это отличало «литературного Коломба Руси» от многих русских и европей­ских романтиков 20–30-x годов и делало его предтечей Пушкина и Гоголя. Имя В.A. Жуковского тесно связано и c польским романтизмом и одним из его ведущих фольклорных жанров – балла­дой. Вот почему исследование этих связей привлекало пристальное внимание критики, особенно польской, как в XIX, так и в ХХ в. Более того, Жуковский стоял у колыбели польского романтизма – самого могучего ли­тературного направления в Польше. B.A. Жуковский, создавая собственные баллады (1808–1833), ши­ роко черпал сюжеты и темы из английской и немецкой поэзии (Вальтер Скотт, Р. Саути, Бюргер, Уланд, Шиллер, Гёте и др.), переводя или свободно перелагая западноевропейских поэтов. Однако его переводы и подражания не бы­ли прямым следованием образцам, это были своеобраз­ные оригинальные произведения, о которых Жуковский говорил: «У меня почти все чужое или по поводу чужо­го – и все, однако, мое» [5, с. 123]. Это свидетельство постоянной интерпретации исходного материала в соответствии с собственной творческой индивидуальностью. «Соперничество» с тем, кого он переводил, было так высоко развито в поэте, что оно определяло, по сути, его творческую индивидуальность, его неповторимый поэтический облик, выразившийся осо­бенно ярко в создании русского национального стиля в балладах «Людмила» и «Светлана» – перенесение места-действия на русскую почву, использование русского фольклора, верований, языковых оборотов и т. п., – в необычном лиризме и поэтичности этих произведений; в раскрытии, говоря словами A.H. Веселовского, особой поэзии чувства и «сердечного воображения»[3, с. 21], которой бы­ли наделены и образы его героев, и картины природы. «Жуковский был переводчиком на русский язык не Шиллера или других поэтов Германии и Англии: нет, – писал В. Г. Белинский, – Жуковский был переводчиком на русский язык романтизма средних веков, воскрешенного в начале XIX в. немецкими и анг­лийскими поэтами, 134 преимущественно Шиллером. Вот значение Жуковского и его заслуга в русской литера­туре» [2, с. 167]. Связь Жуковского c новым направлением – роман­тизмом, романтический дух поэзии автора «Людмилы» интуитивно, остро, восторженно восприняли молодые польские поэты. Примечательно, что польских поэтов поразили глав­ным образом именно баллады с русским сюжетом и ко­лоритом, более созвучные им по своей славянской природе, а не рыцарско-средневековые. Уместно в связи с этим напомнить и другие слова B.Г. Белинского о том, как реагировали на «Людмилу» в России: «...“Людмила” в то время могла быть написана только Жуковским, – и стихи этой баллады не могли не удивить всех своею легкостью, звучностью, а главное – своим складом, со­вершенно небывалым, новым и оригинальным. Содержа­ние баллады самое романтическое <...>» [2, с. 168]. Польских поэтов привлекал близкий им по духу славянский колорит баллад Жуковского, побуждая их обращаться к польскому, литовскому и украинскому фольклору, и в этом проявилась их славян­ская историко-культурная и генетическая общность. Романтическое прочтение воспринимаемых поэтом иноземных образцов было естественно для романтика. Но при этом встает и другой вопрос: в какой мере такое восприятие передает объективную суть предмета? Немногими словами, одной – двумя вставками в другом стилистическом ключе Жуковский придает романтический характер шиллеров­скому тексту. Среди крупнейших писателей европейского Просвещения не было, пожалуй, ни одного, кто оказал бы на Жуковского столь большое воздействие, как Руссо. Речь идет не только о прямом влиянии. Можно указать на мыс­лителей и художников, в чем-то существенном более, чем Руссо, близких Жуковскому. Например, Гердер, чьи взгляды на историческое развитие человечества значительно сильнее импонировали Жуковскому, нежели руссоистская историческая концепция. Но именно Руссо не только способствовал развитию многих идей первого русского романтика, он был в неко­тором роде их источником: в страстном диалоге с ним, в процессе сложного диалектического притяжения и отталкивания кристаллизовались многие важнейшие стороны мировоззрения и творческой индивидуальности русского поэта. _______________ 1. Аверинцев С.С. Размышления над переводами Жуковского. / Жуковский и литература конца ХVIII–ХIХвека. – М.: Наука, 1988. 2. Белинский В.Г. Собр. соч.: В 3 т. – М., 1948. T. 3. 3. Веселовский А.Н. Поэзия чувства и сердечного воображения. – Пг. 1918. 4. Гоголь Н.В. Собр. соч. – М., 1980. Т.5. 5. Жуковский В. А. Собр. cоч.: B 4 т. – М.; Л., 1959. T. 1. 6. Реморова H.Б. Жуковский – читатель и переводчик Гер­дера // Библиотека B.А. Жуковского в Томске. – Томск, 1978. – Ч. 1. 135 К ВОПРОСУ ОБ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ В ПЬЕСЕ А.А. ПОТЕХИНА «ЧУЖОЕ ДОБРО ВПРОК НЕ ИДЕТ» Тамаев П.М., Иваново 1850–1870-е годы стали временем становления и утверждения русской драматургии. Национальная драма также стремилась сказать людям самое важное; ее сюжеты и действие воплощали вечные темы и истины: «Суд людской – не Божий», «Не так живи, как хочется» или поражали читателя и зрителя воплощенными метафорами «Горькая судьбина», «Власть тьмы». Теоретические суждения и художественная практика ведущих критиков и драматургов убеждают, что русский драматический канон определяется значительной идеей, сюжетом, а не интригой; характером, за которым видна судьба, но не маской или воплощенными пороком/добродетелью. Актерский ансамбль создавал спектакль, в котором разворачивалась «драматизированная жизнь», жизнь человеческого духа, а не хорошо организованное зрелище. Значимость художественных открытий Островского и Потехина, создателей народных драм и трагедий, будет оценена и признана Л. Н. Толстым. В своих письмах к этим писателям он назовет их знатоками народного быта и театрального дела, по сути, своими учителями в области драматической. Внимание к современникам-драматургам обусловливалось убеждениями Толстого в том, что русская драма в их лице вернулась к истокам. Драматическое искусство, считал Толстой, было всегда религиозным. Опыт русской драматургии был осмыслен им в известной статье «О Шекспире и о драме» (1906). Пьесы из народного быта как нельзя лучше отражали многочисленные коллизии крестьянского мира, который при умозрительном, отвлеченном подходе виделся таким стабильным, добротным, нерушимым. Русский крестьянин, живший многие века по законам натурального хозяйства, при соприкосновении с деньгами, силу и власть которых он не мог постигнуть (ему они представлялись в виде мифических существ – «вампира», «антихриста», «молоха», чей приход должен знаменовать конец мира, гибель всего сущего), становился в тупик, терял привычные жизненные ориентиры. Влияние денег было настолько сильно, что человек свободно преступал законы совести, по которым извечно жили его предки. В нем они пробуждали темные страсти, разрывали прочные связи с землей, домом. Деньгами проверяли человека: честен он или нет, способен ли на воровство, осталось ли в нем что-то святое, можно ли ему доверять. В народе широкое распространение имела притча о мальчике, нанятом на работу. Хозяин устраивал подростку испытание: как бы невзначай оставлял на столе пятачок, сам же подсматривал, как будет вести себя новый работник. Пятачок смущал мальчика, в его душе 136 шла борьба, оглядевшись вокруг, он торопливо совал его в карман. Все начинается с малого – такова мораль этой истории. А.А. Потехин в пьесе «Чужое добро впрок не идет» (1855) воспроизводит ситуацию, которая почти в точности повторяет обстоятельства притчи о мальчике и пятачке. Грехопадение главного героя драмы начинается также с малого – с истертого гривенника. Он утаивает от отца заработанные деньги. Как и в притче, эта монета в драме не просто реальный предмет, но символ, олицетворение дьявольской силы, смущающей душу, губящей ее. Пьеса начинается в эпически спокойном тоне. В ремарке, открывающей первое действие, описывается «отдельная изба постоялого двора»: «...печь и лежанка выложены изразцами <...> Медный самовар стоит на лежанке. На перегородке наклеены раскрашенные яркими красками лубочные картинки» [1, т. 9, с. 239, курсив мой. – П. Т.] . Предметы обстановки и убранства свидетельствуют, что в доме царит порядок, здесь особая нравственная атмосфера, в семье – достаток. Лубочные картинки, которые видит зритель, носят характер рисованных поучений. В них зримо представлены жизнь грешников и жития святых, сюжеты сказок и притч. Человеку дается конкретный урок неблаговидного поведения или добродетельных движений души, подвижничества. Размеренное, привычное течение жизни в семье Степана Федорова внезапно нарушается. В доме происходит событие, которое можно оценить как случайное, однако в дальнейшем оно обретает огромное значение, превращается в драматически необходимое. Возвращавшийся с ярмарки купец теряет на постоялом дворе пятьдесят тысяч. Деньги находит Михайло, мечтающий отделиться и жить своим домом. Такова исходная ситуация пьесы «Чужое добро впрок не идет». Сюжет об утерянных богачом деньгах и их находке бедняком, чаще всего ямщиком, извозчиком, в русской литературе был довольно распространенным в беллетристике 1830–1840-х годов. Кроме того, он бытовал и в устной форме – в виде коротеньких бывальщин, анекдотов, поучений. Однако в пьесе «Чужое добро впрок не идет» он служит лишь завязкой, началом большой драмы. Обращение Потехина к распространенному сюжету было правомерно еще и потому, что невероятное событие, лежащее в его основе, представляет собой богатую коллизиями ситуацию, более всего соответствующую природе драматического искусства, так как исходная ситуация определяет динамику действия, позволяет выявить способности человека к добру и злу, обнажить мотивы поступков персонажей. «В настоящей драме, – писал Потехин, – я должен был иметь дело с самыми грубыми элементами души: я должен был проследить падение человека вследствие самой жестокой страсти корыстолюбия...» [2, с. 134]. Вторгшаяся в дом Степана Федорова неизвестная чужеродная сила испытывала на прочность заведенный порядок, власть отца, 137 родственные связи и отношения, но главное – ее воздействие выявляло нравственную суть человека, внутреннее его состояние, душевные противоречия. В этом плане интересна сцена, в которой главный герой остается один на один с деньгами (как и в притче): «Деньги! Да сколько!.. (Озирается, подходит к дверям и запирает их на крюк <...>) Вот привалило! Да тут... тысячи... Вот заживу! Вот отделюсь от отца... Сказать ему али нет?.. Сказать, – себе возьмет либо объявит... Не скажу! <...> Не отдам! Я нашел – мое счастье! Никому не скажу!» [1, т. 9, с. 263]. Приведенный монолог, синтаксический строй которого представляет собой чередование восклицательных и вопросительных конструкций, внезапно оборванных фраз, довольно точно передает все оттенки внутреннего состояния Михаилы. Чувство внезапной радости сменяется ощущением страха: «Михайло вздрагивает», «дрожащие руки плохо ему повинуются» [1, т. 9, с. 243]. Голос совести говорит ему, что деньги чужие, однако страстное желание обладать этим богатством подавляет все. Став обладателем огромной суммы денег, Михайло почувствовал, что ему все дозволено. В нем пробудились страшные, дикие, необузданные силы, которые толкают его к бездне. Находясь в состоянии куража, Михайло преступает то, что вчера еще было свято, крепко, незыблемо. Вольготная жизнь совсем отрывает его от дела, дома, семьи. Михайло нарушает супружеский долг, освященный клятвой перед Богом, отрекается от детей («пропадай они совсем»). Последнее было тяжким грехом, так как ребенок считался в народной среде ангельской душою, символом чистоты и непорочности. Один шаг оставался Михайле до бездны: он задумал убить родного отца, чтобы овладеть всеми деньгами. Попранием семейных, религиозных канонов, а также законов совести персонаж драмы Потехина напоминает былинного Ваську Буслаева. На физическую мощь своего героя, широту его натуры, напоминающие былинного персонажа, указывал сам автор. Роль Михаилы в премьере 1856 года на сцене Александринского театра исполнял актер Мартынов. Вот каким он запомнился Потехину: «Мартынов был невысок ростом и очень тщедушен, худощав, но сила нравственного возбуждения проявлялась в такой мере, что он казался богатырем, верилось в его богатырскую телесную силу и не казалось невозможным, что он в состоянии вырвать из дверей железный крюк, и хвастовством пьяного человека его бешеный крик: “На пятерых один пойду, пикнуть не дам!” Он, действительно, был страшен и могуч в эту минуту» [1, т. 12, с. 333, курсив мой. – П. Т.]. Богатырскую мощь и широту натуры Михаилы блистательно представлял и П. В. Васильев. А. А. Стахович так описывает игру этого актера: «Смотря <...> на Васильева, становилось понятным, что попадись в эту минуту Михайле под руку топор вместо бутылки, которая полетела в голову брата, то он уложил бы его и отца...» [1, с. 239]. 138 Драматическая фабула пьесы «Чужое добро впрок не идет» проста. В основных, узловых моментах она напоминает историю молодца из «Повести о Горе-злочастии». Сам автор так характеризует свою работу над фабулой пьесы «Чужое добро впрок не идет»: «Наконец, я кончил драму <...> Признаюсь, это произведение стоило мне большого труда, потому что ход его не завязан на интриге, которая, служа центром всех событий, весьма облегчает расположение и группировку их...» [2, с. 134]. Поэтому жанр ее можно определить как пьеса-притча. Дух приобретательства, алчность скрыты от посторонних глаз. Внешне в семье все благопристойно: мудрый, расчетливый, патриархальной закваски хозяин, сыновья, покорно подчиняющиеся его твердой воле, послушная сноха, одним словом – все чинно. Но таившиеся до поры до времени силы обнаруживают столько энергии, что рушится заведенный порядок, гибнет дом, семья. Внезапно свалившееся богатство удесятеряет хитрость и жадность Степана Федорова. Отобрав у Михаилы найденные деньги, он намеревается их утаить, не возвращать хозяину, хотя тот всего несколько часов назад расхваливал добродетели владельца постоялого двора. Степан Федоров все обдумал, все рассчитал: добытые без труда деньги следует пустить в оборот, ввести в дело. Однако его расчетам не суждено сбыться. Не учел Степан Федоров буйной, страстной натуры своего старшего сына, загулы которого нарушают хитроумный план. Покоя не стало в доме: хозяина более всего заботит, как бы не узнали о находке, к тому же его постоянно терзает Михаила, вымогая деньги на свои кутежи. Страх потерять нечаянное богатство, непокорность сына определяют жестокость поступков главы семьи: он проклинает Михаилу, выгоняет сноху с детьми из дома: «Да! Я вас проучу!.. Против меня пошли, думали на шею сесть... Я вам покажу себя! Ты у меня с женой-то да с ребятишками посбираешь... походишь по миру...» (там же). Драматические события, которые развертываются в пьесе, все более обнажают злое начало, власть темных сил. Доведенный до отчаяния, Степан Федоров почти потерял рассудок, в душе его – смятение и страх; он понимает, что деньги губят семью, сына, дом: «Вот оне здесь... (Бьет себя по груди.) Всякий час их с собой ношу... Кажись, душу-то оне мне жгут. Чужие ведь оне!.. Нет, надо воротить их... Проклятые оне в моих руках, проклятые... (Вынимает из-за пазухи бумажник, развертывает и начинает доставать оттуда деньги, которые раскладывает по столу.) Вот оне... вот... Клад этот... в огонь оне оборотятся... И меня сожгут... И семью всю выжгут... И дом сожгут... И все мы прахом будем» [1, т. 9, с. 340]. Казалось, голос совести, нравственная память говорят ему, что владеть чужим – значит продавать душу дьяволу, однако желание обладать богатством, переходящее в страсть, заглушает все: «А бабьи то сказки <...> (Берет в руку кучу ассигнаций.) Вот не жгут... Четыре 139 месяца на груди носил, а не сожгли... А еще от них же тепло было, хорошо таково, как подумаешь, сколько-де денег-то у меня...» (там же). С этим чувством и мыслью утаить деньги, обмануть родных («Я поеду завтра... скажу, что поехал деньги отсылать, а сам не пошлю»). Однако намерениям Степана не суждено сбыться. События развертываются стремительно. Если прежде один день был похож на другой, то теперь обстоятельства меняются ежечасно. Борьба добра и зла достигает своей кульминационной точки. Жестокая страсть корыстолюбия, овладевшая всем существом Михайлы, толкает его на более страшное, чем прежде, преступление. Он замыслил убить отца, чтобы обладать всем богатством безраздельно. Но поднять руку на человека, тем более родного, оказывается делом непростым. Драматург показывает тот момент внутренней жизни персонажа, когда он в своем падении дошел до предела, до роковой черты и вдруг ясно увидел себя на краю бездны. Страх охватывает Михайлу, когда он приближается к лавке, на которой спит отец. Ужас сковывает движения и, как молния, озаряет сознание: «Что же я делаю? <...> Нет, нет... Погоди... <...> А Бог-от?.. Отец ведь! Ой, нет, нет!». В драме «Чужое добро впрок не идет» финальное четвертое действие протекает в необычной обстановке: «на сцене темнота», которая обозначает не столько физический аспект, отсутствие света, сколько некую мифическую силу, поглотившую дом Степана Федорова, его обитателей, их ум, душу. Так в драме-притче возникает новый образсимвол – образ тьмы. Убеждают в этом мнении картины последнего действия. Вначале появляется хозяин дома «с зажженной свечой в руках». В обстановке гнетущей темноты звучит его монолог – исповедь перед самим собой. Слабый, дрожащий, с трудом рассеивающий тьму огонек свечи как бы символизирует едва пробивающийся голос совести: «Нет, надо воротить их... Проклятые оне в моих руках, проклятые...»). Однако страсть корыстолюбия заглушает светлое человеческое чувство: «Мои будете, мои. Вот вас сколько!.. (Кладет бумажник за пазуху.) Никто их у меня не отнимет... Ах, весело с вами, хорошо!.. (Гасит свечу.)». Последняя ремарка не менее значима в тексте, нежели речь персонажа, так как она подчеркивает победу зла, сошествие Степана Федорова «во тьму». Так в драме-притче расширяются функции ремарки, усиливается ее художественный потенциал. В данном случае она из подсобного информативного приема вырастает в символическую деталь. Нравственно опустошенным оказывается в последних явлениях пьесы и Михайло. Драматург убеждает читателя и зрителя, что такой результат закономерен: людям, преступившим законы человечности, грозит духовная смерть. Потехинский персонаж утратил чувство реальности – вокруг темнота, и в физическом плане («на сцене темнота»), и в условном. Охватившая душу тьма порождает страх, ужас ско140 вывает все существо Михайлы. Его психологическое состояние автор передает с помощью ремарок: «Михайло бледный, растрепанный...», «дрожа всем телом...». Однако в такие минуты душевного напряжения, когда человек оказывается на краю нравственной гибели, должны «сработать», как считает автор, «инстинкт или чутье правды и совести» [1, т. 12, с. 327]. «Мужицкая драма» заканчивается покаянием Михайлы и всеобщим согласием в семье Степана Федорова. Внешне может показаться, что автор намеренно снимает противоречия, нарушившие отлаженный традициями патриархальный порядок. Обусловлен подобный финал стремлением драматурга следовать в русле эстетики религиозного и духовно-дидактического театра. Выдвижение на первый план вопросов о нравственной законности человеческих поступков, о правде и грехе, о возможности внутреннего совершенствования человека связывало художественное произведение в единое целое, позволяло четко определить позицию автора. Своеобразное преломление мотива проверки деньгами мы находим в повестях Л. Н. Толстого «Поликушка» и «Фальшивый купон». Ориентация на приведенную притчу явственно ощущается и в его народной драме «Власть тьмы». Не случайно она имеет подзаголовок «Коготок увяз, всей птичке пропасть». Авторская позиция обусловила ориентацию драматургов на формы, выработанные народом в течение веков. _______________ 1. Потехин А.А. Сочинения: В 12т. – СПб., 1903–1905. 2. Потехин А.А. Письмо М.П. Погодину, 23 января 1855г. // Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. – СПб., 1900. – Кн. 14. 3. Стахович А.А. Клочки воспоминаний. – М., 1904. 4. Потехин А.А. Письмо М.П. Погодину, 23 января 1855 г. // Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина. – СПб., 1900. Кн.14. САМОИРОНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ А. ТИНЯКОВА Иванова И.Н. Ставрополь А.И. Тиняков (Одинокий) (1886–1934), практически неизвестный так называемому «широкому читателю» и, к сожалению, нечасто привлекающий серьезное профессиональное внимание литературоведов, – один из самых интересных персонажей Серебряного века. Прославившийся не столько стихами, в большинстве своем весьма банальными, сколько скандальным «жизнетворчеством», Тиняков вызывал 141 живой интерес своих современников – Брюсова, Гиппиус, Ходасевича, Гумилева, Г. Иванова – именно как жизнетворческий феномен, человек, делающий свою личность словно по завету Анненского в ироническом сонете «Человек»: «И был бы, верно, я поэт, Когда бы выдумал себя». Страстно стремясь к славе и сознавая недостаточность своего дарования и непреодолимую «вторичность» стихов, Тиняков решает «добрать» славы, активно экспериментируя с собственной личностью, главным образам в узаконенных эпохой и эстетизованных общественным мнением алкогольно-эротических «падениях», но не только в них. Так, одна из самых громких историй, связанных с этим скандальным персонажем, – одновременное сотрудничество в либеральных и черносотенных газетах, возмутившее литературную общественность, в то время весьма откровенно политизированную. Но то, что для других – предательство, двурушничество, циничное лицемерие, в этико-эстетической системе Тинякова – естественно, и, знакомясь с ним ближе, наиболее проницательные из его современников и коллег по цеху (Ходасевич, Иванов, Волынский) это понимали. Позже, в набросках автобиографии, Тиняков пытается объяснить эту особенность своей личности, но, конечно, не слишком убедительно для нормальных «порядочных людей». «Я ни в какой степени не подлец, а просто крайне своеобразный человек» [2, с. 17]. Самое интересное, что невероятное скандальное «имиджмейкерство» (как жаль, что тогда не знали этого слова) ему все же удалось. История литературы не сохранила имен множества авторов добротных книжек стихов, выходивших десятками едва ли не каждый день в то поэтическое время, когда чуть не каждый гимназист или курсистка писали подобные тексты, а вот имя Тинякова сохранила. Роль этой незаурядной личности в истории Серебряного века определил Н.А. Богомолов: «Человек ограниченного таланта, воспринявший все соблазны и искушения эпохи как руководство к действию, тем самым становится не просто «одним из», но и тем образцом, по которому можно изучать сами каноны, принципы и неписанные законы символизма» [1, с. 7]. Над ним смеялись, презирали, брезгливо отстранялись, иногда увлекались (его выдуманный «имидж» нравился окололитературным барышням-декаденткам). Он же отвечал «то сверхчеловеческим самомнением, то безмерным самоуничижением» [1, с. 3]. Соединить это в нечто относительно цельное и единое способна, как нам кажется, только ирония. Именно ирония (самоирония) может использовать презрение и унижение как строительный материал для жизни и творчества, дает возможность ускользать от однозначных этических оценок (по крайней мере, в исторической перспективе, на которую Тиняков и рассчитывал. На наш взгляд, своелбразная самоирония позволила Тинякову стать тем, чем он все-таки стал, и занять пусть скромное, но свое место на Парнасе русской поэзии Серебряного века при почти полном отсутствии яркого поэтического дарования. 142 Уже при жизни Тинякова было замечено его сходство с персонажами Достоевского. Так, проницательный Ходасевич, внимательно всматривающийся в Тинякова, не без легкой брезгливости утверждает: «Было в нем что-то от «подпольного» человека, растравляющего себя явным унижением и затаенной гордыней. Недаром посвятил он цикл стихов памяти Федора Павловича Карамазова» [2, с. 10]. «Карамазовских» стихов у Тинякова немало, и в первую очередь это упомянутый Ходасевичем цикл – «Цветочки с пустыря» со знаменитым «Плевочком» (книга стихов «Navis Nigra», 1912). По воспоминаниям современников, именно с этим текстом Тиняков приставал к «фармацевтам» (не имеющим отношения к литературе посетителям «Бродячей собаки»), провоцируя их на скандал путем чередования самоуничижения и самовозвышения, пародирующего приемы великого ироника Сократа. Интересно, однако, что «Цветочки с пустыря», при всем их очевидно банальном декадентстве, отчетливо ироничны и самоироничны и представляют собой отнюдь не литературное хулиганство, а этюды на классические для символизма темы смерти, распада, разложения, представленные в бодлеровской тональности или с оттенком «юмора висельника». В стихах этой тематики, как правило, очень сильно рефлексивное начало, акцент не на смерти, а на осознании смерти, на парадоксе разлагающегося сознания и его трансляции в вечность – тема, непредставимая без «черной» иронии: «умереть... и с сознанием гнить» («Последнее желание»). Такова, например, «Весна» – явный отголосок «Падали» с характерной реакцией лирического героя: «Жизни новой зарожденье Я приветствую улыбкой, И алеют, как цветочки, Капли сукровицы липкой» [2, с. 75]. Таков открывающий цикл «Плевочек»: «Любо мне, плевкуплевочку, По канавке грязной мчаться...» Почти все стихотворения цикла написаны от лица «Я», перемещающегося из сознания героянаблюдателя в любезные его сердцу огрызки, плевки, выброшенные тряпки и прочие мусорные артефакты (заметим, одна из любимых тем искусства второй половины – конца ХХ века, например, того же Георгия Иванова, описавшего Тинякова в воспоминаниях). В отличие от бодлеровской «Падали», предельно серьезной и возвышенной по тону, или стихотворений «проклятых поэтов», Тиняков вносит в свои «Цветочки...» явную иронию, адресат которой трудноопределим. Монолог плевочка завершается дискурсом вполне блоковско-соловьевским: «В голубом речном просторе С волей жажду я обняться, А пока мне любо – быстро По канавке грязной мчаться» [2, с. 74]. Головокружительная ирония Соловьева, узаконенная Блоком (эссе которого об иронии вышло в год, когда был написан «Плевочек»), ирония, сочетающаяся со страстным пафосом и серьезным разговором «о последних вещах», вполне узнаваема у «опоздавшего родиться» Тинякова. Не менее впечатляющие авторские самоидентификации представляют и другие стихотворения «Цветочков...» (на серьезные «Цветы 143 зла» и демонизм во всей мрачной красоте не хватает ни смелости, ни таланта, возможно, отсюда название). Это изъеденный молью сюртук («Старый сюртучок»), видящий отраженье Вселенной в паучке. Почему бы и нет: вспомним вечность в виде бани с пауками у Достоевского и популярный рисунок Добужинского, представляющий мировое зло в виде гигантского паука. Масштаб у Тинякова, конечно, не тот, но на своем уровне подчеркнуто «маленького человека» его лирический герой переживает ту же экзистенциальную проблематику. Кстати, на наш взгляд он ближе не Карамазову и даже не герою «Записок из подполья», а Игнату Лебядкину, в поэзии которого так же играют самоуничижение и сатанинская гордость, подменяя одна другую в болезненном самоиронизировании. Вполне по-лебядкински звучит: «И – завершенности любя, – Люблю я вас, огрызки! И жизнь, и смерть идут, губя! Все к Пустырю мы близки!» [2, с. 73]. В числе прочих Я-персонажей – обглоданная кость с того же пустыря, мечтающая стать орудием убийства, влюбленный скелет, страстно зовущий в свои объятия «соседку» (явная самоирония в контексте эротических скандальных экспериментов поэта), дохлый паукптицеяд, ставший человеком, но в сущности оставшийся пауком, и, наконец, просто гад («я – гад, я все поганю...») со стандартной богоборческой риторикой. Нельзя не заметить, что там, где ирония изменяет Тинякову, его стихи превращаются в нечто третьесортно-декадентское и невозможно старомодное (книга вышла в эпоху рождения акмеизма и футуризма, но тематически и стилистически это декадентство начала девяностых). Таковы «Молитва гада» и «Ретроспективные воспоминания» с их банальным демонизмом, осмеянным еще поздними романтиками. То же можно сказать об эротических стихотворениях Тинякова, незадачливого ученика боготворимого им Брюсова. Но если убежденный ироник Брюсов, как правило, выводящий «тяжелый» эрос из зоны иронии, умеет оставаться мастером и не скатиться в пошлость, то Тинякову это далеко не всегда удается. Вот типичный образчик его эротической лирики («В амбаре»). Под нами золотые зерна, В углах мышей смиренный писк, А в наших душах непокорно Возносит похоть жгучий диск. Нам близок ад и близко небо, Восторг наш плещет за предел, И дерзко вдавлен в груды хлеба Единый слиток наших тел! [2, с. 26] Сходный сюжет есть у Блока («Прикорнувши под горою...»), герои которого – «мистик» и «скептик» – оба испытывают «половое влеченье», 144 но если дурень-мистик только «молит о любви», то ловкий скептик находит (правда, не в амбаре, а на сеновале, но ситуация та же) храпящую юную деву и решает свою сексуальную проблему. Стихотворение Блока, не включившего «Прикорнувши под горою...» в «Стихи о Прекрасной даме», но написавшего этот текст параллельно им и в том же смысловом и символическом поле, не более чем забавно и по-своему остроумно. Стихотворение Тинякова – просто пошло, потому что серьезно. В следующей книге стихов «Треугольник» (1922) и третьей прижизненной книге «Ego sum, qui sum» (1924) картины «страшного мира» («В чужом подъезде», «В притоне», «Проститутка», «Мальчик из уборной», «В лепрозории» и др.) благословляются поэтом как проявления многоликой и прекрасной в этой многоликости жизни, что часто создает ощущение отсутствия цельности и противоречивости авторской позиции. В неизданной «Весне в подполье» (1912–1915) (отметим вполне «достоевское» название!), часть стихотворений которой вошла в «Треугольник», Тиняков объясняет суть своего мироощущения, вполне романтического, точнее, романтико-иронического: «Я понимаю мир как Благо. Я ощущаю мир как Зло. Плодом этого противоречия является настоящая книга» [2, с. 124]. Надо сказать, что читатели Тинякова, в том числе и вполне «культурные» и, казалось бы, подготовленные эстетической школой символизма к адекватному восприятию лирического «Я», склонны были отождествлять автора и героя, как наивные школьники. К этому, конечно, приложил руку и сам поэт, слишком буквально воспринявший призывы Брюсова и других лидеров символизма к жизнетворчеству и действительно создавший «поэму» из собственной жизни. Зато все искренне возмущались, читая, например, «Искреннюю песенку» – второй по популярности «шедевр» Тинякова из «Треугольника», бесконечно цитируемый в не столь уж многочисленных отзывах критики. Я до конца презираю Истину, совесть и честь, Только всего и желаю: Бражничать блудно да есть. Только бы льнули девчонки, К черту пославшие стыд, Только б водились деньжонки Да не слабел аппетит! [2, с. 98–99] К той же тематике и в той же стилистике Тиняков обращается уже в советское время, будучи «сотрудником Советских газет», как он гордо себя именует. «Моление о пище», «Я гуляю!», «Homo Sapiens», «Без морали» – абсолютно «лебядкинские» тексты, прославляющие «жратву», водку, проституток и прочие «радости жизни», не одобряемые общественной моралью. Однако подобно Лебядкину, который является у 145 Достоевского весьма сложным персонажем, как и другие «подпольщики», герой Тинякова понимает, что в циничном «свету ли провалиться или вот мне сейчас чаю не пить» выбор большинства, скорее всего, будет не на стороне «общечеловеческих ценностей». Надо отдать должное Тинякову: он никогда не утверждал, что тексты, подобные «Искренней песенке», являются обычной сатирой, а их «герои» – представители прежнего строя, этакие пережитки капитализма, не то что «настоящие советские люди». Но и вслух признаться, что «Я» его поэзии – это и есть А.И. Тиняков, советский служащий, конечно, тоже не выход, да и не соответствовало бы это причудливой этической диалектике тиняковских текстов. Поэтому он – в который раз! – пытается объяснить читателю (уже советскому, не воспитанному еще рассказами Зощенко, иногда очень напоминающего Тинякова в прозе) свою ироническую поэтику. «Дело поэта состоит не в том, чтобы строить или переустраивать жизнь (рискованное признание в середине 20-х! – И.И.), и не в том, чтобы судить ее, а в том... чтобы отражать ее проявления. Если я передаю настроения загулявшего литератора, с восторгом говорящего о своем загуле, – это отнюдь не значит, что я «воспеваю» его и утверждаю как нечто положительное» [2, с. 111]. И в то же время эти стихи написаны настолько «от себя» (ср., например, автобиографию, где поэт мечтает о «смачной, мясистой бабе» и «хрустящих червонцах»), и с таким знанием дела, да еще так подсвечиваются «дооктябрьской» репутацией поэта, что «загулявшего литератора» трудно было не узнать в лицо, несмотря на его спасительную иронию, все-таки сделавшую его поэтом. В одном из последних стихотворений последней прижизненной книги «Ego sum, qui sum» – «Моим гонителям» – Тиняков весело, и уже без «демонической» бодлерианской серьезности, скорее в манере Вийона (вот, где он сошелся со своим ровесником Гумилевым, от которого фактически отстал на два поэтических поколения!) заявляет своим критикам: И в ответ на все страданья Я скажу: хоть как терзайте, Хоть возьмите – расстреляйте, – Я – свободное созданье! Нынче – левый, завтра – правый, Послезавтра – никакой, Но всегда – слегка лукавый И навеки – только свой! [2, с. 119]. _______________ 1. Богомолов Н.А. Предисловие // Стихотворения. – Изд. 2-е, – Томск; М.: Водолей, 2002. 2. Тиняков А.И. (Одинокий). Стихотворения. – Изд. 2-е, – Томск; М.: Водолей, 2002. 146 РОМАН И. ШМЕЛЕВА «СОЛДАТЫ»: НЕУДАВШИЙСЯ ЗАМЫСЕЛ ИЛИ ТРАГЕДИЯ АВТОРА Егорова Ю.М. Москва В литературном мире трудно найти автора, чьё творчество не таило бы загадок. Одной из них является история создания незаконченного романа И.Шмелёва «Солдаты». Не приняв октябрьскую революцию, писатель с семьей перебрался в Крым. Приход на полуостров советской власти в 1920-м году ознаменовался начавшимся там террором, а для семьи Шмелёвых ещё и арестом, а потом и расстрелом единственного сына. Пережитое в те годы в Крыму писатель подробно изложил в известном романе-эпопее «Солнце мёртвых» (март-сентябрь 1923), который стал своего рода эпитафией всем жертвам террора: «...Что было пережито им <Шмелёвым. – Ю.Е.> в Крыму, мы можем догадываться по “Солнцу мёртвых”, которое французский критик сравнивал с Дантовским Адом после изображения. Но ад-то был реальный, земной, а не потусторонний. Самые интимные личные страдания, однако, в этой книге целомудренно скрыты, поэтому и мы не имеем права говорить о них, пусть о них когда-нибудь скажут другие» [4, с. 129]. Для русского зарубежья произведение не стало сенсацией, в отличие от остального мира, где «“Солнце мёртвых”, переведённое почти сразу на несколько иностранных языков, произвело большое впечатление в нерусском мире, тогда довольно равнодушном ко всем рассказам об ужасах большевизма... и если... сейчас при перечитывании производит впечатление, то это надо отнести на счёт художественного таланта Шмелёва» [11, с. 95]. В отличие от «Солнца мёртвых», начатый в 1925-м году роман «Солдаты», несмотря на грандиозность замысла, скорее можно назвать эпитафией, романом-посвящением трагически погибшему сыну. Действующие лица – офицеры русской армии, главный герой – потомственный военный, капитан, а затем и полковник Бураев, представлены автором в первую очередь как носители старых военных традиций Российской империи и рыцарской чести. «Он с неприязнью относится к либеральным интеллигентам, видя в них реальную опасность для благополучия страны» [13, с. 238]. Таким был и Сергей Шмелёв. Можно предположить, что именно разговор о нём и есть те «интимные личные страдания» Шмелёва-отца, о которых пишет профессор Н. Кульман. Им не было места в «Солнце мёртвых», они, как сокровенное, как ностальгия по утерянному, нашли своё отражение в «Солдатах». По словам племянницы жены писателя Ю. Кутыриной, Шмелёв «... всегда избегал говорить о своём неизбывном горе – потере единствен147 ного сына Сергея Шмелёва, для него – Серёжи, расстрелянного в Крыму в 1921 году. “Это моё личное, я не хочу выносить это наружу”, – говорил он и до конца нёс молчаливо свою тяжкую скорбь о нём» [4, с. 129]. Не решаясь вынести боль потери на страницах «Солнца мёртвых», Шмелёв изливал горькое содержимое своих снов на страницы записной книжки: «Сны о сыне Серёже Париж. Днём. Понедельник, 27.III.23 9 апр. 23 г. Видел во сне: старая пожилая русская женщина... с лицом, как бы взволнованно-напряжённым, таящем в себе что-то, что она сейчас торжественно-радостно сообщит. Я жду в волнении. И она говорит с тем же взволнованным и бледным лицом: – А ведь, ваш сын, ваш Серёжа – жив!.. ...я сдерживаюсь, как бы от радости и боли, что это окажется ложью... Днём 25.IV.23. Видел сон... в какой-то комнате – молодой человек, очень похожий на Серёжечку, но бородка юности чуть рыжевата. Всматриваюсь – он!... И я кричу, бросаюсь к нему, целую... 17 мая 1923 г. Видел Серёжечку... где-то в большой комнате у столба... Ему необходимо идти куда-то, куда-то его требуют. Он смотрит на меня, как бы прося глазами, но как всегда, скромный, деликатно говорит, чуть слышна просьба: – Ну, папочка, ведь у меня 39 градусов одна десятая... Я его, кажется, целую или с великой жалостью держу за плечи. Он, кажется, в ночной сорочке. Я смотрю – шейка голая, желтоватая, и с левой стороны от меня, на шейке немного загорелой, – желтоватой, – мазок кровяной. И его глаза, милые, кроткие глаза...» [4, с. 137–138] «Солнце мёртвых» – трагедия русского народа, и «сны о сыне» – «живые документы страшной муки, пережитой... Иваном Сергеевичем Шмелёвым и его женой, и страданий, не покидавших его до самого конца», психологически подготовили писателя к написанию романа «Солдаты». Впервые наброски к роману «Солдаты» в виде отдельных рассказов появились в эмигрантской печати в конце 1925 года. Один из них – «Душный день» – был опубликован на страницах «Русской газеты». Вслед за успехом «Истории любовной», «Современные записки» попросили у Шмелёва новый роман. Поколебавшись, писатель предложил главы «Солдат», начатые ещё летом 1925 г. Неуверенность в успехе были продиктованы тем, что роман создавался с перерывами. Шмелёву требовалось вдохновение, особое настроение, чтобы придать произведению плавность повествования и выстроенную сюжетную линию. Он будто собирал мозаику, боясь ошибиться в точности и необходимости каждого эпизода, лишить цельности тот или иной образ. «... 148 выверить каждую деталь в новом произведении было задачей непосильной. Так что промахи неминуемо появлялись в тексте романа. Так, очень живые и интересные с художественной стороны диалоги офицеров и солдат часто звучали неправдоподобно для военного уха. Столь же неправдоподобными были и некоторые описания воинской жизни, военных правил и форменной одежды» [10, с. 203]. Наиболее основательно Шмелёв взялся за роман летом 1926 года, находясь в Капбретоне. Осознавая свою некомпетентность в военном деле, писатель «... почти ежедневно, а иногда и по нескольку раз в день ездил на велосипеде к Деникиным, чтобы проконсультироваться с генералом о различных деталях военной службы. Деникин, зная повышенную чувствительность автора, очень деликатно указывал на промахи в описании отдельных реалий и некоторых моментов военной жизни, стараясь как можно мягче выражать свою критику» [10, с. 203]. Шмелёв планировал закончить роман и опубликовать его в 1929 году, однако в связи с колоссальной занятостью и обязательствами перед издательствами и редакциями, а также участие в редколлегии журнала «Русский инвалид» помешало реализации задуманного. К тому же в это время писатель заканчивал книгу «Лето Господне», завершая работу над очерками «Благовещенье», «Говенье» и др. Таким образом в 1929 году роман так и не вышел. Его первая часть появилась лишь в 1930-м году в 41-й книжке «Современных записок», основанных эсерами левой ориентации Вишняком, Рудневым, Бунаковым. Несмотря на незавершённость, роман вызвал бурную и неоднозначную реакцию в кругу эмигрантской литературной критики. «Левые круги русской эмиграции интерпретировали его как попытку идеализировать царский режим в России» [10, с. 206]. А критик «Последних новостей» Георгий Адамович, рецензируя I-ю часть «Солдат», писал: «Можно сказать, что полковая среда изображена Шмелёвым слишком уж идеально... Беззаветно преданные денщики, бравые фельдфебели, лихие офицеры – всё это войско похоже на оловянное» [1]. В этом же издании появилась ещё одна статья, посвящённая роману. Её автор М.Александров (Кулишер) осуждает Шмелёва за выбор в качестве главного героя белогвардейского офицера образца старорежимной России: «Это явно тенденциозный тип, который презирается в советской литературе и выводится как злодей» [1], а издание «Современные записки» за публикацию пропаганды, завуалированной под литературу. Дорожившие репутацией журнала М. Вишняк и его соредактор В. Руднев «...не могли перенести обвинения в том, что “Современные записки” могут считаться монархическим органом» [10, с. 207]. В одном из писем М.Вишняк назвал роман «Солдаты» «черносотенной полицейщиной» [2, с. 183]. Во избежание положения двусмысленности было принято решение от имени редакции в письменной форме выразить Шмелёву своё разочарование. Письмо так и не было написано. 149 Другое русское эмигрантское издание, но уже в Праге также не приняло это произведение. Обозреватель «Воли России» В.Петров довольно резко отозвался не только о романе, но и обо всём творчестве Шмелёва: «... из эмигрантских писателей старшего поколения Шмелёв печатается меньше всех. Но каждый раз его очередное выступление вызывает чувство невольной неловкости и стыда, которые переходят в сожаление, если дело касается чисто литературной стороны произведений Шмелёва – или в возмущение и брезгливость, если речь идёт об их политической тенденциозности». Петрова возмутил факт появления «черносотенного» романа на страницах эсеровского издания. И далее, перейдя в своей статье собственно к роману, он продолжил: «... Если бы роман Шмелёва был произведением не то, чтобы вполне литературным – для этого его можно было бы оставить без внимания: мало ли пишется и печатается плохих романов. Но “Солдаты” – роман, прежде всего, “идеологический” и такой “реакционно-охранный”, каких вообще давно уже не появлялось в “большой литературе”. Роковая особенность заключается в обязательном и непосильном для автора философствовании и высказывании политически-государственных концепций жандармского характера, излагаемых сусальным языком какогонибудь “огородника Балунова”, который из подпаска сделался миллионером и теперь разговаривает о России. Ему вторят другие, вроде попа, который у Шмелёва “народ ведёт” – ни больше ни меньше – и ведёт его, оказывается, в чрезвычайно похвальном направлении – именно “к богу и к родине”» [5, с. 540]. Подводя итоги своих рассуждений, Петров так определил для себя главную мысль романа: «...покуда в народе дух – он живёт. Как дух пропал – долой со счёта» [Там же]. Также плоско была дана характеристика и главному герою – капитану Бураеву: «...капитан Бураев нежно умиляется всему военному и не перестаёт испытывать рыцарские чувства ко всем женщинам, которых встречает. В этом проходит его жизнь: полковой смотр и 76% попадания в его роте, женщины и “умные” замечания о “сволочи” и “интеллигентщине”. Тип героя. Этого самого “гладиатора” – смесь полкового писаря с кухонным Донжуаном – с психологией члена союза русского народа» [5, с. 541]. Подводя итог своей статье, критик сделал риторическое заключение, суть которого сводилась к тому, что классиком Шмелёв уже никогда не станет. И дело здесь даже не в «скверно написанном» романе «Солдаты», а в том, что «...не очень большие шмелёвские способности погублены чудовищной литературной некультурностью. Существует необходимый культурный уровень, обязательный для всякого интеллигентного человека и минимальный для писателя. К сожалению, Шмелёв находится значительно ниже его...» [5, с. 542]. В защиту Шмелёва высказался сотрудник «Современных записок» А. Кизеветтер. Роман «Солдаты» понравился ему «сочетанием художественной изобразительности с творческой интуицией» [10, с. 207]. 150 Как человек всесторонне образованный и увлечённый, он оценил, с какой точностью и со знанием дела описан быт и нравы дореволюционной Российской армии. После устроенной Шмелёву травли, начавшейся после выхода в свет первой части романа, Кизеветтер писал Вишняку: «Мне жаль, что “Солдаты” Шмелёва куда-то исчезли. Все кричали, что эта вещь бездарна. Это, конечно, вздор. Вещь очень талантлива. Ссылками на бездарность хотели просто прикрыть неудовольствие на то, что Шмелёв рисует военных сочувственно, тогда как согласно политическому “хорошему тону” требуется обливать военных презрением» [6, с. 515-516]. С мнением Кизеветтера был солидарен писатель второй волны эмиграции В. Рудинский. Четверть века спустя после выхода первой части «Солдат» он выразит мнение, что «Единственной ошибкой Шмелёва было то, что он осмелился встать на защиту исторической России против революции. Этого ему простить не могли!... И если даже он не выражал прямо монархизма, то уже во всяком случае – православие... то исконное, кондовое, наполняющее жизнь и само по себе являющееся политической программой, какое для левой интеллигенции неприемлемо решительно никак... Шмелёву не дали докончить роман... Величину этой потери для русской литературы, вероятно, оценят лишь в будущем. Именно такой роман – художественная правда о старой России и о революции, о её кознях, необходим нам сейчас и вдвойне будет необходим будущей России» [7, с. 95–108]. На выход первой главы откликнулась и литературная эмиграция Берлина. В газете «Руль» появилась статья А. Савельева, в которой автор выразил мнение, что «“Солдаты” ни в какой степени не отражают талант Шмелёва и что это работа скорее проповедника, чем художника» [8]. В новом романе критик не узнаёт автора «Человека из ресторана» или «Солнца мёртвых» – в «Солдатах» Шмелёв предстаёт перед читателем совсем другим. Развернувшаяся вокруг романа «Солдаты» ожесточённая дискуссия довела Шмелёва до острого малокровия и кардионевроза. Работа над романом была вынужденно приостановлена. «Солдаты» так и останется незаконченным произведением и в таком виде будет опубликован в Русском научном институте в Париже в 1962 году уже после смерти писателя. Устроенная Шмелёву травля дала свои результаты. Обычно всегда живой и полный творческих планов, писатель начал сомневаться в необходимости продолжать роман. Его меняющееся настроение и очевидную апатию уловил в письме Деникин. Так, 3 июня 1930 г. Шмелёв «...извещает своих друзей, что очень занят работой над очерками для “Лета Господня”» [10, с. 208]. В планы писателя входит закончить первый том «Солдат» и опубликовать его в «Современных записках», однако полной уверенности в его словах нет: «Не очень-то меня хвалят за 151 него, но я не унываю... Пока ещё раскачиваюсь с предвоенным временем. Может быть, и раскачаюсь, а не раскачаюсь – брошу. Ограничусь первым томом до прилива сил» [12]. Работа над романом приостанавливается почти на два года. За это время у Шмелёва зреет сюжет и появляются первые наброски новой книги «Богомолье», в которой автор отходит от военной тематики и погружается в детские воспоминания. Однако в 1932 году в «Иллюстрированной России» (Париж) вышел очерк «Зеркальце», который некоторые исследователи творчества Шмелёва называют самостоятельной главой романа «Солдаты». Но с финалом писатель не торопился. На вопрос Деникина, в чём причина, Шмелёв объяснял широтой замысла. Истина заключалась в том, что у него просто не было сил закончить это произведение. Роман так и остался незаконченным. По версии О. Сорокиной, «подкосила» Шмелёва «статья Александрова, которая произвела на писателя эффект доноса, причём доноса и правым, и левым. Он был страшно подавлен этим, тем более что “Современные записки” буквально вырвали из рук ещё не совсем отделанный роман» [10, с. 209]. Вместе с писателем несправедливость происходящего переживали и его близкие друзья: семья Деникиных, И. Ильин и др. Поддерживали Шмелёва и коллеги-писатели, и поклонники из среды эмигрантов, кто пережил весь тот кошмар, который описывал Шмелёв в своих книгах. Несмотря на долгие годы эмиграции, ему удалось остаться русским и сохранить в себе дух далёкой родины. Так, в 1933 году, когда русская литературная эмиграция отмечала 60-летие Шмелёва, К. Бальмонт писал: «Среди зарубежных русских писателей И.С. Шмелёв – самый русский. Ни на минуту в своём душевном горении он не перестаёт думать о России, мучиться её несчастьем, устремляться всей душой в художественное воссоздание России... Эта особая русскость Шмелёва, сказывающаяся во всех его произведениях, создала ему большую славу не только в России» [9]. Очень точно писателя назвал его близкий друг, русский философ И. Ильин: «Шмелёв – писатель мировой скорби», идея духовного творчества которого – «путь, ведущий человека из тьмы – через муку и скорбь к просветлению» [3, с. 137–195]. _______________ 1. Адамович Г. Солдаты ⁄⁄ Последние новости. – Париж. – 1930. – 5 мая. 2. Вишняк М. Современные записки. Indiana University Publication. – 1957. Р. 183. 3. Ильин И. О тьме и просветлении. Книга художественной критики: Бунин. Ремизов. Шмелёв. – М.: Скифы, 1991. 4. Кутырина Ю.А. Трагедия Шмелёва ⁄⁄ Возрождение. – Париж. – 1956. – №59. – С.129. 5. Петров В. О Шмелёве и «Солдатах» ⁄⁄ Воля России. – Прага. – 1930. – № 5-6 (май-июнь). 152 6. Письма А.А. Кизеветтера М.Вишняку ⁄⁄ Новый журнал. – Нью-Йорк. – 1988. – №172–173. – С. 515-516. 7. Рудинский В. Поучительный опыт ⁄⁄ Возрождение. – 1957. – №70. – С. 95–108. 8. Савельев А. Современные записки ⁄⁄ Руль. – Берлин. – 1930. – Кн. 42. 21 мая. 9. Сегодня. – Рига. – 1933. – 9 сент. 10. Сорокина О. Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелёва. – М.: Московский рабочий, Скифы, 1994. – С. 203. См. также: Деникина К.В. Иван Сергеевич Шмелёв ⁄⁄ Памяти Шмелёва. 11. Спиридонова Л.А. Трагедия И. Шмелёва, писателя и человека⁄⁄ Шмелёв И.С. Родное. М., 2000. 12. Унковский В. Певец Святой Руси. ⁄⁄ Рубеж. – Харбин. – 1932. – 27 февр. – №9. 13. Черников А.П. Проза И.С.Шмелёва: концепция мира и человека. – Калуга: Калужский областной ин-т усовершенствования учителей, 1995. ЮРИЙ СЛЕЗКИН: ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ Терехова О.М., Москва Юрий Слезкин (1885–1947) принадлежит к числу «забытых писателей» ХХ века, писателей второго ряда, популярных в прошлом и во многом повлиявших на формирование классической литературы. Современному читателю Слезкин известен в основном как герой автобиографической повести М. Булгакова «Записки на манжетах»; для булгаковедов же он представляет интерес только как персонаж биографии классика (Слезкин ввел Булгакова в литературное общество, стал его «крестным отцом»). В то время как само творчество Ю. Слезкина исследовано мало. Ю. Слезкин был писателем удивительно плодовитым и, безусловно, талантливым. Область его интересов составляли различные роды искусства – поэзия, проза, кино, театр. Им создано большое количество произведений, разнообразных по жанровой природе, имеющих свой стиль, свой характер. Творческий путь писателя начался довольно рано: в восьмилетнем возрасте он пишет стихи; позже пробует свои силы в прозе. О своем призвании быть писателем Слезкин скажет на страницах своего дневника так: «С 1902 года определилась, выкристаллизовалась во мне одна страсть, одна склонность, постепенно подчинившая себе чувства, пользующая их себе на потребу, – писательство. С 1902 года, что бы я ни делал, каким бы вздором ни занимался, куда бы ни уносился фантазией, кем бы и чем бы ни увлекался – все невольно подчинялось творчеству, все как бы становилось литератур153 ной канвой» [4, с. 208–209]. В 1902 году в газете «Петербургский листок» вышли первые рассказы Слезкина, а в газете «Виленский вестник» – его стихи. Уже в 1910 году появился первый сборник рассказов Слезкина «Картонный король». Рецензенты, пожурив автора за «“декадентство” дурного тона» («Речь»), за пристрастие к «дешевым эффектам» («Новое слово»), за «вычурность» сюжетов, все же признали в молодом писателе подающего надежды беллетриста. Читатели также с интересом отнеслись к первым произведениям Слезкина. Это произошло благодаря тому, что уже в этих произведениях проявилась главная черта его писательского таланта, характеризовавшая впоследствии все творчество в целом, – умение соединить замысловатый сюжет с простым живым языком. Слезкин, ободренный вниманием читателей, в первые годы своей деятельности создает большое количество новелл. Поражает разнообразие и нетривиальность избираемых им сюжетов и умение строить интригу. Его произведения отличает сложность фабулы и вместе с тем ее динамичное развитие. Каждая новелла имеет увлекательное начало, стремительное развитие и, как и полагается, неожиданную развязку. Слезкин-новеллист, захватив внимание читателя с первых же строк, удерживает его на протяжении всего произведения; при этом его прозе чужды пространные описания, длинные лирические отступления, ей присущи лаконизм и образность. Своей литературной манерой Слезкин выделялся из числа современных ему писателей, подтверждением чего могут служить слова Михаила Булгакова, написанные в его единственной критической статье «Юрий Слезкин (Силуэт)»: «В тот период времени, когда Слезкин выходил на арену, выдумка становилась поистине желанным гостем в беллетристике. Ведь положительно жутко делалось от необыкновенного умения русских литераторов наводить тоску. За что бы ни брались они, все в их руках превращалось в нудный частокол... Фантазер на сереньком фоне тяжкодумных российских страниц был положительно необходим. Такого расцвеченного фантазера ...беллетристика получила в лице Ю. Слезкина. Это было вовремя и вовсе неплохо» [1, с. 221–228]. Таким образом, можно утверждать, что Булгаков отметил главное: творческие интересы писателя совпали с интересами читающей публики. В своих новеллах Слезкин пишет об обыкновенных людях, ничем не примечательных, которые попадают в необычные, порой анекдотические жизненные ситуации. Раскрытие моральной сущности героя-обывателя подается автором в разнообразной жанровой «аранжировке»: Слезкин создает новеллы бытовые, фантастические и даже «страшные». Тема, начатая Слезкиным в новеллах, становится основой в его крупных предреволюционных произведениях – повести «Помещик Галдин», романах «Секрет полишинеля» и «Ольга Орг». Здесь предметом изображения становятся люди из дворянской и мещанской среды 154 с их пороками, переживаниями, страстями. В центре внимания оказываются слабые, бездеятельные люди, которые, видя и чувствуя слом, происходящий в стране, в мире, не могут и не хотят меняться. Они, как многие в ту пору, становятся «лишними» людьми. Будучи не в состоянии приспособиться или противостоять обстоятельствам, герои Слезкина замыкаются в себе, предаются разврату, «хоронят» себя в тоске и обывательщине, нередко единственным выходом для себя они видят самоубийство. Разлад, творящийся в душах героев, привлекает внимание автора, а вместе с ним – и внимание читателя. Слезкин настроение общества в момент исторического перелома, ему удалось изобразить характерную картину того времени. Одна из главных тем эпохи – проблемы и судьбы молодежи – легла в основу романа «Ольга Орг», который принес автору большую популярность. Опубликованный в 1914 году этот роман был издан более 10 раз, переведен на несколько европейских языков и экранизирован (в 1915 г. под названием «Обожженные крылья (Ищу я души потрясенной, прекрасной)» об-вом А.А. Ханжонкова). В центре повествования – Ольга Орг – 17-летняя гимназистка. У нее много подруг и поклонников; у нее есть семья; однако она чувствует себя одинокой, чужой в этой жизни. Внезапная тоска то и дело охватывает молодую девушку. Как приступ головной боли на нее нападает душевное отчаяние. И она, и без того постоянно сосредоточенная на себе, замыкается, уходит в себя. Она может часами сидеть и тосковать, и грезить о чем-то приятном. Ей кажется, что ее предназначение – стать кем-то больше, чем просто матерью и женой. Но кем? Она признается себе в том, что не может быть ни художницей, ни писательницей, ни даже актрисой. Потому что для актрисы у нее слишком мало терпения. Она никогда не стала бы великой, а маленькой – это не для нее. Ольга завидует Варе, которая, не сумев выбрать, от кого избавиться – от любовника или от его ребенка в утробе, решается покончить собой. Ольга говорит «неудачливой» самоубийце: «Я просто не знаю, что мне нужно... Поверь мне, я не такая счастливая, как ты, у которой есть из-за чего умирать» [5, с. 546]. Ольга не знает, чего она хочет, но зато она прекрасно знает, чего она не хочет: быть как все женщины, как ее мать – посредственной обывательницей (по мнению дочери), потерявшей за семейными заботами себя, свою личность, растворившейся в муже и детях, живущей исключительно их бедами и радостями. Однако при этом Ольга ничего не делает, чтобы найти себя, более того, когда ее финансовое положение становится тяжелым, она готова «примерить» на себя роль жены и матери, хотя и понимает, что это будет ложью с ее стороны, притворством, ведь она не верит, что это может стать ее уделом, в конце концов. Но что делать, если из сложившейся жизненной ситуации, как она думает, есть только один этот выход! Так, Ольга плывет по течению, у нее нет сил сопротивляться обстоятельствам, ведь у нее 155 нет стержня – веры, веры в Бога, в себя, в людей. Она винит мать в том, что та не научила ее верить. Вообще для всех членов этой семьи свойственно винить других в своих неудачах, но не себя. Они все большие эгоисты, живущие для удовлетворения своих потребностей – даже если это потребность чувствовать себя заботливой мамой, как у матери Ольги Ксении Игнатьевны. Никто из них не живет в реальности. Их мир – это или мир грез, или мир давно ушедший, мир воспоминаний. Никто из них не хочет принимать действительность такой, какая она есть. В свои 17 лет Ольга не видит будущего, она постоянно сталкивается с противоречием, которое возникает между ее мечтами и реальной жизнью. Она не приучена к труду. Для нее работа – это только лишь способ добыть деньги для праздного времяпрепровождения (которое для нее и является «настоящей» жизнью). Но все же Ольга понимает, в чем ее «беда», в чем «беда» таких же, как она (ведь она типичный представитель своего поколения): «У меня не было никаких идей, никаких желаний «работать», – я всегда смеялась над этим. Я была, как большинство у нас. Я ходила в гимназию, учила физику, историю, потому что их нужно было знать для ответа, читала очень много, читала все, что ни попадется под руку, и везде, и в гимназии, и дома, не чувствовала себя у себя, и было мне неуютно, и все казалось, что это только так, временно, что я на полустанке и скоро поеду дальше – туда, куда нужно... И мои подруги все такие... И потом вот мама что-то умеет делать – она очень аккуратная, ... она верит, что жена должна прощать мужу, что женщина должна молиться и страдать. Но я этому не верю, не могу верить, не хочу верить... И вот у меня нет дороги, никогда не было... » [5, с. 557–558]. Ольга Орг, не найдя себя, смысла своей жизни, не сумев побороть свой страх предстать перед любимым такой, какая она есть, решается на самоубийство. В этом она видит единственный выход убежать от себя. Рисуя трагическую судьбу девушки, автор показал трагическое положение всего поколения, оказавшегося «не у дел», потерявшего прежние ценности и не обретшего новые. Он приковывает внимание читателя к тем особенностям времени, в какое время он живет, хочет показать весь ужас подобного подхода к жизни, губительность подобных действий, а точнее бездействия. Роман имел огромный общественный резонанс. Автор очень четко и точно охарактеризовал поколение в момент «исторического бездорожья». Тему поколения «потерянных» людей Слезкин затрагивает и в другом своем романе – «Секрет полишинеля» (1913). Здесь главная героиня тоже умирает, но умирает не физически, а духовно: ради поддержания имиджа семьи (уважаемой в обществе, некогда богатой и ныне разорившейся) она становится содержанкой. Более того, ее к этому все время подталкивает мать: заставляет ходить к влюбленному в нее состоятельному человеку и брать у него деньги. У Людочки есть страсть в жиз156 ни – это занятия танцами. Она ходит в балетную школу; она влюблена в учителя. Она может быть счастлива в жизни, может найти свое место. Но обстоятельства вынуждают ее отказаться от любви, пойти по унизительному пути. Ей приходится взять на себя содержание своей большой семьи (у Люды две сестры и два брата), поскольку отец (ученый, занятый своими изобретениями) не знает (а может, не хочет знать) о трудном финансовом положении, а мать скрывает это от него, не желая расстраивать. При невозможности заплатить за квартиру мать считает немыслимым отмечать праздники не так, как они привыкли: на широкую ногу. Вечером они принимают гостей, а утром Людочка бежит в ломбард закладывать очередную вещь. Ее родители, как и родители Ольги Орг, – люди, живущие для себя, не желающие расставаться со своими иллюзиями, не желающие преодолевать трудности, пребывающие в своем удобном для них мире. Духовная нищета таких людей потрясает авторарассказчика, а вместе с ним и читателя. Роман заканчивается отчаянным обращением повествователя к подобному изуродованному в моральном отношении старшему поколению: «забудьте, что вы люди ... и танцуйте, танцуйте, пока хватит сил, ловите минуты,... живите только для себя, но раньше возьмите ваших детей, .... Возьмите их без жалости... убейте их сразу, чтобы их совсем не было среди вас, чтобы они своими глазами не говорили вам о будущем.... А потом пляшите, пляшите» [6, с. 67–68]. В этих произведениях Слезкин ярко и образно раскрыл проблему, стоявшую остро перед людьми, оказавшимися на стыке двух эпох. Он затронул одну из важнейших проблем человечества – проблему выбора жизненного пути, он обратился к тому, что волнует в той или иной степени каждого – поиск себя, своего предназначения, смысла жизни. Важная черта этих произведений – психологический анализ героев нового времени. Слезкин-повествователь предстает перед читателем знатоком человеческой психологии, особенно хорошо и подробно он раскрывает характер и душу женщины. В двадцатые годы после тяжелейших военных лет Слезкин переживает внутреннюю перестройку, что отражается на его творчестве. Он обращается к новой теме – место человека в современном ему революционноисторическом процессе, жизнь в новых условиях, причем его интересует в первую очередь существование и поведение интеллигенции в ситуации исторического слома. Он создает повести «Голуби» (1921), «Шахматный ход» (1923), роман «Столовая гора» (1922) (в 1924 году переиздан под названием «Девушка с гор». Героями, как и прежде, у Слезкина становятся обыкновенные люди, которые, пережив ужасы революции и гражданской войны, должны теперь выбрать свой жизненный путь. В романе «Столовая гора» Слезкин одним из первых затрагивает тему интеллигенции и революции, художника и народа. В центре повествования – герои, являющиеся выразителями разных взглядов на новую действительность. Это Милочка – начинающая художница и 157 поэтесса, Алексей Васильевич – писатель (прототипом этого героя был Михаил Булгаков) и Ланская – актриса. Милочка и ее единомышленники воспринимают революцию как начало новой, прекрасной жизни. Они рады строить новое общество, им по пути с новой властью. Ланская же (и такие, как она), напротив, отвергают новый путь, предложенный историей. Для нее нет ничего ужаснее, чем отказаться от старого, привычного уклада жизни. Единственно возможный для себя путь она видит в побеге из новой России. Она живет этой мыслью. Для Алексея Васильевича все не так однозначно. Он (как и многие интеллигенты того времени), оказавшись на перепутье, не может (или не хочет?) выбрать свой путь. Старое уже ушло, связь с ним он уже не чувствует, но новое еще не поманило за собой. Единственное, чего он хочет на настоящий момент, – это просто спокойно жить, писать роман, который потом можно будет опубликовать. В «Столовой горе» Слезкин один из первых советских писателей показал судьбы интеллигенции в период становления нового общества, показал те пути, которые возникли перед растерявшимися в новых исторических условиях людьми. Однако, несмотря на всю актуальность и новизну произведений Слезкина первой половины 20-х годов, критики выступили с претензией к их автору. Так, советским критикам не нравилось, что «революция показана здесь как-то очень уж с одного боку. Ее смысл раскрывается здесь в символах слишком интимных, комнатно-психологических... Мотив труда и перестройки личной жизни на этом принципе, под оздоровляющим влиянием революции, значительно омещанен тем, что все сведено здесь к комнатному психологизму, без той огромной общественной перспективы, в которой сама революция принесла этот мотив в действительности» [7]. Или: «все персонажи романа выписаны Слезкиным с большой мягкостью... Видно, что автор хотел бы бесповоротно отвергнуть, заклеймить презрением своих героев, но не может этого сделать. Портит книгу сантиментальность и избыток лиризма...» [8]. Критика, безусловно, оказывает влияние на Слезкина. Он пытается найти персонажи нового типа, ищет и новые стилевые решения. Из-под пера писателя в это время выходят произведения разнообразных жанров: роман-памфлет «Кто смеется последним» (1925), эпистолярный любовный роман «Разными глазами» (1926), сатирико-гротескная повесть «Козел в огороде» (1928). Формирование морали советского человека, переосмысление вечных человеческих ценностей – любви и семьи – основная мысль романа в письмах «Разными глазами». Удачно выбранный жанр этого произведения позволил автору в увлекательной не тривиальной манере выразить проблемы нового общества. На одни и те же вопросы – вопросы любви и брака – герои (отдыхающие в санаториях в Крыму) смотрят по-разному. Из многочисленных писем, записок и телеграмм, отправленных героями друг другу, вырисовывается картина взаимо158 отношений двух людей (Марии Васильевны Угрюмовой и Николая Васильевича Тесьминова). В письмах друг другу, в оценке, которую они дают «виновникам» переписки, герои выражают личные взгляды на отношения людей в целом. Все письма разнообразны по стилю, повествование романа построено в форме сказа. И в этом проявилась еще одна грань писательского таланта Слезкина. Шло время; уже уверенно стоявшему на ногах социалистическому обществу нужны были новые герои, новые художественные формы изображения советской действительности. Так, появляются крупные эпические полотна, герои – личности, достойные подражания. Слезкин с новыми силами принялся за литературную работу. Результатом ее стали два тома эпопеи «Отречение» (1935). По замыслу писателя это произведение должно было стать грандиозным эпическим полотном в четырех частях о жизни русского общества в тяжелые, переломные 1912–1916 гг. предшествовавшие Первой мировой войне, и на ее протяжении. Для создания реалистичной исторической картины Слезкин активно работает с архивными материалами. В процессе творчества автор много раз менял план задуманной эпопеи, все расширяя его. Однако грандиозный замысел так и не был воплощен в жизнь, хотя писатель до конца своих дней продолжал работу над эпопеей. В годы Великой Отечественной войны Слезкин пишет рассказы, близкие по жанру к очеркам, – «По тылам войны» (1941), «Старики» (1942), «Воспитание характера» (1942); рассказ о «настоящем человеке» – «Его звали петушок» (1943). Произведения Слезкина этого периода выходят в массовых сериях, читаются по радио. Так, творчество Слезкина пореволюционного периода «гармонично» влилось в общий поток советской литературы. Новые герои, исторические сюжеты соответствовали требованиям социалистической действительности. Можно сказать, что творческая судьба Слезкина сложилась удачно. Но его произведения утратили своеобразие, яркость. Он стал обычным, так сказать «добротным» советским писателем. А легкость, фабульность, игривость, то есть все то, что отличало его произведения дореволюционного периода, и что принесло его творчеству популярность, ушло. _______________ 1. Булгаков М.А. Юрий Слезкин (Силуэт) // Сахаров В.И. Михаил Булгаков: загадки и уроки судьбы. – М., 2006. 2. Горбов Д. Юрий Слезкин. Шахматный ход. Повесть смутных украинских дней // Печать и революция. – 1925. – № 1. 3. Лежнев А. Юрий Слезкин. Девушка с гор // Печать и революция. – 1925. – № 4. 4. Слезкин Ю.Л. «Пока жив – буду верить и добиваться...» // Вопросы литературы. – 1979. – № 9. 5. Слезкин Ю.Л. Ольга Орг // Русская эротическая проза. – СПб., 2003. 6. Слезкин Ю.Л. Секрет полишинеля //Глупое сердце. – М., 1928. 159 ФИЛОСОФИЯ ЗАГЛАВИЯ РАССКАЗА А. С. ГРИНА «ВОЗВРАЩЕНИЕ»: К ВОПРОСУ ОБ ОППОЗИЦИИ МОТИВОВ «ПУТЬ» / «ДОМ» Шарданова И.В., Нальчик В художественной системе А.С. Грина идея духовной эволюции героя воплощается, прежде всего, в мотивах пути и дома. Взаимодействие концептов «путь» / «дом» определяет структуру многих произведений писателя, а также воплощает его представления о мире, месте и роли человека в нем. Дом, антагонистичный миру, становится препятствием единению человека с космосом. Подобная ситуация легла в основу рассказа «Возвращение», написанного А.С. Грином в 1917 г. Его главный герой резко отличается от характерного для гриновской поэтики типа личности, которому свойственны «движения духа» и глубокая неудовлетворенность окружающей средой, ее бледным однообразием. В основе сюжета – плавание крестьянина Ольсена на корабле, куда он поступает кочегаром ради денег: «Это было его первое плавание, и он неохотно пошел в него, но, крепко рассчитывав и загнув на пальцах все выгоды хорошего заработка, написал домой, своим родным, обстоятельное письмо и остался...» [1, с. 273]. Ольсен одинок на судне, чужд и экипажу, и всему окружающему миру. Он сознательно отгораживается от того нового, не связанного с крестьянским бытом, что открывается ему в путешествии, замыкается в своей «скорлупе», составляя контраст остальным морякам, чьи мысли направлены к неизведанному миру. – «Как наружностью, так и характером Ольсен резко отличался от других людей экипажа... В то время, как смена берегов среди обычных интересов дня направляла мысли его товарищей к неизвестному, Ольсен неизменно, страстно, не отрываясь, смотрел взад, на невидимую другим, но яркую для него глухую деревню, где жили его сестра, мать и отец. Все остальное было лишь утомительным чужим полем, окружающим далекую печную трубу, которая его ждет» [1, с. 274]. В точке зрения героя пространственная организация мира сохраняет архетипические черты. Ее определяет оппозиция: «свой», внутренне позитивный космос (родная глухая деревня, сужающаяся в представлении крестьянина до печной трубы) и внешний, негативный космос – «утомительное чужое поле». Чрезвычайно важен для понимания характера героя его хронотоп, главными особенностями которого являются ограниченность и неизменность. Домашний locus Ольсена включает минимальное количество лиц: отца, мать и сестру. Жизнь их однообразна, а деятель160 ность ограничена кратким набором хозяйственных дел: «Марта доит корову, старуха варит рыбу...» [1, с. 275]. Время здесь циклично и неизменно: «Так же безнадежно и скучно судился его отец из-за пая в рыболовном предприятии, так же возилась в хлеву мать, так же улыбалась сестра, и платье у нее было то самое, в каком видел он ее год назад» [1, с. 277]. Замкнутость пространства-времени героя сохраняется и за пределами его деревни. На корабле место Ольсена в машинном отделении. В свободные от работы часы он спит или чинит белье. Само путешествие представляется ему сном, долгой болезнью. Мысли кочегара сосредоточены на доме, а его взор всегда обращен назад. – «Раз в припадке тоски о севере, он вышел на палубу среди огромной чужой ночи, полной черных валов, блестящих пеной и фосфором. Звезды, озаряя вышину, летели вместе с «Бандуэрой» в трепете прекрасного света к тропическому безмолвию. Странное чувство коснулось Ольсена: первый раз ощутил он пропасти далей, дыхание и громады неба. Но было в том чувстве нечто, напоминающее измену, – и скорбь, ненависть... Он покачал головой и сошел вниз» [1, с. 274]. Основываясь на типологии Ю. М. Лотмана, Ольсена можно отнести к «героям своего места (своего круга), героям пространственной и этической неподвижности, которые если и перемещаются согласно требованиям сюжета, то несут вместе с собой и свойственный им locus» [2, с. 256]. Отправившись в плавание, герой впервые сталкивается с иным типом пространства – с безграничным и прекрасным миром. Их отношения изначально приобретают форму конфликта. Созданию антиномии «герой-мир» способствует субъектная организация текста. В рассказе можно выявить два противоположных типа сознания, повествователя и Ольсена, отличающихся характером восприятия окружающего мира, соответственно, позитивного и негативного. В тексте неоднократно используется смысловая парадигма «север / юг», олицетворяющая собой родную, милую сердцу героя Норвегию (север) и чуждое новое пространство тропических стран (юг). Описание природы дается с позиции повествователя. Насыщенное оценочно-экспрессивной лексикой («прекрасный», «нежный», «загадочные», «великолепная», «сказка»), оно служит выражению авторской идеи красоты и многообразия вселенной. У Ольсена незнакомая южная экзотика вызывает, помимо удивления, чувства недоверия, беспокойства, даже страха перед ее чарующей силой. Герой рассказа с ненавистью отвергает «чужой», внешний космос. «Ольсен смотрел на эти цветы, на странные листья из темного зеленого золота с оттенком страха и недоверия. Эти воплощенные замыслы южной земли, блеск океана, ткущий по горизонту сеть вечной дали, где скрыты иные, быть может, еще более разительные берега, – беспокоили его, как дурман, 161 власть которого он стряхнуть не в силах. Казалось ему, что на нем надето стеснительное парадное платье, заставляющее жалеть о просторной блузе» [1, с. 275]. Изображая конфликт между человеком и миром, Грин прибегает к излюбленному приему удвоения сюжетных ситуаций. Во время пути герой неслучайно оказывается перед выбором: стремиться ли ему на палубу, лицезря бескрайние просторы океана-жизни, либо эскапировать в низшую часть корабля, прятаться в трюме. Неоднократное возвращение кочегара с палубы в машинное отделение имеет в тексте рассказа символическое значение. Анализ этого сюжетного элемента в аспекте архетипов позволяет увидеть глубинный смысл ситуации. Пространство корабля можно рассматривать в качестве некой модели мира, где «верхом» является палуба, а «низом» – трюм [3]. «Низ» как элемент одной из основных мифологических оппозиций традиционно соотносится с царством мертвых. Таким образом, отвергая великолепную ночь, прекрасный мир, герой отказывается от самой жизни и выбирает смерть. Этот вывод подтверждается композицией произведения: вслед за указанным эпизодом идет описание несчастного случая (падение с трапа в машинное отделение), ставшего причиной неизлечимой болезни Ольсена. В эстетике А.С. Грина олицетворение и символизация играют первостепенную роль: данный отрезок фабулы иначе как актом мести корабля назвать нельзя. «Бандуэра» живое, одухотворенное существо, которое исторгает чужака на сушу. «Путешествие кончилось. Жалование получено сполна, отправлено почтой в деревню. Мир выпускал, наконец, Ольсена из своих ненужных и обширных объятий. Теперь Ольсен мог плыть только назад» [1, с. 275]. Символично и то, что падение с трапа корабля вызвало болезнь легких. Существование человека, с физиологической точки зрения, немыслимо без поглощения воздуха, необходимого для нормальной работы организма. В понимании Грина личность способна развиваться лишь впитывая, подобно воздуху, жизнь во всем многообразии ее форм: каждый день мы «вдыхаем» что-то новое и «выдыхаем» отжившее, устаревшее. Ольсена отличает своеобразная «духовная аутентичность», нежелание «вдыхать» жизнь. Однако автор дает своему герою еще один шанс установить гармоничные отношения с миром. Во время пребывания в лазарете, накануне возвращения домой, Ольсен совершает прогулку по берегу моря. Снова его окружает величественная, загадочная и влекущая природа, помимо воли вызывающая в скудном, ограниченном сознании крестьянина отклик. Вспоминая «серый родной угол» [1, с. 276] и яростно гоня от себя ощущение прекрасного, герой вторично отвергает «Лунную ночь» и «Великий океан» – символы безграничного пространства и времени. Находясь пред выбором: остаться или ехать домой он пред162 почитает последнее. «Едва трогалось что-то в душе его, готовой уступить дикому и прекрасному величию этих лесных громад, сотканных из солнца и тени, – подобных саду во сне, как с ненавистью гнал и бил другими мыслями это движение, в трепете и горе призывая серый родной угол... Мох, вереск, ели, скудная трава, снег... Он поднял раковину, огромную, как ваза, великолепной окраски, в затейливых и тонких изгибах, лежавшую среди других, еще более красивых и поразительных... поднял и бросил и, сильно топнув, разбил каблуком, как разбил бы стакан с ядом» [1, с. 276]. Между миром и Ольсеном постоянно встает дом. Архетипически он всегда противопоставлен макрокосму, но предполагает наличие связей с ним, возможность выхода во внешнее пространство. Здесь же дом на метафорическом уровне обладает абсолютной замкнутостью, герметичностью. Дом (и семья как его неотъемлемая часть) не «отпускает» от себя героя, превращаясь в «душевные путы», разрушает едва начавшийся диалог с миром, мешает общению с другими людьми, является воплощением и в то же время причиной ограниченности сознания Ольсена. Архетипическое значение данной мифологемы в рассказе частично инверсируется. В точке зрения героя дом остается пространством безопасности, устойчивости и спокойствия, однако здесь больной чувствует себя все хуже и хуже и, наконец, умирает. С другой стороны, являясь для Ольсена сферой любви и тепла, дом одновременно порождает в нем чувства ненависти, ярости ко всему новому, внутренний дискомфорт, актуализированный вариативным названием произведения – «Маятник души». Таким образом, перед нами неправильный дом, дом смерти, который выступает не центром вселенной, а ее антиподом. По указанным причинам путешествие Ольсена, вместо того, чтобы открывать иные горизонты, становится безрадостным, мучительным движением к смерти. Оно является испытанием для героя, в котором обнаруживается его преобладающая внешняя и внутренняя статичность. Трудность пути заключается не в преодолении препятствий, опасностей на дороге, а в преодолении самого себя, к чему герой оказывается неспособным. Тем не менее, путь дает Ольсену толчок к осознанию ошибочности своей жизненной позиции, хотя оно приходит слишком поздно и достается дорогой ценой. «Вместе с последним усилием мысли вышли из него и все душевные путы, и он понял, как понимал всегда, но не замечал этого, что он – человек, что вся земля, со всем, что на ней есть, дана ему для жизни и для признания этой жизни всюду, где она есть» [1, с. 278]. Автор вводит в текст сразу две антитезы смерти героя: картину весны и образ ребенка, – символы возрождающейся жизни, полной, жаждущей, ищущей. Они помогают умирающему понять нелепость своего эскапизма. Причем истина эта всегда была в Ольсене, и лишь 163 «душевные путы» мешали ее осознать. «Ольсен смотрел на холмы, вбирая кровоточащим обрывком легкого последние глотки воздуха. Против его дома, у окна, обращенного к холмам, на руках матери сидела... крошечная, как лепесток, девочка. «Дай! Дай!» – голосило дитя всем существом своим. Что было нужно ей? Эти ли простые цветы? Или солнце, рассматриваемое в апельсиновом масштабе? Или граница холмов? Или же все вместе: и то, что за границей, и то, что в самой ней и во всех других – и все, решительно все: – не это ли хотела она? Перед ней стоял мир...» [1, с. 278]. Трагичность финала придает авторской позиции особую остроту, категоричность: человек должен быть открытым миру, взаимодействовать с ним, стремиться реализовать свой потенциал, в противном случае он не заслуживает дара бытия. Герой рассказа осознал смысл человеческой жизни лишь перед лицом смерти, а открытие собственной природы потрясло Ольсена до глубины его существа. – «Но было уже поздно. Не поздно было только истечь кровью в предсмертном смешении действительности и желания... Его глаза уже подернулись сном, но в них светился тот Ольсен, которого он не узнал и оттолкнул...» [1, с. 278]. В концепции рассказа «Возвращение» мир представляет собой космос, лишенный хаотического начала, враждебности по отношению к человеку, более того, он приобретает сакральный характер («Великий океан»). Данное обстоятельство позволяет говорить о своеобразной исключительности конкретного текста, т.к. произведениям А. С. Грина свойственна обратная проекция: мир амбивалентен, нестабилен и даже враждебен человеку. Чаще автор изображает беспорядочный, абсурдный, агрессивный мир, символами которого становятся война, разбушевавшаяся стихия, чума («Земля и вода», «Синий каскад», «Желтый город» и другие). В сюжете «Возвращения» заложена иная программа: герой вынужден преодолевать не внешние препятствия, традиционно связанные в эстетике Грина с мифосимволом «путь», а косность собственного мировоззрения, искаженного превратным понимания значения концептов «дом», «родина». Смерть героя носит метафорический характер. В поэтике А.С. Грина физической смерти героя, как правило, предшествует духовное угасание: Ольсен умертвляет свою духовность, отгораживаясь от жизни, не желая принимать ее великолепие и многообразие. ––––––––––––––– 1. Грин А.С. Собрание сочинений в 6 т. Т. 6. – М., 1980. 2. Лотман Ю.М. Путешествие Улисса в «Божественной комедии» Данте // Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб., 2000. 3. Символы, знаки, эмблемы. Энциклопедия под редакцией В.Л. Телицына. – М., 2001. 164 ЧЕЛОВЕК В «ПРОИЗВОДСТВЕННОМ» РОМАНЕ Ф. ГЛАДКОВА «ЦЕМЕНТ» Нагапетова А.Г., Армавир Федор Гладков вошел в историю русской литературы как автор романа «Цемент» (1925). В произведениях писателей, считавшихся основателями советской «производственной прозы», – Ф. Гладкова и Н. Ляшко – производственный конфликт обогатился общественно-эпическим по сути значением [см. 6, с. 328], расширил собственные границы так, что на несколько десятилетий предварил дальнейшее развитие советской литературы в данной тематической ориентированности (М. Шагинян, В. Катаев, авторы «производственных» романов второй половины ХХ века). В этом ряду имен Ф. Гладков занимает первое место благодаря своеобразию его творческой индивидуальности и мастерству. Как утверждал вскоре после выхода «Цемента» известный литературовед П.С. Коган, Ф. Гладков сумел «углубиться в индивидуальные драмы» таким образом, что это не помешало изображению «волнующих социальных конфликтов», столкновения огромных общественных сил [5, с. 24]. Роман Ф. Гладкова «Цемент» вызвал крупную дискуссию в литературоведении того периода и продолжительное время возбуждал значительный интерес в кругу и литературоведов, и читателей. Роман признавался одним из лучших «производственных» произведений по злободневности объекта художественного изображения, по достоверности и разнообразию образов партийцев, по патетике строительства, по отчетливости и внятности узловых мировоззренческих установок: «О труде, о рабочем классе писали многие и до Ф.Гладкова, но только автор «Цемента» сумел показать эпоху в целом, раскрыв некоторые основные закономерности развития страны в пооктябрьскую пору. Создав «Цемент», Ф. Гладков предстал тем «подлинным писателем», облик которого он сам схематично дал в одном из выступлений середины 20-х годов. Суть творчества такого художника, по мысли Ф.Гладкова, состоит в том, чтобы «не только объяснять» свою эпоху, но и «преображать, не только жить настоящим, но и уметь видеть будущее» [6, с. 342]. Недостатки романа, а они были и о них писали, все же были незначительными по сравнению с достоинствами, потому что главная роль отводилась герою и изображению трудовых подвигов. «Сейчас многое в стиле романа кажется нам несколько искусственным и натянутым. Но в своё время читателя увлекал большой смысл романа» [2, с. 167]. Такую популярность роману на протяжении нескольких десятилетий могло обеспечить только своеобразие творческой индивидуальности его автора, сумевшего органически соединить художественное постижение человека в новой для русской литературы производственной сфере. 165 Обычно писатели, увлеченные выдающимися темпами, колоссальными размерами размахнувшихся по всей державе проектов, промышленным «ландшафтом»; захваченные «громадьём планов», менее внимательно всматривались в человека, создателя всех этих чудес, мало интересовались его духовной сферой, его психологическими волнениями, думами, эмоциями. Налицо была явная публицистичность стиля, ибо «ранее писатели в массовом масштабе не были очеркистами и корреспондентами, не связывали так прочно свою деятельность с газетой или «тонким» журналом» [3, с. 190]. О недостатках «производственной» прозы немало писалось еще в советское время. «Человеческая личность, взращенная социалистическим строем, человек-труженик во всем великолепии его человеческих качеств ускользал от проникновенного взора художника, любующегося главным образом плодами трудов человека» [4, с. 23]. Произведение, воспевающее могущество техники, должно уделять достаточно пристальное внимание к внутренней жизни героя, к движениям его души и сердечным тревогам. Но это случалось далеко не всегда, потому, что советские писатели, с пиететом относившиеся к имени М. Горького, подчас забывали главную его заповедь. «Основным героем наших книг мы должны избрать труд, т. е. человека, организуемого процессами труда...» [1, т. 27, с. 320, курсив мой – А.Н.]. Горький не случайно выделил в производственной прозе именно роман Ф. Гладкова. Еще в 1912 г. он заметил у начинающего писателя «искру божию» [1, т. 29, с. 283, курсив мой – А.Н.], а в письме Ф.В. Гладкову в августе 1920 г. он говорил о «Цементе»: «На мой взгляд, это – очень значительная, очень хорошая книга. В ней впервые за время революции крепко взята и ярко освещена наиболее значительная тема современности – труд. До Вас этой темы никто еще не коснулся с такою силой. И так умно. Вам – на мой взгляд, опять-таки – весьма удались и характеры. Глеб вырезан четко и хотя он романизирован, но это так и надо. Современность вполне законно требует, чтоб автор, художник, не закрывая глаз на явления отрицательные, подчеркивал – и тем самым – «романтизировал» положительные явления. Вы умеете делать это, с чем искренно поздравляю Вас ... Даша – тоже удалась» [1, т. 29, с. 438–439]. При всем том, что Горький видел в произведении ряд существенных недостатков, общая высокая оценка романа оставалась неизменной. Почти год спустя Горький вновь вернулся к роману: «Успеху «Цемента» я – рад. Уверенно думаю, что служебное, социальное значение этой книги будет очень значительно. Она должна многих воспитать. Я уже писал, кажется: честь Вам, Вы первый взяли тему «труд» и сумели разработать ее с пафосом. Это Вам зачтется [1, т. 29, с. 460]. Своеобразие творческой индивидуальности автора «Цемента», повторяем, заключается в глубокой сопряженности личного и производственного в духовном мире героя, в рассмотрении порождаемых этим обстоятельством конфликтов. Романтические краски в изображе166 нии самого процесса труда, изображаемого через восприятие субъектатворца, отмечались всеми пишущими о романе. Центральные установки в выборе изобразительных средств, используемых автором, достаточно достоверно выражены в лозунге пролетария из романа «Кровью сердца», адресованных писателю: «Разверзай перед людьми гнойники их жизни, бей их <...>, открой перед ними невиданные картины, сильных людей и их героические свершения, расскажи им пленительные легенды о людях, которых нет в их быту <...> Не бойся преувеличений <...> [Цит. по: 3, с. 174]. Ф. Гладков на самом деле не страшится гиперболизаций, применяя одновременно эту лирическую методику непосредственно к подлинному, зачастую обыденному объекту. На первый взгляд такая эстетическая установка вступала в противоречие с высказыванием М. Горького, считавшего, что в изображении трудовых процессов «лирика всегда и у всех звучит фальшиво, это потому, что труд – никогда не лиричен, а в существе своем, он – эпика, он – борьба. В труде, если хотите, есть даже элементы трагизма, – как во всякой борьбе» [1, т. 27, с. 141]. Однако и в прозе самого Горького мы встречаем полные лиризма и романтики описания труда, он именно за это ценил «Цемент» Гладкова. В правомерности горьковской эстетической оценки убеждают нас строки романа: «Здесь, около маховиков, неуловимых в движении <...> только влажные, горячие волны полыхали в лицо, в руки и грудь и потрясали Глеба глубинным дыханием». Здравомыслящий и невозмутимый предчека Чибис рекомендует для уяснения новейшей экономической политики перемешать солнце и кровь «в корыте в самую обыкновенную болтушку». Одновременно с производственным имеет место и драматичный, достаточно лиричный сюжет на фоне борьбы за пуск «градообразующего предприятия» и за чистоту большевистской партии. Эта интимная тема – семейная трагедия Глеба и его супруги Даши, свободной женщины, отказавшейся от семьи, обрекшей своего ребенка на смерть в недоедающем детском доме, отвернувшейся от любви супруга не только тогда, когда тот старался возвратить ее в дом, но и когда он смирился с ее независимостью. Выяснилось, что для Глеба проще запустить гигантский завод, чем увидеть в близкой женщине человека, нераздельного с ним по духу и цели (проблема актуальная и для гендерной проблематики современной литературы, а Даша страшится собственной любви к Глебу. Личные отношения являются главной темой Ф. Гладкова. Он изображает напряженные противоречия в персональных взаимоотношениях двух положительных героев своего романа, в равной степени размышляющих по-коммунистически и занявших правильную позицию в социальных процессах. Глеб Чумалов одобряет Дашу-активистку, но не может принять новое в самой интимной области людских отношений. На этом основании и раскручивается конфликт, приведший к расстава167 нию любящих друг друга людей. «Гиперболизованное, лирически одухотворенное описание техники сочеталось в романе с напряженным и мучительным развитием любовной линии, органически перераставшей в историю становления нового социального типа женщины [3, с. 174]. Но не менее ярко, чем личные, раскрывались в романе чисто производственные конфликты и отношения людей, организуемых, говоря горьковскими словами, «процессами труда», что отмечалось и литературоведами 1980-х гг. В один запутанный и противоречивый узел сплетались биографии рабочего Чумалова, «спеца» Клейста, бюрократического перерожденца Бадьина и готового «вытравить» в себе свое «проклятое прошлое» интеллигента Сергея Ивагина; поднимались важнейшие и чрезвычайно болезненные вопросы отношений заводского пролетариата, города с «мужиком» [3, с. 174]. Персонажи автора постоянно находятся в приподнятом расположении духа, в каждом диспуте стремятся разрешить мировые вопросы, у них незаурядные характеры. Как известно, формирование нравственности намного более тягостно и продолжительно, чем экономическое, общественно-политическое преобразование социума. Однако этот тезис не всегда подтверждается в прозе Ф. Гладкова. Деяния его героев преувеличенно дерзки, безапелляционны, при этом писатель не полагает необходимым эти действия достаточно психологически мотивировать, считая возможным сосредоточиться на незаурядности характеров. Выявление в заводском труде стимула, выпрямляющего личность, активизирующего самосознание и творческий запал, – обусловливает возвышенную патетику трудовых эпизодов в романе. Героем произведений социалистического реализма движут исключительно цель, обладающая тотальным общественным характером, непобедимое влечение вторгнуться в реальность, расположить ее в соответствии идеалом, побудившим трудящийся народ к борьбе. Ф. Гладков очертил идеологически обязательную для советской литературы обусловленность морального облика гражданина его гражданской сутью. Восстановление цементного завода в романе Ф. Гладкова совершается по инициативе снизу, в яростном противостоянии скрытому или порой явно очевидному сопротивлению чиновничьего аппарата. При этом бюрократы не игнорируют программу Чумалова по реставрации завода как невозможную, неосуществимую, они целиком за воссоздание, но исключительно против стремительных темпов этого процесса. Ключевой антагонист Глеба Чумалова и его соратников – предисполкома Бадьин – бюрократ, холодный эгоист. Здесь следует заметить, что «холод» – стержневая черта характера Бадьина. С людьми он объясняется «холодно, четко, казенно». В финале романа автор обозначит у Бадьина «холодные глаза», Бадьин отвернется от Глеба «замкнуто и холодно». Опытный политик, пользующийся поддержкой высших партийных инстанций, Бадьин прилагает все попытки, чтобы сориентиро168 вать энергию работников завода в бюрократическом направлении, чтобы искоренить активное созидательное начало из дела заводских масс, подчинить их «высшим целям». Труд представал в литературе как арена «прямой классовой борьбы» (Кузьменко Ю.). В образе Бадьина Гладков описал актуальный и для нашей современности образ классического бюрократа, что подтверждает и Л. Ершов: «Ф. Гладков создает тип умного карьериста и осторожного политикана, возникший в первые годы Советской власти в условиях преодоления трудностей в борьбе за построение нового, социалистического общества. Бадьин почти неуязвим в «крепком блиндаже» бюрократизма, который служит ему для расчетливого достижения своих целей. Ловко прикрываясь псевдосоциалистической маской, используя бюрократизм как «очень тонкое и часто неотразимое оружие», он стремится подчинить идею революции своим интересам» [3, с. 171]. В романе практически отсутствует «психологическая нота», в традиционном понимании, однако проявления характеров в ходе художественного решения производственных проблем помогли Гладкову «заглянуть в бездны человеческого духа», что и обеспечило его роману долгую жизнь. ––––––––––––––– 1. Горький М. СС., в 30 тт. – М., 1952. 2. Демина Л.И. Эволюция конфликта как идейно-эстетической категории в русском литературном процессе 50–60-х гг. – М., 2001. 3. Ершов Л. История русской советской литературы. – М., 1988. 4. Ковалев А. Очерк истории русской советской литераторы. Ч. 2. – М., 1995. 5. Коган П. Литература этих лет: 1917–1923. – Иваново-Вознесенск, 1924. 6. Кузьменко Ю. Советская литература: вчера, сегодня, завтра. – М., 1988. 7. Цит. по: Горбачеву Г. Литературная энциклопедия. – Т. 1. – М., 1929. К проблеме Характеризации творческой Индивидуальности авторов обэриу (А. Введенский. «Елка у Ивановых») Силантьев А.Н., Ставрополь В теории интерпретации художественного текста уже в конце прошедшего столетия была сформулирована концепция взаимодействия дискурса текста и дискурса интерпретации, дающая эффективные средства обнаружения спектра смыслов анализируемого произведения, поскольку «интерпретирующий волен в выборе 169 дискурса-инструмента». Эта свобода становится, подчёркивает исследователь Т. Г. Галушко, необходимостью при анализе текстов, относимых в отечественном литературоведении к «литературе особых пространств» – произведений Ф. Достоевского, А. Белого, А. Платонова, В. Хлебникова, Ф. Кафки, и т. д. [5, с. 6–8] К тому же ряду, несомненно, относятся тексты обэриутов, а для А.И. Введенского фактически это единственная парадигма, позволяющая строить герменевтику его «звезды бессмыслицы». Конкретный выбор дискурса-инструмента зависит, конечно, от целеустановки, задачи анализа; философская значимость творчества обэриутов, подтверждаемая в течение последнего полутора десятка лет в работах многих авторов, предполагает и следование традиционному принципу хронологической когерентности дискурсов. Одно из последних крупных произведений А. Введенского, драма «Ёлка у Ивановых», датируемая 1938 годом, на наш взгляд, представляет собой такую «точку» в особом пространстве творческого дискурса поэта, где определённым образом меняется связь с элементами внешнего философского дискурса эпохи, в силу чего возникает задача выбора «нового базиса», репрезентативного дискурса-инструмента. Драматический текст «Ёлка у Ивановых» в начале анализа мог бы быть в плане жанровой отнесённости определён как фарс, исходя из некоторого минимального набора признаков этого жанра, следуя, например, концепции Эрика Бентли, представленной в его известной книге «Жизнь драмы» [3]. Действительно, по крайней мере, такие составляющие внешнего плана содержания текста, как «насилие» и «осмеяние супружества», необходимые, по Э. Бентли, в традиционном фарсе, образуют совершенно эксплицитную подструктуру текста пьесы А.И. Введенского, дающую достаточно объективную основу для продолжения заданной интерпретации и идентификации на её основе авторских форм и способов репрезентации прочих характеристик жанра. Но, согласно конструкционным схемам, предлагаемым Э. Бентли, в некотором последующем слое содержания фарса необходим «анекдот»: «... искусство фарса представляет собой не что иное, как театрализованное рассказывание анекдотов, то есть рассказывание анекдотов, получающих полное и связное выражение в форме театральных персонажей и сцен» [3, с. 218]. И здесь возникает первая проблема исследования: является ли абсурдистский метод Введенского средством создания анекдотов достаточно плоского сорта, но хорошо опознаваемых во фрейме «абсурдизации языка и философии повседневности», или же абсурдизации подвергается и сам «принцип анекдота»? В последнем случае пьеса перестаёт быть собственно фарсом, а становится, так сказать, «мета-фарсом» с творческим заданием, ясно преполагаемым идеологией театра абсурда, схематически представимым герметизацией текста, замыканием его на себя в пространстве дискурса, чистой ауторе170 ферентностью. Первая гипотеза отвергается на основании корпусноконтекстных связей: стиль автора и проблематика его творчества не могут быть сведены к прагматике действительного театрального жанра. Отвержению подлежит и вторая гипотеза, нарушающая хронологию культуры и так же мало соответствующая идеопоэтике Введенского, как и первая. «Вагиновский след» в содержании пьесы, указанный в статье И. Е. Лощилова, трактуется (строка из стихотворения Вагинова) исследователем как «парадоксальная реминисценция»: «Введенский возвращает стиху внутренне присущую, но трагически утраченную им «классичность», еще более эффектную на общем фоне авангардистской поэтики пьесы» [6]. Таким образом, И.Е. Лощилов обнаружил истинный глубинный слой содержания пьесы – историческую память культуры; монтаж (blending), осуществляемый здесь автором пьесы, типологически подобен приёму символистской пьесы («Балаганчик» А. Блока), когда герой неадекватен фоновым экзистенциалам действия, но заявляет либо проявляет его движущие идеи. К новаторским элементам техники авангарда относится замена символа на репрезентацию, цитацию текста, содержащего символ; но следование этому приёму позволяет видеть невербальную цитацию и в репрезентации символа его предметным знаком. Следовательно, предмет, вынесенный в заглавие пьесы, в интерпретации может быть наделён символической функцией – тем более, что содержание данной репрезентации не затемнено в преемственности эпох; трансформированная система внешних смыслообразующих связей и коннотаций социокультурного плана синхронии всё же сохраняет след традиции. В поэтике ОБЭРИУ предметы, несущие функции репрезентации, являются участниками действия; в сцене внесения ёлки в дом Пузырёвых Введенский хотя и отрицательной предикацией, но вводит её в число участников, виртуального, таким образом, плана: «Дверь открывается нараспашку. Входит Пузырев – отец. За ним Федор. За ним лесорубы. Они вносят елку. Видят гроб, и все снимают шапки. Кроме елки, у которой нет шапки и которая в этом ничего не понимает». Фон виртуальной онтологии действия уже задан именованием топоса сцены, отсылающим к блоковским «пузырям земли» [1], а её композиция в схематическом представлении оказывается близка, подобна схеме композиции знаменитой заключительной строфы «Двенадцати». Сцена у Блока дана актуально, в движении, а картина в пьесе Введенского иммобилизирована сразу же в момент становления; здесь обнаруживается приём, адекватный вышесформулированному творческому заданию восоздания памяти традиции. Миф «Ёлки у Ивановых» не «энтузиастический, с перевесом вдохновения над учительной интенцией» – как в «Двенадцати», а «воспитательный», «иносказание философского свойства» [2, с. 160]. 171 Философское иносказание Введенского опознаётся прежде всего в своём социально-культурном аспекте. Молчащие лесорубы, выступающие только агентами, создают онтологический базис и фон для активного «героя» – Фёдора, который проник в другой уровень феноменального космоса, движимый действенным для него градиентом ценностей. На разделе сред, как известно, налично искажение, преобразование фазовой картины системы, что и наблюдается в действиях этого персонажа. Пьеса связывает две известные формулировки: принадлежащую историческому времени действия «народ-богоносец», и действующую в актуальный момент внешнего времени написания «лес рубят – щепки летят». Фёдор в финале пьесы оказывается преуспевающим в новой парадигме: «Говорят, что лесоруб Федор выучился и стал учителем латинского языка». Отметим, что Введенский даёт завершающее прозаическое раскрытие прагматики внешне романтической фигуры стихотворения «Фокстрот» Н.А. Заболоцкого: «А там, над бедною землёй, / Во славу винам и кларетам / Парит по воздуху герой / Стреляя в небо пистолетом». Действия, характеризующие персонажей, при сопоставлении мгновенно интегрируются в один стереотип поведения «агента» наррации, адекватной социокультурным реалиям соответствующего отрезка истории общества: «латынь» и соответствующая схоластика, продолжившая «стрельбу», отождествляются с подразумеваемыми денотатами вполне однозначно. Оптимизм Н.А. Заболоцкого конца 1920-х годов сменяется в пьесе А.И. Введенского 1938 года глубочайшим чувством богооставленности всех без исключения, и всё же это произведение не может быть определено как пессимистическое – персонализм Введенского, обеспечивающий передачу надежды от автора к читателю не на дискурсивном, а на когнитивном уровне, коренится в глубинных традициях культуры, репрезентированных Рождественской ёлкой. В пьесе она является (характерным для произведений Введенского) трансцендентальным пределом, «аттрактором» всех движений текста пьесы – память традиции как истина дана посредством незабываемого, в точном согласии с гносеологией ортодоксального варианта этой традиции (св. Максим Исповедник). Инвариант внешнеопределяемого жанра фарса, таким образом, сохраняется: «анекдот» о Фёдоре по своим сюжетно-стилевым параметрам относится к античному базису европейской культуры нового и новейшего времени. В основной линии фабулы пьесы Введенский видимым образом сроит действие на упоянутом выше инварианте насилия, о котором пишет Э. Бентли: «В фарсе мы произносим фразу “Я убью тебя голыми руками” шутливо или с той смешанной интонаией серьёзности и шутливости, которая специфична для фарса; однако в какой-то мере мы должны также всерьёз подразумевать это: в словах или поступках должно промелькнуть что-то такое, благодаря чему 172 станет очевидно, что в нашем мире существуют кровожадные желания – притом именно в этот миг» [3, с. 226]. После заявления угрозы: «Нянька (замахиваясь топором как секирой). Сонька, если ты будешь ругаться, я скажу отцу-матери, я зарублю тебя топором», высказанное свершается очень скоро, на расстоянии всего дюжины реплик ведущегося на энергетически высоком уровне полилога. За внешними признаками абсурдно-преувеличенного насилия стоит, несомненно, философская драма диалектики познания, поскольку жертва, именуемая Соня, т. е. Sophia, пострадала из-за намерения действием отрицать освящённые обычаем умолчания и предъявить коллективному сознанию неоговариваемые, но «бытийствующие» позитивные факты. Пресекающая это намерение в корне нянька достаточно неожиданно оказывается (в сцене суда) именуемой Аделина Францевна Шметтерлинг. Спектр возможных интерпретаций здесь охвативает всю историю познания, от «лжеименного гносиса» начала новой эры до общеобразовательных инициатив 20-х годов и снова – наших дней, «от киников до Канта»; но для критического анализа, вероятно, конструктивная разработка этого поля возможностей не необходима – она оставлена читателю (зрителю) во всей полноте, однако лежит за обоснованным «пределом интерпретации». Здесь миф Введенского обретает свой «этузиастический» потенциал, действенный не в рефлексии, а в восприятии. Интерпретация антропонима в заглавии драмы Введенского, как отмечено исследователями, вызывает затруднения, ввиду хотя бы того обстоятельства, что ни одного персонажа с такой фамилией в тексте уже не появляется. Легко сделать вывод, что «Иванов» является общим, родовым термином, подобным (дискурсно подобным) термину М. Хайдеггера «man»; но как уточнить семантику этого термина по тексту драмы, что именно из многообразия действий и поступков персонажей должно быть поставлено ближе всего к смысловому ядру термина? Л.И. Шестов определил смысловое ядро для функции персонажа другой драмы: «Иванов – в драме А. Чехова того же названия – сравнивает себя с надорвавшимся рабочим: рабочий умер, и Иванову остается только умереть» [7, с. 51–52]. Выясняется возможность такого приема у Введенского, как перевод прототипа-персонажа из общего дискурса культурных артефактов в термин поэтического языка этого дискурса, конкретный объем понятия которого образуют персонажи его собственного текста. Отметим структурную сложность, нетривиальность использованных в приеме связей: это одновременно и введение неологизма, и цитация со ссылкой на значимый элемент дискурса, и, кроме того, еще и метапоэтический комментарий. Заглавные персонажи драмы Введенского «умирают» все до последнего; но ввиду сделанных в других работах наблюдений о символике трансцензуса у Введенского нужно думать, что это не иллю173 страция известного силлогизма (Кай человек, следовательно, Каю ничего не остается ...) в стиле театра абсурда Ионеско и Беккета. Если там вполне позитивистски эксплуатируется рассудочная способность суждения эстетики тождества (0 = 0), то Введенский использует другую культурную традицию и дискурс: традицию оптимистического в запредельной устремленности диалектического отрицания отрицания, как оно выражено в «чаемъ» Символа веры. Она в кантианской типологии способности суждения относится уже к сфере разума; поскольку сам Л. Шестов совершенно очевидным образом всегда и всюду полностью игнорирует разделение рассудка и разума у Канта, следует признать, что Введенский пошел дальше если не критической философии, то уж во всяком случае дальше ее критики. И он действительно делает это поэтически, по его собственной характеристике и согласно с замечанием Я. Друскина. Свою собственную критику разума и способности суждения Введенский оуществляет в области практического разума. Действительно, с точки зрения драматологии Введенский продолжает отечественную традицию драматического эксперимента, целеустановкой которого является смысл, в конечном итоге ведущий к раскрытию гуманистического пафоса существования человека. Дискурс «Ёлки у Ивановых» проясняется на фоне исторического контеста благодаря привлечению такого инструмента, как дискурс персоналистической метафизики Н.А. Бердяева, который писал; «...Гейдеггер, быть может, самый крайний пессимист в истории философской мысли Запада, во всяком случае, более крайний и последовательный, чем Шопенгауэр, который знал много утешений. И он, в сущности, не дает ни философии бытия, ни философии Existenz, он дает лишь философию Dasein. Он целиком остается в выброшенности человеческого существования в мир. Но выброшенность в мир, в das Man, есть падшесть. Для Гейдеггера падшесть принадлежит структуре бытия, бытие внедрено в обыденность. Он учит, что забота есть структура бытия. Забота овременяет бытие. Но с какого возвышения можно это увидеть, как осмыслить это? Непонятно, откуда у Гейдеггера берется сила познания. Он видит человека и мир исключительно снизу и видит только низ. Он – человек, потрясенный этим миром заботы, страха, смерти, обыденности. Его философия, в которой ему удалось увидеть какую-то горькую истину, хотя и не последнюю, не есть экзистенциальная философия, в ней не чувствуется глубина существования. Эта философия остается во власти объективации. Выброшенность в мир, в das Man, и есть объективация» [4, с. 222]. У Введенского же философский подтекст драмы именно экзистенциалистический, без «романтического», по определению о. В. Зеньковского, энтузиазма Н. Бердяева, но вполне в русле того развития идей Канта, которое Бердяевым вменяется в обязанность метафизике. Отметим сразу, что «сила познания» присутствует у Введенского 174 непосредственно персонализированной в девочке Соне, согласно этимологии имени. В реплике «Соня Острова (девочка 32 лет). Мне свечи не нужны. У меня есть палец» чётко передан конфликт между предлагаемой Бердяевым концепцией духовного озарения и эпистемологической установкой имманентизма здравого смысла. И если теперь принять во внимание постоянные у Бердяева в произведениях 30-х годв ХХ-го века указания на оставление классическим немецким идеализмом темы человека, измену ей, то главное событие «Ёлки у Ивановых» раскрывает шекспировский масштаб содержания драмы. Подкреплением этих наблюдений может быть появляющаяся возможность полной интерпретации строк «Фокстрота» Н.А. Заболоцкого: «И, так играя, человек / Родил в последнюю минуту / Прекраснейшего из калек – / Женоподобного Иуду». Темы и образы, связанные с дискурсом Бердяева, участвующего в московском отделении «Вольфилы», очевидно, входили и в контекст обсуждений её петроградских участников. Таким образом, использование этого философского дискурса в качестве инструментального даёт эффективные средства для литературоведческой индивидуации авторов ОБЭРИУ. В первой части цитированной выше книги Н.А. Бердяев предваряет последующее изложение характеристикой собственной творческой индивидуальности: «я определяю свою философию как философию субъекта, философию духа, философию свободы, философию дуалистически-плюралистическую, философию творческидинамическую, философию персоналистическую и философию эсхатологическую» [4, с. 190]. Трансформация этой фразы подстановкой на уровне глубинного семантического компонента термина «философия» на термин «творческая индивидуальность автора» даёт, с нашей точки зрения, потенциально полную характеристику А.И. Введенского, актуализация которой в конкретной работе исследователей, несомненно, даст новые значимые результаты. ––––––––––––––– 1. Faryno Jerzy. “Последнее колечко мира... есть ты на мне” (Опыт прочтения “Куприянова и Наташи” Введенского) // Wiener Slawistischer Almanach, Band 28, 1991, 191–258. Цитируется по [6]. 2. Аверинцев С.А. Образ античности. – СПб.: «Азбука-классика», 2004. 3. Бентли, Эрик. Жизнь драмы. – М.: «Искусство», 1978. 4. Бердяев Н.А. Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация // Царство Духа и царство Кесаря. – М.: Издательство «Республика», 1995. 5. Галушко Т.Г. Синтез лингвистики и литературоведения как основа интерпретации текста / Актуальные проблемы теории и методологии науки о языке. – СПб: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2007. 6. Лощилов, И.Е. «О пьесе Александра Введенского «Ёлка у Ивановых»: Некоторые контексты». В Интернете: «Сетевая Словесность, 2005– 2006», http://www.litera.ru/slova/index.html. 7. Шестов Л.И. Апофеоз беспочвенности. – М.: «Захаров», 2000. 175 «БОГ» В МИРООЩУЩЕНИИ ПИСАТЕЛЯ И ЕГО ГЕРОЕВ (на примере поэзии Д. Хармса) Малыгина И.Ю., Ставрополь Д. Хармс – один из тех писателей, в творчестве которого в наибольшей степени чувствуется «незримое присутствие автора». Каждый его текст отражает собственные авторские интенции, в отдельных моментах раскрывает основы собственного мировидения, философско-эстетические взгляды. Я. С. Друскин отметил, что «Хармс не создает искусство, а сам есть искусство», что он относится к типу писателей, чье творчество непосредственно как будто не связано с их личной жизнью, но, не зная ее, мы не поймем и многих произведений этих авторов [4, с. 107–108]. Цель данной статьи – раскрыть значимость метафизической категории «Бог» для Д. Хармса и специфику проекции авторского видения проблемы на мировоззрение героев собственных лирических произведений. Метафизические вопросы являются основополагающими в творческом наследии Д. Хармса. Д.В. Токарев отметил, что «интерес к фундаментальным проблемам бытия, жизни и смерти, богопостижения... был свойственен с самого начала его творческой деятельности» [16, с. 176]. Ключевыми в эстетике Д. Хармса и других поэтов-обэриутов становятся философские, экзистенциальные, метафизические категории, среди которых фигурируют время, рождение, смерть, Бог, бессмертие и др. Н.А. Богомолов подчеркнул: «У обэриутов – прежде всего мы, конечно, имеем в виду Хармса и Введенского, – как известно, главенствующими темами творчества были глобальные и вроде бы совершенно абстрактные: Бог, смерть, любовь, время... Но предстают они перед читателем, слушателем, зрителем во вполне конкретных, осязаемых формах, позволяющих ощутить конкретику этих абстрактных понятий» [1, с. 253]. Концептуальным понятием с точки зрения его восприятия и понимания героями хармсовских произведений выступает метафизическая категоря «Бог». Многие отечественные исследователи занимались вопросом метафизики божественного в текстах Д. Хармса. На необходимость актуализации этого аспекта указал В. Сажин, упрекая литературоведов в недостаточном внимании к проблеме взаимоотношения самого поэта с христианством, с Богом [14, с. 235]. Я.С. Друскин определил несколько главнейших эстетических, этических и религиозных аспектов поэтики обэриута: юмор, корень зла в человеке и святость [14, с. 112]. А.Н. Рымарь пишет, что «Хармс постоянно говорит о святости и чуде» [12]. Дневниковые записи Д. Хармса в наиболее полной мере отражают религиозные искания поэта. Ж.-Ф. Жаккар отмечает, что «во второй по176 ловине 30-х годов в творчестве Хармса наблюдается все более часто прямое обращение к Богу» [5, с. 74]. Читая записи Д. Хармса, складывается ощущение, что писатель во всем полагается на Всевышнего. Это подтверждают бесконечные обращения его к Господу, мольбы, стенания. Почти во всех хармсовских заметках и размышлениях наличествует диалог с Богом. В записях 1927 г. Хармс обращается к нему с вопросом – сможет ли он когда-нибудь полюбить. Для этого он использует метод гадания на книге, а источником ответов выбирает Библию. Обратим внимание, каким изысканным способом Д. Хармс сочетает христианские верования с оккультизмом. Писатель не взял произведения дорогих для него творцов – Чехова, Хлебникова, Введенского и др. Он обратился к Библии, как единственно верному и истинному учению. Но она не дает ему ответа: «И еще раз прошу у Господа указать мне в Библии на мой вопрос: полюбит ли меня эта девушка, имею ли я право на любовь ее. Непонятные ответы» [17, т. 1, с. 115]. Особое внимание отечественные исследователями уделяется вопросу восприятия и представления Бога самим поэтом. Д.С. Московская пишет, что «Хармс верует и приписывает своему божеству человеческие черты – черты доброго, седого, бородатого старичка» [9, с. 98]. А. Злобина видит в этом самую главную абсурдную вещь в творчестве поэта-обэриута: «Хармс поставил своеобразный рекорд: что может быть «несовместней», чем его бессмысленный, безумный, безнадежно уродливый, распадающийся на части мир, абсолютно отрицающий существование Абсолюта, – и добрый старенький Господь, восседающий в облаках?!» [6, с. 188]. Старенький Господь, сидящий на небесах (иногда в его руках находятся заветные ключи от райского сада), распоряжающийся жизнями людей, изображен таковым во многих стихотворениях Д. Хармса: «внизу земля, а сверху гром,/а сбоку мы, кругом земля,/ над нами Бог в кругу Святых,/а выше белая овца...» («Овца») [17, т. 1, с. 220], «Им ответил старый Бог/объясняет пули вред/деда мира педагог» («В небесари ликомин...») [17, т. 1, с. 270], «мы умрем и втроем/выйдем к Богу из дубравы./Не с трубой, а с тобой/сядем к Богу на колени./Будем петь и глядеть,/как небесные олени/пробегают на врага,/устремив свои рога...» («Грянул хор и ходит бас...») [17, т. 1, с. 347], «Бог слетит к тебе серьезный,/Вынет райские ключи,/хлопнет ими по балкону/и, отвесив по поклону/во все стороны вселенной,/улетит домой, нетленный» («Человек берет косу...») [17, т. 3, с. 102]. Подобное изображение Всевышнего усложняется тем, что Д. Хармс умудрялся сочетать в бытовом (жизненном) и творческом (эстетическом) процессах христианские каноны либо с мистикой, либо с оккультизмом, либо с кабалистикой (на этот факт обращают внимание Н. Богомолов, А. Герасимова, А. Никитаев, А. Россомахин, А. Рымарь, В. Сажин, А. Силантьев и др.). Так, А. Герасимова и А. Никитаев в соавторской работе увидели проявление магии и оккультизма в при177 роде хармсовского слова: «Хармс довольно рано начал интересоваться оккультизмом и магией, и этот интерес отразился на его творчестве, проникнутом представлениями о реальной магии слова» [2, с. 36]. Отдельная статья А. Никитаева посвящена вопросу дешифровки некоторых записей Хармса, которые, по замечанию ученого, «являются частью магического действа, своего рода заклинаниями, своеобразной магической психотерапией» [10, с. 98]. А. Н. Силантьев в интерпретации духовного аспекта текстов поэтов ОБЭРИУ охарактеризовал потенциальную философию виртуального поэтического мира Хармса как трансцендентную (мистическую) систему [15, с. 157], что раскрывает факт применения оккультных знаний не только на языковом уровне, но и в философском срезе. Но самым достоверным подтверждением факта увлеченности Д. Хармса оккультизмом являются его собственные записи в дневниках и высказывания близких ему людей. Вспомним хотя бы одну фразу Марины Владимировны Малич, второй жены поэта: «...у Дани были книги по оккультизму, по йоге, по буддизму, это его интересовало. И благодаря ему у меня тоже развился интерес к оккультным наукам...» [3, с. 109]. Сочетание язычества и христианской традиции в текстах Д. Хармса отражается в текстах посредством введения в художественную реальность героев-колдунов, представителей темных, потусторонних сил, берущих на себя функции Бога. В этом аспекте следует обратить внимание на частотный образ хармсовской поэтики – мельника. «Образ мельницы в мировой культуре, – как отмечает Н.А. Масленкова в своем диссертационном исследовании, – отчетливо показывает, как человеческое сознание организует мир и какой абсолют поставлен в его центре – судьба (или ее поздний эквивалент Фортуна) или бог. Мельница всегда стоит на границе жизни и смерти, космоса и хаоса, времени и вечности и является их связующим звеном, а её хозяин – бог или Фортуна – оказывается основателем миропорядка, абсолютной ценностью, организующей отношения человека и мира» [8, с. 70]. Мельница, как и ее хозяин, в народном представлении всегда являлись многозначными понятиями. Мельник, по воззрениям древних славян, считался представителем нечистой силы. В то же время он связан с природной стихией, так как работает с водой и зерном (подобно гончару, работающему с огнем и землей). Мельник относился к группе мифологизированных персонажей, обладающих особым даром, сверхъестественными умениями, но самое главное, он являлся посредником между двумя мирами – земным и небесным. Образ мельницы и ее хозяина присутствует в ряде стихотворений Д. Хармса: «Жил мельник...», «Он и мельница», «OHNE мельница», «Колода», «Колесо радости жено». В первом произведении, где появляется образ мельника, номинативно определен статус героя – он 178 мельник-колдун, что точно соответствует толкованию данного персонажа в народной мифологии: «И мельник счастлив. Он колдун» («Жил мельник...») [17, т. 1, с. 260]. В этом стихотворении налицо факт совмещения двух разных типов верования: христианского (его олицетворяет образ попа) и мистического, языческого (образы Агнесы-ведьмы и мельника-колдуна). Главной мечтой героя является запуск мельницы, символизирующий в данном случае не столь начало колдовства (самое распространенное народное представление о мельнице), сколько процесс объединения двух миров, завершения бытийной целостности (такую функцию выполняет так называемая мельница «гостий» – Hostienmühle). Наш вывод подтверждают строки, в которых говорится о воссоединении представителей разных миров на «крыше мельника»: «Крылатый мельник. Он стыдится» («Жил мельник...») [17, т. 1, с. 260]. Интересен и тот факт, что у мельника-колдуна наличествуют крылья. По народным воззрениям изначально считалось, что колдун должен обязательно отречься от Бога. В стихотворении же Д. Хармса мельник предстает субъектом, соединяющим в себе признаки нечисти и божественной силы. Итак, сам мельник выступает не только медиатором двух миров, но и пытается взять на себя роль организатора мира, стремится стать кофункциональным Богу. В художественном пространстве хармсовских произведений Бог присутствует как непременная абсолютная сила. Так, А.А. Кобринский указывает, что «у Хармса вещь, человек, явление выступают прежде всего как объекты трансцендентного вмешательства» [7, с. 68]. О. В. Рябкова в диссертационном исследовании, характеризуя специфику художественного наследия Д. Хармса, отмечает, что в текстах поэта-обэриута «Бог как трансцендентное начало является исходной, первичной точкой бытия и присутствует во всех проявлениях мира» [13, с. 214]. Бог в текстах Д. Хармса изображается в рамках устоявшейся христианской традиции (представление о Боге как стареньком мудром дедушке на небесах, проецированное Д. Хармсом на свое творчество, мы отразили выше). Поэт-обэриут в лирике наделяет Бога полновесным статусом, обрисовывает его как трансцендентный феномен и возлагает на Всевышнего надлежащие функции. Так, Бог начинает новый день, подобно тому, как создавал когда-то новую жизнь на земле: «Бог проснулся. Отпер глаз,/ взял песчинку, бросил в нас./Мы проснулись. Вышел сон./Чуем утро. Слышим стон» («Утро [Пробуждение элементов]») [17, т. 1, с. 263]. Господь, следуя классическому изображению его в библейской истории, нисходит к людям на землю как провозвестник какого-либо события, как спасительная сила, поддерживающая и вселяющая надежду в сердца людей: «Как страшно тают наши силы / Как страшно тают наши силы / Но Боже слышит наши просьбы / Но Боже слышит наши просьбы / И вдруг нисходит Боже / И вдруг нисходит Боже к нам» 179 («Как страшно тают наши силы...») [17, т. 3, с. 109]. Люди в лирических текстах Д. Хармса могут видеть божий лик: «с безумным треском разбивается вселенной яйцо, / и мы встав на колени видим Бога лицо» («Окнов и Козлов») [17, т. 2, с. 54], «Притворился милый облик, / он, увы, неузнаваем/над кроватью держит Бог Лик. / Ну давай его взломаем! / Что посмотрим под доской, / укрощает взгляд людской. / Над кроватью Бог повис, / мы у Бога просим жалости. / Опускает Бог ресницы вниз...» («Девицы только часть вселенной») [17, т. 1, с. 268]. Только к Богу герои Д. Хармса обращаются как к единственной спасительной субстанции для человека перед уходом из жизни, а также для утверждения своей сущности в мире. Ж.-Ф. Жаккар в статье «Возвышенное в творчестве Даниила Хармса» отметил, что «на смену человеку-Богу, способному построить модель возвышенного изображения мира, приходит падший человек, который призывает небеса своим вмешательством помочь ему вновь подняться» [5, с. 63]. Понимание приближающейся смерти заставляет людей молиться, просить о помощи, об облегчении страданий или сохранении человеческой жизни. Однако не во власти Бога отменять жизненные законы и нарушать тем самым порядок мира: «По дорогам и пустыням / ходит смерть и всех зовет. / Небо стало бледно-синим, / солнце по небу плывет. / Люди плачут, люди молят, /небо молят и зовут./И молчит, сияет небо. / Люди также страшно мрут» («По дорогам и пустыням») [17, т. 1, с. 339]. Бог наказывает жителей земли за их грехи и проступки. Так, в тексте стихотворения «Гнев Бога поразил наш мир...» воссоздается картина апокалипсиса, когда гибнет все живое на планете и разрушается мировой вселенский уклад: «Гнев Бога поразил наш мир./Гром с неба свет потряс. И трус/Не смеет пить вина. Смолкает брачный пир,/ Чертог трещит, и потолочный брус/Ломает пол. Хор плачет лир./Трус в трещину земли ползет как червь.../Терпеть никто не мог такой раскол небес,/Планет свирепый блеск и звездный вихрь чудес» («Гнев Бога поразил наш мир») [17, т. 3, с. 107–108]. И вот после смерти мира – только пустота, мрак. Все стирается в пыль веков, гибнут животные, растения, человек. И в огромном пространстве окружающего Ничто остается только «грозный» Бог: «Светили звезды. Шли года./И вот настал ужасный час:/меня уж нет, и нету вас,/и моря нет, и скал, и гор.../И грозный Бог для простоты/вскочил и сдунул пыль веков./И вот, без времени оков,/летит один себе сам друг./И хлад кругом, и мрак вокруг» («Что делать нам?») [17, т. 2, с. 180]. В текстах поэта-обэриута знаковыми являются символы «рыбы» и «воды». М.Б. Ямпольский пишет: «Известно, что рыба – один из традиционных символов Христа... Рыба в воде – символ крещения и очищения» [18, с. 229]. В этом аспекте ключевым стихотворением выступает «Однажды Бог ударил в плечо»: «Однажды Бог ударил в плечо./Воскликнул я: ой, горячо!/И в воду прыгнул остудиться,/Заглушить на теле зной./Я 180 пребывал в воде, молиться/Сидел на солнце под сосной» («Однажды Бог ударил в плечо») [17, т. 1, с. 361]. Герой очищается в воде, становится духовно возвышенным. Этот момент объясняет стремление большинства персонажей Д. Хармса превратиться в рыбу, либо окунуться в воду. Смерть настигает героев в воде (частотен для поэтики обэриута мотив утопленичества): «Но лишь утопленника чистый/мелькал затылок над водой...» («Купался грозный Петр Палыч...») [17, т. 1, с. 121], «Дайте силу нам полететь над водой,/Птицы! Птицы!/Дайте мужество нам умереть под водой,/ Рыбы! Рыбы!» («Песнь») [17, т. 2, с. 188], «Вода:/Это рыбак Фомка./ Его дочь во мне утонула» («Вода и Хню») [17, т. 1, 145], «Волну прижав к своей груди,/тонул матрос и говорил: «Приди, приди»...» («Бал») [17, т. 2, с. 121], «Я Пятаков! Пойду гулять в кафтане/и рыб ловить в фонтане.//Вот мост. Внизу вода. БУХ!/Это я в воду полетел./Вода фигурами сложилась/ Таков был мой удел» («Падение с моста») [17, т. 1, с. 172]. А.Н. Рымарь в одной из своих работ отмечает: «Самоубийство у Хармса – это «падение с моста» в воду, в жизнь» [11, с. 199]. Таким образом, перед физической смертью человек пытается очиститься, пройти божественное крещение. Итак, значимость рассматриваемой нами метафизической категории в текстах Д. Хармса, безусловно, обусловлена жизненными интенциями самого поэта. Он определял Бога, следуя традиционному его изображению, как старенького седовласого старичка. Такое классическое описание образа Всевышнего усложняется сочетанием в творчестве поэта христианских канонов с язычеством. Примером тому служат частотные образы в художественном наследии поэта мельниковколдунов, которые берут на себя выполнение функций Всевышнего. В художественном пространстве хармсовских произведений Бог присутствует как непременная абсолютная сила. Господь начинает новый день, нисходит к людям, наказывает жителей земли, является спасительной субстанцией перед смертью человека, и после разрушения мира только Бог остается в огромном Ничто. В текстах Д. Хармса знаковыми являются рыбы, символизирующие образ Христа, и вода, обладающая очистительной силой. Многие персонажи в лирике поэтаобэриута стремятся окунуться в воду или утопиться, что свидетельствует о желании духовного очищения перед смертью. Таким образом, мы определили, что категория «Бог» в миропонимании героев Д. Хармса выводят читателя на глубокий религиозный и философский смысл произведений писателя, раскрывает специфику проекции авторского видения Бога, веры на мировоззрение героев своих произведений. ––––––––––––––– 1. Богомолов Н.А. Русская литература первой трети XX века. Портреты. Проблемы. Разыскания. – Томск, 1999. 2. Герасимова А., Никитаев А. Хармс и «Голем» // Театр. – 1991. – № 11. 181 3. Глоцер В.И. Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс // Новый мир. – 1999. – № 10. 4. Друскин Я.С. «Чинари» // Аврора. – 1989. – № 6. 5. Жаккар Ж.-Ф. Возвышенное в творчестве Даниила Хармса // Wiener Slawistischer Almanach. – 1994. – Bd. 34. 6. Злобина А. Случай Хармса, или Оптический обман // Новый мир. – 1999. – № 2. 7. Кобринский А.А. Хармс сел на кнопку, Или проза абсурда // Искусство Ленинграда. – 1990. – № 11. 8. Масленкова Н.А. Поэтика Даниила Хармса (лирика и эпос): Дисс. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. – Самара, 2000. 9. Московская Д.С. «Частные мыслители» 30-х годов: поставангард в русской прозе // Вопросы философии. – 1993. – № 8. 10. Никитаев А. Тайнопись Даниила Хармса: Опыт дешифровки // Даугава. – 1989. – № 8. 11. Рымарь А.Н. Иероглифическая символизация в поэтике Д. Хармса и А. Введенского // Столетие Даниила Хармса. – СПб., 2005. 12. Рымарь А.Н. Поэтика Д. Хармса и А. Введенского в контексте их философских исканий // http://xarms.lipetsk.ru/texts/rym1.html. 13. Рябкова О.В. Искусство отчуждения в поэзии Даниила Хармса и Иосифа Бродского: Дисс. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. – Екатеринбург, 2006. 14. Сажин В.Н. Наказание Хармса // Новый мир. – 1992. – № 7. 15. Силантьев А.Н. О духовности текстов поэтов группы ОБЭРИУ // Проблемы духовности в русской литературе и публицистике XVIII-XXI веков. – Ставрополь, 2006. 16. Токарев Д.В. Апокалиптические мотивы в творчестве Д. Хармса (в контексте русской и европейской эсхатологии) // Россия, Запад, Восток: встречные течения. – СПб., 1996. 17. Ямпольский М. Б. Беспамятство как исток (Читая Хармса). – М., 1998. ДАНИИЛ АНДРЕЕВ: УНИКАЛЬНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА Орловски Жан, Польша Литературоведов давнозанимает уникальность и необычность творчества Д. Андреева? Необычны были уже сами внешние обстоятельства. Произведения поэта создавались в тюрьме под угрозой уничтожения и нового наказания автора (в лучшем случае это могло означать продолжение срока заключения). Однако книгам Д. Андреева удалось проникнуть за тюремные стены. Но в большей степени удивительно было то, что в этом творчестве вовсе не отразились личные обиды и страдания поэта, ни страшная реальность советской тюрьмы. Мысль и творческий гений поэта-вестника как бы устремлялись в «миры иные», в мир «высшей реальности», существование которой он открывал и ощущал своим духовным чутьем. «Состояния 182 особою видения, – писала Алла Андреева о поэте, – посещавшие его с ранней юности, а в тюрьме перешедшие в ровный и сильный свет трансфизического знания, есть редкий, но встречающийся у людей дар Светлых Сил» [1, т. 1, с. 7]. Наследие Д. Андреева отличается тем, что в нем почти не отражались злободневные проблемы повседневной жизни. Оно отличается выскоим накалом одухотворенности, проникнуто почти мистической верой в торжество правды и добра над силами зла и мрака. Только этой верой можно объяснить тот изумительный духовный мессианский подвиг, каким явилось его творчество в тюремных условиях и во время безнадежной болезни после выхода из заключения. Никто из русских поэтов при жизни Д. Андреева, да и после его смерти, вплоть до наших дней, не заговорил голосом подобным ему о судьбах России и всего мира, о предназначении каждого из нас и всего человечества, наконец и о метаисторической миссии пророков русского народа, в мечтах которых через все столетия явилась идея Святой России. Именно поэтому справедливо принято уже считать Д. Андреева поэтом-вестником. Об этом писали В. Грушецский, С. Джимбинов, Л. Королева, А. Сазонова, Б. Романова и др. Д. Андреев воспринимается как поэт-визионер, возвещающий о мирах иных, о будущем человечества и о «безбрежных морях Братства», которое соединит все страны и все народы. Он много размышлял «о судьбе России, духовном самосознании народа, дальнейших путях развития человечества» [2, с. 95]. Д. Андреев был проповедником профетической миссии России в будущем мире и эту идею он унаследовал от Федора Достоевского, о котором писал в «Poзe Мира»: «он является не только великим, но, пожалуй, глубочайшим писателем всех времен» [1, т. 2, с. 399]. Исследователи наследия Д. Андреева видят в нем «уникальный сплав личности – поэт, духовидец и мыслитель в одном лице» [3, с. 285]. Как поэт и мыслитель с мистическим уклоном явится Андреев и в посвященных ему работах Бориса Романова, писавшего: «Свой путь постижения жизни, основанный на духовидении, Даниил Андреев определял тремя методами: метаисторическим, трансфизическим и вселенским» [4, с. 436]. Творчество Даниила Андреева едино. Не только основные его произволения – «Русские боги», «Железная мистерия», и «Роза Мира», но и целый ряд поэтических сборников и отдельных стихотворений говорят об одном и том же: о структуре Вселенной, о борьбе сил Света и Тьмы. Названные выше главные книги Д. Андреева составляют монументальный и уникальный триптих, который ни с чем не дается сравнить ни в русской, ни даже в мировой литературе. По жанровой структуре это три разных произведения, не похожих друг на друга. Их объединяет, однако, созданная в них авторская концепция мира, и котором провиден183 циальные силы Добра и Света вечно борются с демоническими силами Мрака и Возмездия, а каждый человек по своей воле и выбору становится участником этой борьбы и может своими благородными деяниями и добрыми выборами приближать эпоху всечеловеческого братства людей и торжество сил Добра на Земле и в Космосе. В поэтическом мире Д. Андреева земная реальность всегда пересекается со вселенскими «мирами иными» и судьбы от их миров – земного и космического – всегда взаимосвязаны. Этой андреевской концепцией мироздания объясняется и мистика, и мифология его миросозерцания и поэтического творчества. Исключительно важное место в богатом поэтическом наследии Д. Андреева, несомненно, принадлежит книге «Русские боги» (1935– 1955). Уникально в ней уже само авторское определение жанра этого произведения – «Поэтический ансамбль». Сложность и своеобразие композиции «Русских богов» так объяснял сам Андреев в слове от автора: «Книга «Русские боги» состоит из большого количества последовательных глав и частей, каждая из которых имеет и некоторое автономное значение, но все они объединены общей темой и единой концепцией [...]. Ни одна из этих частей не может, однако, жить вполне самостоятельной жизнью, изъятая из контекста. Все они – звенья неразрывной цепи; они требуют столь же последовательного чтения, как роман или эпопея» (1, т. I, с. 28). Идейно-художественная концепция поэтического мира Д. Андреева представлена автором в двадцати главах «Русских богов», три из которых можно узнать только по краткому изложению не осуществленного их замысла (14. «Александр», 19. «Плаванье к Небесному Кремлю», 20. «Солнечная симфония»). Отдельные главы этого „поэтического ансамбля» (ансамбль как раз и означает совокупность разных элементов единого целого) составляют циклы стихотворений («Святые камни», «Сказание о Яросвете», «Святорусские духи», «Босиком», «Сквозь природу»), поэмы («Ленинградский апокалипсис», «Навна», «Гибель Грозного», «У демонов возмездия»), поэтические симфонии («Симфония городского дня», «Pvx»), поэмы в прозе («Изнанка мира», неосуществленная глава «Александр»). Ведущей темой «Русских богов» является история России и судьбы ее «сверхнарода». Она рассматривается и изображается поэтом в метаисторическом плане. Главное внимание автора привлекает не значение отдельных исторических лиц и событий, но последовательный метаисторический путь народа-«страстотерпца» – его заветное стремление к достижению идеала Святой России столицей, которой в исторической мифологии поэта является Небесный Кремль. Путь к Святой России указывают народу его исторические герои (поэт называл их «родомыслами»), русские святые и праведники, гений русской культуры (Рублев, Пушкин, Достоевский, Соловьев, композитор Мусоргский и др.). По Даниилу Андрееву, просветленным «святорусским 184 духам», обитателям Небесной России, противостоят захватнические и кровожадные демоны русской государственности. Он и особенно восторжествовали в деяниях Ивана Грозного, в событиях «смутного времени» в начале XVII века, в царствовании Николая I и в советской эпохе русской истории. В андреевской мифологии эти темные демонические силы тоже имеют свои обиталища, свои «миры Возмездия» – Антикосмос, иначе говоря – «изнанку мира» (глава «Изнанка мира»). В поэтической мифологии Д. Андреева особую роль играет Навна – то есть, «идеальная Соборная Душа Российской метакультуры». Ей посвящена отдельная глава книги «Русские боги» – поэма «Навна». Поэт называет ее «богиней русской», «нежной Садовницей русского сада». По художественному замыслу поэта Навна олицетворяет все наилучшее и благородное в русской душе, она является и вдохновительницей одухотворенной русской культуры всех столетий. Статус «божества» в Русских богах придается и русской природе. Лирический герой циклов стихотворений «Сквозь природу» и «Босиком» сливается с природой России, ее поля, леса, реки и небо дают ему ощущение духовной свободы. Природа в лирике Д. Андреева это своеобразный божий храм, убежище человека подавленного железобетоном и асфальтом городской цивилизации современной эпохи, Ее бездуховность и античеловечность представлена поэтом во второй главе книги – «Симфония городского дня». Она построена по резкому контрасту с сакрализованным миром русской духовности, которая очаровывает читателя в первой главе книги, озаглавленной «Святые камни». В главах вошедших в книгу Русские боги почти полностью oтразился уникальный поэтический мир Д. Андреева во всей его сложности, богатстве и изумительной мифологической трактовке. В известных только по замыслу двух последних главах автор намеревался описать будущее России и человечества. России предвиделось поэтомвестником услышать звон колоколов во храмах Небесного Кремля, человечеству предсказывалось преодоление национальных пределов, достижение Всечеловеческого братства. Всемирной Церкви, названной Розой Мира [1, т. 1, с. 430–431]. Второе из главных произведений Д. Андреева – Роза Мира (1950– 1958) тоже уникально по своему содержанию, а по жанровой структуре является монументальным мистико-философским трактатом. В современном русском литературоведении высказывается иногда суждение, что Риза Мира является своеобразным прозаическим автокомментарием к отдельным главам (также и к этим, не написанным) «Русских богов». Трактат «Роза Мира» считайся главным произведением Д. Андреева, в котором наиболее выразительно изложено его видение мира, его историософские взгляды, его мифологическая концепция мироздания, истории России и мессианского предназначения ее народа. В «Розе Мира» полностью раскрываются основные понятия андреевской исто185 риософии – метаистория, метакультура, иптеррелигия, сверхнарод. Роза Мира, увидевшая свет в 1991 году, приобрела мировую известность, появились уже ее переводы на английский, испанский, финский, чешский и японский языки. Что же в сущности значит понятие Роза Мира? В кратком словаре имен, терминов и названий (приложение к книге «Роза Мира») автор дает следующее объяснение этого понятия: Р о з a М и р а – грядущая всехристианская Церковь последних веков, объединяющая в себе церкви прошлого и связующая себя на основе унии со всеми религиями светлой направленности. В этом смысле Роза Мира интеррелигиозна или панрелигиозна. Основная задача ее – спасение возможно большего числа человеческих душ и отстранение от них опасности духовного порабощения грядущим противобогом (1, т. 2, с. 593). В «Розе Мира» выражена утопическая идея преобразования будущего мира на основе религии, этики и высокой художественной культуры. Возникновение грядущего Братства всех наций, религий и культур Д. Андреев поэтически назвал Розой Мира. Ее появлению в мире должно сопутствовать и воспитание нового человека «облагороженного образа». По мнению поэтa, зов Розы Мира «будет обращен не столько к интеллекту, сколько к сердцу, звуча в гениальных творениях слова, музыки, театра, архитектуры». Возглавлять же Розу Мира должен исключительный избранник человечества: «во главе Розы Мира естественнее стоять тому, кто совместил в себе три величайших дара: дар религиозного вестничества, дар праведности и дар художественной гениальности» (1, т. 2, с. 25). Описание Розы Мира и путей ее достижения человечеством отнюдь не исчерпывает содержания андреевского трактата. Его четыре книги (от 3 до 6-й) посвящены характеристике многослойной структуры Шаданакара. В космогонической мифологии поэта так именно называется многослойная брамфатура нашей планеты, в слоях которой протекает борьба Провиденциальных и демонических сил, воздействующих на наши земные судьбы и дела. Больше чем половину «Розы Мира» (книги от 7 до 11-й) автор посвятил изложению метаистории российского государства. В отдельных книгах освещается метаистория Древней Руси, царства Московского. Петербургской империи и последнего столетия (точнее первой половины XX века). Историю своей родины Д. Андреев рассматривает как тернистый и страдальческий путь ее «сверхнарода» к духовным вершинам Святой России. Тут же характеризуется и духовный облик русской метакультуры. Трактат «Роза Мира» остается одним из наиболее значимых произведений русской литературы XX века. Его значение выходит за пределы художественной литературы, он становится также весьма оригинальным и важным достижением русской мистико-философской мысли, корни которой можно найти в философии Владимира Соловьева. 186 Изложенные в «Розе Мира» основные идеи миросозерцания Д. Андреева – не исключая его удивительной мифологии – раскрываются языком поэзии в Русских богах и в драматической поэме «Железная мистерия» (1950–1956), которую вернее было бы назвать мистериальным действом. Мистерия создавалась в тюремные годы автора, почти одновременно с «Русскими богами» и «Розой Мира», но в художественном отношении она, на наш взгляд, значительно уступает этим двум книгам. Жанру мистериального действа, кажется, не очень подходит использованная автором в языке книги пародия призывного «барабанного» стиля агитационно-революционной поэзии советской эпохи (это видно особенно в начале книги). В «крикливые», динамичные диалоги андреевской мистерии обильно вплетены призывы, приказы, лозунги и ритмы боевого марша. Одновременно поэт как бы увлекался игрой и обилием искусных рифм. В авторском слове можем прочесть, что действие мистерии «разворачивается в многослойном пространстве». Условное пространство – это большой город на морском берегу, в центре которою стоит Цитадель. В поэтике Д. Андреева Цитадель служит символом порабощения, обителью жестокого демона государственности. Она всегда противостоит дворцам и соборам Небесной России. Часть действия «Железной мистерии» переносится и в транскосмические сферы, участники действия часто слышат голоса, которые «льются с запредельной вышины». В видении Неизвестного мальчика на холме (акт третий – Царствование) на один миг – «Храмы Небесной России блещут на воздушных вершинах золотом, белизной, синевой, а внизу распахиваются – один другого мрачнее лилово-черные, багрово-желтые миры уицраоров и античеловечества» [1, т. 3, кн. 1, с. 76] (в мифологии Д. Андреева «уицраорами» называются демоны великодержавной государственности). Созданный поэтом пространственный мир мистерии характеризуют символические названия некоторых актов, например – «Восшествие», «Крипта», «Гефсимания», «Низвержение», «Пепелище». Условный характер имеют и действующие персонажи андреевской мистерии, например – Августейший, Прозревающий, Правитель, Неизвестный мальчик, Неизвестный юноша, Верховный Наставник. Своеобразными символами являются персонажи, названия которых означают иронического трактовку социально-политической действительности современной поэту тоталитарной советской империи – вот их примеры: Генерал-лейтенант культурных сил, Заслуженный деятель художественного фронта, Борец за новый быт, Агитатор-энтузиаст, Рабочий-поэт. Есть в мистерии и «предметные» персонажи – Человекоорудие, Автомат, но они означают оживленные лица. Галерею реальных лиц пополняют собирательные «персонажи» – Молодежь, Мужчины, Энтузиасты, Организаторы, Воспитатели, Эстрадники и др. В «Железную мистерию» – как и в другие 187 произведения – автор ввел известные свои мифические персонажи – Яросвет, Навна, Даймон. Афродита Всенародная, Жругр (последнее имя означает кровожадного демона великодержавной русской государственности). Несмотря на то, что действие «Железной мистерии» разворачивается в нереалистическом условном пространстве и что участвуют в нем персонажи-символы и мифические герои, все-таки это произведение, в гротескных порою образах, верно отражает действительность советской России. Многие люди – Автоматы, Борцы за новый быт неутомимо декламируют о своей готовности распространять революцию на всю планету и построить новый мир. Они усердно искореняют из жизни всякие проявления духовности, хотят воспитать человека новой эпохи, свободного от «предрассудков» прошлого. Об этом человеке говорит Афродита Всенародная: «Отчего же наши дети – все чугуны, без лица?» Во многих картинах мистерии говорится о милитаризации жизни общества и о массовом терроре. Итак, олицетворяющий русское духовенство Клир жалуется на судьбу верующих: «Уходим в пустыни темные. Хоронимся по городам, – Да будут своды тюремные. Барак лагерей – наш дом...» (1, т. 3, кн. 1, с. 68) Книга «Железная мистерия», как и большинство поэтических произведений Д. Андреева, посвящена главной теме его творчества – вселенской борьбе сил Света и Тьмы. Неизвестный юноша, который воплощает будущие поколения россиян и пользуется покровительством Провиденциальных сил, посещает темные Миры нисходящего ряда и подходящие миры Просветления. Ему удается утвердить в людях идею добра и братства, что в грядущем приводит к возникновению на земле желанной Розы Мира. Это означало, что в человечестве «затеплилась высшая Церковь веры всемирной». В конце мистерии ареопаг справедливых и праведников избирает проповедника Экклезиаста Председателем Розы Мира. Экклезиасту (имя библейского происхождения) отводится в «Железной мистерии» очень важная роль. Это лицо автор характеризует как «человека, удостоенного дара вестничества, то есть провозглашения и утверждения эпохальных или сверхэпохальпых духовных истин». Именно такого одухотворенного человека пол хотел видеть во главе грядущей Розы Мира. Изучая творческое наследие Д. Андреева невольно задаем себе вопрос – кем был и кем станет он в истории русской культуры XX века? Одно не подлежит сомнению – на наших глазах он становится уже классиком русском поэзии и философской мысли мистико-мессианского направления. Если андреевская «метафилософия истории» (как известно, такой подзаголовок он дал книге «Роза Мира») выразительно связана, как уже подчеркивалось, с историософией Ф. Достоевского и Вл. Соловьева, то его поэтическое творчество неотделимо от традиции – эстетических достижений и профетических идей русской поэзии 188 Серебряного века, в частности Блока, Гумилева и Волошина (кстати, всем трем он посвятил отдельные стихотворения – «Александру Блоку», «Гумилев», «Могила М. Волошина»). Взор поэта был всегда устремлен в светлое будущее. Извечная борьба сил Добра и Зла. Просвещения и Мрака на земле и в космическом пространстве является основной темой творчества поэта, который так о себе написал в заключении поэмы «У демонов возмездия» (1955): «Мой стих – о пряже тьмы и света в узлах всемирного Узла». В этом заключении есть и следующая фраза: «Неотделимы факты мира от сил духовности...» Она как раз замечательно характеризует жизненное и писательское «кредо» поэта, усердного защитника высоких духовных ценностей русской культуры. В молитвенной заключительной строфе стихотворения «Когда-то раньше, в расцвете сил...» (1958) он так обращался к Господу: «Дай нам обоим, жене и мне. Земли коснуться в такой стране. Где строю храмы, и весь народ К Тебе восходит из рода в род» [1, т. 3, кн. 1, с. 608] Все творчество Даниила Андреева стало пламенным призывом к возрождению попранной в советское время духовности русской культуры. Удивительно и уникально было то, что этот голос – казалось бы глас вопиющего в пустыне – прозвучал из тюрьмы в стране, где уже десятки лет торжествовала атеистическая идеология. A в наши дни это уникальное слово поэта-вестника стало уже неотъемлемым достоянием русской и мировой литературы. ––––––––––––––– 1. Андреев Д. Собрание сочинений в трех томах. – М., 1993–1997. 2. Королева Л. Поэтическое мифотворчество Даниила Андреева // Даниил Андреев в культуре ХХ века. – М., 2000. 3. См. Созонова А. Весть Даниила Андреева как уникальное духовное явление и принятие ее в современном мире // Даниил Андреев в культуре ХХ века. – М., 2002. 4. Романов Б. «Русские Боги» Даниила Андреева // Андреев Д. Собраниче сочинений в трех томах. – т. 1. – 1993. ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ПОЛИФОНИЧНОСТЬ ИДИОСТИЛЯ Л.С. ПЕТРУШЕВСКОЙ Маркова Т.Н., Челябинск С первых публикаций 1980-х годов рассказы и повести Л. Петрушевской оценивались, как правило, в русле «натурализма», «жесткого реализма» и даже «чернухи». Это происходило в силу неточного понимания сферы ее преобразовательных устремлений. 189 Опираясь на живое, бытовое «говорение» и углубляясь в его «недра», Петрушевская направленно и интенсивно преобразует традиционные речевые модели. Идя навстречу стихии устного слова, она творит, как верно заметил Р. Тименчик, целый «лингвистический континент» [5, c. 396] – со своим словарем, синтаксисом, тропами, выявляя тем самым свой, «петрушевский», стиль, стиль максимальной свободы – речевой, в первую очередь, – свободы, обретающей форму парадокса. Ее стилевая форма несет в себе бесстрашно-свободное отношение к реальности, будничной и неприглядной, «корявой, как повседневная речь» (О. Лебедушкина). Совмещение контрастирующих речевых стилей (книжного и разговорно-просторечного, жаргонного и литературного, экспрессивного и канцелярского, риторического и абсурдистского) демонстрирует парадоксальный характер идиостиля Петрушевской. Именно парадоксом как максимально свободной формой мысли она творит картину мира (резко-оксюморонную, с подчеркнутым совмещением несовместимого), который предстает в своей кричащей и драматической «лоскутности» и отчужденности его составляющих. Эта картина возникает именно благодаря точно выстроенной эстетике речевой формы, которая дышит неявным (скрытым и неоднозначным) пафосом сегодняшнего общения автора с реальностью – свободного, внеиерархического. Языковая эклектика (подчеркнем эту мысль) в такой системе координат – совершенно закономерное явление («где начинается эклектика, там зарождается свобода», как верно замечает Б. Парамонов). Свобода эта проявляется в резких переходах от речевого «низа» к речевому «верху», что позволяет увидеть в слове Петрушевской не только «некрасивую» пестроту мира, но и прячущийся в этой пестроте его идеальный план. Несмотря на густую вещественность и детализированность, проза Петрушевской полна воздуха и пространства, более того, в ней всегда присутствует космос, некий огромный «мир вообще», в который как бы впаян «малый» мир текста. До этого Вера жила как все студентки, аборты, танцы, любови каждую зиму, к весне пустота и ожидание, летом случайные знакомые, а Андрей был с самого первого курса путеводной недостижимой звездой, это для него все и было, доказать ему, что у нее все в порядке, все есть, парни, танцы, все как у всех; доказала, вышла замуж за Андрея на последнем издыхании, перед госэкзаменом, и пришлось ехать вслед за ним в деревню, если не деревня, Андрей бы марш-марш и пошел бы в армию служить, и его, как подозрительного немца с фамилией на «бург», живо бы послали в горячую точку как пушечное мясо, идти впереди дембелей с неосвоенным оружием в руках [2, с. 89]. Неудержимая россыпь житейского и языкового сора артистически выстраивается художником, в результате чего возникает искуснейшая 190 речевая ткань, когда штампы, «груды речевого шлака» (А. Смелянский), приводятся в столкновение друг с другом, когда «терриконы отработанного трепа» (М. Туровская) идут в отходы, чтобы заставить лексику быть смыслоразличительным и индивидуализирующим фактором. Слог Петрушевской характеризуется стилистическими диссонансами, эпатирующими нарушениями литературного этикета. Ее повествование вбирает в себя и просторечие, и жаргон, и канцеляризмы, и экспрессионализмы, и собственно книжную лексику, образуя лексический коллаж. Восприятие и осознание мира, убеждена писательница, происходит в речевых формах, они диктуют свои законы, свою инерцию. Все называется словом и только будучи названным приобретает очертания и статус. Внимание к семантике отдельного слова или словосочетания намеренно подчеркивается, даже графически выделяется в тексте: Что называется «глумление»... Для таких случаев существует слово «опущенный»... Это называлось в те времена «не давать проходу»... Это не было то, что называют «он за ней бегает». Это было что-то другое и т. п. Да, для Петрушевской характерно непрерывное выстраивание «чего-то другого» – индивидуальных речевых образов, с их необычным, нередко оксюморонным по их лексическому значению сочетанием слов: свое осиное гнездо, к своей чужой жене, казенная жена, холостое состояние, безрезультатно погиб, бездарь кандидат наук, порядочный проходимец, молодая ровесница Оля, хромой на голову муж и т. п. Подобно тому, как за словесной небрежностью стоит постоянное стремление автора осмыслить сущность бытия через житейские подробности несовершенного и непостоянного мироустройства, – за нарочитым нарушением всех языковых норм стоит потребность автора освоить язык в его противоречиях. Об этом (в свойственной ей парадоксальной манере) говорит писательница в одном из интервью: «О, наш великий и могучий, правдивый и свободный разговорный, он мелет что попало, но никогда он не лжет. И никогда он, этот язык не грязен» [3, c. 237]. Впечатление неряшливости слова, выстраиваемого Петрушевской, конечно же, обманчиво. За создаваемой ею нонселекцией стоит филигранная работа со словом, с отбором слова. Покажем это на примере анализа рассказа «По дороге бога Эроса». Уже первое сложное предложение, открывающее этот текст, позволяет выстроить семантический контрапункт всего повествования: Маленькая пухлая немолодая женщина, обремененная заботами, ушедшая в свое тело как в раковину, именно ушедшая решительно и самостоятельно и очень рано, как только ее дочери начали выходить замуж,– так вот, рано располневшая немолодая женщина однажды вечером долго не уходила с работы, а когда ушла, то двинулась не по 191 привычному маршруту, а по дороге бога Эроса, на первый случай по дороге к своей сослуживице, женщине тоже не особенно молодой, но яростно сопротивляющейся возрасту,– или она была таковой по природе, вечно юной, как она выражалась, «у меня греческая щитовидка» и все [2, c. 44]. Воспроизведем семантические цепочки, разворачивающиеся в тексте рассказа. Первая из них метафорически раздвигает семантическое поле корня «бремя»: обремененная заботами – как только младшая дочь забеременела, она тоже как бы забеременела ожиданием – носила в своей душе маленького, но крепкого ангела-хранителя – освободилась, расцвела, ее ангел-хранитель вознесся сквозь толщу плоти, уже готовой к старости – дело разрешилось (ср.: разрешиться от бремени) на том, что спустя два месяца ее гость пропал. Вторая семантическая цепочка выстраивается, начинаясь в словосочетании «ушедшая в свое тело как в раковину»: ушла в себя – спряталась в свое пухлое маленькое тело, спрятала глаза, спрятала душу – все это быстро спрятала, быстро обросла бренной плотью – засунула свое бренное толстое тельце в какой-то угол и там затихла – уйдя в свою личину толстенькой тихой бабушки – села и расплылась, растаяла, как бы не существовала уже. От того же корня (ушла) ведет начало и другая – метафорическая – цепочка: а когда ушла, то двинулась – поплыла – оттолкнулась от берега – взмахнула веслами – побарахталась – залегла на дно. От глагола «двинулась» (в переносном значении «сдвинулась», «крыша поехала») можно протянуть еще одну цепочку: не помнила себя – впала в сон – повредилась в разуме. А на основе словосочетания «раковина тела» выстраивается ряд «энтомологических» образов: личина – куколка – кокон – бабочка, метафорически выражающих идею эйдетического преображения героини, встретившей своего Единственного. Итак, одно единственное предложение, состоящее из целого ряда обособленных, уточняющих, присоединительных конструкций, создающих эффект бесконечного нанизывания и приращения подробностей, ухода в сторону, в повторы и т. п., содержит в себе огромную семантическую энергию, реализуемую на протяжении всего повествования. Многочисленные словесные «возвращения», «топтания», «хождения по кругу» – это и есть стилевая доминанта прозы Петрушевской, отзывающаяся в фокусе (клубковом, спутанном) ее речевого строя. На интонационно-синтаксическом уровне ее прозы тоже имеет место парадоксальное сочетание противоположных тенденций: дробления / присоединения, членимости / непрерывности. С одной стороны, фраза Петрушевской развертывается прерывисто: она дробится на части, каждая из которых претендует на известную самостоятель192 ность и ударность. В результате – внутренние «швы», связующие «куски» предложения, становятся явными, усиленными: они не прячутся, а «выставляются» и обнажаются. При этом возможны самые разнообразные типы дробления фразы: могут быть отделены однородные сказуемые, части сложносочиненного или сложноподчиненного предложений, причастный и деепричастный обороты и т. д. (именно это явление лингвисты именуют парцелляцией). С другой стороны, Петрушевской творится единство и непрерывность потока речи, которые создаются многочисленными присоединениями, перебрасывающими мостики между фразами и абзацами. Большая часть из них начинается присоединениями и повторяет рисунок внутри абзаца. Характер этих построений также связан с разговорной речью и определен двойственностью ее природы: легкой членимостью, дробностью и одновременно непрерывностью речевого потока. Нагромождение присоединительных конструкций, как замечает А. Барзах, парадоксально «смещает семантический фокус предложения» [1, c. 252]. Посредством синтаксиса и стилистически окрашенной пунктуации писательница вносит в текст ту информацию, которую считает необходимой для адекватного его понимания. Особо существенное, значимое в тексте Петрушевской зачастую передается в самом конце синтаксического периода или в придаточном предложении, куда смещается смысловой акцент. Например: Уже девочка бегала в свои четырнадцать лет, что-то устраивала, поскольку папу нашли на дороге рано утром, сердце. А кто говорил: «доза». В рассказе «Дитя» повествование как бы имитирует неофициальный протокол, о чем свидетельствуют специфические речевые формы типа: по ее утверждению, а по мнению всех, передавали из уст в уста, все это рассказывали медсестры, весь родильный дом буквально бушевал, оба шофера были возбуждены до крайности. Императивная формула, которой открывается рассказ (Ей не было оправдания), формула, выражающая приговор обывателей, казалось бы, полностью подтверждается. Даже адвокат склоняется к объяснению происшедшего невменяемостью своей подзащитной, которая ведет себя как глупый ребенок, закрывая лицо руками, как будто боясь – и кого, малого младенца; не тюрьмы, не суда боится – собственного дитя. Но в тексте есть и другая (не проговоренная словом, а предъявленная мезансценой, статуарно) «точка зрения», выражающая иное видение события – со стороны нищей семьи арестантки (старикслепец, двое детей в бедных матросских шапочках и сердобольная посторонняя старушка): Вид у них был такой, словно именно с ними что-то произошло, какое-то несчастье. Этот другой – оптический и этический – ракурс отменяет однозначную категоричность начальной императивной формулы, не опровергая ее, но оставляя преступление без окончательного приговора. 193 С точки зрения внешнего наблюдателя, который ведет рассказ, поступок женщины бессмыслен, абсурден. Его смысл помогает прояснить христианский миф, раскрытый Ю. Серго [4, c. 130]. Логика евангельской легенды, пишет исследовательница, в рассказе не явлена впрямую, а лишь слегка намечена – ночь, пещера у дороги, шоферыволхвы, ватники-шкуры. В свете христианского мифа оставленное матерью дитя – жертва, принесенная миру для того, чтобы пробудить в нем жалость. Новорожденный ребенок, заложенный камнями у дороги, погребен для обретения новой жизни. Так, алогичное поведение матери-преступницы оборачивается той высшей логикой, которая заставляет мир принять и полюбить ее дитя: в массовом сознании рождается легенда о чудесном спасении младенца. Подтекстовая аллюзия на библейский сюжет дает возможность художнику сказать об изначальном – не осознаваемом ни самой героиней, ни ее судьями – смысле происшедшего и тем самым разомкнуть рамки этого рассказа в сферу экзистенциального и всечеловеческого. Итак, парадоксальная полифоничность как стилевая доминанта прозы Петрушевской, открывающая свое полисемантическое наполнение, выявляет себя на разных уровнях ее текстов, и в первую очередь – на уровне речевом. Повествовательный план ее текста пронизывает остальные его планы (фабульно-сюжетный, хронотопический, мифопоэтический, психологический) по вертикали. Исходя из этой сложной внутренней связи разных уровней поэтики прозы Петрушевской и солидаризируясь с позицией В. Эйдиновой, подчеркнем, что Л. Петрушевская созидает свой художественный мир «как мир преимущественно словесный, живущий энергией не персонажей, не фабульных ситуаций, не интенсивных сюжетных ходов, но энергией повествовательной стихии» [6, c. 171]. ––––––––––––––– 1. Барзах А. О рассказах Л.Петрушевской: Заметки аутсайдера // Постскриптум. – 1995. – № 1. 2. Петрушевская Л. Дом девушек: рассказы и повести. – М.: Вагриус. 1999. 3. Петрушевская Л. «Нам – секс?» // Иностранная литература – 1989. – № 5. 4. Серго Ю. Сюжет античного и христианского в женском прочтении («Теща Эдипа» и «Дитя» Л.Петрушевской) // Гендерный конфликт и его репрезентация в культуре: Мужчина глазами женщины. Екатеринбург: Изд-во Урал ун-та, 2001. – С. 130–131. 5. Тименчик Р. Послесловие к кн.: Петрушевская Л.С. Три девушки в голубом. Пьесы. – М.: Худож. лит., 1989. 6. Эйдинова В.В. О тайне добычинского повествования // Добычинский сборник. Даугавпилс. 2000. – С. 163–171. 194 субъективация действительности как один из аспектов реализации творческой индивидуальности М. Палей Сипко Ю.Н., Ставрополь Определение понятия «творческая индивидуальность» на сегодняшний день достаточно проблемно. На наш взгляд, такая нечеткость связана с тем, что сам термин пришел в литературоведение из психологии. А в ней понятия личность и индивидуальность также дискуссионны. Однако есть общая интенция в разделительных определениях индивидуальности и личности: если личность определяется как социальная биография человека, как наивысшее проявление его в социуме, то индивидуальность – это нечто глубинное, создающееся больше не под воздействием социальных факторов, а вследствие генетических, природных характеристик. Безусловно, индивидуальность нельзя рассматривать вне социального контекста. Однако еще раз подчеркнем, что в этом случае речь идет о такой семантической наполненности термина, как «глубинность». Чтобы нагляднее показать разграничение терминов «творческая личность» и «творческая индивидуальность», обратимся к конкретному литературоведческому материалу – к творчеству Марины Палей. На наш взгляд, в объем термина «творческая личность» в данном случае входит биография писательницы, ее формирование как художника в среде ленинградских писателей (отсюда – отражение Петербургского текста в произведениях Палей) эмигрантский период творчества, опора на образцы зарубежной литературы и русской литературы, экзистенциальная проблематика текстов. Произведения Палей в своей совокупности – история человеческой несвободы во множественности ее проявлений. При этом проблема «поток – воля – рок» решается в пользу невозможности реализации воли, своего свободного Поступка. Все попытки человека встать над «потоком» изначально обречены на полный крах. Это, с одной стороны, характеризует модель произведений автора как модель Человекобога [8], а с другой – вписывает произведения Палей в общий контекст творчества Андреева и Набокова, в общую, по определению В.В. Заманской, «андреевски-набоковскую модель русского экзистенциального сознания» [2, c. 91]. Отличительной чертой данной модели исследователь называет отсутствие промежуточного звена между потоком и человеком, то есть здесь воля человека ничего не может определить в его судьбе [2, c. 92]. Все эти характеристики относятся к объему термина «творческая личность». 195 Что же касается «творческой индивидуальности», то здесь речь идет больше о подсознательных образах, которые реализуются в тексте, создают художественную реальность с собственными законами и правилами построения. В данном случае творческая индивидуальность реализуется в особом видении мира, так называемой оптике прозы Палей. Это видение реализуется во внутреннем рисунке ее текстов. В творчестве Палей проблема несвободы, например, ассоциируется с образом круга, а образ круга повторяется в композиционном построении текстов. Мы можем говорить о некоем графическом рисунке, который воспроизводится во всей совокупности текстов писательницы (как художественных, так и публицистических). Этот графический рисунок становится регулярным закономерным правилом в творческой лаборатории Палей и безусловно укладывается в рамки понятия творческой индивидуальности писателя. Ключ к постижению экзистенциальной сущности творчества Палей нередко указывается в авторских пометках и предисловиях. Создаваемая художественная реальность постоянно является предметом рефлексий самого автора, что определяет, с одной стороны, многомерность и многослойность ее художественного мира, а с другой – такую его черту, как расщепленность. В качестве скрепы всего своего творчества писатель выбирает образ ошейника. В предисловии к Двум рассказам она пишет: «Рассказы из цикла «Ошейник»... представляют собой мою коллекцию, где собраны самые разнообразные (по клиническим проявлениям и географическим ареалам) варианты человеческой несвободы... Это коллекционирование начато мной уже давно. Просматривая свои прежние работы, я, даже чаще ожидаемого, нахожу в них места, где так или иначе описан круг – то есть наиболее общий случай ошейника» [4]. Реальность в прозе Марины Палей выступает в образе беспощадной мясистой массы, окружающей человека, подавляющей его, ежеминутно угрожающей суверенитетности его уникального «Я». Индивидуальное воплощение этой проблематики усложняется в рисунке удваивающегося круга. Его удвоение обусловлено личностными перипетиями: жизни сначала в СССР, а потом – заграницей. Первый круг формируется в пространственно-временном континууме СССР. Здесь человек – винтик, ненужная щепка, целенаправленно уничтожаемая властями и пытающаяся выжить в нечеловеческих, катастрофических условиях существования. Экзистенциальная ситуация при этом приобретает характер некритической. Персонажи Марины Палей не находятся в рамках одномоментной краткой, но острой ситуации, угроза их физического и духовного существования перманентна, неразрешима, нескончаема до самой смерти, что отличает картину мира прозы Палей от модели Богочеловека. Ужасы действительности столь непереносимы и физически осязаемы, что лучшим выходом для человека представляется смерть (в ее онтологическом или же 196 пространственном значении). Второй круг несвободы возможен при условии преодоления первого в пространственном его значении (СССР и постсоветское пространство). Однако в пространстве, условно названном нами «НеРоссия», образ несвободы, модифицируясь, сохраняется. Преодоление рабства культурно-политического путем неимоверных человеческих усилий носит, в конце концов, фантомный характер. Состоявшийся иерархиезированный мир «НеРоссии» видится еще более абсурдным. Этот мир здоровых улыбающихся манекенов, людей из рекламных роликов и плакатов, по сути своей мертв. Интересны взаимозависимости Первого и Второго кругов. Во Втором круге человек обретает условную культурно-политическую свободу, но при этом обрекается на бесконечное, непереносимое одиночество в мире мертвых, что приближает его к образу Преисподней в модели Человекобога. В Пером круге есть место для понятия «Другой», в соотнесении с которым человек себя может идентифицировать. Однако непреодолимая тяжесть бытия буквально раздавливает человеческое «Я». Во втором круге подобная самоидентификация возможна только при встрече с соотечественником как единственно живым существом. Критерий двойственности, а иногда и множественности, является основным в индивидуальном конструировании экзистенциальной модели мира Палей, что порождает не просто разорванность, а бесконечную расщепленность сознания человека. Уровень Божественного, столь значимый в модели Богочеловека, в модели Человекобога нивелируется и низвергается с пьедестала. Координаты персонажа в этом случае лежат в горизонтальной плоскости. Вертикальное же видение определяется осуждением и неприятием воли Божественной. Желание смерти подчеркнуто связано с «выключением» из бесконечного и бессмысленного потока жизни, как единственно желаемом. Так, в эссе «Выход» есть эпизод трагической гибели шестидесяти китайцев, пытавшихся в корабельном отсеке доплыть до Британии. Палей комментирует этот случай: «Возможно, пределы, куда попали пятьдесят шесть, не в пример отрадней всех благ Великой Британии и иже с нею. Не в пример отрадней! Даже если это абсолютное ничто – и особенно в этом случае» [3]. Последние «и особенно в этом случае» определяют главный вектор системы взаимоотношений «Бог – Человек». Жизнь, омерзительная и бессмысленная пытка, должна закончиться столь долгожданным полным отчуждением от мира, погружением в абсолютное Ничто. Если же жизнь – результат божественного промысла, часть сверхзамысла, то пытка может повториться еще раз, в зависимости от желания Божественного «Я». К тому же, если столь ужасающая в своих бесчинствах жизнь – промысел Божий, то суть этого промысла лежит вне человеческого понимания, по ту сторону Добра и Зла. 197 Таким образом, критерий двойственности формирует и уровень отношений «Бог – Человек»: лучше отрицать существование Бога, нежели ненавидеть его замысел. Двоичность этих отношений проявляется в неопределенности положения верха в модели мира Палей. Так, правительство СССР и Божественное как начала, обладающие безграничной властью над человеком, часто наделяются тождественными функциями и тождественной же непроницаемостью для человека. Показателен в этом плане финал повести «Евгеша и Аннушка»: «Священные чудовища из кормушки верховной власти! Все было сделано вами для того, чтобы даже тень тени не оставили эти старухи» [5, с. 125]. Здесь хотелось бы привести высказывание С. Булгакова: «политика не может составить основы трагедии, мир политики становится вне трагического» [2, с. 58], так как эта цитата дает возможность со всей очевидностью установить разницу между сознанием начала и конца ХХ века. Уже к середине 50-х сам ход истории и рефлексия над ним доказали, что бесчеловечность и жестокость политического строя как нельзя лучше вписываются в координаты трагического сознания. Итак, в прозе Марины Палей воплощается экзистенциальная модель Человекобога, в которой мир без Бога и дьявола воспринимается как чуждый и злой, что является наполнением понятия «творческая личность». Но Сартровское «удивлен жизнью, которая дана мне ради ничего» [7, c. 137] преобразуется в «раздавлен жизнью, которая дана мне ради ничего», что характеризует индивидуальный уровень творчества писательницы. Непреодолимая дистанция, возникающая между человеком и реальностью, ведет к все нарастающей отчужденности сознания от реалий жизни, что, в свою очередь, порождает стремление к построению собственной субъективной реальности в рамках индивидуального сознания. Постепенно происходит процесс субъективации объективного мира. Здесь – важное конструирующее начало прозы Марины Палей. По сути, все ее произведения – пример субъективации объективного мира. С этой точки зрения творчество Марины Палей можно охарактеризовать ее же словами: «Действие происходит в Нью-Йорке, ранней осенью в начале 90-х годов XX века – у врача, в клубе, в магазине, в квартирах, на улице, – точней говоря, в сознании Семы Гринблада» [6, c. 83] Суверенитетность и неприкосновенность субъективного мира, а также его превалирование над объективной реальностью выявляется уже в раннем творчестве Палей. Дополним уже приводимые строки из повести «Евгеша и Аннушка»: «Священные чудовища из кормушки верховной власти! Все было сделано вами для того, чтобы даже тень тени не оставили эти старухи. А разве по-вашему вышло? Они и сейчас сидят в моей кухне» [5, c. 125]. Так становится возможной реанимация прошлого даже при условии физического отсутствия действующих лиц этого прошлого. 198 Воспроизведение ситуации изнутри, через тотальную субъективацию мира, через личное переживание и видение его связано с такими особенностями прозы Палей, как повышенный психологизм, лиричность, внешняя сюжетная неопределенность, свободное обращение с пространственными и временными константами. Стремление расщепленного сознания к самоидентификации порождает поиски Другого, но Другого в рамках субъективного мира. Здесь разрешается парадокс двойственности художественного мира писателя как лирического монолога с одной стороны и описания наблюдателя-хроникера с другой. С..Боровиков в статье «Неизвестная заря» тонко подмечает следующую особенность текстов Палей: «Глядеть – и только... Как бы ни восхищалась натурой Моньки-Раймонды та же (или другая? нет, та же) рассказчица, она остается в роли хроникера в «Бесах», который есть и которого нет» [1, c. 224]. Соотнесение с Другим реализуется и на композиционном уровне в частом использовании, а иногда и в возведении до организующего начала всего текста, приема монтажа. Отсюда – тяготение Палей к эксперименту с формой, к смешению не только родов литературы (например, в сценарных имитациях), но и видов искусств, в особенности, литературы, музыки и живописи. Стратегия наблюдателя в рамках субъективированного мира позволяет сопоставить себя с Другим, через что и происходит самоидентификация. Выделение тотальной субъективации мира в организующее, структурно и содержательно определяющее начало прозы Марины Палей позволяет говорить о четких индивидуальных особенностях ее творчества. ––––––––––––––– 1. Боровиков С. Неизвестная заря // Новый Мир. – 1998. – № 12. 2. Заманская В.В. Экзистенциальная традиция в русской литературе ХХ века. Диалоги на границах столетий. – М.: Флинта; Наука, 2002. 3. Палей М. Выход // Вестник Европы. – 2003. – № 9. 4. Палей М. Два рассказа // Знамя. – 2005. – № 2. 5. Палей М. Месторождение ветра: Повести и рассказы. – СПб.: ЛимбусПресс, 1998. 6. Палей М. Long Distance, или Славянский акцент. Сценарные имитации // Новый Мир. – 2000. – № 1–5. 7. Сартр Ж.-П. Тошнота. – М., 1994. 8. Сипко Ю.Н. Экзистенциальное содержание петербургской прозы конца ХХ века // Дисс... канд. филол. наук (10.01.01. – русская литература) на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Ставрополь, 2006. 199 ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ В ЛИТЕРАТУРАХ НАРОДОВ . СЕВЕРНОГО КАВКАЗА IV ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ КАК ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН (на материале адыгских литератур) Шиков К.М., Майкоп Значение творческой индивидуальности писателя в художественном процессе различных историко-культурных периодов жизни общества обусловлено тем, что этот феномен является важным составляющим эстетической системы литературного направления. В 1960–1980-е годы вопросы, связанные с изучением особенностей творческой индивидуальности писателя, освещались в работах М.Б. Храпченко [4], Г.Л. Абрамовича, И.И. Анисимова, Н.К. Гея, И.Г. Неупокоевой, С.В. Никольского, С.А. Шерлаимовой, Я.Е. Эльсберга, Л.Я. Гинзбург, М.Н. Виролайнен, Ю.Н. Минералова и др., которые в своих исследованиях с различных сторон рассматривали эту проблему в соотношениях с литературным процессом и художественными методами на материале отечественной и западноевропейских литератур. Вопросы нравственно-эстетической и моральной ответственности писателя перед народом, цельность его духовного облика выдвинули на передовые рубежи литературной жизни необходимость решения проблемы автора как субъекта творческого процесса. Традиции, заложенные отечественными литературоведами, в последние десятилетия были продолжены и успешно развиваются российскими исследователями, рассматривающими вопросы творческой индивидуальности писателя в неразрывной связи с закономерностями развития этнокультур [см., напр.: 3]. Художник слова значителен прежде всего своей неповторимостью, тем, что нового вносит он в духовную сокровищницу народа. Только творческая индивидуальность писателя способна вобрать в себя те неповторимые черты, свойства и качества менталитета, которые принадлежат тому или иному народу, именно в них отражаются особенности художественной литературы эпохи, так как, оставаясь свободным в выборе материала и стиля, писатель не может не подчиняться определенным закономерностям литературного развития. И если это подлинный художник, мощь его таланта будет измеряться тем влиянием, которое оно оказывает на литературный процесс, на современников и на развитие литературы в будущем. 200 Творческая индивидуальность писателя является категорией исторической, способной развиваться и совершенствоваться вместе с развитием человеческого общества. В своё время эта категория получила наиболее глубокое обоснование и разработку в «Эстетике» Гегеля, в которой философ установил, что в новую историческую эпоху, когда мифология перестает быть источником искусства, остро встает вопрос о субъективном начале и мастерстве конкретного художника. Писатель уже сам вынужден выбирать не только материал для творчества, но и способы его художественной обработки. Гегель открыл истину: в настоящем художественном произведении объективные законы литературного процесса должны без сомнения отражаться в субъективных особенностях творческой личности. Вопрос об индивидуальности писателя, о соотношении личного и общего, характер его разработки в современной литературоведческой науке, бесспорно, имеет существенное значение для выявления диалектически сложных взаимоотношений писателя с жизнью народа. Если же данную проблему проецировать на художественнопублицистическое творчество адыгских писателей-просветителей, то становится очевидным, что иноязычная горская литература XIX – начала XX веков с особенной остротой актуализировала проблему личности, что стало выражением протеста против социального гнета и военной экспансии в эпоху русско-кавказской войны. Следует, однако, отметить, что решение теоретических вопросов, связанных с этнокультурной спецификой творческой индивидуальности писателя, остается одной из актуальных проблем не только литературоведения, но и современной фольклористики, так как исполнители устно-поэтических народных произведений одновременно являются их носителями и творцами. В связи с этим необходимо рассматривать устное поэтическое творчество адыгских народов в качестве истока и начала формирования творческой индивидуальности художника слова. В конце XVIII – начале XIX века в адыгском фольклоре начинается процесс перехода от «безличного» к индивидуальному творчеству. Следует отметить, что этот процесс стал мощным стимулом развития и активизации художественного творчества мастеров адыгской устнопоэтической литературы, в результате которого возникают новые произведения, глубоко отличные по форме и содержанию, по своей завершённости и целостности от тех, что создавались ранее. Наличие в устной литературе произведений, характеризующихся совершенством художественно-поэтической формы, граничащей с достижениями авторов литературных памятников мировой классики, говорит о качественном переходе адыгской духовной культуры в другое, более высокое состояние, способствующее в новую историческую эпоху формированию общественных идеалов, непосредственно вытекающих из духовных потребностей народа. Утверждение этих духовных ценно201 стей в адыгской культуре ускоряется и в связи с возникновением и становлением в ней письменной русскоязычной литературы. Высокое эстетическое чувство несовместимо с чувством безразличия к судьбам своего народа, так как именно писатель, с его величайшими духовными творениями, в том числе и устными, реализует потребность художественного отображения и исторической оценки наиболее значимых событий и явлений народной судьбы, судьбы человеческой в периоды её тяжелейших социально-экономических и политических изменений. Именно в такие эпохи из народной среды и выдвигаются талантливые личности, имеющие природное дарование и способность к художественному творчеству. Формирование творческой индивидуальности – процесс исключительно сложный и тяжёлый, шедший под влиянием двух разноязычных культур – адыгской и русской, но тем и ценнее был их художественный опыт, не имевший аналогов в мире. Это беспримерное выражение в своём творчестве сплава, взаимодействия двух культур [2], в недавнем прошлом взаимоисключавших друг друга по религиозным и идеологическим мотивам, было невиданным достижением, отвечавшим духовным потребностям обоих народов, обогащавшим обе национальные культуры художественными и эстетическими ценностями. Влияние художественно-эстетического опыта и духовных ценностей, накопленных тысячелетиями различными народами, на формирование художника многократно ускоряет и усиливает пробуждение и развитие таких сторон творческой индивидуальности, без которых невозможно полноценное существование гармонически развитой личности. Более того, эти факторы способствовали пробуждению в талантливых представителях адыгских народов не просто художников, статистически, зеркально-пассивно отображавших исторические факты в судьбах адыгов, а художников активного эстетического мышления и отношения к действительности, показывающих в своих произведениях яркие образцы художественного сотворчества с жизнью и окружающим их миром. Таким образом, опыт духовно-эстетического и практического освоения реалий мира и художественного отображения быта и культуры кавказских народов адыгскими писателями первых десятилетий XIX века, в том числе и русскоязычными, явился своеобразным мостом, сближающим русский и северокавказские горские народы. В отличие от многих новописьменных профессиональных культур нашей страны адыгские литературы, возникшие в 20-е годы прошлого столетия, в своем развитии шли своеобразным путем. Это своеобразие заключалось прежде всего в освоении жанров. Так, если в адыгейской литературе с конца 20-х гг. прошлого века проза развивается более интенсивно, то в родственных ей кабардинской и черкесской литературах поэзия в тот же период начинает свое развитие более быстрыми темпами, хотя адыгские народы, несмотря на географическую разобщенность, жили в совершенно одинаковых социально-экономических 202 условиях, основой их быта и культуры всегда была единая духовность и они проходили через одни и те же этапы общественно-исторического развития. Причиной такого явления, на наш взгляд, может быть особая идейно-эстетическая концепция художников слова, отображавших особенности эпохи теми или иными творческими способами и с разной эмоциональной окраской, которые при этом обязательно соответствовали определенной эстетической системе взглядов самого писателя на окружающий мир. Именно поэтому те или иные художественные ценности, созданные талантом и трудолюбием одного писателя, совершенно не похожи на те, что созданы другими художниками. Таким образом, художественные миры разных новописьменных писателей, возникшие в результате так называемого объективированного творческого акта, всегда своеобразны, так как их создатели являются различными творческими индивидуальностями. Герои, созданные ими, живущие и действующие в одних и тех же исторических условиях, художественно отражающие знаковые явления одной и той же эпохи, все же сохраняют неповторимое своеобразие и собственную индивидуальность. Каждый из них предстает в определенном, особом конкретно-художественном воплощении. Даже при глубокой идейной перекличке, связях художественных характеров они декларируют разные художественные истины. Творческая свобода писателя, право художественного выбора отображать в своих произведениях только то, что он считает важным для данной исторической эпохи, и отображать именно так, как он считает это необходимым, делают его произведения, его творческую манеру не похожими на другие художественные системы. В этом и проявляется творческая индивидуальность художника слова. Процесс исследования формирования творческой индивидуальности писателя тесно связан с решением проблемы авторства. И чем позже возникала литература, тем острее становилась эта проблема, настолько живо и органично переплетались в творчестве одного писателя, в устно-поэтической литературе адыгских народов исторические факты возможного физического уничтожения и духовного вымирания. В эпоху исторического «перелома» процесс развития социального и духовного самосознания адыгов ускоряется многократно и даже в самых низах народных масс достигает такого уровня, что в каждой личности появляется внутренняя необходимость как-то обозначить свое участие в судьбе народа. Народные певцы уже не хотят быть безвестными и при исполнении различных песен и сказаний подчеркивают имя автора произведения. Решение проблемы авторства было исключительно важно еще и потому, что оно обозначало продолжение и развитие уже устоявшихся художественных и творческих традиций, носивших личностный или именной характер, к проявлению которого, совершенно бесспорно, были неравнодушны и сами авторы при всей бескорыстности большинства из них. Ведь в творчестве каждого сочинителя народ203 ных песен неповторимо и своеобразно проступали богатство устной поэзии, национальная самобытность и поэтический талант автора. Формирование личности писателя, его творческой индивидуальности с учетом уже выработанной предыдущими поколениями системы этнокультурных ценностей – процесс многосложный, в нем одновременно принимает участие множество факторов. Но важнее всего то, что выдвижение на передовые рубежи эпохи духовно богатой личности с большим запасом творческих сил, с умением предвидеть и предугадывать закономерность, изначально заложенную в исторических процессах, способностью анализировать эти процессы, происходит потому, что социальная среда начинает испытывать острую необходимость в ней. М. Арнаудов отмечает, что «...талантливые личности не появляются безразлично где на земном шаре и в какую угодно эпоху, а только в странах и обществах, где население проявляло на протяжении веков сознательный интерес к духовным ценностям» [1, с. 15]. Но, наряду с объективной историко-социальной закономерностью в формировании творческой индивидуальности писателя наличествуют и субъективные факторы, к основным из которых можно отнести свойства ума художника, его чувства и воображение, умение осмыслить главные факты и явления эпохи и художественно отобразить их в своих произведениях и многое другое, что делает творческую личность особенной, не похожей на другие при том, что каждая из них воспроизводит одну и ту же окружающую действительность. Ведь если мы говорим толстовские герои, то этим сразу подчеркиваем их отличие от героев Достоевского и Тургенева, хотя они жили и творили в одну и ту же эпоху. Одна тематика – показ жизни адыгских народов в эпоху социальноэкономического перелома в их судьбах в первой половине XX столетия – делает произведения писателей созвучными, более того, − похожими, но все они созданы художниками с различным мировосприятием и различной степенью художественного таланта, а потому вернее будет говорить не столько о сходстве, сколько о типологических чертах в проявлении художественной индивидуальности и различном уровне использования определенных профессиональных традиций. Ведь «всякое значительное художественное творчество предполагает не только свободную игру воображения, но и максимум духовных сил, чтобы зафиксировать возникающее произведение согласно всем интуитивно схваченным законам искусства. Как мог бы художник стать толкователем мыслей и желаний своих современников, если он не поднялся над всеми внутренними ограничениями и над всем хаотическим в самом себе?» [1, с. 49]. И на самом деле: речь может идти о проявлении внутренне-индивидуальных начал и своеобразия мировосприятия, мироощущения в творчестве писателей, принадлежащих к одной этнической группе, творивших в одну и ту же историческую эпоху и создавших этнокультурный феномен под названием, вошедшим в мно204 гонациональную литературную науку России как «новописьменные адыгские литературы». Именно поэтому и творческую индивидуальность писателя, создающего и обогащающего национальную литературу, можно с полным правом рассматривать как этнокультурный эстетический феномен. ––––––––––––––– 1. Арнаудов М. Психология литературного творчества / М. Арнаудов. – М.: Прогресс, 1970. 2. Бетрозов Р. Ж. Происхождение и этнокультурные связи адыгов / Р.Ж. Бетрозов. – Нальчик, 1991. 3. Гачев Г. Д. Национальные образы мира / Г. Д. Гачев. – М.: Сов. писатель, 1988. 4. Храпченко М. Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы / М. Б. Храпченко. – 4-е изд. – М.: Сов. писатель, 1977. ЭВОЛЮЦИЯ КАБАРДИНСКОГО РОМАНА И ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ Тхагазитов Ю.М.,Нальчик Кабардинский роман, пройдя в ХХ веке сложный и противоречивый путь развития, и сегодня остается одной из самых емких в художественном отношении жанровых форм словесного искусства. Эту мысль подтверждают этапные для кабардинской литературы произведения, среди которых «Камбот и Ляца» Али Шогенцукова, «Вершины не спят» (1970) А. Кешокова, «Каменный век» (1985) Хабаса Бештокова, «Корни» (1990) А. Кешокова. Перечисленные романы располагают важным художественным потенциалом, поскольку органично связаны с национально-эпической традицией и народным мировосприятием, что, собственно, было и остается непреходящим качеством лучших произведений многонациональной литературы в целом. В этой связи нам нужно снова вернуться к осмыслению (переосмыслению) во многом искусственно прерванного, но независимо от этого закономерно функционирующего общероссийского литературного процесса, и в частности, к проблемам изучения эволюции и преемственности различных периодов развития кабардинского романа. И хотя обозначенная проблема является привычной для национального литературоведения, многое остается в ней нерешенным. Так, если нам уже удалось преодолеть противопоставление фольклора литературе, первого (1930–1950-е гг.) и второго (1950–1970-е гг.) этапов, то второй и третий этапы (1980–1990-е) еще требуют своего убедительного осмысления. И здесь не все так просто. Вместо того чтобы воспринимать национальную литературу как целостный процесс, нередко встречается 205 прямолинейно-нарочитое противопоставление не только различных периодов, но и собственно-эпических (А. Кешоков) и философских (Х. Бештоков, Дж. Кошубаев) разновидностей жанра. К примеру, вместо того, чтобы рассматривать «Абраг» Дж. Кошубаева как актуальный диалог с литературной и долитературной традицией, его, порой, с необычайной легкостью интерпретируют только в контексте постмодернистского дискурса. Анализируя формирование национальной литературы в ХХ веке, следует учитывать, что первые художественные удачи и просчеты в литературном процессе и творчестве отдельных писателей определялись сложным идеологическим и культурным синтезом, отражавшим противоречия, которые в силу специфики национально-художественного сознания не могли исчезнуть и на следующих этапах развития кабардинской литературы. Поскольку у нас нет и не может быть другой истории национальной литературы, заметим, что в дальнейшем произойдут лишь видоизменения этих противоречий в контексте формирующихся новых социальных утопий, в начале ХХ века (после русско-кавказской войны) столь необходимых для угасающей тогда кабардинской культуры. Традиционно считалось, что формирование национальной литературы – это, прежде всего, ускоренное преодоление зависимости от фольклорной поэтики и утверждение собственно индивидуальных форм повествования. Однако, как оказалось впоследствии, подлинный процесс зарождения и развития национальной литературы сложнее и богаче. Несмотря на то, что проблема литературно-фольклорных связей не одно десятилетие находилась под пристальным вниманием национального литературоведения, вряд ли ее можно считать исчерпанной. А потому мы считаем важным сделать акцент на роли национальноэпического мышления в поворотно-этапные периоды развития литературы. В переходное время национально-эпическая традиция, как универсальная основа бытия и вечных литературных образов, может являться одновременно и средством утверждения новой художественности, и средством преодоления очередных творимых социальных мифов. Причем существенно, что потенциал фольклорно-мифологического мышления способен преодолевать узкоидеологическую интерпретацию действительности даже в таком старательно дискредитированном жанре как историко-революционный роман. Ведь лучшие писатели ХХ века, следуя за неспешным саморазвитием национального слова, не отбрасывали, а духовно преодолевали проблемы развития общества. Вероятно, стоило бы вернуться (снова-таки уточняя и переосмысливая) к таким краеугольным идеологическим и литературоведческим категориям как нация, народность, «ускоренное развитие», «единство и многообразие», «преемственность» и многое другое. При всем определенно-однозначном отношении некоторых литературоведов к перечисленным понятиям, надо сказать, что даже при общем поверхностном взгляде на национальную специфику той или иной литературы и механистичности интерпретации 206 перечисленных категорий, они являлись для советского литературоведения важной основой концептуального прочтения тогдашней социокультурной ситуации. Но действенность «общего взгляда» на проблемы эволюции жанра не отрицает необходимости учитывать и нюансы конкретных национально-исторических реалий. По-видимому, уже настало время беспристрастного, а именно концептуально-целостного изучения механизмов эволюционного развития художественно-стилевых (а не только идейно-содержательных) форм кабардинского романа. Уточнение нюансов развития романа (идеологических и художественных) даст новые возможности рассматривать отдельную национальную литературу как полноценно «стыкующуюся» с традицией русской литературы, литературы народов России, суть которых всегда определялась синтезом национально-эпических, национально-этических и современных форм повествования (от эпопеи до интеллектуального романа). Своеобразие национально-эпических традиций, неоднократно проверенных временем, и сегодня остается первоосновой изучения преемственности различных форм романного мышления. Но не все так просто. Нередко встречается нарочитое противопоставление собственно-эпических (А. Кешоков) и иронико-философских (Х. Бештоков, Дж. Кошубаев) разновидностей жанра. Здесь вряд ли оправдано автоматическое причисление того или иного автора к постмодернизму. Уместнее было бы учитывать, что «полемика... тоже есть форма связи» (К. Султанов). В этом аспекте мы попытаемся рассмотреть типы взаимодействия и функционирования литературно-фольклорных связей в контексте движения художественно-стилевых форм кабардинского романа. И тогда – при некоторой условности определения – представляется возможным выделить следующие уровни ориентации на национально-эпическую традицию (фольклор): – уровень ориентации на эпическое сознание, соответствующий первому этапу формирования кабардинского романа (1930–50-е гг.), но не замыкающийся в нем, а претерпевающий качественные изменения и в последующие годы. Этот уровень предполагает следование фольклорной традиции в выборе героя, в приемах композиции, в построении сюжета, в использовании фольклорных мотивов по принципу «прямых» аналогий (А. Шогенцуков). – уровень ориентации на синтез двух типов художественного сознания (национально-эпического и опыта русской литературы), определяющего, в свою очередь, движение структурно-стилевых форм романного мышления: а) собственно эпический синтез, как преодоление литературой дихотомического мировосприятия (А. Кешоков); б) философизация (субъективизация) национально-художественных форм романа (Х. Бештоков, Дж. Кошубаев). Поскольку, как известно, литературно-фольклорные связи в ХХ веке оставались достаточно прочными и основополагающими, не ис207 ключалась возможность переплетения двух вышеназванных уровней, которые могли взаимодействовать как в художественном мире одного писателя, так и в структуре отдельного произведения. Подтверждением сказанного является, прежде всего, национальная эпопея «Камбот и Ляца» А. Шогенцукова, структурообразующим фактором выступает здесь «идеализирующий тип» творчества, предполагающий воссоздание художественной картины с национально-эпических, национальноэтических позиций, что и определяет общую атмосферу народного бытия и пафос произведения. «Камбот и Ляца» является переходным этапом ко второму уровню фольклорной ориентации. Для характеристики синтеза двух типов художественного сознания наиболее удачными представляются романы А. Кешокова «Вершины не спят» и «Сломанная подкова». Литературно-фольклорные взаимодействия обнаруживаются в них как на уровне эпико-символических лейтмотивов, так и в авторском присутствии. Заметим также, что воссоздание революционного пафоса в «Вершинах не спят» не было спонтанно-импульсивным художественным решением (роман писался в 1960-е годы) и потому определяющим не является. Вместе с тем, идейные и сюжетно-композиционные особенности первых адыгских романов оставались для Кешокова значимыми. Повторим, именно благодаря первым адыгским романистам и опыту русской литературы А. Кешокову удалось преодолеть то, что раньше называлось «прямолинейным противопоставлением прошлого и настоящего», воссоздать эпически целостную картину бытия своего народа. В дальнейшем жанрово-стилевые особенности кабардинского романа развивались через преодоление творческой индивидуальностью зависимости как от национально-эпической традиции, так и от прямолинейно воспринятых соцреалистических тенденций в историколитературном процессе. Надо заметить, что в этом отношении собственно национальная и русскоязычная романистика движутся в едином духовном пространстве. Если рассматривать эволюцию кабардинского романа в рамках привычных дефиниций, то «Вершины...» представляют собой романэпопею, который дает начало ряду романных структур: «Род Шогемоковых» (1969) Х. Теунова углубляет семейно-бытовую линию; «Страшен путь на Ошхамахо» (1982) М. Эльберда и «Ошибка» К. Эльгара ориенированы на «разрыв» с эпопейной традицией; «Каменный век» (1985) Х. Бештокова и «Абраг» (1996) Дж. Кошубаева закрепляют тенденции деидеологизации литературы и многоплановую полемику с национально-эпической традицией. Появление романа-мифа «Каменный век» в 1985 году было явлением более чем неожиданным. Это была спонтанно-своеобразная реакция Х. Бештокова на прочно закрепившуюся в национальной литературе псевдогероическую патетику. Отсюда и творческая полемика 208 с традицией (долитературной, литературной, идеологической). Такое произведение явилось результатом причудливого сплава анимистического языкового пласта (как первоэлемента национального стиля) с отвечающим национальной литературе того периода опытом мифологизирования действительности. По внешней «замкнутости» художественного мира «Каменный век» Х. Бештокова напоминает «Пегого пса...» Ч. Айтматова. Но по своим художественным задачам – это скорее разнонаправленные художественные тенденции. Если у Айтматова обращение к мифу способствовало выявлению лишь отчасти реализованной энергии родового мышления, то Х. Бештоков в «Каменном веке» уходит от инерции «коллективно-бессознательного» в сторону самосозидания личности. Лейтмотив произведения – утрата былых эпических ценностей и поиски новой целостности рода, народа. Острота проблематики и художественный потенциал «Каменного века» дали ощутимый импульс развитию кабардинской литературы (как национальной, так и русскоязычной) что в творчестве Кешокова, снова опередившего национальный литературный процесс, талантливо проявилось в такой животрепещущей теме, как русско-кавказская война. В тесном переплетении с современностью роман «Корни» заставляет осознать, что при самой различной интерпретации этой страшной по масштабам братоубийственной войны, эмоции здесь – не единственный аргумент. Достаточная временная дистанция позволяет автору романа глубже проанализировать механизмы вражды столь близких по духу народов, увидеть в этой войне ее политическую предопределенность, и в то же время объективность многовековой (в прошлом и в будущем) взаимообусловленности отношений между Россией и Кавказом. По-своему тему самосозидания личности продолжил Дж. Кошубаев. В романе «Абраг» он заостряет и художнически убедительно переосмысливает уже «буксующие» в новое время нравственно-этические ориентиры («идиллический хронотоп» (М. Бахтин)) героического эпоса, что, собственно, и явилось основой сатирической тональности романа (кажущийся полет духа во времени и в пространстве может обернуться, порой, и его падением). Таким образом, в процессе развития жанра романа в ХХ веке особая роль оставалась за национально-эпическим мышлением, структурообразующие возможности которого (в следовании ему или в полемике с ним) еще не исчерпаны. Поэтому исследование формирования нового содержания и новой художественности в национальной литературе проводилось нами с опорой на то, что «новое содержание закрепляется в соответствующей форме» (Л. Арутюнов). Эта закономерность, пусть сложно и противоречиво, проявляется в кабардинском романе от первых художественных опытов до значительных для национальной литературы произведений А. Шогенцукова, А. Кешокова, Х. Бештокова, Дж. Кошубаева. 209 КОНЦЕПЦИЯ ГЕРОЯ В ЛИРИКЕ АЛИМА КЕШОКОВА Кажарова И.А., Нальчик Нет необходимости доказывать, что в художественном строе произведения герой являет наиболее заметную «величину», свидетельствующую об особенностях мировидения автора. Концепция героя в лирике Алима Кешокова вбирает в себя как поэтическое «я», так и образ человека, явивший характерность его творчества и той эпохи, в которой оно сформировалось. Разумеется, обе стороны, определяющие концепцию героя, не могут быть непроницаемыми по отношению друг к другу. В ранней лирике Алима Кешокова вокруг так называемого «субъекта сознания» группируются преимущественно образы «обжитой», «прирученной» природы, а также понятия «счастье», «молодость», «новая жизнь», «оружие», «достижение», «движение вперед» и проч. Ведущая идея – преобразование мира во имя счастливой жизни. Исходя из этого, героя ранней лирики можно условно назвать «активным преобразователем». Надо заметить, что особость лирического «я» находит в ранних произведениях адекватную форму выражения. В большинстве случаев «я» подразумевает и транслирует «мы», единство которого определяется общим радостным порывом, осознанием общего дела и общей угрозы, поэтому переходы от местоимения «я» к местоимению «мы» каждый раз закономерны и неконтрастны. Порыв, движение, в котором множество выступает как одно, персонифицируется, если можно так выразиться, в обобщенном «я», также к обобщениям тяготеет образ нового человека, что легко объяснимо: развиваемые А. Кешоковым идеи и образы вполне соответствуют духу эпохи. Поначалу «я», преобразующее мир ради счастливой жизни, неразличимо с «мы», оно выражает «нашу» победу, «наше» счастье, с течением времени тождественность «я» с «мы» также не теряет актуальности, но герой стремится преобразовать мир по собственной инициативе, в согласии с собственными убеждениями. В некоторой степени такой «сдвиг» уже намечается в концовке широко известного стихотворения «Путь всадника» (1946), частые ссылки на которое обычно подкрепляются переводом С. Липкина. В то время как художественный перевод последней строфы стремительно переносит героя в область удивительной мечты («О, если б мне чудесный конь достался,/ Не стал бы я на нем сидеть в седле:/ Вскочил бы на хребет его, помчался/ И млечный путь провел бы на земле»), оригинал задерживает внимание на создании героем собственного пути к ее осуществлению, усиливая частный характер перечисляемых действий притяжательным местои210 мением «свой»: «Сэ а шы псынщIэр згъуэтатэм,/ Iус зыхуей псомкIи згъэнщIынт,/ ЦIахуцIэу и щIыбым зездзынти/ ЩIым си шыхулъагъуэ щысщIынт». – «Если бы я разыскал того резвого коня,/ Насытил бы его кормом, каким бы только тот сам пожелал/ Вскочил бы на его неоседланную спину/ На земле бы создал свой Млечный путь». Но «философия» героя углубляется очень медленно. Произведения военного периода вводят в ценностное пространство лирики А. Кешокова понятия «доблесть», «мужество», «бесстрашие» и т. п. («Не переживай, мама» (1941), «Чтобы светило солнце» (1946), «Сон» (1946)). Герой, как и прежде, ратует за всеобщее счастье, но теперь все чаще предстает в образе народного мстителя, спасителя, который несет мир, свет, жизнь, радость. Самовыражение «субъекта мысли» в «военной» лирике сопрягается с характерными для данной тематики приемами (патетикой, фольклоризацией) и образами (матери, любимой, родного очага). Герой берет на себя функцию воителя со злом и, что немаловажно, связывает ее с предназначением поэта: «Поднимаю я стихи, словно оружие/ Никто их не победит,/ Взрастили их на поле боя,/ Потому не прервутся они ни на один день» («Я в плену у стихов», 1946). Акцент постепенно переносится на силу поэтического слова и вместе с этим конкретизируется образ поэта, его духовная составляющая: активность «оформляется» теперь не только в сфере действий, но и в сфере переживаний – эти тенденции развиваются параллельно. Герой счастлив осознанием собственной творческой способности, сосредоточивает внимание на преобразующей силе творческой мысли. Если в ранних произведениях герой проникается причастностью к созданию новой счастливой жизни, верой в могущество человека, и устремлен к преобразованиям, которые носят в большей степени предметный характер («Мы совершенствуем природу, –/ Находим ее ошибки,/ Там, где подобает находиться лесу,/ Сажаем лес, или на солнечную сторону// Направляем реку, когда воды становится мало,/ Даже если убавится само солнце,/ Мы сможем внести в жизнь тепло -/ нет пределов нашим возможностям» («Звезда», 1953), то с течением времени оформляется интерес не столько к преобразованию, сколько к преображению, одухотворению и улучшению мира («Силой стиха, мои братья,/ Я бы усовершенствовал этот мир» («Я держал в руках луну, словно круглый сыр...» (1969)). Активность постепенно субъективируется, поэтому окрашивается в иные тона, нежели раньше: взгляд устремляется в сферу собственных возможностей, главным образом возможностей своего поэтического «я», которое мыслится как источник преображения и усовершенствования жизни. При этом обращает внимание твердая уверенность кешоковского героя в правоте своего дела. Последнее может быть обесценено лишь людским равнодушием и непониманием (хотя в ранней лирике эти мотивы еще не звучат отчетливо). Колебаниям, робости, на211 строениям неуверенности здесь места нет. Надо заметить, что уровень самооценки поэтического «я» в этой системе очень высок. Опять же, если на этапах становления лирики Алима Кешокова такая самоуверенность органична оптимистическим лозунгам современной ему действительности, и может, исходя из этого, трактоваться как «примета времени», то в более поздних произведениях указанная черта аргументируется целой концепцией присутствия героя в мироукладе. Все составляющие этой концепции – идеи, установки, повторяющиеся модели и ситуации – разрозненные поначалу в отдельных произведениях, группируются особенно тесно в лирике 1970–80-х гг. (сборники «Богатырский кубок», «Счастливая звезда»), с этого периода в ценностной системе кешоковской лирики склад личности осознается как величина определяющая. Среди факторов, сообщивших глубину и полновесность кешоковскому герою – отношение к смерти, быстротечности жизни и законам природы. Природа не таит для него зловещих затемнений, ее жизнь и жизнь человека объясняют друг друга. Знание пIалъэ («нрав, характер», «срок, черед», «порядок мироустройства») помогает ему сохранять устойчивость и равновесие. Человек не должен и не способен противостоять преходящности («Иди в ногу со временем»; «Мир не имеет начала,/ И не будет того, кто увидит его конец»). Однако ей противостоит поэт. Замыкая в стихотворении «Иди в ногу со временем» образы временно́й изменчивости на человеке, Кешоков своеобразно абстрагирует от него поэтическое «я»: «Если и увидите меня в седле,/ Тот всадник – не я. Неся приветствие/ Наследие, оставляемое мной,/ Не спешиваясь с коня, продолжает стремительное движение» – момент ухода тонко сообщается с переводом поэтического «я» в бессмертие. Объект устремления кешоковского героя – бессмертие – имеет свой облик: он пространственен, озарен ярким светом правды, наделен собственными принципами («Если захотите меня разыскать» (1969), «Родина бессмертия» (1977)). Вера в собственное бессмертие, избранность, светозарность может показаться легковесной, но в контексте кешоковского мира она резонирует установкам, насыщающим ее драматизмом. Эти установки выражаются как прямо, так и опосредованно – через образы самоотождествления. Помимо отмеченных выше нюансов понимания поэтического творчества, оно являет у Кешокова образ сострадания. Гармонично подстраиваются под эту установку образы самоотождествления поэтического «я», проникнутые настроениями жертвенности, обращенности к людям: дерево с отягощенными ветками («Наследие» (1964), «Если дерево не плодоносит...» (1980)), гора, несущая на себе тяжесть («Лежит на мне, так же как на горе, тяжесть...», 1977), горящее полено («Очаг», 1977), колодец («Сплошь и рядом сворачивая горы...», 1977). 212 Постепенно меняется тональность, окрашивающая тему преобразования/преображения, прямо и косвенно привходит мотив человеческого равнодушия и неприятия, разрыв между желаемым и возможным подчеркивается сослагательным наклонением. Устойчивой чертой такой активности остается ее масштабность, космизированность, спроецированность в мечту. Специфические образы, поддерживающие данную тему – ветер («Ветер», 1969), ручей («Ручей», 1977), стремнина («Гибкая ветка кизила», 1977), река («Нрав реки», 1980), плуг («Мое поле», 2001). К названным образам примыкают мотивы преодоления преград и безостановочного движения. Надо заметить, что с каждым разом провозглашаемые жизненные принципы, уверенность в собственной правоте, безгрешности, утверждаются явственнее и жестче, периодически перемежаясь со своеобразными выпадами в адрес воображаемых оппонентов («Если хочешь проверить, правда это или ложь, / Стань на мое место – узнаешь» [«Сплошь и рядом сворачивающих горы...»]). Суммируя все перечисленное, можно сказать, что герой Кешокова активен, «светозарен», бесстрашен, уверен в себе. В упрощенной концепции все эти качества оказываются на одном полюсе, на другом – ожидание отклика, поиск понимания. Если поначалу это ожидание обобщенно и безлично и часто сводится к традиционным поэтическим формулам («Если наши книги придутся по душе тем, для кого мы их пишем,/ Пусть сияют они огненными искрами» («Стальные искры», 1964)), то в дальнейшем – это поиск родственной отзывчивой души («Я же зову распространителем песни/ Самую умную,/ Самую внимательную девушку/ Которая распространит песню, сочиненную мной/ Среди людей», «Распространитель песни», 1969), надежда на тех, кто «поддержит стремя» («Мое столетие», 2001). Трагическую напряженность ожиданию отклика сообщает «фигура» недоброжелателя, антагониста, привходящая в образный ряд произведений то как обобщенная противодействующая сила («Я бы светил, подобно солнечному лучу – / (Но) Прибыли темные тучи и заслонили (меня)» («Не исчезло семя. Вот растение...», 1977), то в образе, для обозначения которого автор использует кабардинские слова жагъуэгъу («недруг, недоброжелатель»), ижэгъу (завистник), фыгъуэнэд («ярый завистник»). («Бумага», 1977; «Я возвожу высокий дом», 1977; «Мой стих», 1980; «Счастливая звезда», 1980; «Я парю в синем небе», 1980; «Невозможно прожить два одинаковых дня...», 1980). В поздней лирике выпады против недоброжелателя становятся прямолинейнее, он конкретизируется местоимением «ты». Наряду с этим звучит благодарность врагам, которые «помогают» герою осознать степень своей значимости. Вероятно, у каждого поэта своя «логика» определения собственного места в миропорядке. Но есть ряд типичных моделей, которые 213 свойственны поэтическому «я» и вообще сознанию художника: «я» – борец со злом», «я», преодолевающий трудности», «я» – нерв мира», «я» – сам мир» и т. п. Все это – опорные установки, на другом полюсе – поиск отклика, боль от непонимания окружающих – все то, что давно стало древними культурными кодами, сопровождающими попытки самовыражения художника. Если поначалу определяющий характер времени сказывается на образе кешоковского героя достаточно явно, то в так называемой зрелой лирике начинают доминировать универсальные атрибуты и установки, которыми традиционно наделяет образ Поэта художественная культура как таковая. В творчестве Алима Кешокова они полностью отвечают законам, определяющим его поэтическую личность, логике, по которой складывается и живет «я» этого автора, безотносительно к тому, обусловлена ли она в большей степени веяниями эпохи или его душевным складом. СВОЕОБРАЗИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО СТИЛЯ Т. ЗУМАКУЛОВОЙ Атабиева А.Д., Нальчик Истории всемирной литературы известны личности, далеко опережавшие общий уровень развития национального поэтического искусства и становящиеся вровень с самыми развитыми литературами эпохи. Таковыми вошли в сознание человечества Гейне, Гете, Шелли, Пушкин. В несколько иных соизмерениях возвысились над своим временем и северокавказские лирики – К. Кулиев, А. Кешоков. Свидетельством зрелости балкарской поэзии явилось появление на литературной арене ярких поэтических индивидуальностей, глубина таланта которых явственно проявилась в 1970–1980-х годах (И. Бабаев, М. Мокаев, Т. Зумакулова). Художник редкой самобытности, Танзиля Зумакулова вместе с тем одна из наиболее показательных представителей и созидателей основополагающих традиций балкарской поэзии. Ее творчество становится не только закономерным продолжением художественного опыта предшественников, но составляет новый пласт лирических произведений, отмеченных печатью самобытности. Анализ творческого пути поэтессы, прослеженного по ее многочисленным произведениям, позволяет говорить о характере художественного восприятия действительности, масштабности мыслей, чувств и переживаний, тонком психологизме, цельности подачи, новаторстве формы и содержания, обширности тематического диапазона. Эстетическая система поэтессы сращена с философско-психологическим осмыс214 лением действительности, благодаря чему Т. Зумакулова вошла в литературу как знаток человеческой души и национальной культуры. В богатой талантами балкарской поэзии и ранее появлялись яркие имена: читатели знают, помнят и любят К. Мечиева, К. Кулиева, К. Отарова и их бессмертные строки. Однако Т. Зумакулова остается единственной женщиной – поэтессой, поднявшейся на их уровень. Ее лирика обратила на себя внимание людей разных народов и поколений, известных представителей национальных литератур, собратьев по перу и рядовых читателей. Уже в первом стихотворном сборнике художника («Цветы на скале», 1959) отчетливо определились широта осмысляемой ею проблематики и особенность художественного взгляда на мир, неизменно утверждающий гуманизм. Задача настоящего художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить глобальные вопросы современности, а в том, чтобы вызвать чувство любви к жизни в самых разных ее проявлениях. Этой цели подчинено все творчество Т. Зумакуловой. Прогрессивное движение литературы и искусства в разные эпохи предполагает сочетание традиций и новаторства, восприятие положительного творческого опыта. Традиции национальной литературы, а также опыт русской и шире – мировой культуры позволили ей проявить собственный голос в поэзии. «Поэзия есть огонь, загорающийся в душе человека. Огонь этот жжет, греет и освещает. Есть люди, которые чувствуют жар, другие – тепло. Настоящий творец сам невольно, с страданием горит и жжет других...». К пониманию сути толстовского высказывания мы приходим, читая лучшие поэтические образцы в творчестве Т. Зумакуловой. Известно, сколь существенным фактором и для читателей, и для литературной критики является злободневность, современное звучание произведения. Оценка явлений искусства в большей степени зависит от остроты, богатства жизненного материала. Лирическая субъективность Т. Зумакуловой не только соответствует отмеченным критериям, но целиком «вбирает в себя реальное содержание и превращает его в свое содержание». Ибо настоящий лирический поэт живет внутри себя, воспринимает жизненные обстоятельства в соответствии со своей поэтической индивидуальностью. Многообразная, хотя и не лишенная противоречий, но вместе с тем отличающаяся достаточной художественной и эстетической цельностью, поэзия Т. Зумакуловой объединяет пафос высокой нравственности, яркую самобытность поэтических форм и языка. Ее поэтика органически сочетает объективность и романтическую возвышенность, точность рисунка и глубину философского обобщения («Непредвиденные письмена», «Разговор с сердцем», «Четыре просьбы»), обнаруживая связь с национально-историческими, фольклорномифологическими источниками, имеющими значение в объяснении нравов и событий эпохи. 215 В творчестве поэтессы нередко осмысление таких моментов жизни, которые помогают читателю по-иному взглянуть на привычные реалии окружающего мира («Сыплет небо белый снег...», «Береза», «Злое слово»). Сказанное определяет своеобразие поэзии Т. Зумакуловой, систему ее символов и образов. Художник настойчиво ищет истину и открывает много ранее неизвестного и поучительного. Художественные средства, используемые Зумакуловой, подсказаны опытом предшествующих поколений поэтов, тенденция преемственности в ее творчестве неуклонно растет. Однако этот положительный опыт несколько трансформируется, обогащаясь субъективным мировоззрением автора. К примеру, система таких образов, как камень, цветок, дерево, гора, сквозные для поэзии К. Кулиева, в стихотворениях Т. Зумакуловой получают новое смысловое наполнение, своеобразное художественное обрамление («Камень», «Яблоня», «Я говорю горе»). Художнику удается убедить читателя в одухотворенности предметов и явлений природы. Подобная трактовка обнаруживается и в известных нам стихотворениях «Зерно», «Трава косе безжалостной покорна», «Весна в горах» и других. Среди поэтических творений Т. Зумакуловой стоит особо выделить стихотворение «Кто знает цену цветка на скале». Наше время характеризуется переоценкой исторических, художественно-эстетических ценностей. Сегодня мы, оглядываясь назад, по-иному воспринимаем и истолковываем социально-политическую идеологию 1960–1970-х годов, прочно установившуюся не только в общественной жизни, но также негативно влиявшую на развитие национальных литератур. Большинство балкарских поэтов, творивших в эти десятилетия, при всей своей одаренности не избежали «болезней роста». Творческое становление Т. Зумакуловой, вступление ее в пору поэтической зрелости произошло задолго до коренной смены идеологических норм и общественно-политических институтов. Однако она стала одной из немногих (в числе северокавказских поэтов и писателей), кто сумел отрешиться от заданности, декларативности регламентированного творчества, раскрыть свою позицию относительно происходящего. В сборнике «Цветы на скале» поэтесса обозначила два символа: первый (скала) стал олицетворением жесткого идеологического диктата, второй (цветок) – воплощением душевной мягкости, стремления человека к свободе, нравственной чистоты народа, который пробивает каменную твердыню и поднимается к солнечному свету. Поэзию Т. Зумакуловой отличает необычная интерпретация естественных явлений человеческого бытия, и, возможно, в этом кроется источник притягательной силы ее строк. Здесь имеет место попытка преодолеть инерцию устоявшихся мнений, стремление открыть в очевидном, лежащем на поверхности более глубокие, недоступные большинству грани и отношения. Ассоциативно-метафорическая поэтика 216 Т. Зумакуловой основывается на анимистическом мироощущении. Эта особенность художественного мышления поэтессы становится источником неожиданных сравнений («Стеклянная чаша», «Жизнь подобна океану», «Старое дерево»). Гуманистический идеал составляет суть ее поэзии. Творческое кредо Зумакуловой сводится к формуле «найти человека в человеке». Поэтесса достигает конкретизации, социальной типизации образа и явления («Ветер листья обрывает зло...», «Когда колосья на равнине в зной...», цикл «Песни Назыма Хикмета»). Лирический поэт, создавая свои образы, тем самым воплощает в образную форму определенную проблему современности. В поэзии Т. Зумакуловой время выражено в его цельности, в живом многообразии характеров, настроений, картин, событий, психологических коллизий. Будучи взяты вместе, произведения поэтессы передают полное и достоверное ощущение действительности, вбирая в себя общечеловеческие проблемы, переживания, мысли и чувства человека XX века. Философское понимание и ощущение действительности придает ее поэзии ту перспективу, которая специфична для всего ее зрелого творчества. Отсюда сложный поэтический образ Балкарии и острое чувство времени, насыщенное глубоким драматическим содержанием. Принципиально важно то, что творчество Т. Зумакуловой обходит принятые за основу эстетические принципы решения темы. Подобная специфика свойственна ее любовной лирике. Качественно иные переживания преобразовывают традиционный жанр в «лирику реальных чувств». С другой стороны, для поэзии Танзили характерна аналитичность, и слово ее на редкость образно и осязаемо. Сделанные нами наблюдения позволяют говорить о многообразии поэтических форм лирики Т. Зумакуловой. Характеризуя ее поэзию, З. Толгуров отмечает: «У поэтессы нет пристрастия к однажды избранной или удачно найденной стихотворной форме. Видимо, этим диктуются ее постоянные поиски различных стилевых ключей. И надо сказать, что поиски эти не безуспешны». Свои мысли и переживания Т. Зумакулова выражает и в форме лирической исповеди («Моя любовь»), и в миниатюрах, тяготеющих к афоризмам («Жизнь – море, и волнуется оно...»), и в пейзажных зарисовках («Деревья»). В ее поэзии развиваются драматические сцены («Камень», «Сильный ветер»), большие сюжетные стихотворения («Сказка»), лирическая и лиро-эпическая поэмы. Такой синтез жанровых форм позволяет поэтессе глубже проникать в сущность действительности. Рост реалистичности в осмыслении событий и деталей внешнего мира, стремление к совершенствованию – критерии, которыми руководствуется Зумакулова при создании своих произведений. Совершенство формы, масштабность мысли, тонкий психологизм, новаторство, учитывающее и задачи современной поэзии, и значение традиций, от217 личают ее художественное наследие. В силу вышеизложенного, признание таланта Т. Зумакуловой произошло довольно рано. Ее творчество получило высокую оценку критики и закономерно вошло в историю российской многонациональной литературы. В многогранном творческом наследии Т. Зумакуловой остается множество неизведанных глубин. Дать четкую картину перевоплощения поэтессы в подлинного мастера, новатора, творца смелых форм возможно лишь в том случае, если все исследования ее творчества рассматривать в совокупности. Неисчерпаемое богатство художественных средств с использованием всего лучшего, что имеется в мировой литературной традиции, сложность и глубина творческой индивидуальности художника недостаточно освещены и осознаны. Ощущается необходимость в упорядочении разрозненных исследований о ней, в историкотеоретическом прочтении поэтического наследия Т. Зумакуловой. ЛИРИЧЕСКАЯ ПРОЗА БОРИСА ЧИПЧИКОВА Базиева Г.Д., Нальчик Индивидуальность писателя неразрывно связывается с его мироощущением и находит выражение в языке, жанре, композиции, ритме, интонации – сложном конгломерате компонентов, составляющих идиостиль. У каждой творческой индивидуальности существуют особые способы организации словесного ряда, ритмикоинтонационные, композиционные и жанровые предпочтения, которые определяются не только социально-психологическими особенностями личности, но и художественными тенденциями «пространства и времени». В современный период человек становится психологически, эмоционально и интеллектуально вовлеченным в различные культурные пласты, и творческая индивидуальность писателя начинает определяться не только интеллектом и самодостаточностью, но и гибкостью мышления, «разомкнутостью» в мир, способностью быстрого и немедленного реагирования, что проявляется в многослойности художественного образа, смешении стилей и жанров. Наверное, поэтому достаточно популярной в литературе становится лирическая проза, позволяющая любые явления повседневности преподносить необычайно ярко и красочно. История развития лирической прозы в русской литературе начинается со знаменитых стихотворений в прозе И.С. Тургенева, продолжается в рассказах И. Бунина, миниатюрах М. Пришвина, К. Паустовского, «крохотках» А. Солженицына и длится до сих пор. Опираясь на богатые традиции русской классической литературы, балкарские писатели обогащают лирическую прозу неповторимым колоритом. 218 Первый сборник Б. Чипчикова «Возвращайся свободным» (Нальчик, 1998) включает разнообразные по жанру и стилистике произведения (рассказы-воспоминания, аллегорические новеллы, философские этюды и др.). Выдвигая на первый план зарисовки мелких эпизодов окружающего мира, мимолетные мгновения, писатель выстраивает собственную художественную концепцию лирической ритмичной прозы. Л. Гемуева в статье, посвященной творчеству писателя, пишет: «Его стиль – спрессованный, до крайности уплотненный библейскими, философскими, этическими, эстетическими, историческими аллюзиями текст. В этом смысле он поэт, отказавшийся от метрики и пишущий прозу – на каждое слово в строке неимоверная семантическая нагрузка» [2, с. 165]. В лирической прозе Б. Чипчиков достигает особой доверительной интонации, разговор с читателем идет напрямую, без посредников. В проникновенной интонации выражено стремление объединить внутренний духовный опыт лирического героя и рефлектирующему автору удается достичь гармонической цельности. Но его художественные воплощения его раздумий, размышления реализуются не в виде отвлеченных сентенций, а через осмысление прошлого исторического, религиозного, культурного опыта. Человек, не знающий, где родился и куда уйдет, по мнению Б. Чипчикова, подобен вазе, разбитой вдребезги. Пытаясь найти ответы на вечные вопросы бытия: «Куда иду? Зачем иду? Шел ли я вперед или, быть может, так мне казалось, а на самом деле пятился назад к истокам?», автор обращается к различным пластам истории своего народа. Рассказ-воспоминание Б. М. Чипчикова «Бэлла» о судьбе поколения, выросшего на чужбине, поколения, для которого Кавказ был только загадочным и холодным словом. Плацкартный вагон – место воспоминаний и своеобразная точка, вмещающая в себя прошлое и настоящее. В прошлом: ожидание встречи с родиной, теплое чтение книг, «оранжево-однородная Азия». Кавказ встретил «рваным туманом», «опавшими листьями», «скалами со всех сторон». Но продолжают «цвести» книги – « теплые островки средь бесконечного ненастья». Авторское место в середине вагона – еще одно звено в цепи взаимосвязей – географических, исторических, литературных: Средняя Азия и Кавказ, Бэлла из повести М. Ю. Лермонтова и чеченская девочка Белла в модных джинсах. Писатель стремится увидеть историю не как цепь однажды случившихся событий, а как систему, в которой настоящее соседствует с прошлым и будущим, один народ живет рядом с другим, одна культура перетекает в другую. Разрушение модернистского «аутизма» и осознание значимости любых явлений для индивидуального бытия наполняет прозу Б. Чипчикова многообразием и глубиной различных культурнорелигиозных традиций, в единении которых, по мнению писателя, залог будущего развития. «Христос и Магомет – дети единого народа – 219 евреев и арабов. Библия и Коран – две страницы листа единого» («Там, где будет стоять дом»). А если говорить о времени, то оно у Б.Чипчикова ассоциируется скорее с песочными часами, которые всегда можно перевернуть, чем с неумолимым механическим или электронным циферблатом. Как во времени скрывается множество пластов, так и в каждом человеке скрывается потенциал многих превращений. «Иногда старик говорил, что ему семьдесят, иногда шестьдесят, были дни, тянувшие на все девяносто, да и не в годах было дело» («Розовое подполье»). Но двойственность не зловеща: именно в ней проявляется фон возможностей проявления личности, рождения новой реальности. «Сказки продолжались. Одна вливалась в другую, рождала третью и не было конца тем сказкам» («Розовое подполье»). А, быть может, неумолимый бег времени – всего лишь сказка, внезапно ставшая явью. «Сказка давно уже быль» («Там, где будет стоять дом»). И в этом смысле идиостиль Б.Чипчикова стягивает в единый узел прошлое, настоящее и будущее, а индивидуальная стилистика – попытка отражения жизни как цельности. «Суть крупнеет, расширяется, ибо ливень смывает границы неба и земли, соединяя их в единое целое, и суть земная утекает в бесконечность, крупнея и крупнея» («Там, где будет стоять дом»). В подвижности очертаний, мягкости контуров и бесконечности цельность эта не самоочевидна и объективна, она реконструируется напряженными усилиями совместить духовное и материальное бытие, которое в мироощущении писателя является единым целым. В конструировании «новой реальности» важную роль играет «трехслойное видение», учитывающее не только позиции самого автора и читателя, но и третьего, отстраненного лица. При этом «другой» не только не оппонент автора, а скорее, его дополнение, включающее в себя эмпатию или «участное внимание», которое ярче всего проявляется посредством архетипа «дороги». Авторская позиция «идущего человека», человека, готового к встрече: с давно ушедшим другом («Озрок»), чеченской девочкой (Бэлла»), котенком («Я сам выбирал себе папу»), просто с незнакомыми людьми («Здравствуй, незнакомый») – подчеркивает «центробежный» характер современной прозы. Лейтмотив дороги, движения, лежащий в основе композиции и определяющий событийный ряд повествования, опирается на солидную культурную традицию – от средневековых паломнических романов-путешествий, гоголевской тройки, мчащейся в «Мертвых душах», до современной прозы В. Аксенова и С. Довлатова. В рассказе Б. Чипчикова «Здравствуй, незнакомый» автор садится в автобус и фиксирует все увиденное, не только за окнами, но и в памяти, душе. Все начинается с кругов печали: первая печаль – кони, несущие «на себе не знающих, куда скакать, зачем скакать и кого убивать, несчастных, обезумевших людей. А безумие так зримо – жизнерадостный человек, сидящий на печальной лошади, да еще и поющий героические песни» 220 [3, с. 90]. Взгляд, полный глубинной печали, позволяет автору рассматривать жизненные метаморфозы с различных точек зрения: «восседающего» и «несущего», любимого и нелюбимого, живущего надеждой и потерявшего надежду. От визуального ряда ассоциаций Б. Чипчиков переходит к монологу: «Вот бы в следующей жизни родиться породистым псом. Все гладили бы меня по голове, и тогда бы я узнал, что такое любовь». Вторая печаль – дефицит любви к ближнему, человека к человеку. «Вот бы в следующей жизни родиться породистым псом. Все гладили бы меня по голове, и тогда бы я узнал, что такое любовь». Но, быть может, «встреча земли, неба и человека» («Там, где будет стоять дом») – любовь – это дорога, дарующая надежду или не оправдывающая надежд? Третья печаль: ненадежности, на первый взгляд, надежного. «Шагнул в лужу и ботинки неожиданно протекли, а с виду казались такими надежными». Несоответствие, дисгармония мира внутреннего и внешнего, непреодолимый разрыв между «быть» и «казаться» настолько очевидны и печальны, что ничего не остается как... радоваться. Встреча – всегда радость, встреча – со-бытие и в этом смысле любой, повстречавшийся на жизненном пути человек становится сопричастным и твоей судьбе. Особый тип восприятия позволяет Б. Чипчикову рассматривать человека как сложную систему со-бытийствующих живых существ, каждое из которых неповторимо и почитаемо. «Незнакомый, я думаю о тебе, я верую в тебя, помолись и ты за меня, один я так далек от Бога, а вдвоем мы рядом с ним» [3, с. 93]. Столкновение человека с «другим», «здравствуй», сказанное всем живущим, сообщает с неведомым, встреча понимается как сообщительность, побуждающая к ощущению всей полноты бытия. Таким образом Б.Чипчиков создает особую реальность, в которой каждый ответственен не только за себя, но и за другого. «Всесокрушающая любовь к людям водит пером писателя. Ему хочется для всех праздника и радости. И это порождает особый сплав эпического лиризма, значительно расширяющего границы художественной балкарской прозы» [1, с. 120], – отмечает С. Алиева. Иначе построен цитируемый ранее философский этюд «Там, где будет стоять дом». Здесь описательный материал максимально сгущен, а на первый план выдвигаются размышления автора-повествователя, представленные в форме внутреннего монолога. В качестве одного из ведущих начал наряду с изобразительной выступает здесь выразительная деталь. Равная изобразительности по содержанию, выразительность противоположна по направленности художественной энергии. Если изобразительность – отражение материального мира, то выразительность мира духовного и проявляется в свободном и органичном внедрении в ткань текста Гоголя и Лермонтова, Шаламова и Солженицына, Хемингуэя и Маркеса. Это позволяет автору размышлять о вечных вопросах 221 бытия в контексте мировой истории, литературы, культуры. Анализируя события далекого и недавнего прошлого, автор приходит к выводу, что созидание новой реальности должно начинаться прежде всего с созидания собственной души. Внутренняя неоднородность и многослойность текста в конце концов выстраивается в стилевое единство: «...Опять стиль, опять оболочка и ни слова, о том, что родилось от внешней и внутренней связи о том, третьем, что важнее и значимее всех и всяческих стилей – атмосфере, духе, вещи» [4, с. 68]. Творчество Б. Чипчикова, несмотря на сложность и прерывистую расчлененность, отличается внутренней цельностью и гармонией, такой атмосферой, таким «настроением», по которым безошибочно можно определить авторскую индивидуальную манеру. Скрытую внутреннюю жизнь человека автор превращает в реальность большую, чем всем очевидную внешнюю реальность. Повествование ведется не от звена к звену, не логикой последовательного описания или рассуждения, но всевозможными сцеплениями или ассоциациями, случайный взгляд или звук могут внезапно пробудить паутину воспоминаний, любое сходство, мелькнувший образ, имя – все может послужить причиной обрыва одной словесной нити и начала другой. Стилевая эмоциональная выразительность, настраивающая повествование в определенной тональности, проявляется и в отражении промежуточных, «пограничных» ситуаций между явью и сном, состояний, расковывающих воображение. В этом плане интересен рассказ «Сон», в котором унылое однообразие повседневности преображается в эмоционально яркую, насыщенную событиями действительность. В данном рассказе наиболее выпукло, на наш взгляд, представлены такие художественные особенности литературы постмодернизма, как одновременное существование в тексте реминисценций и аллюзий на самые разные эпохи, апелляция к модернистским приемам «автоматического письма», «потока сознания», нарушение линейного принципа причинноследственного развертывания повествования, введение «интертекста». В целом, в прозе Б. Чипчикова прочитываются несколько стилевых пластов: мифо-эпический, народно-поэтический, духовно-книжный. Разнонаправленность таит в себе огромные художественные возможности, но требует огромных сил сцепления, способных удержать разнообразное, свести вместе, и только тогда ритмическая сложность, подвижность и изменчивость придают тексту цельность и гармонию, а хаос чувств, логические неувязки становятся не недостатками стиля, а его достоинствами. Стройное движение внутренне неоднородной речи в ее гармоническом синтезе очень важно для понимания авторского хода мысли, для понимания творческого стиля вообще. ––––––––––––––– 1. Алиева С. Самый умный человек – человек улыбающийся (Несколько слов о прозе Бориса Чипчикова) // Ас-Алан 1(3), 2000. – № 1. – С. 68. 222 2. Гемуева Л. «Возвращайся свободным» // Литературная КабардиноБалкария. – 2007. – № 3. 3. Чипчиков Б.М. Здравствуй, незнакомый // ЛКБ. – 2006. – № 6. 4. Чипчиков Б.М. Возвращайся свободным. – Нальчик, 1998. 5. Чипчиков Б.М. Пойманные мгновения // Ас-Аслан. – 1 (3). – 2000. ИДИЛЛИЧЕСКОЕ МИРООЩУЩЕНИЕ О. ЧЕЛИКА В ПЬЕСЕ «КАФА» Тимижев Х.Т., Нальчик К середине ХХ века многие писатели стран Ближнего Востока все еще находились во власти иллюзий по поводу идиллической жизни, грядущей после завершения национально-освободительной борьбы. Они считали, что после обретения политической независимости должна наступить эра общественной гармонии. Таким образом, обходились вниманием наиболее острые социальные вопросы. Сюжеты их произведений «нарочито обтекаемы, сглажены реально существующие внутри общества разногласия, конфликты» [2]. В них больше пессимизма и сентиментальности. Надо отметить и то, что тяготение восточных авторов (в том числе и писателей черкесского зарубежья) к описанию чувств своих персонажей ведет не к внешнему развитию конфликта, лежащего в основе сюжетов, а к нарастанию эмоций. Перу О. Челика принадлежат романы «Жабаги Казаноко» (1986), «Юнус Эмре» (1994), трилогия «Кавказ» («Генар», «Потомок воинов», «Изгнанники», 1994), различные по своим жанровым особенностям, но объединенные актуальностью поставленных в них проблем. Он – автор сборника рассказов «Нарты» (1976), пьесы «Кафа» (1985), а также ряда научно-исследовательских и литературоведческих работ. О. Челик отличается от других писателей диаспоры своим тяготением к идиллическому мироощущению. В его произведениях нет места жесткому противостоянию. Писатель мастерски нивелирует оттенки душевного состояния персонажей своих произведений, что искупает некоторые излишне сентиментальные описания любви к родному краю, его соотечественникам. Потомки нартов живут «в райском краю, оставленным богом для себя, после раздачи всех земель народам. Силен и красен этот край народом, живущим в нем, чьи мужчины – могучи, а женщины – прекрасны, чьи дети – здоровы и умны» (роман «Жабаги Казаноко»). В изображении образа идиллического края, образа жизни его обитателей чувствуется влияние на творчество О. Челика произведений великого соплеменника, классика турецкой литературы Ахме223 да Мидхата. Стиль повествования у них одинаков. Оба эти писатели сами мечтали и читателей своих подвигали мечтать «о земле, где правят только мудрейшие». Если в этом краю «между людьми возникают споры или недоразумения, их разрешают по закону адыгского этикета». Никто не вправе ущемить другого, несмотря на свой социальный статус. Писатель подчеркивает, что в этом крае есть и дворяне, и слуги, но «это не повод для принижения одних другими» [1, с. 4]. Стремясь показать гармоничность такого общества, автор порой превращает его в утопию. Черкесский князь настолько привязан к своему слуге, что думает со страхом: «Вдруг он умрет раньше меня, что тогда будет со мной?» А служанок своих он называет не иначе как «мои дети» [4, c. 17]. Еще об одной особенности творчества О. Челика. Он, подобно опытному психологу, выступает в роли целителя душ своих соплеменников, израненных горем и постоянной материальной нуждой на чужбине. В своих произведениях писатель рисует картины, желанные сердцу человека, измученного тоской по родине. Он осознает, сколь глубоки душевные раны эмигранта. И готов облегчит боль, настолько это возможно. И это – одна из причин, почему его произведения столь мягки и бесконфликтны. Как ученный, О. Челик многие годы собирал, систематизировал и анализировал богатый фольклор адыгов. Такая исследовательская работа наложила на художественные произведения писателя печать романтизма, и даже сказочности. В рассказах из сборника «Нарты» автор использовал фабулы и стили повествования сказаний о нартах, адыгских сказок и легенд. В подобном ключе написаны и роман «Жабаги Казаноко», перекликающийся с одноименной документальной повестью Аскерби Шортанова, и пьеса «Кафа». Фольклор и традиции народа занимают много места в романе «Кавказ». Однако его сюжет построен на реальных событиях периода Кавказской войны и массового переселения адыгов на территорию Османской империи. Действия романа происходит на Кавказе, в главных городах России, Турции и некоторых европейских государств. Как и А. Мидхат, М. Кандур, О. Бююка, посвятившие не одно произведение Кавказской войне, О. Челик использовал документальные сведения, воспоминания очевидцев, опубликованные в период войны в печати. Все это приблизило роман к жанрам документалистики, но такая манера повествования сделала авторское повествование более очевидным и правдивым. Вместе с тем, трилогия осталась не совсем востребованной. То ли читатель не был готов к такому объемному произведению, то ли события далекого прошлого стали не совсем понятны ему. И критика промолчала. Но факт то, что самое значительное произведение писателя и ученого еще не исследовано. Настоящую славу О. Челику принесла пьеса «Кафа». Именно 224 здесь в полной мере раскрылся образ мыслей самого автора и отношение его к окружающему миру. После драматургических произведений Ахмеда Мидхата («Черкесские дворяне», «Вот беда!», «Мулла», «Трагедия древних персов», «Танцовщица» и т. д.) пьеса «Кафа» О. Челика стала самой популярной у читателей. Как отмечает литературный критик А. Схаляхо, «трудно найти в Турции адыга, не знакомого с этим произведением и не готового к его обсуждению» [1, c. 3]. Причина всеобщей народной любви лежит на поверхности: в пьесе воплощена сокровенная мечта эмигрантов, а сюжет, построенный на фольклорном материале, близок и понятен каждому. В этом произведении наиболее четко отразились утопические взгляды О. Челика. Они сказались в преувеличении роли личности в общественной жизни. Любой человек, независимо от социального статуса, достоин, чтобы его ценили, уважали и считались с его желаниями – такова основная мысль произведения. Возможно ли такое в средневековой феодальной Кабарде (действие пьесы происходит в XVI веке), где строго соблюдались законы социальной иерархии? История человечества, разумеется, говорит, нет: социальное неравенство людей и народов неизбежно ведет к конфликтам. Но О. Челик не собирается следовать историческим реалиям и подвергать своих героев испытаниям. Конфликт в пьесе не приобретает всенародного масштаба, он даже не выходит за пределы внутрисемейных отношений. И за разрешением его писатель обращается, на его взгляд, к самому компетентному институту – адыге хабза (традиционному этикету). Именно поэтому О. Челик избрал временем действия пьесы средневековье, когда в Кабарде наиболее прочны были корни феодальных отношений и адыге хабза. В основу сюжета пьесы легло предание, бытующее у адыгов, да и у других кавказских народов. Как рассказывается в нем, жил в Кабарде именитый князь, слава о мужестве и богатстве которого распространилась далеко за ее пределами. Однако ни слава, ни достаток не могли составить князю счастья – не было у него сына, продолжателя рода. Но есть красавица дочь, и ею князь дорожит безмерно. Да вот беда, как принцесса Несмеяна в русской народной сказке, – дочь князя замкнута, необщительна, нет у нее и друзей. К каким только ухищрениям не прибегал князь, чтобы изменить характер дочери – все без толку. Тогда отец объявляет, что отдаст дочь замуж за того юношу, который сумеет развеять ее тоску, при этом не будет иметь значение ни знатность его рода, ни богатство. Справился с этой задачей только простой пастух, который умел играть на свирели. Предание гласит, что тогда и родилась мелодия и сам танец «Кафа», ставший в последствии национальным танцем адыгов. Пьеса «Кафа» выполняет ту же самую художественную функцию, что и народное предание. Конфликт отцов и детей разрешается в ней 225 без напряжения, по законам доброй сказки. Все персонажи мелодрамы, а их достаточно много – 21, озабочены лишь одной проблемой – как вернуть радость Кафе, единственной дочери князя Шоры Безроко. Но это оказалось под силу только молодому батраку князя – Жаноко. С первых дней знакомства с Жаноко девушка влюбилась в него, и она отвергает женихов из именитых дворянских родов, среди которых были даже «посланники из далекого Джиляхстанея». Автор, бесспорно, рискует, перенося некоторые детали современного разговорного стиля на речь персонажей и упрощая атрибутивные особенности адыгского этикета. Например, княжна первой признается в любви пастуху, что было абсолютно неприемлемо в условиях феодальной Кабарды. Писатель настолько упростил эти отношения, что его героиня, готова даже бежать с ним по первому зову. Однако вместо ожидаемого положительного ответа, героиня пьесы слышит от юноши жестокий своей правдивостью ответ: «Жизнь – это не мелодия свирели, какой бы чарующей она ни была». Жестокая эпоха «состарила адыга раньше срока» (О. Челик), он пал духом, утратил способность к решительным действиям. В такое время человек больше всего нуждается в жалости и понимании других, особенно сильных мира сего. Оттого и герои О. Челика пребывают в ожидании божественных чудес. Такой тип мышления – психологического состояния человека, особенно популярен в современной поэзии черкесского зарубежья (М. Аталай, Я. Баг, Н. Хуног, Г. Тхагазит и др.). В адыгской пословице говорится, что «и человек, спящий на соломенной циновке, также мечтает о лучшей доле». Действия одного из героев пьесы – Жаноко не выходят за рамки мечтаний. В его слабом характере, что нетипично для отечественной литературы, мало привлекательного. Тем не менее, нужда в сильном заступнике, в сильной руке, вызывает в нем жалость. Читатель и зритель не может не сочувствовать герою, попавшему в обобщающую ситуацию, в какой пребывают все адыги на чужбине. О. Челик ввел в адыгскую литературу образ человека, неизменно вызывающего двойственное чувство. Жаноко, с одной стороны, «Богом избранный человек. Он талантливый музыкант, певец; ему по плечу то, что не доступно ни одному отпрыску дворянина – своей мелодией зачаровывает мир». А с другой стороны – не обнаруживается в нем мужества, соразмерного богоданному таланту – слишком он слаб и нерешителен. Такие никогда не становятся лидерами, они даже не способны «позаботиться о своем личном благе». Таким подает одного из своих героев О. Челик. «Ты труслив и ленив!» – корит его дед Ордан. Вместе того, чтобы бороться за свое счастье, герой пьесы замкнулся и оплакивает свою жалкую долю в этой жизни – бедность. Он доволен уже тем, что познал любовь, теперь готов вернуться в край жанэ (одно из адыгских племен). «Пусть 226 песня ханской дочери Кафы будет известна, как «Песня влюбленных». Пусть имя «Кафа» живет всегда. Это мое единственное желание!» Такими словами отвечает герой на любовь Кафы и делает вывод: «Пусть останется эта мелодия памятью о том, как социальное неравенство делает людей несчастными!» [4]. Вот и весь социальный бунт. Впрочем, в произведении, выдержанном в духе идеализма, автор и не стремится к раздуванию конфликта. Писатель предпочитает оставить господ и слуг, богатых и бедных в тех пределах, что отпущено каждому Всевышним, и находит в этом «покой и благоденствие». Как явствует идейный подтекст пьесы, это не такая уж недостижимая цель: нужно всего лишь, чтобы властитель был добр, щедр и милостив по отношению к слугам. Шора Безроко – образец идеального господина: он без колебания дарит лучшую лошадь старому слуге, он готов и дочь выдать замуж за батрака, если это принесет ей счастье. Слуги, в свою очередь, беспрекословно подчиняются воле князя и княгини, обращаются к ним не иначе как «дотэ нэху» («светлый князь»), «гуащэ лъапIэ» («дорогая княгиня») и т. д. В пьесе все просто и понятно: ты беден, неудачлив – это ничего, не суетись и дождись, пока чья-то сильная рука не облагодетельствует тебя. Такую установку дает в самом начале драмы писатель, пресекая всякие мысли о возможности классового, социального противостояния. Ты – обычный человек, слабый, тебе не совладать с грузом социальных, политических, религиозных, да и личных проблем. Не забывай: какое у птицы мясо, таков и навар. Подобное мышление, давшее ростки в культуре послевоенной Европы, прижилось на почве Турции, где «в 50–60 годы еще не было ни политической, ни экономической стабильности. Чехарда во власти влекла за собой жизненные неурядицы, тяжелой ношей ложившиеся на плечи самых незащищенных групп общества» [3]. Жестокая политика военных, в действительности, им не оставляла ничего иного, как бесплодно мечтать о лучших временах и благоволении властей. Подобной ситуацией и рождена пьеса «Кафа». Поэтому там отсутствуют социальные, классовые конфликты. По таким мелодрамам, сценам «малиновой страсти», как в пьесе, соскучились люди, уставшие от тяжелой жизни, поэтому пьеса пришлась по нраву многим читателям. ––––––––––––––– 1. Схаляхо А. Осман Челик и его пьеса «Кафа» // Голос адыга. – Майкоп, 1998. – № 12. – С.4. 2. Художественные традиции литератур Востока и современность. – М., 1985. – С. 24. 3. Турция: история и современность. – М., 1995. С. 141. 4. Челик О. Кафа. – Нальчик, 2004. 227 О САМОБЫТНОСТИ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ЧЕРТЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ А.Т. ГУБИНА Откидач Н.А., Ессентуки «Творческая индивидуальность писателя проявляется в различных сторонах его искусства, и, прежде всего, ко­нечно, в самобытности его взгляда на явления жизни, самобытности и общественной значимости его творче­ских обобщений», – утверждал М.Б. Храпченко в книге «Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы» [5, с. 68], тем самым определяя категорию самобытности основополагающим для всякого творческого лица. Именно таковым – своеобразным, самостоятельным в своем творческом развитии – и представляется наследие известного ставропольского писателя Андрея Терентьевича Губина, творческая жизнь которого не прервалась и после его ухода из жизни в 1994 году. В изданном его женой, М.Н. Губиной, четырёхтомнике сочинений писателя чувствуется глубокое знание жизни, широта интересов, неповторимая творческая индиви­дуальность автора. Индивидуальный поэтический стиль, присущий писателю, помогает понять, что подчас не столько сюжет или тема, не столько слова, сколько стоящее за ними художественное видение, присутствующее в тексте, яркая выразительность и образность рождены в глубинных поэтических возможностях авторского языка, в необычайно точном, одухотворенно-поэтическом чувстве, вызванном наблюдаемой картиной. С другой стороны, обилие фольклорного материала, лирических отступлений, живописных пейзажных зарисовок, создающих особый авторский стиль, свидетельствуют о владении писателем литературной технологией и художественным мастерством, о его новаторстве, которое, как известно, представляет собой совокупный результат таланта, жизненного опыта, заинтересованного отношения к запросам времени, высокой культуры и, конечно, профессионального мастерства, основанного на знании художественных образцов. Читателей поражает в произведениях А. Губина богатство воображения писателя, умение воспроизвести колорит давно прошедшего времени, что помогало создавать картины редкой, трепетной красоты, одухотворенные любовью писателя к родным местам. Сам же Губин о своём творческом даровании писал в дневнике: «Все думают, что я писатель, а я – поэт» [4, с. 3]. И это – несомненно. Всё прозаическое творчество А. Губина и, прежде всего, его роман «Молоко волчицы» пронизаны поэтическими мотивами. Впервые роман «Молоко волчицы» был опубликован в 1968 г. в журнале «Октябрь», затем – отдельной книгой в московском и став228 ропольском издательствах, 14 раз переиздавался, был переве­ден на европейские языки. Этим произведением открылась впер­вые изданная «Библиотека истории казачества». Это – роман исторический. А. Губин даже назвал его «хро­никой нашей станицы». В уникальном по форме и по содержанию, масштабности, многогранности проблематики романе автор делится раздумьями о судьбах казачества. Писатель использовал в своей книге воз­можности разных жанров, подчеркнув тем самым гибкость жанра исторического романа и подвижность его границ. Читатель находит приемы «биографии» и «мемуаров», романного жанра и романических «интриг» исторического повествования, лирической поэмы в честь природы, вольной казачьей жизни. Из автобиографии писателя известно, что в начале работы над романом он думал написать его в стихах, но со временем планы менялись, и поэтические фрагменты остались лишь фрагментами, своеобразными лирическими вставками. Так родилась особая форма произведения, в котором тесно сплавились элементы эпики, драмы и лирики, в чём проявляется творческая индивидуальность автора, и что создаёт некоторую трудность при определении жанра книги. Вероятно, прав был Л.Н. Толстой, считавший, что значительное искусство всегда создаёт и свои формы, не укладывающиеся в обычную иерархию жанров. Книга Губина – ещё одно тому подтверждение. Произведения Губина различны по жанровому составу: стихи, очерки, новеллы, рассказы, повести, сценарии, статьи, поэмы, романы... И, тем не менее, автор нашёл свой индивидуальный стиль, что было отмечено литературоведами уже в начале его творчества. В первой повести «Созвездие ярлыги» («Ок­тябрь». – 1964. – № 8) он заявил о себе как мастер слова, умеющий сплетать глубокий психологический анализ с сюжетообразующими элементами, событиями, развитием сюжета. Можно даже сказать, что психология героя определяет и движет сюжет, становясь самодовлеющей, наиважнейшей в произведении. В первом же крупном произведении писателя – сборнике «Афина Паллада» – Губин предстаёт перед читателями как новеллист, отважившейся сказать своё слово о великих людях, делая гениев человечества своими литературными героями! Лев Толстой, Лермонтов, Рабле, Фидий, Сервантес, Джек Лондон, Данте, Грин... Древняя Греция и Америка, Франция и Россия, античность и средневековье, девятнадцатый век и годы Октябрьской революции... Губин пишет о людях, чьи творения вошли в историю мирового искусства. Жизнь этих людей тоже составила историю. Изображая великих, заметно желание автора открыть завесу тайны творчества, его вдохновительные источники, его процесс, его взаимодействие с личностью творца. Своеобразно их изображение писателем: он не идеализирует своих героев, наделяет каждого человеческими желаниями и слабостями. Гений у Губина – прежде всего – че229 ловек, как и все остальные люди. Данте любит трагически-разлученно, Льва Толстого терзает несправедливость мира, Сервантес живет непризнанным бедняком, Александр Грин мучится окружающей пошлостью. Но есть в них нечто большее, чем просто скорбь о несовершенстве мира. По мнению литературоведа Т.К. Чёрной писателю свойственно «единство всех компонентов, художественная полнота и вместе с тем способность найти минимальные параметры образа. Чаще всего один значительный эпизод жизни великого человека дает освещение всей его жизни, концентрирует и авторскую мысль» [6, с. 110]. В непростом, многослойном романе «Царский браслет», или «Светское воспитание» речь идёт о формировании, становлении – личности, мастерства, мира. Ребенок потерял волшебный камень, «магический кристалл», и вся его жизнь, поэта и рабочего, – это поиски утраченного камня, того, что тьму превращает в лучезарное сияние, чугун и свинец – в золото, дарует вечную молодость, не отцветающую весну... Поймает ли жар-птицу? И что это за философский камень? И какая за него плата? Трилогия написана от первого лица, и темы всех трех частей воспитание человечества, воспитание одной женщины, воспитание самого себя – как бы стянуты в один узел разностороннего воспитания: домашнего, школьного, светского, а также гражданского самовоспитания. В этом многогранном и многоуровневом романе буквальное восприятие текста лишь один – самый поверхностный – из возможных интерпретаций. «Книгой замыслов» назвал этот роман писатель Ст. Подольский. И в большинстве случаев – неосуществлённых замыслов. Роман Губина отличается не только многообразием тем, про­блем, щедростью сюжетов, ко­торых с лихвой хватило бы на множество произведений, но и многоликой галереей образов и персонажей, с которыми столк­нула творческая и личная судь­ба героя, и которые, оказывая в разной мере свое влияние, ос­тавляли след в его душе, в па­мяти, характере. Таким обра­зом и происходило «светское воспитание». Будучи озабоченным не толь­ко собственным совершенство­ванием, автор взвалил на себя высокую ответственность вос­питателя. Так появилось произведение, написанное в автобио­графическом жанре, в котором ностальгическая грусть по ушед­шей молодости, прежним дру­зьям смешалась с глубокими размышлениями зрелого мас­тера. Все повествование про­низано тонким юмором, легкой иронией умного писателя, наблюдательного, наделенного «высоким чувством граждани­на», а значит, воспитателя все­го человечества, одной женщи­ны и самого себя. Сюжет и композиция романа определяются своеобразием избранного жанра, хотя в про­цессе работы замысел расши­рялся и изменялся. По авторскому замыслу писатель на­чинал эту рукопись как испо­ведь, автобиографию, а получился, по словам автора, «приключенческий ро­ман». Роман «Траншея» по жанру напоминает мемуары, но они кон­чаются, не успев начаться. События романа разворачиваются на фоне великолеп230 ной природы Кавказа, воспетой поэтом и хорошо знакомой ему с детства: «...На юге дремлет стража – белые гиганты Главного Кавказского хребта. Подняты в синюю вечность остроконечные щиты, они же копья. В папахе белого руна пастух Эльбрус вольно пасёт свои отары и стада. Племенная элитная отара – лакколиты: Лев, Верблюд, Железная Машук, Бештау...» [3, с. 16]. На этом фоне далее следуют раз­мышления о жизни людей второй половины двадца­того века, погрязших в войнах, о жизни, трагичной и без войны. Это некий философский трактат о категориях, которые понять крайне сложно. Хотя основными темами, переплетающимися в романе и составляющих внешнюю канву сюжета, являются любовь и война, мы наблюдаем за любовным треугольником, в котором замкнуты герои романа. Это русский, немец и полячка. Они идут из ниоткуда в никуда, в конце приходя туда, откуда вышли. Русский, говоря о фашизме, и немец, говоря о комму­низме, порой столь близки, что иной раз тяжело безотносительно к тексту понять, кто и о чем ведет речь. И все же эта Война-Траншея в конце концов перерезает и судьбы героев и самые их жизни. Безусловно, роман (а первоначально задумывался он как киносценарий) сколь сложен, столь и интересен. А мы ещё раз убеждаемся в том, что автор не может ограничивать себя рамками жанра. Его гениальность – вот единственные рамки, которые ему дозволены. Писатель знал себе цену и был уверен в себе. Об этом позволяют судить воспоминания Вадима Чернова, относящиеся еще к поре молодости, когда Андрей Терентьевич однажды в дружеской беседе шутливо заметил: «Ребята, двадцатый век пройдет, не будет нас. И однажды вспомнят наши дети, внуки, что был Губин и вы, суетившиеся около меня. Вспомнят, наверное, Сашку Екимцева, возможно, тебя, Вадим-Мидав и картины Жени Биценко. Остальных, боюсь, даже не вспомнят...» [7, с. 3]. Сам писатель, прослеживая эволюцию своего литературного пути, так оценил собственное творческое наследие: «Поэт тоже проходит в твор­честве стадии младенчества, юности, зрелости, старости. Мое младенчество, моя юность, мои песнопения – «Молоко волчицы». Моя зре­лось – «Афина Паллада», «Светское воспитание». Моя вершина, пик – «Антисемит», «Траншея». Моя старость – мемуары, «Музей». Будучи не­признанным, я, тем не менее, являю собой классический тип поэта вообще, поэта любого земного времени» [4, с. 3]. Самобытные произведения А.Т. Губина доказали, что настоящее творчество не подлежит забвению. Интерес читающей публики к ним из года в год не угасает. ––––––––––––––– 1. Губин А. Из дневника писателя «Книга прожектов» // Кавказская здравница. – 1992. – 20 октября. 2. Губин А. «По торжищам влача тяжёлый крест поэта...» // Литературный Юг России. – 1996. – № 5. 3. Губин А. Траншея. – Нальчик, Издательский центр «Эль-фа», 1995. 231 4. Губина М. Андрей Губин жив памятью читателей // Кавказская здравница. – 1992. – 6 марта. Храпченко М.Б. Собр. соч. в 4 т. Т. 3. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. – М.: Художественная литература, 1981. Черная Т. В рассказах о прошлом // Творчество. – Ставрополь, 1982. 5. Храпченко М.Б. Собр. соч. в 4 т. Т. 3. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. – М.: Художественная литература, 1981. 6. Черная Т. В рассказах о прошлом // Творчество. – Ставрополь, 1982. С. 98–112. 7. Чернов В. Неугасимая свеча Андрея Губина: Рассказ – воспоминание (К 35-летию выхода в свет романа А. Губина «Молоко волчицы») // Ставропольская правда. – 2004. – 12 марта. Особенности преломления поэтики французского символизма в пьесе И.Д. Сургучева «Осенние скрипки» Сергеева И.С., Харьков Одной из наиболее актуальных задач современного литературоведения является объективное осмысление значимости литературного наследия русского зарубежья. В полной мере это относится к творчеству Ильи Дмитриевича Сургучева – незаурядного писателя, театрального и общественного деятеля первой волны русской эмиграции, чья драматургия, по признанию российского исследователя А. Фокина, «настойчиво требует своего осмысления. И не только литературоведческого, историко-типологического, социологического, и не только как неотъемлемой части русской драматургии первой половины ХХ века, но и как своего рода эстетического феномена» [1, с. 149]. В то же время, по его справедливому замечанию, «в изучении дореволюционного творчества писателя нередки однозначные акценты», влекущие за собой «недооценку эстетической позиции писателя и стилистического плюрализма сургучевской поэтики» [2, с. 3]. Идеи французского символизма, задекларированные поэтами Шарлем Бодлером и Полем Верленом, оказали существенное влияние и на Сургучева, став неотъемлемой частью его творческой индивидуальности. Наиболее ярким и оригинальным образом они преломились в его пьесе «Осенние скрипки», тематически и тонально связанной с поэмами «Осенняя песнь» Бодлера и «Осенняя песня» Верлена, поэтому исследование особенностей интерпретации Сургучевым символистской эстетики в его пьесе представляется весьма актуальным. Целью данной работы является анализ генезиса символистских идей в творчестве самих поэтов-символистов, с одной стороны, и осо232 бенности преломления этих идей в пьесе Сургучева, что подразумевает выполнение следующих задач. Проанализировать основные моменты сходства и отличия в мироощущении поэтов-символистов и то, как они проявились в рассматриваемых произведениях. Установить, какие идеи были ассимилированы творческим сознанием Сургучева, и каким образом они повлияли на функционирование произведения на разных его уровнях. Определить, какие связи объединяют «Осенние скрипки» с музыкальным циклом Чайковского «Времена года», и, в частности, с входящей в его состав пьесой «Осенняя песня». Суть бодлеровской теории соответствий в той части, которая касается искусства, сводится к следующему. Природа предстает не как объект эстетического изучения, а как сырье, набор разрозненных символов, и задача художника – преобразовав их в своем сознании, восстановить их исходную целостность. Поэтому символы, представляющие собой лишь полуистертые отпечатки реального мира, потерявшие связь с исходным явлением и между собой, вынуждены беспрерывно взаимодополняться и согласовываться друг с другом. По этой глубинной причине источником вдохновения для Бодлера нередко становится не несовершенная природа, а ее модель, воссозданная в творческом сознании человека, например, в произведениях живописи: так, ряд стихотворений Бодлера, вдохновлены не объектами реальной жизни, а картинами Делакруа, Гойи, Калло, Мортимера, Дюрера [3, с. ХII]. Что же до поэтической практики Бодлера, то теория соответствий реализуется в том, что между собой беспрестанно согласуются цвета и звуки, живопись и поэзия, подчиненные идее, которую хочет выразить поэт. Д. Рэнсэ и Б. Лешербонье в рамках системы соответствий устанавливают два типа ее реализации: горизонтальный и вертикальный. Горизонтальные соответствия состоят в том, что произведение строится на основе синестезии. Например, выбрав в качестве доминанты обоняние, Бодлер дополняет его соответствующими тактильными, слуховыми или зрительными ощущениями. Авторы отмечают, что зачастую тире используется для того, чтобы подчеркнуть резкую смену в тематике или в смысле произведения. Так вводится второе, вертикальное измерение системы соответствий, смысл которого заключается уже не в том, чтобы связать тот или иной объект или существо с одной или несколькими референциями, а в том, чтобы извлечь из этого объекта его сущность. Или же в том, чтобы перейти от относительного к абсолютному, от конечного к бесконечному. Второй тип соответствий, лексически выраженный через такие понятия, как «возвышенность», «экстаз» или «эйфория», является для Бодлера намного более важным, чем первый [4, с. 384]. Верлен, находившийся под сильным влиянием бодлеровских идей, несколько трансформировал их и разработал собственную эстетическую платформу, основанную на силе суггестии и субъективных 233 впечатлений. Он отказался от понятия символического преобразования: в его поэтике означаемое и означающее, символическое и реальное являются единым и нераздельным целым. Если у Бодлера символы, чтобы обрести свою утраченную целостность, вынуждены соответствовать друг другу и взаимодополняться, то у Верлена они никогда не были разделены. В его стихах душа настолько растворяется в окружающей среде, а весь пейзаж несет в себе такую глубину переживаний, что становится невозможным различить, что из них – обезличенное ощущение или описательная суггестия – является метафорой другого [5, с. 519]. В «Осенних скрипках» Сургучев синтезирует обе поэтические системы, оставляя доминантную роль бодлеровской системе соответствий, горизонтальное и вертикальное измерения которой присутствуют в пьесе. У Верлена он берет прочность спайки символов при воссоздании целостности действительности. Отсюда, например, частота упоминания в тексте пьесы парадигмы образов, в которых сливаются воедино музыка и время года: осенняя песня, осенние скрипки, и образованные по аналогии с ними флейты весны, трубы лета, молчание зимы и их лексико-грамматические варианты. Взаимосвязь между «Осенними скрипками», «Осенней песнью» Бодлера и «Осенней песней» Верлена, текстуальные и интерпретационные аспекты которой уже были рассмотрены нами в предыдущих публикациях [6, 7], резюмируется следующими пунктами. А) Все три произведения характеризуются минорной тональностью, а также идеями о скоротечности жизни и приближении смерти; Б) Система соответствий применяется всеми тремя авторами. Однако у Верлена, как уже отмечалось, полностью отсутствует идея символического преобразования: символы, разделенные и вынужденные взаимодополняться в системе соответствий, у него изначально не разделены, а, напротив, прочно и неразрывно связаны. Помимо синтеза бодлеровской и верленовской систем, Сургучев усложняет их, в том числе, за счет активного использования всех ресурсов, предоставляемых театром: вербальные образы усилены указаниями относительно музыкального сопровождения пьесы и построения декораций, что прекрасно согласуется с требованиями системы соответствий. В) Горизонтальное измерение системы соответствий. Все произведения построены на основе синестезии, реализованной в многокомпонентном единстве ″лирический герой – его эмоциональное состояние – звуковые ощущения – условия внешней среды (время года, погода)″. Практически одинаково предметное наполнение схемы: лирический герой; тоска, грусть, отчаяние, пессимизм; осень в преддверии зимы; звуковой ряд. Однако сами звуковые ощущения, к которым прибегают авторы, разные: у Бодлера они выражены в стуке дров на мостовой, затем в воображаемых отзвуках тарана, разбивающего башню, и 234 возводимого эшафота; у его последователей на смену этому звуковому ряду приходит музыка, а именно, рыдание осенних скрипок. Таким образом, горизонтальное измерение системы соответствий присутствует и даже имеет схожее наполнение во всех трех произведениях. Сургучев существенно усложняет это измерение, заменяя в описанной схеме лирического героя, которого возможно соотнести с авторами поэм, действующим лицом, никак с драматургом не соотносимым. Он выводит в пьесе три действующих лица, «привязанных», как и в поэзии, к музыке, эмоциям и временам года: параллельно с центральным образом Варвара – осень – скрипки – грусть существуют еще два: Дмитрий Иванович – зима – тишина – спокойствие и Вера – весна – флейты – радость, любовь. Используя в персонажном, и в авторском сегментах верленовский образный ряд (образ осенние скрипки, наиболее оригинальный и узнаваемый из поэмы Верлена; перекликающийся с ним образ осенняя песня, отсылающий к музыке Чайковского), драматург существенно расширяет его, вводя новые образы. Он также углубляет горизонтальное измерение системы соответствий путем создания внутренней иерархии образов в рамках многокомпонентных единств, каждый из компонентов которых имеет ряд вспомогательных, усиливающих его образов (например, зима – холод – снег (колыбельная песня, надгробное рыдание) – метель – сани – охота – … и т.д.). Г) Вертикальное измерение присутствует у Бодлера и Сургучева, отсутствует у Верлена. Соответственно отличается динамическая картина психологического состояния лирического героя, однако бодлеровский механизм запуска негативных чувств, отмеченный Ф. Лики [8, с. 23], заимствуется и Верленом, и Сургучевым. Катализатором внутреннего конфликта всех трех героев является звуковое ощущение, провоцирующее появление и стремительное нарастание эмоциональной напряженности и внутреннего разлада. Достаточно быстро наступает кризис, в результате которого верленовский герой меняется местами с окружающей его неживой природой, ассоциируя себя с опавшим листом, уносимым злым ветром, а герои Бодлера и Сургучева, пережив символическую смерть (в поэме говорится о могиле и об отходе, а героиня пьесы падает в обморок), принимают идею смерти и, сменив регистр своего существования, обретают душевный покой. Смена настроения в обоих произведениях отражается в тональности и даже в структуре произведения: у Бодлера позитивную эмоциональную окраску приобретает отдельная, вторая часть поэмы. То же видим и у Сургучева: тональность и психологическое состояние героев резко меняется в последнем действии, достигая кульминации в его конце. Перед Вериным отъездом женщины мирятся, вся сцена наполнена всеобщим ощущением радости, счастья, веры в будущее. Варвара, подобно герою Бодлера во второй части поэмы, наконец, находит 235 покой и умиротворение. Искренняя любовь не в силах преодолеть надвигающуюся смерть, но примиряет с реальной действительностью. Д) Сосуществование в произведении нескольких поэтических реальностей актуально только для Бодлера и Сургучева, так как у Верлена лирический герой настолько сливается с окружающей средой, что становится неотделимым от нее, а в конце, как уже было отмечено, и вовсе меняется с ней местами. Впрочем, аналогичный по сути прием использует и Бодлер, у которого умерщвляется живая реальность и, напротив, одушевляется неживая, что проявляется, например, в ″вымораживании″ цветов жизни в цвета смерти и т.п. Сургучев также обращается к этому приему в его «бодлеровском» варианте, нередко применяя его для того, чтобы подчеркнуть различия в мировосприятии и в психологическом состоянии персонажей. Начиная с момента запуска негативных чувств, доля субъективного в интерпретации реальности бодлеровским героем и его психологическое напряжение резко увеличиваются, воображение начинает рисовать все новые и новые картины, переходящие в силу своей гиперболизации из реальной плоскости в ирреальную. Так, стук дров на мостовой ассоциируется со смертью (в скобках указывается номер строки): похоронный стук (3), ад (7), эшафот (10), гроб (14), отход (16). Кроме того, он связан с рядом негативных чувств и эмоций: гнев (5), ненависть (6), дрожь (6), тяжелая подневольная работа (6), со сравнением своего сознания с падающей башней (11), а также с болезненным состоянием, проявляющемся в дрожи (5, 9). Несложно отметить, что аналогичные процессы происходят и с Варварой Васильевной в пьесе, но в менее концентрированной форме: развитие ее чувств выражено в диалогах в супругом, с Верой, с Барановским и даже в ее монологических высказываниях. Настроение бодлеровского героя подчеркивается вышеупомянутым приемом «умерщвления» живого, вымораживания теплого, и наоборот. Первое четверостишие построено на сравнительно простом противопоставлении живого лета мертвой зиме: в 1–3 строках антитезой живой ясности слишком короткого лета является зима с ее холодными сумерками и похоронным стуком дров. Во втором четверостишии автор переходит к «вымораживанию» «теплых» предметов и явлений. С приходом лексикализованной зимы в 7 и 8 строках автор показывает нам два примера «многослойного вымораживания»: у него не просто становится полярным, т.е. холодным, раскаленный негасимым пламенем ад, но и солнце затем остывает в этом полярном аду. Далее с солнцем, замороженным в полярном аду, сравнивается сердце героя (а все живое является теплым), которое также замерзает и превращается в красную ледяную глыбу (отметим, что Бодлер «замораживает» и традиционно воспринимаемый как горячий красный цвет, ставя его в связке с прилагательным ледяной). То же происходит и со звука236 ми: удары становятся похоронными (3), эхо – глухим (10), загадочный шум звучит, подобно отходу, т.е., смерти (16). Если в первой части лирический герой из реальности объективной все глубже погружался в субъективную, порожденную объективной, то во второй части он постоянно «перемещается» между разными мирами: объективным, своими воспоминаниями и миром мечты. В конце произведения объективная и субъективная реальности сливаются в одну. Верлен отказывается и от путешествий лирического героя по разным реальностям: в тексте содержится одна отсылка к прошлой жизни героя (10 Я вспоминаю 11 О прошедших днях 12 И плáчу), о которой он сожалеет. Лирический герой Верлена живет лишь в одной, субъективной, реальности. Но выделить из нее объективную реальность практически невозможно – герой полностью сливается с окружающей средой, в которой растворяются его чувства, да и сам он – не зря он в конце сравнивает себя с опавшим листом, уносимым злым ветром. Сургучев в плане сосуществования одной или же разных реальностей в пьесе идет дальше своих предшественников. По аналогии с бодлеровским героем, он создает несколько миров для Варвары: хотя за окном прекрасная осень, она видит ее в мрачном свете, мысленно уже живя в зиме, предчувствуя смерть, и лишь иногда с сожалением возвращаясь в свою весну и лето. Реальность субъективная и объективная сливаются в одну в конце пьесы, когда происходит смена настроений и Варвара, наконец, принимает новую жизнь. Тогда же реализуется и вертикальное измерение системы соответствий. Но главной отличительной особенностью пьесы является то, что для каждого из персонажей автор, используя одни и те же образы и мотивы, создает свою, отличную от других, реальность. Это достигается, в частности, за счет несовпадений в интерпретации одних и тех же явлений разными персонажами. И если мотивы весны и лета как молодости и расцвета жизни, а также мотив связанной с ними любви интерпретируются всеми одинаково, то восприятие осени и зимы и входящих в них образов выявляют существенные различия в мировоззрении героев. Наиболее противоречивым мотивом является даже не осень, а зима. Наряду с осенними скрипками, она образует одну из самых широких ассоциативных парадигм. Однако даже те общие образы, с которыми связан мотив зимы у различных персонажей, нередко трактуются ими по-разному, а иногда – диаметрально противоположно. Зима ассоциируется со снегом (Верочка, Варвара Васильевна), инеем (авторская ремарка: «Деревья перед окнами в инее»), спокойствием (Варвара Васильевна, Дмитрий Иванович), мудростью (Дмитрий Иванович), старостью, концом (жизни. – И.С.) (Варвара Васильевна, Дмитрий Иванович), холодом (Верочка, Барановский), прогулками на санях (Вера), хорошей компанией и охотой на зайцев (Барановский) и, 237 наконец, с колыбельной песней земли (Верочка), с надгробным рыданием (Варвара Васильевна) или с безмолвием (Варвара Васильевна, Дмитрий Иванович). В приведенных ассоциативных рядах четко прослеживаются различия в мировосприятии героев. Так, Верочка употребляет слова зима, снег в прямом значении, как атрибуты объективной реальности. Поэтизируя это время года, она думает о захватывающей прогулке на санях, красивых зимних пейзажах, о снеге как о божьем благословении и о колыбельной песне земли. Дмитрий Иванович, в отличие от юной Веры связывающий зиму со старостью, готов к ее приближению. Он даже рад зиме, ждет ее наступления, так как для него она связана, прежде всего, с мудростью, спокойствием, красотой. Варвара вслед за героями обеих поэм не связывает зиму с объективной реальностью, с естественным явлением природы, а сразу же соотносит ее со своим возрастом (воспоминание о скрипках осени), со старением и смертью, надгробным рыданием, с молчанием в противовес музыке, жизни. Поэтому ее отношение к зиме – резко негативное. И если за определяющий фактор взять то, чтó герои подразумевают под понятиями снег, зима, то получится, что, по сути, они живут в разных мирах, соприкасающихся лишь отчасти. Живя каждый в своем мире, они, употребляя одни и те же слова, говорят на разных языках, и не всегда понимают, да и хотят понять, друг друга. Как видно на примере интерпретации зимы, Сургучев неоднократно применяет бодлеровский механизм «вымораживания» и «оттаивания» жизни. Из диалогов Варвары с членами ее семьи вытекает, что Вера и Дмитрий Иванович склонны к поэтизации всех времен года, отмеченной позитивной эмоциональной окраской. Они привносят жизнь в холод зимы, воспринимают ее и ее цвета как нечто теплое, позитивное, полное счастья и радости. Варвара же, напротив, не только акцентирует холод и безжизненность зимы, но и переносит те же характеристики на осень с ее желтыми и золотыми красками. Дыхание смерти, ощущаемое Варварой, обесценивает для нее и все, что было в прошлом, и даже настоящее, фактически превращая пору зрелости в ожидание смерти. Во всех трех рассматриваемых произведениях именно звуковое ощущение – стук дров у Бодлера и музыка у Верлена и Сургучева – становится, как уже отмечалось, катализатором появления негативных чувств и внедрения субъективного в картину мира. Сургучев идет дальше: как и во всем его творчестве, в «Осенних скрипках» музыка ассоциируется прежде всего с жизнью, любовью – потому она звучит только в начале пьесы (играет Вера, то есть, молодость, весна), и в ее середине. В первой сцене, слыша игру дочери, Варвара, для которой музыка и любовь неразрывно связаны, сознает, что доносящаяся издалека мелодия – «Осенняя песня» – глубоко символична, ведь, подобно 238 тому, как в ее финале угасает звук, для нее, подошедшей к порогу зрелости, угасает жизнь, уходит любовь. Музыка, а вместе с ней и любовь, исчезают из жизни Варвары, когда она в городском парке прощается с Барановским, отдавая его Вере. Именно в этот момент, согласно авторской ремарке, доносящаяся из сада мелодия стихает и на смену ей приходит шум трамвая, то есть повседневная будничная жизнь. В третий раз музыка играет в доме Лавровых не для Варвары, а для Веры, в честь ее помолвки с Барановским. То, что и эта музыка, и любовь, – не ее, чужие, доводит Варвару до обморока, то есть, теперь уже вальс не ассоциируется для нее с жизнью, как раньше: подобно бодлеровским цветам, музыка жизни, любви «вымораживается» и либо исчезает насовсем, либо превращается в музыку смерти. Е) Оппозиция агрессивной окружающей среды и пассивного лирического героя присутствует во всех произведениях, однако у Сургучева героиня превозмогает обстоятельства и находит в себе силы противостоять внешней среде, контролировать ситуацию. Лирические герои, созданные тремя авторами, одновременно и похожи, и различаются между собой. В обоих поэтических произведениях обращает на себя внимание контраст между агрессивностью окружающей среды и пассивностью лирического героя. В поэме Бодлера лиричесий герой не совершает ни одного активного действия, направленного на внешний мир, а лишь ожидает или испытывает на себе воздействие активной и агрессивной внешней среды: дрова падают и звенят, зима и сопряженные с ней чувства войдут в его сердце, удары тарана разрушают башню, с которой герой связывает свое сознание; его укачивают монотонные удары и, наконец, ждет алчная могила; во второй части герой также ждет неких действий от женщины, к которой обращается, а все свои действия он совершает лишь в мечтах. Но если в поэме Бодлера метаморфозы от жизни к смерти и обратно совершают цвета и звуки, а сам он предпочитает укрываться от гнетущей его реальности в других, воображаемых мирах, то у Верлена перемены происходят с самим героем, причем его жизненная динамика обратно пропорциональна аналогичной динамике внешнего мира. В первой строфе поэмы Верлена «оживают» скрипки, которые рыдают и тем самым ранят сердце героя. С этого момента он и окружающая его неодушевленная среда начинают меняться местами. Во второй строфе лирический герой еще ведет себя так, как это свойственно любому человеку в состоянии стресса: он задыхается, бледнеет, вспоминает прошлое, плачет; последнее его активное действие происходит в первой строке третьей строфы, когда он уходит. А затем с ним происходят трансформации, обратные метаморфозам скрипок: вдруг оживший, злой ветер уносит его, уподобляя опавшему листу, т.е. не просто 239 неодушевленному, а когда-то живому, но теперь отмершему (во французском языке этот образ вообще очень четкий – дословно: мертвому листу) предмету. Сургучев использует игру с агрессивностью / пассивностью окружающей среды и персонажей для углубления психологизма произведения. В пьесе, где, как уже было отмечено, автор и героиня не могут быть отождествлены, окружающая среда не является ни активной, ни агрессивной. Напротив, она задумана и изображена очень красивой и поэтичной, как в «Месяце в деревне» Тургенева. Это видно из реплик персонажей, и, главным образом, из авторских ремарок. Лишь Варвара воспринимает ее как резко негативную, мертвенную, агрессивную и гнетущую. Но не только свойства внешней среды отличают «Осенние скрипки» от произведений Бодлера и Верлена. Принципиально иной по сравнению с героями поэм предстает Варвара Васильевна. В ней нет пассивности лирических героев французских поэтов, и она не намеревается покоряться внешней силе, хотя и воспринимаемой ею, как агрессивной. Это проявляется не в том, что она пытается сопротивляться старению, а в ее отказе потерять человеческое достоинство, утратить собственную индивидуальность, позволить мраку поглотить ее. Она предпринимает активные, подчас болезненные для себя действия, преодолевает свою слабость с тем, чтобы удержаться в рамках своих жизненных ценностей, обеспечить счастье дочери и удержать мир в семье. Ж) Надтекстовый уровень реализации системы соответствий в пьесе «Осенние скрипки» заключается в согласованности музыкального сопровождения пьесы и разработки декораций с ее главной идеей. Глубина проработки музыкальной составляющей в «Осенних скрипках» заключается не столько в «привязке» каждого героя к определенному музыкальному инструменту, свойственной всей сургучевской прозе, но главным образом в выборе произведения, положенного в музыкальную основу пьесы. С «Осенней песней» Петра Чайковского пьесу связывают определенные параллели, более глубокие, чем это может показаться на первый взгляд. Указывая в начале пьесы, что пока еще невидимая зрителю Вера играет «Осеннюю песню», звуки которой доносятся в комнату, где разговаривают Варвара и Дмитрий Иванович, Сургучев не просто задает минорную тональность произведения, но напрямую обращается к сердцу каждого зрителя. На момент появления «Осенних скрипок» пьеса Чайковского, изданная в 1876 году и сразу полюбившаяся публике, уже была известна, – а сверстники Сургучева знали ее с самого детства, – и обладала для них значительной ассоциативной и эмоциональной силой. История создания “Осенней песни” такова, что она еще до обращения к ней Сургучевым, была соотнесена с произведением литера240 туры, причем это согласование было произведено самим ее автором. На протяжении 1876 года петербургский музыкальный журнал “Нувеллист” раз в месяц печатал заранее анонсированные им фортепианные пьесы, написанные П.И. Чайковским в основном для домашнего исполнения. В конце 1876 года все они были опубликованы отдельным изданием, и таким образом составили цикл “Времена года” ор. 37-bis. Еще при издании в “Нувеллисте” каждая из пьес имела название, соответствующее месяцу своей публикации. Будучи признанными знатоками и ценителями литературы, П.И. Чайковский и Н.М. Бернард снабдили каждую из пьес эпиграфом, взятым из произведений русских поэтов – П.А. Вяземского, В.А. Жуковского, А.В. Кольцова, А.Н. Майкова, Н.А. Некрасова, А.С. Пушкина, А.А. Фета. Названия пьес были определены издателем заранее, а идея с литературными эпиграфами (и иллюстрациями-медальонами, сопровождавшими пьесы при их публикации отдельным томом) пришла позже. “Осенняя песня” соответствует октябрю месяцу, а эпиграфом к ней стали следующие строки из стихотворения А.К. Толстого: Осень, осыпается весь наш бедный сад, Листья пожелтевшие по ветру летят... Продолжение стихотворения, широко известного российскому читателю (Лишь вдали красуются, там, на дне долин, / Кисти яркокрасные вянущих рябин... / Весело и горестно сердцу моему / Молча твои рученьки грею я и жму, / В очи тебе глядючи, молча слезы лью. / Не умею высказать, как тебя люблю!), соответствует минорному настроению «Осенней песни». Следует отметить, что это стихотворение, воссоздающее грустный и прозрачный, невесомый пейзаж, в котором словно отражаются чувства лирического героя, достаточно точно передает настроение музыкальной пьесы и тем самым усиливает ее смысловое наполнение. В «Осенней песне», ставшей содержательным центром всего цикла благодаря своему трагическому колориту, осень трактуется композитором как прекрасная, поэтичная пора, когда русская природа, одеваясь в роскошный золотой убор, зачаровывает людей. Но в то же время, осень, октябрь для Чайковского, очень любившего жизнь и с грустью прощавшегося с каждым прожитым днем, связаны прежде всего с неумолимо надвигающимся умиранием всего живого, отчего произведение приобретает столь явную минорную окраску. Пышущая красота осенней природы становится в сознании композитора хрупкой, легкой, нежной, то и дело замирающей в ожидании смерти, чье дыхание чувствуется в каждом кружащемся в воздухе листе, в каждом дуновении ветерка. Музыка Чайковского, очевидно звучавшая внутри Сургучева, во многом диктовала пьесу, навевая драматургу как некоторые образы (например, падающих, кружащихся листьев), но и само развитие драмы, согласованное с развитием музыкальной темы. В мелодии «Осен241 ней песни» преобладают вздохи, то есть, грустные интонации. В средней части возникает подъем (который можно отметить и в первых двух строках второй строфы у А. Толстого), робкое и трепетное воодушевление, связанное с проблеском надежды на возврат жизни, на возможность ее продолжения, на то, что смерть отступит. Однако третий раздел пьесы, повторяющий первый, вновь возвращает к изначальным вздохам, и ведет к неотвратимому и окончательному умиранию. Авторская пометка «morendo”, комментирующая заключительные фразы пьесы, отмечает замирание мелодии, а вместе с ней – замирание жизни, ее остановку, исчезновение всякой надежды на возрождение. Сознательно или нет, Сургучев согласует образ Варвары Васильевны с музыкой Чайковского. Связь между ними устанавливается с самого начала пьесы: напомним, что в первой сцене Варвара, услышав, как Вера в дальних комнатах играет музыку Чайковского, проводит параллели между ее символическим содержанием и, образно, – своей жизнью, приближающейся старостью – “осенью души человеческой”. Единственная, формальная, нестыковка в ассоциации Варвара – “Осенняя песня” Чайковского заключается в том, что женщина ассоциирует себя со скрипкой, а мелодия относится к циклу произведений для фортепиано. Однако минорность мелодии, ее точное соответствие настроению Варвары, соотнесенность героини с музыкой несомненны и позволяют не считать эту деталь сколько-нибудь значительной. Настроение Варвары на протяжении пьесы соответствует развитию музыкальной темы. Так, обе пьесы начинаются с грустного, подавленного настроения, и даже образы кружащихся в воздухе падающих листьев, возникающие при прослушивании мелодии, неоднократно, прямо или косвенно, появляются в тексте пьесы. Эмоциональный подъем, отмеченный в произведении Чайковского, отмечается у Сургучева, когда Варвара, радуясь счастью Веры, испытывает некоторое воодушевление, отчасти связанное также с ее воспоминаниями о собственной молодости, о счастливых днях. Однако, эти ее ощущения оказываются мимолетными, и после ссоры, происшедшей между ней и Верой во время бала, Варвара, подобно мелодии “Осенней песни”, вновь переходит в минорное настроение и медленно движется к полному эмоциональному замиранию. В этом смысле конец “Осенних скрипок” двойственен: с одной стороны, он окрашен мажорными тонами, ведь Варвара мирится с Верой, но с другой, и Сургучев прямо описывает это в авторской ремарке, героиня, попрощавшись с Верой, как бы умирает для себя, ее жизнь окончена. Пользуясь музыкальными терминами, она переходит в другой регистр. За окном метет зима (а зима, как уже было отмечено, напрямую ассоциируется со смертью), и ничто больше не увлекает ее. Не зря планы Дмитрия Ивановича поехать куда-нибудь в Италию, на юг, в лето, то есть, вернуться в молодость, не вызывают в ней никаких эмоций. Заморожен242 ная зимним холодом, жизнь Варвары, подобно музыке, замирает. Мажорные же тона она оставляет Вере, как воплощению новой, цветущей, радостной жизни, весны. Символически, Варвара отдала остатки своей угасающей жизни дочери, завещав ей все лучшее, что было у нее. Поэтому, как и музыка Чайковскго, грусть Варвары – светлая и легкая. Из всего цикла “Времена года”, признанного “лирико-пси­хо­ логической зарисовкой, в которой пейзаж и настроение человека слиты воедино” [9], с “Осенними скрипками” согласуется не только мелодия Октября. Примечательно, что все понятия, ассоциированные с названиями пьес “осеннего” ряда (“Охота”, сентябрь, “Осенняя песня”, октябрь и “На тройке”, ноябрь), так или иначе, упоминаются в тексте “Осенних скрипок”. В целом же следует отметить, что богатая палитра настроений, характеризующая цикл, перекликается с изменчивыми эмоциями героев пьесы. Думается, что выбор “Осенней песни” Чайковского был не случаен, и немало способствовал воплощению творческого замысла Сургучева благодаря искомому слиянию в ней эмоционального и пейзажного начал. Есть и еще один аспект надтекстуальных аспектов пьесы, прочнее вписывающий ее в систему соответствий – ее связь с живописным началом. Сургучев, в отличие от Бодлера, не был изначально вдохновлен каким-либо живописным произведением при создании пьесы, однако, несомненно, учитывал новые возможности театра в плане декораций, поэтому изначально заложил в ней массу деталей, направленных на усиление красоты пейзажа и тональности пьесы. Немирович-Данченко в полной мере реализовал авторский замысел драматурга: согласно тогдашней моде привлекать к разработке сценографии известных художников, декорации для постановки создал Кустодиев. В результате, литературное начало стало источником вдохновения для живописного: помимо самих декораций, по мотивам пьесы художником были написаны две картины – “В комнатах зимой” и “Сад над городом”, ныне хранящиеся в частных коллекциях. Проведенное исследование особенностей преломления поэтических традиций французского символизма в пьесе Сургучева, с учетом их функционирования на разных уровнях произведения, позволяет прийти к следующим выводам. Сургучев, вдохновленный поэтическими образами Верлена, построил поэтику своего драматического произведения, отталкиваясь от принципов системы соответствий Бодлера. Эта система реализовалась на разных уровнях: текстуальном и надтекстовом, отразилась на поэтике и тональности пьесы, оказала существенное влияние на персонажный сегмент произведения. В призме реализации системы соответствий по-новому выглядит музыкальная основа пьесы. Все рассмотренные особенности взаимодействия «Осенних скрипок» с произведениями мировой культуры позволяют 243 существенно расширить представления о творческой индивидуальности Сургучева, дополнив ее новыми оригинальными чертами. ––––––––––––––– 1. Фокин А.А. Пролегомены к пьесе И.Д. Сургучева «Реки вавилонские» // Вестник Ставропольского гос. ун-та. – 2006. – № 45. – С. 149–155. 2. Фокин А.А. И.Д. Сургучев: творческая биография писателя в свете художественной антропологии: Автореф. дисс… доктора филол. наук: 10.01.01 / Ставропольский государственный университет. – Ставрополь, 2008. – 48 с. 3. Roy C. Préface // Baudelaire. Oeuvres complètes. – P.: Editions Robert Laffont, 1980. – P. III–XX. 4. Rincé D., Lecherbonnier B. Baudelaire et la modernité // Littérature du XIX siècle: textes et documents. – P.: Nathan, 1986. – P. 377 – 406. 5. Rincé D., Lecherbonnier B. La constellation symboliste // Littérature du XIX siècle: textes et documents. – P.: Nathan, 1986. – P. 517–542. 6. Об интерпретации мотива «Осенней песни» Поля Верлена в «Осенних скрипках» Ильи Сургучева // Наукові записки ХНПУ. – 2004. – №4 (40). – Ч. 2. – С. 80–88. 7. От Бодлера до Сургучева // Сборник статей 11 международной конференции «Россия и Запад: Диалог культур». – Ч. 2: Москва: МГУ. –2006. – С. 206–217. 8. Leakey, F.W. Baudelaire: Les Fleurs du Mal; New York: Cambridge University Press, 1992. – 116 p. 9. Вайдман Е. Времена года: электронный ресурс. Режим доступа: http://www. tchaikov.ru/vremena.html РАССКАЗ БОРИСА ФИЛИППОВА «ПОДУШКА» (индивидуализация речевого стиля) Ханинова Р.М., Элиста По верному утверждению В. Синкевич, «тематика прозаических вещей Филиппова разнообразна, как необычна и его собственная биография. Детство писателя совпало с концом старого дореволюционного уклада жизни, отрочество – с началом революции, студенческие годы – с утверждением советской власти, зрелые годы проходили на фоне арестов, лагерей, Второй мировой войны, беженской жизни в Европе и, наконец, эмиграции. Каждое из этих событий отразилось в его прозе или поэзии» [1, с. 346]. Так, «разрушительную стихию революции и взбаламученную жизнь России в первые пореволюционные годы воспроизводят рассказы “Подушка”, “Монастырь”, “Святое Паозерье”, “В степи”» [2, с. 341–342]. Большая часть рассказов Филиппова написана от первого лица, где «я» рассказчика неоднородно. Это, согласно Бабичевой, во244 первых, рассказчик, полностью (и личностно, и биографически) равный самому писателю, чаще безымянный или тезка автора («Всплывшее в памяти. Главы из воспоминаний», некоторые рассказы, «Мимолетности», «Мысли нараспашку»). Во-вторых, близкий к первому варианту рассказчик-персонаж Андрей Алексеевич как прототип автора или рассказчики-персонажи с другими именами и, соответственно, с иной судьбой и личностной структурой, но подобные автору или в чем-либо отличные («Жарынь», «Ширма», «Некуда», «Заноза»). В-третьих, персонаж как приятель безымянного, равного автору рассказчика, – пожилого русского эмигранта в США (Иван Александрович в цикле рассказов «Пыльное солнце»). В-четвертых, тип персонажа-рассказчика, совершенно не похожего на автора, часто экзотическая личность или представитель специфической социальной группы, в ряде случаев в гендерном – женском – плане (рассказы «Паозер», «Мив», «Ведьма», «Веер нараспашку», «Магический кристалл» и др.). В-пятых, рассказчик как интервьюер или исповедник (рассказы «Отцы и дети», «Тогда», «Строитель», «Санта Кроче») [2, с. 342–346]. Немногие рассказы, написанные от третьего лица, делятся, по Бабичевой, на две неравные части. В основном это объективное изображение какого-либо характерного эпизода или целой тенденции советской жизни (повесть «Стена», рассказ «В степи» и др.) [2, с. 346]. Так, «в маленьком рассказе “В степи” (одном из двух с одинаковым названием) показано, как мучительно и опасно было передвигаться по железной дороге в России начала 1920-х гг. В таких объективных зарисовках особенно наглядно звучит мотив беспомощности человека перед системой, одиночества его в этом извращенном мире» [2, с. 347]. Среди подобных воспоминаний об участниках трагедии и кровавого фарса русской истории, по словам Филиппова, поневоле носящих отрывочный характер, но помогающих что-то понять, и рассказ «Подушка» (1951), внешне чуждый, как всегда у писателя, формальных изысков украшения, но по-своему глубокий в воссоздании и характера, и эпохи. Казалось бы, на первый взгляд, ничем не примечательный, бесхитростный рассказ о доносе в соответствующие советские органы и последующей экспроприации домашнего имущества. Тем не менее, это психологически драматический конфликт между общечеловеческим и социально-классовым, часто по-разному понимаемый русской литературой метрополии и диаспоры. Несмотря на то, что в экспозиции рассказа Ставрополь не назван, действие перенесено писателем в родные края (элементы географической и городской топонимики). «Лето. Зной расплавленным свинцом разливается по всему телу. <…> Солнце шпарит так, как только может оно жарить в пыльном фруктовом северокавказском городке» (курсив наш, кроме оговоренных случаев. – Р.Х.) [3, с. 14]. 245 Завязкой рассказа стало заявление Каржавина, рядового красноармейца, прикомандированного к политотделу, в Губчека. Несколько деталей с самого начала характеризуют героя, во-первых, временного в своем назначении (командировочный), во-вторых, не привычного к канцелярской работе («с трудом выводит кривые строчки заявления», «ползущие вверх и вниз строчки»), в-третьих, малообразованного и склонного к политико-идеологическим штампам. Немаловажный факт, что заявление пишется на обратной стороне плаката «Дым труб – дыхание Советской России». Это указывает на дефицит бумаги, а также на время события: «Но никакие фабрично-заводские трубы не дымят. 1920 год. Разгар “эпохи военного коммунизма”» [3, с. 14]. В повести А.Н. Толстого «Гадюка» (1928) эпизод, когда бывший конармеец Ольга Вячеславовна Зотова рассматривала во времена уже НЭПа на московской улице советские плакаты: «…лица, каких не бывает, развевающиеся знамена, стоэтажные дома, трубы, дымы, восходящие к пляшущим буквам: “индустриализация”…» [4, с. 190–191]. У Филиппова «заявление» героя передавало новые реалии. Согласно декрету СНК РСФСР от 16 апреля 1920 года о реквизициях и конфискациях у населения продовольствия, а также в случаях особо острой общественной нужды, хозяйственно-производственных предметов и вещей домашнего обихода, началось массовое насильственное изъятие имущества граждан. «”Настоящим проводится через поле вашего зрения <…> что старая буржуазная ведьма Аракелова, проживающая свое местожительство на Воронцовской улице, нынче Первого Мая 26, живет роскошно: освещается честным советским електричеством, питается по календарю, имеет 18 подушек, 2 самовара, гостей-родственников с контрреволюционными шопотами. Настоящего наше зоркое коммунистическое око выносить не может…” – И Каржавин просит Губернскую Чрезвычайную Комиссию по борьбе со спекуляцией, контрреволюцией и преступлениями по должности “обратить свое сугубое внимание на вышеперечисленную буржуйку в разрезе обыска, изъятия и ареста”» [3, с. 14–15]. Отношение заявителя к своему труду преисполнено «революционного» сознания, авторская ирония здесь очевидна. Вопреки зною («весь в испарине, отдуваясь»), персонаж «строчит <…> с наслаждением перечитывая <…> строчки», «заявление переписано, подписано, подано. Долг коммуниста и “мозолистых рук” исполнен исправно» [3, с. 14–15]. Особенно принципиально для Филиппова сочетание не сочетаемого в этом ряду. Так, с одной стороны, он определял долг коммуниста в контексте рассказа и в плане доносительно-клеветническом (поскольку, позже выяснилось, нет никакого буржуазного происхождения обвиняемой и контрреволюционного ее окружения), с другой, – полагал, что «мозолистым рукам» нашлось бы лучшее применение в 246 рабочем деле (Каржавин – городской), в этом писатель видел деструктивное влияние большевистской идеологии на простого человека. Теперь «с чистым сердцем можно идти домой, на квартиру Аракеловой, где помещается он (Каржавин. – Р.Х.) с политруком Павленко и замначем одного из политотделов Зайцевым» [3, с. 15]. Показательно и то, что позже политрук (в ответ на просьбу сомневающегося Каржавина отозвать заявление) реагировал на случившееся своеобразно, прагматично: «А ты, дурак, уже подал? Да, дурак! Ты бы со мной раньше посоветовался. Не надо все же гадить там, где сам живешь. <…> Хоть бы писал, когда мы на другую квартиру перебрались бы… Тоже, бдительность!» [3, с. 16]. В то же время понимание политруком создавшейся непростой ситуации очевидно: «А теперь – что будешь делать? Раз пошло в Чеку – они зубами схватятся за свое… Теперь накося, выкуси. Назад не попрешь… Слушай, Зайцев, как думаешь, – ничего не выйдет с возвратом его заявления? Вот дерьмо-то! <…> – Конечно, не вернешь… – пробурчал Зайцев. – Ну и гад! <…> Попытать разве?» [3, с. 16] Дальнейшее развитие событий в рассказе подтверждает знание политработниками функционирования механизма государственной машины и осуждение ими новоявленного сослуживца. Красноречив через день диалог между Зайцевым и знакомым уполномоченным ЧК: « – Слушай, Крумин, там мой дурак один – Каржавин – на хозяйку нашу заявление подал. Так это всё ерунда. Баба она старая и не вредная. Трудовая интеллигенция. – А восемнадцать подушек ей на что? Два самовара?! Разлагаешься и ты, брат, в мелкобуржуазном окружении… – Брось трепаться! Старуха – вдова учителя и не буржуйка. Отдай мне назад заявление… – Да ты что?! Спятил, что ли? Обалдел совсем?! – Говорю тебе по-свойски, Арвед: неплохая старуха. Услужи, замни это дело. А я тебе, в свою очередь, технического спиртяги припас. – Ладно, попробую. Только заявление, кажись, попало к Сережке Муромцеву, а он, брат, у нас теперь большая шишка и большая сволочь, между прочим…» [3, с. 16–17]. «Твердо-каменность» партийца Муромцева после примерно таких же уговоров проявилась в том, что тот согласился только на полумеру. «Аракелову не арестовывать, а лишь выселить из квартиры с конфискацией всего неправомерного нажитого – нетрудовые излишки! – ей принадлежавшего имущества, а квартиру со всем инвентарем и вещами взять под “оперативную явочную” отдела, им, Муромцевым, возглавляемого, с выселением работников Политотдела армии» [3, с. 17]. Мало того, «об этих последних завести дело, как о разло247 жившихся в бытовом отношении и в мелкобуржуазном окружении…» [3, с. 17]. По тем временам последствия для Павленко и Зайцева могли быть вполне предсказуемыми. Что касается определения «нетрудовые излишки», то, согласно Постановлению о порядке всеобщей трудовой повинности от 3 февраля 1920 года, Положению о принудительном привлечении лиц, не занятых общественно полезным трудом, от 7 апреля того же года, лицами, не занятыми общественно полезным трудом, считались, к примеру, живущие на нетрудовой доход, не имеющие определенных занятий, торговцы, нарушающие правила частной торговли. Аракелова, несмотря на свой пожилой возраст, могла быть привлечена к ответственности по перечисленным пунктам. Таким образом, Филиппов актуализировал в своем произведении и роль всемогущей организации в структуре госаппарата, и использование начальником служебного положения в личных целях (улучшение жилищно-бытовых условий ведомственного ему отдела) под видом усиления борьбы с «опасными элементами», в том числе бдительности в своих рядах. То, что Муромцевым определено как разложение в бытовом отношении и в мелкобуржуазном окружении, означало на самом деле добродушие квартирной хозяйки в отношении своих непрошеных постояльцев. «Радушная и гостеприимная, – прямо маркировал автор, – она по-матерински пригрела этого неуклюжего и неотесанного парня, такого одинокого и никому не нужного. Она старается всячески скрасить его неприютную жизнь, охотно чинит ему белье, штопает носки, убирает комнату, несет ему вкусный кусок, делится с ним своими старушечьими радостями» [3, с. 16]. Это подтверждал и Зайцев: «А старуха не вредная, угостит когда, комнату подчистит, на мою мать схожа…» [3, с. 16]. Имплицитность топоса «Ставрополь» передана писателем и в ракурсе давнего многонационального состава населения города. Варвара Тиграновна, «как и большинство армянок, любит вкусно и сладко поесть, и не жалеет на покупку снеди денег, продавая мужчины вещи, кое-что из мебели и платья» [3, с. 15–16]. Восточная черта ее проявилась в любви к подушкам, большое количество которых подведено властью под «мелкобуржуазный быт», равносильный контрреволюции и не совместимый с аскетизмом военного коммунизма. О том и размышления Каржавина: «А у нее не только два самовара, но вот и кровати с никелированными шишками… По всем статьям контра….» [3, с. 16]. Если принять во внимание членов семьи хозяйки – муж (покойный), жена и дочь, теперь вышедшая замуж в Краснодар, – несложный подсчет определял количество подушек на оставшиеся кровати. Кроме того, здесь соседствует и русская купеческомещанская традиция пирамиды подушек в доме как показатель достат248 ка и уюта (русская народная поговорка «Перины в рост, подушки до потолка»). К тому же, скорее всего, из этих подушек часть досталась трем постояльцам в качестве постельных принадлежностей. Древнерусское «кровать» в основе имеет греческое «краббатион» – ложе, предполагают народно-этимологическое сближение со старославянским «кров» [5, II, с. 379]. Металлическая кровать с никелированными шарами (дом в доме) в рассказе Филиппова была доказательством семейного благополучия учителя гимназии, утраченном в период социальных катаклизмов. «Когда старуху выбрасывали из насиженного угла, похудевший, с темными кругами под глазами Каржавин долго переминался с ноги на ногу» [3, с. 17]. Поскольку «кровать – символ пространства частной жизни – воплощает жизненный цикл человека» [6, c. 80], лишение вдовы дома, в том числе кровати – это вытеснение ее из жизни (ср. советское явление «уплотнение» жилплощади после революции). По тому же приказу Муромцева следовало: «…бойца Каржавина, за проявленную им бдительность, премировать одной из реквизированных у Аракеловой подушек…» [3, с. 17]. Вероятно, автору было известно, что, по Далю, одно из производных значения лексемы «подушка» – под-ухо. Отсюда и глагол «подушничать» – «наушничать, переносить», и существительное «подушник» – «наушник, перенощик» [7, III, с. 213]. Так реквизированный предмет, частично возвращенный доносчику премией, становился вещественным знаком неблаговидного поступка. Мог ли на ней спать теперь виновник беды, памятуя русскую поговорку «У него подушка под головой не вертится» (совесть покойна) [7, III, с. 213]? Видимо, нет, поскольку, «наконец, густо покраснев, протянул премиальную подушку ошалевшей от горя хозяйке: – Нате, Варвара Тиграновна! Пригодится… И отошел с чувством некоторого облегчения» [3, с. 17]. В начале же рассказа «круглая старушка-армянка, с добродушными лучиками морщинок, разбегающихся по всему широко улыбающемуся лицу», радостно приветствовала молодого постояльца, уважительно величая по имени-отчеству и приглашая к столу: «– А, это вы, Федор Петрович! Зайдите к нам – у нас сегодня окрошка с таранью – только что со льда – ведь жарища какая! Вареники с вишней и чудесный арбуз. Откушайте, пожалуйста, с нами!» [3, с. 15]. «Кулинарный антураж», говоря словами В.В. Похлебкина [8, с. 24], акцентирован писателем в опровержении доноса – небогатый по разносолам и недорогой обед в условиях гражданской войны и экономической разрухи: первое – на кисломолочной основе с привозной морской рыбой, второе – украинское блюдо с местными фруктами, на десерт – обычная в этих краях ягода. Все это также отвечало при249 вычному для юга России летнему рациону. На наш взгляд, интернациональность такой пищи в контексте произведения несет смысловую нагрузку с доминированием аксиологического аспекта – моральнонравственного климата эпохи. 30 апреля 1920 года СНК принял единую для всей Республики систему распределения питания среди трудового населения, установив выдачу продовольственного пайка определенным группам населения, в которую, конечно, не входила старая героиня рассказа Филиппова, распродававшая вещи из своего дома. Каржавин, по словам автора, (в ответ на приглашение) жмется и краснеет. Целая гамма противоречивых переживаний и желаний передана через его колебания и полагающиеся по церемониалу отказы: «Ему и неловко принять приглашение “старой буржуазной ведьмы”, не раз уже радушно угощавшей его, веснущатого тамбовца, и хочется побывать в уютной домашней обстановке, от которой уже отвык за два года красноармейских скитаний, и тянет на вкусную окрошку и арбуз…» [3, с. 15]. Ср. технический спирт для чекистов и полное отсутствие в этом плане описания какой-либо пищи у военных, находящихся на госдовольствии. Как известно, «еда у русского народа испокон веков считалась делом святым, сугубо домашним, не прилюдным» [8, с. 37]. Угощение у русского человека есть «овеществление любви», по П. Флоренскому, все делится поровну, – напоминает современный философ [9, с. 114]. Христианский аспект вкушения еды внятен для армянки, исповедующей христианство, о чем свидетельствует фраза в заявлении Каржавина («питается по календарю», т.е. по церковному установлению соблюдает посты). Именно после очередного угощения герою Филиппова особенно не по себе: а вдруг он не прав? «Вдруг не нужно было писать это заявление? Но ведь как же так? Ведь бдительность – первеющий долг каждого коммуниста… <…> А все-таки, может, он и неправ?» [3, с. 16]. Следовательно, роль кулинарного антуража в рассказе «Подушка» активизирована в антитезе старого и нового миров, в характеристике персонажей, выполняя сюжетообразующую функцию, ибо «вкушение –экзистенциально, обозначая присутствие человека» [9, с. 74]. Недаром частым гостем Аракеловой является также и учитель русской словесности: ее доброта бескорыстна. Коллизия между долгом и нравственностью разрешилась для коммуниста последующей попыткой отозвать заявление, но бумажный механизм был уже запущен на конвейер: постоянный мотив советской литературы в отношении бюрократической машины любого толка. Обращает на себя внимание «язык художественной прозы Б. Филиппова – полнокровный, красочный, гибкий, нередко приближающийся к интонации живой разговорной речи» [1, с. 346]. Особенно примечательна речь новоиспеченного политработника – письменная в заявлении, а также устная с неграмотными оборотами. «…нельзя ли 250 мое вчерашнее заявление назад завертать? Вроде, как бы сумлеваюсь – надо ли было просить и прочее… Надо ли было в разрезе обыска и ареста хозяйки...» [3, с. 16]. Считается, что важнейшим психологическим феноменом равно в фольклоре и литературе является идентификация дома с личностью либо репрезентация дома как личности (Й. ван Баак). Поэтому то, что становится псевдодомом для большевиков, конкретно для того же Каржавина (оторван от своего, не пристал к чужому), манифестирует, по Филиппову (самому оказавшемуся вне родины / дома), бездомность революции в оппозиции свой – чужой, ее разрушающую силу. С. Эйзенштейн описывал, как во время гражданской войны он однажды спал на зеркале в покинутой беженцами комнате: «…После занятия Двинска Красной Армией – не сохранилось кроватей. (Времянки – топчаны еще не готовы.) Но зато горделиво в пустой комнате стоит зеркальный шкаф» [цит. по: 6, с. 82]. Дом теперь, в подтексте Б. Филиппова, не «развернут» в мир, а «свернут» в человека, ибо внешний мир (в данном случае социальный макрокосм) представлял опасность для дома / семьи (микрокосм), в частности для обычной кровати. «В кровати – человек всегда наедине: с самим собой, с предметом любви, со своей смертью. Кровать ограждает от внешнего мира, и в этом она подобна дому, крову. Она укрывает», – подчеркивает современный философ [10, с. 162]. Постреволюционный быт со всеми его трудностями и материальными лишениями, а затем и НЭП сделали в литературе дискуссионной мишенью двуспальную кровать – атрибут мелкобуржуазной семьи и мещанства (В. Маяковский, Е. Замятин, Ф. Гладков, Ю. Олеша, В. Катаев, И. Ильф и Е. Петров), ультиматум в деле капитуляции старого мира объявили подушке [6; 12]. Тоталитарный режим определил, по С. Кржижановскому, подушку провокатором государственных снов, манипулирующим подсознанием масс. Психотерапевтическую, «успокоительную» функцию подушки как эманации материнской защиты, безопасности, семьи, родни, дома показал современный рассказ В.Г. Сорокина «Лошадиный суп». В двадцатые годы «кровать как место продолжения человеческого рода, т.е. символ социальной стабильности, сменилась передвижной кроватью нового советского человека, верящего в неизбежную гибель традиционной семьи в механизированном и стремительном современном быте. Культура в ее классическом понимании, передаваемая одним поколением другому, была уничтожена, и появился новый советский человек, который либо вообще не спит, либо спит согласно научным правилам восстановления организма» [6, с. 84]. Таким образом, поэтика вещи в окружении человека, по В.Н. Топорову, демонстрировала в авторской речи «Подушки» эти три круга 251 (одежда, интерьер, дом), родственные теперь Дантовым кругам русской истории прошедшего столетия. Восемнадцать подушек на душу революции вызывают по аналогии у современного читателя продырявленные чекистскими пулями подушки членов царской семьи во время расстрела ее в Ипатьевом доме Екатеринбурга. «Всплывшее в памяти», по определению Б.А. Филиппова, может проплыть мимо истории русской литературы ХХ века, если не пристанет к берегам нашего читательского внимания. И тогда «книга-беженка (в образной формулировке М.С. Соловьева), вернется в родной дом, из которого ее в силу разных причин, все более понятных сегодня, вынудили уйти. Мастерская индивидуализация речевых характеристик героев и авторской речи – залог успеха рассказа у современного читателя. ––––––––––––––– 1. Синкевич В. К 85-летию Бориса Филиппова: Сообщения и заметки // Новый журнал. – 1990. – № 180. – С. 343–347. 2. Бабичева М.Е. Писатели второй волны русской эмиграции: биобиблиографические очерки. – М.: Пашков Дом, 2005. 3. Филиппов Б. Всплывшее в памяти: Рассказы. Очерки. Воспоминания. = Looking back. – London, 1990. 4. Толстой А.Н. Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2001. 5. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. Т. 2 (Е – Муж) / Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. 2-е изд., стер.– М.: Прогресс, 1986. 6. Матич О. Суета вокруг кровати. Утопическая организация быта и русский авангард // Литературное обозрение. – 1991. – № 11. – С. 80–84. 7. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского словаря: В 4 т. Т. III.– М.: ГИИИНС, 1955. 8. Похлебкин В.В. Из истории русской кулинарной культуры. – М.: Изд-во Центрполиграф, 2002. 9. Костяев А.И. Вкусовые метафоры и образы в культуре. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. 10. Осиновская И.А. Ирония и эрос. Поэтика образного поля. – М.: Памятники исторической мысли; Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. К ВОПРОСУ О ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ Н.И. МАЗУРКЕВИЧА Лоткова О.А., Невинномысск Известно, что одним из компонентов творческой индивидуальности писателя является его биография. Об этом в свое время неоднократно писали и В. Бурсов, и М. Храпченко. Но за очень редким исключением биографии ставропольских писателей до сих 252 пор остаются не изученными, особенно тех авторов, которые входили в региональную литературу в 19 – начале 20 вв. Среди них и Николай Иванович Мазуркевич, интереснейшая для нашего региона личность, – поэт, писатель, редактор «Кавказского журнала», организатор кружка «Молодых авторов», а впоследствии – комитета кавказских писателей. В собственном сборнике «Ранние грезы» (Пятигорск, 1913) Мазуркевич поместил несколько отзывов о себе. Воспроизведем из них некоторые отрывки, чтобы представить литературный портрет автора глазами его современников: Сеев: «Н.И. Мазуркевич – молодой, только что начинающий поэт, почти мальчик, этим и объясняются встречающаяся неуверенность и шероховатость его некоторых стихотворений, и несколько наивное миросозерцание. В его поэзии чувствуется, прежде всего, восторженное преклонение перед природой, детски наивное и светло-радостное. Поэтому у него лучшими стихотворениями являются чисто лирические, как, например, «Шумит, журчит ручей», «Сонет», «В Кисловодске». Видимо автор весь во власти природы. Затем другой, занимающий львиную долю в сборнике, отдел посвящен личным переживаниям и преимущественно отношению автора к жизни. Есть несколько стихотворений пессимистического характера, но они заглушаются радостным гимном, чистым и бодрым, призывающим жить и бороться. «Томится грудь» полно безнадежности. Но «Не унывай», «Сердце надорвано» и многие др. уже призывают к борьбе, а «Ответ счастья» указывает на то, что автору не чужды стремления уйти от окружающей действительности и жить грезами...» [7, с. 2]. Старый Сокол: «Читая присланные мне произведения молодого поэта Н. Мазуркевича, я чувствую его искреннюю любовь к поэзии... Лирические стихотворения – лучший выразитель искренней любви... Он молод, полон стремлений к свету, хотя, очевидно, пережил много ненастных дней... От всей души желаю окрепнуть крыльям орленка» [7, с. 7]. М. Арцыбашев: «Первый залог успеха в искусстве – страстная любовь к нему. Если такая любовь есть, Вы, даже небольшого дарования, можете добиться многого, если не всего. 3 июня, 1913 г.» [7, с. 3]. В. Недешева: «...Я чувствую в его поэзии живую, горячую, глубокую душу. Несомненно, у него есть талант и если он его будет развивать, то в будущем от него можно ожидать многого. 13 июня, 1913 г.» [7, с. 3]. Альраунэ: «...Но надо уметь создать красоту грез! Мазуркевич умеет создать контуры далеких, прекрасных, как песня влюбленной русалки, манящих светлых грез... Разве эти контуры не прекрасны?..» [7, с. 8]. М. Доброродный в статье «Николай Иванович Мазуркевич», напечатанной в «Кавказском журнале» (1915, № 12) и посвященной 10253 летнему юбилею творческой деятельности поэта, писал: «... Как поэттеоретик он имеет особенность в своих стихах, чего бы они ни коснулись, они всему придают строгость, благородство и благоговейную торжественность. Кажется, каждая его строка может жить самостоятельно: так она прекрасна, закончена сама по себе. Стих Н.И. Мазуркевича певуч и музыкален» [3, с. 7]. Личность поэта, писателя, редактора Н.И. Мазуркевича заслуживает пристального внимания. Некоторые биографические сведения о нем мы находим в анкете [13], которую заполнял писатель, эмигрируя в Чехословакию в 1924 году. С ее помощью нетрудно установить год его рождения: если в 1924 году, согласно анкетным данным, ему был 31 год, значит, родился он в 1893 г., вероятнее всего, в Новороссийске, так как второй сборник «Прекрасное далеко» (Пятигорск, 1912 г.) он посвятил «родному городу Новороссийску» [8, с. 2]. По всей видимости, здесь же он провел свои детские годы. На это указывает строка «Детства бодрого мой край» из стихотворения «Новороссийск», в котором есть и упоминание о «школе нагорной». Можно предположить, что будущий литератор учился в ней. Имеющиеся у нас сведения позволяют считать, что и юностью своей Николай Иванович был связан с этим городом. Во «Вступлении» к сборнику «Ранние грезы» Мазуркевич признавался: «Мне было едва 14 лет, когда человеческие суждения уже начали затрагивать меня. Моя юность была несколько фантастична и честолюбива. В 16 лет я думал уже сделаться писателем, в то время меня опьяняла мысль творить справедливость пером и жажда писать во мне пробуждалась, как голод в проголодавшемся волке. Всей душою я полюбил поэзию...» [7, с. 9]. Мазуркевич начал заниматься творчеством в 12-летнем возрасте, его первые стихотворения «18 мая» и «Счастье» появились в «Новороссийской газете» 25 августа 1905 года. В 17 лет он был уже сотрудником ежедневной газеты «Черноморское побережье», издаваемом в Новороссийске редактором А.Ф. Филипповым, и уже через год, в 1911-м, когда ему было всего 18 лет, он стал издавать и редактировать журнал «По лазурным берегам» в Новороссийске, печатался также в «Кавказском крае» и «Ниве». Эти сведения подтверждаются анкетой автора. В Пятигорск Николай Иванович переехал, по всей видимости, в 1911 году. Так позволяют судить следующие факты: в 1912 г. на страницах журнала «Кавказские курорты», издававшемся в Пятигорске, появляется его стихотворение «Памяти М.Ю. Лермонтова», написанное 15 июля того же года. 1912 годом датируется и сборник его стихотворений «В сетях невроза», изданный в Пятигорске. За ним последовали «Прекрасное далеко» с приложением пьесы «Неврастеник. Под страхом смерти», которая ставилась на Кавминводах в 1916 году, «Принцесса памяти», «Ранние грезы», «Вперед, к жизни!», «Литературный 254 сборник новых рассказов». Ни одна из этих книг в ставропольских библиотеках и архивах не сохранилась, они имеются только в Российской государственной библиотеке. Отметим и следующее: в анкете, о которой мы упоминали выше, Николай Иванович называет себя автором и таких сборников, которых нам не удалось обнаружить даже в Москве: «Темная весна», «Голубые нити», «В сетях тьмы» (возможно: «В сетях невроза»), «Струны сердца!», сборник стихотворений в прозе «У моря», роман «Луиза». Помимо того в «Кавказском журнале» им было напечатано 11 публицистических статей, 26 стихотворений и один роман. В 1913 году в Пятигорске был образован литературный кружок «Молодые авторы». Своеобразный манифест этого кружка был опубликован в сборнике Н.И. Мазуркевича «Вперед, к жизни!». В нем говорилось: «Мы даем возможность печататься ... Присоединяйтесь к нам под общую защиту и силу!.. Контора и редакция в Пятигорске, Царская улица, дом Рахмалевича, телефон № 189» [9, с. 4]. Из этой же статьи мы узнаем, что кружок ставил себе целью издание еженедельного (!) «Кавказского журнала» и ежемесячные (!) выпуски сборников стихотворений и рассказов членов кружка. Уже в 1913 году под эгидой «Пятигорского издательства кружка «Молодых авторов» выходят два сборника Н.И. Мазуркевича: «Принцесса памяти» и «Ранние грезы», в следующем году в том же издательстве выходит новый сборник того же автора «Вперед, к жизни!». Примечательным для последнего сборника является то, что на его титульном листе обозначалась своеобразная серия: «Литературный ежемесячник издания Кавказского кружка «Молодых авторов». На первой же странице этого издания сообщалось, что готовятся к печати сборники стихотворений Екат. Вас. Кавериной, рассказы В. Давидовой и В. Антонова, печатается следующий пятый выпуск сборника «Вперед, к жизни» Н.И. Мазуркевича, принимаются рукописи для общего Литературного сборника «Молодых авторов». Названные выше издания в каталогах, репертуарах, библиографических словарях не котируются. Неизвестно, увидели они свет или нет. К 1916 году, вероятно, кружок перерос самого себя и на его базе был образован «Кавказский отдел Комитета писателей», подтверждение чему мы находим в издании Н. Пыхтеевой «На пороге жизни. Сборник избранных стихотворений и рассказов. Приложение к «Кавказскому журналу», состоявшемся в 1916 году в Пятигорске: издательство «Кавказский отдел Комитета писателей». Известны даже имена людей, входивших в этот «Комитет». Они приводятся в № 7–8 «Кавказского журнала» за 1916 год: «Н.А. Абрамов («Киль», студент), Ф.Брет Гарт, Н.П. Волков (генерал-лейтенант), Николай Вольный («Кин»), Г.И. Еджубов (студент), Изгнанник (псевдоним), И.С. Касмин (полковник), М. Красиловский (студент), К.Н Лебедев (студент), Н. Мефодиевский, 255 С.А. Микертумов, («Шарти», учитель), А.Ф. Мелик, В Мирков, Н.С. Пыхтеева, А.Ф. Полонская, У.М. Понятовская, А.С. Рябик (художник), Н. Рымский (студент), В.И. Сысоев (учитель), С. Сергеев, Мария Стальская, А.С. Смирнов (студент), Максим Терский, М.И. Териев (студент), С.Н. Уваров (художник-этнограф), А. Филиппов, Н.П. Черноглазов». В конце этого списка указывалось: «Продолжение следует», но его не последовало. Эту оговорку, вероятно, можно воспринимать как надежды редакции на расширение своего «штата» в будущем. «Кавказский журнал» (Отклики мировой войны)» выпускался в Пятигорске под редакцией Н.И. Мазуркевича с 1914 г. Время появления первого номера неизвестно, но на обложке журналов 1915 года указывается: «второй год издания» [4, с. 1]. Журнал начинался как художественно-литературный, а с седьмого номера 1915 года преобразовался в литературно-художественный и общественно-политический. Ежегодно выходило по 15 номеров, иногда два номера объединялись под одной обложкой, что было связано, скорей всего, с дефицитом бумаги. Подтверждением может служить небольшая заметка редактора, в которой он объясняет задержку очередного выпуска: «В виду военного времени, отсутствия бумаги и подвоза таковой, журнал вышел несвоевременно и в уменьшенном формате» [5, с. 16]. Редакция не имела материальной выгоды, назначая стоимость в 2 рубля, она хотела создать для читателей образцовый журнал на Кавказе, призывала «строителей» храма, под сводами которого будет процветать идейное содружество и творческие силы, присылать в редакцию рукописи произведений: «Будьте родителями «Кавказского журнала», пусть он будет Вашим детищем, не будьте строги к первоначальным его слабостям. Пока он еще ребенок, не так давно на свет родился. Бог даст, нашими общими усилиями мы дадим ему подрасти, воспитаем, вскормим его пищею наших духовных сил, и тогда, друзья-подписчики, вы сами увидите, какой он будет сильный, красивый, и сознание, что сделали хорошее дело для себя и наших детей, вполне вознаградит нас за все труды...» [10, с. 2]. Примечательно, что в «Кавказском журнале» были опубликованы произведений М. Горького: «Сказки» [1, с. 15], «Счастье» [2, с. 6] и «Сад пречистой девы» А.И. Куприна [6, с. 7]. Они значительно подняли престиж издания, но основная заслуга в формировании мнения читателей принадлежала местным авторам. В Пятигорске редактор «Кавказского журнала» был до 1918 года, всячески боролся за существование своего детища, но сохранить издание ему не удалось, журнал закрылся. В 1919–1920 годах Н.И. Мазуркевич работал в Тифлисе в еженедельных газетах, в том числе в «Кавказском слове». Здесь же он возобновил издание «Кавказского журнала», номера которого заполнял, очевидно, в основном собственными сочинениями, подписанными всевозможными псевдонимами: 256 Щ. Купер-Ник, Изгнанник, Н. Гонимый, К. Сонишвили, Случайный поэт, Н. Афонский Чижик, М-ч, Грузинский патриот и просто – М., и просто – Н. Из Тифлиса Н.И. Мазуркевич перебрался в Софию. Болгарский период скитаний Мазуркевича нельзя считать непродуктивным. Здесь выходят новые сборники его стихотворений: «Голубые нити» (двумя изданиями) и «В полусне» [11]. В 1924 году поэт перебирается в Чехословакию, с июня он жил в Праге на улице Махова. Сначала отдыхал и лечился, потом добивался создания нового журнала. В РГАЛИ хранится фирменный бланк, датированный 4.06.1924г., на котором Николай Иванович перечислил свои, относящиеся к тому времени регалии: «Член Международного комитета помощи пострадавшим от войны и русским детям при Лиге наций, председатель объединенного комитета писателей на Балканах и гл. редактор «Балканского журнала». Далее он написал мелким и неразборчивым почерком стихотворение «Вы говорите, чем помочь?», в котором прослеживается глубокое переживание автора утраты Родины, будущее ему видится в «кошмаре», «в думах, в пекле сомненья...». Здесь же написано еще одно небольшое стихотворение под названием «Снежинка»: Пала снежинка золотая На тротуар шумной столицы. Над нею закаркали птицы И ночь опустилась глухая... [14]. В каждой строчке этих незамысловатых виршей ощущается глубокая тоска и неподдельное разочарование автора. Он не создал семьи, вынужден был просить помощи в другой стране, жить без средств к существованию с больной матерью. В РГАЛИ сохранились и две открытки, которые Н.И. Мазуркевич отправлял в Россию из Чехословакии, они адресованы М.Л. Заблотскому. В первой, датированной 7.08.24 г. написано: «... Журнал будет, спешу поделиться этой радостью» [14], во второй, датированной 22.08.24 г.: «Я продал все бриллианты. Начну журнал после отдыха. Пособие необходимо» [14]. Однако основанный им иллюстрированный литературно-художественный и общественный «Русский журнал», как и многие эмигрантские издания того периода, вышел лишь одним номером [15]. Известно, что Мазуркевич за границей работал над антологией чешских поэтов, в 1925 году Пражское издательство С.Н. Уварова выпустило в свет его последний сборник стихотворений «Отыграла метель» [12]. Следы поэта теряются в солнечной Праге. Более ничего не известно о судьбе не получившего в свое время достаточного призна257 ния литератора и журналиста, который так любил Россию и так безгранично верил в ее будущее. В заключении следует отметить, что значительное место в истории развития и становления литературного процесса на Ставрополье, без сомнения, принадлежит «Кавказскому журналу», редактором которого был Н.И. Мазуркевич. Его заслуга также и в создании Кавказского литературного комитета писателей – прообраза современного Союза писателей Ставрополья. ––––––––––––––– 1. Горький М. Сказки // Кавказский журнал. – Пятигорск, 1915. – № 14– 15. 2. Горький М. Счастье // Кавказский журнал. – Пятигорск, 1916. – № 7–8. – май-июнь. 3. Доброродный М. Николай Иванович Мазуркевич // Кавказский журнал, 1915. – № 12. 4. Кавказский журнал (отклики мировой войны). – Пятигорск, 1915. – № 14–15. – ноябрь-декабрь. 5. Кавказский журнал. – Пятигорск, 1915. – № 12. – авг.-сент. 6. Куприн А. И. Сад пречистой Девы // Кавказский журнал. – Пятигорск, 1915. – № 15. 7. Мазуркевич Н.И. Ранние грезы. – Пятигорск, 1913. 8. Мазуркевич Н.И. Прекрасное далеко. – Пятигорск, 1912. 9. Мазуркевич Н. И. Вперед, к жизни! – Пятигорск, 1913. 10. Мазуркевич Н.И. От редакции «Кавказского журнала» обращение к подписчикам // Кавказский журнал. – Пятигорск, 1915. – № 10. – Май. 11. Мазуркевич Н.И. Голубые нити: Стихи. По случаю 10-летия лит. деятельности. 1912–1922 / Предисл. П. Кузьмина. – Плевен, 1922.; Он же. Голубые нити: Стихи. По случаю10-летия лит. деятельности. 1912– 1922 / предисл. А. М. Федорова. – София, 1922; Он же. В полусне: Стихи. – София: «Акция», 1923. 12. Мазуркевич Н.И. Отыграла метель: сборник одиннадцатый. Изд. С.Н. Уваров. – Прага, 1925. 13. РГАЛИ – Ф. 1568. – О. 1. – Ед. х. 10. – Л. 14-об. 14. РГАЛИ. Ф. 1568. – О. 1. – Ед. 244. 15. Русский журнал: иллюстрированный, литературно-художественный и общественный журнал. Гл. редактор, издатель и председатель ред. Комитета Н.И. Мазуркевич. – Прага, 1925. – № 1. 258 ИЗ ОПЫТА V. МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ ТЕКСТООБРАЗОВАНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ НОВЕЛЛЫ Г. ФОН КЛЕЙСТА «СВЯТАЯ ЦЕЦИЛИЯ, ИЛИ ВЛАСТЬ МУЗЫКИ. ЛЕГЕНДА» Серебряков А.А.,Ставрополь Академик В. В. Виноградов в качестве предмета филологических исследований неоднократно подчеркивал значимость изучения форм и механизмов языковой организации текста, подчеркивая, что «творчество писателя, его авторская личность, его герои и темы, идеи и образы воплощены в его языке и только в нем и через него могут быть постигнуты» [1, с. 6]. Исследуя художественное новаторство романтизма, А. В. Карельский подчеркнул принципиальный отказ романтиков от «готового слова» и, как следствие, утверждение радикального изменения «взаимоотношений между «творцом» и «публикой»: писатель освобождался от обязанности пользоваться каким-либо общепринятым языком, будь то язык эстетических законов или язык повседневного речевого общения, зато «публике» вменялось в обязанность знать сугубо единичный образный, символический язык данного единичного творца» [2, с. 224]. Для Ю. М. Лотмана представляется безусловным тот факт, что язык искусства «обязательно включает элементы рефлексии над собой, т. е. метаязыковые структуры» [4, с. 19]. К. Э. Штайн, отметив «изоморфность слова и произведения искусства», делает методологически важное заключение: «...и в произведении, и в слове как его первоэлементе заложены, как в генетическом коде человека, потенции к познанию бытия и самого процесса творчества, а также принципов их упорядочения, организации» [6, с. 33]. Предмет лингвопоэтического анализа в данной статье – специфика употребления языковых средств для репрезентации авторской картины мира, так как «всякий языковой знак есть акт интерпретации как соответствующих моментов мышления, так и соответствующих моментов действительности» [3, с. 397], а «сам текст имеет N-измерений, так как в конечном счете все уходит в толщу языка, который закрепляет структуры сознания» [6, с. 63]. Эмпирическим материалом является 259 вторая, более поздняя, редакция опубликованного прижизненно текста новеллы Г. фон Клейста «Святая Цецилия, или власть музыки. Легенда» (1810). В письме к Вильгельмине фон Ценге от 1 сентября 1800 года Клейст предлагает невесте стать его виртуальной попутчицей в путешествии в Вюрцбург: «Возьми в руки карту, чтобы ты мысленно могла следовать за другом». За две недели до этого Клейст, обращаясь к ней же, настойчиво требовал: «Возьми карту Германии и посмотри, где расположено то место, в котором я сейчас нахожусь» (16 августа). В отличие от первой публикации в «Берлинской вечерней газете» значительно измененная вторая редакция новеллы во втором томе называет уже пять географических мест: Wittenberg, Antwerpen, Aachen, Trier, Haag. Если последовать призывам Клейста и посмотреть по карте расположение этих мест (двучастное название новеллы снабжено дополнением: речь идет о легенде, для чего, наряду с историей о святой, вводятся разъяснения на картах), то без труда можно увидеть, что направление от Виттенберга до Антверпена образует продольную ось креста, а поперечную составляет линия от Гааги до Трира. Точка пересечения такого креста, если представить его лежащим на земле, приходится на место неподалеку от города Аахен. Этому символическому картографическому кресту в тексте новеллы соответствует целый ряд обозначений креста различного вида. Так, четверо братьев «связывают искусно и изящно крест из березовых сучьев» [5, с. 305] и начинают вести «жутко-колдовской монастырский образ жизни» [5, с. 307], состоящий в непрестанном поклонении стоящему на столе распятию; хозяин гостиницы «осеняет их знамением креста» [5, с. 306]; помещенные в дом для умалишенных, братья все время сидят «в длинных черных рясах вокруг стола, на котором стояло распятие» [5, с. 302], когда же их называли умалишенными, они отвечали, что «если бы славный город Аахен знал то, что знают они, то отложил бы свои дела в сторону и также преклонился бы перед распятием для воспевания Gloria» [5, с. 303] – «wenn die gute Stadt Aachen wuesste, was sie, so wuerde dieselbe ihre Geschaefte bei Seite legen, und sich gleichfalls, zur Absingung des gloria, um das Kruzifix des Herrn niederlassen» [8, с. 220]. Один из братьев, протестантский проповедник, который должен был подать знак о начале «иконоборческого погрома», при звуках божественной музыки «опускается со сложенными крестообразно (kreuzweis) на груди руками на колени» [5, с. 304]. В переносном смысле крест фигурирует и в описании поведения матери четырех братьев в келье игуменьи: «...stand, lebhaft erschuettert, die Frau auf, und stellte sich, von mancherlei Gedanken durchkreuzt, vor den Pult» (Выделено нами. – А.С.) [8, с. 226]; отметим, что в русском переводе данный лексический повтор не сохранен, и ключевое для текста Клейста понятие 260 «крест» в языке транслята уже не столь очевидно, ср.: «... женщина поднялась, в сильном возбуждении, и стала перед пультом, волнуемая разнообразными мыслями» (Выделено нами. – А.С.) [5, с. 309]. Лежащий (niederliegende) картографический крест и упоминающееся в тексте желаемое преклонение (Niederlassen) перед распятием целого города Аахен, а также совершаемое братом-проповедником преклонение эксплицируют совершенно определенное измерение пространства, которое во многом аналогично организации пространства в новелле «Локарнская нищенка»: в «Святой Цецилии» доминируют пространственные верх и низ и, соответственно, виды движения и пространственных перемещений именно между этими полюсами. Так, братья встречаются в Аахене, чтобы «получить наследство» – «Sie wollten daselbst eine Erbschaft erheben» [8, с. 216]; со времени попытки нападения на монастырь Св. Цецилии братья ведут малоподвижный образ жизни, «они лишь однажды в полуночный час подымаются со своих седалищ» [5, с. 303] – «dass sie sich bloss in der Stunde der Mitternacht einmal von ihren Sitzen erhoeben» (Kleist 1977, II: 220); мать и ее подруга могли заглянуть внутрь собора, только «с трудом поднявшись наверх» [5, с. 307] – «und konnten, wenn sie sich muehsam erhoben» [8, с. 225]. Настоятельница монастыря просила защиты у императорского офицера, «который сам был враг папства и, как таковой, по крайней мере тайно, был расположен к новому учению» [5, с. 299] – «der Offizier, der selbst ein Feind des Papsttums, und als solcher, wenigstens unter der Hand, der neuen Lehre zugetan war...» [8, с. 217]. К больной сестре Антонии аббатиса посылает вниз (herab), хотя в русском переводе это эксплицированное у Клейста морфологическими средствами направление движения не передано и перевод стилистически нейтрален: «послала... еще раз к сестре Антонии...» [5, с. 300]. Особенно наглядно представлено движение, ориентированное на вертикальную пространственную ось. «Многие сотни рабочих... повышали еще на добрую треть башни» [5, с. 308] – «noch um ein gutes Dritteil zu erhoehen»; грозовая туча «извергла свои громы над окрестностями Аахена и... опустилась к востоку» [5, с. 308] – «sich schon ueber der Gegend von Aachen ausgedonnert, ...missvergnuegt murmelnd in Osten herab» [8, с. 225]. «Женщины глядели вниз.., погруженные в разнообразные думы» («in mancherlei Gedanken vertieft»); «стоящая под порталом женщина», аббатиса посылает послушницу вниз (herab), мать понимается к настоятельнице наверх (herauf). В комнате игуменьи мать встала (stand auf) «и готова была провалиться сквозь землю» [5, с. 309] – «in die Erde zu sinken» [8, с. 226]. Принятый перевод «gloria in excelsis Deo» с латинского на немецкий «Ehre sei Gott in der Hoehe», по-русски «слава в вышних», снова эксплицирует это движение по вертикали и объясняет, почему Клейст ставит в центр внимания именно эту часть оратории, а не «salve regina». 261 С этой точки зрения становится понятным избирательно-направленное воздействие исполнения божественной мессы: наказаны должны быть не сообщники, а только четыре брата: они родом из Нидерландов, то есть Niederlanden (букв.: низкие, низменные земли); их мать названа в тексте «Niederlaenderin» («нидерландка») и «niederlaendische Frau» [8, с. 225] («нидерландская женщина»): во всех использованных Клейстом номинациях в тексте актуализирована сема «указание направления движения вниз» и, таким образом, интерпретирована означиваемая действительность. Более наглядно, чем в «Локарнской нищенке», представлены в данном тексте предметы – стулья и лестницы, связь которых с движением по вертикали для всех самоочевидна. Сестра Антония «появилась со стороны лестницы» [5, с. 300] – «von der Treppe her erschien» [8, с. 218]; «народ теснится ... по ступеням к зале» [5: 306], в которой братья ревели gloria in excelsis – «das Volk draengt sich ... ueber die Stiege dem Saale zu» [8, с. 223]; женщины именно «с лестницы обширного монастырского жилого здания глядели вниз на это двойное зрелище» – «die Frauen von der Treppe des weitlaeufigen kloesterlichen Wohngebaeudes herab ... dies doppelte Schauspiel betrachteten», а вслед за этим нидерландка «должна была подняться по лестнице» [5, с. 308] – «die Treppe hinaufsteigen musste». Здесь же она встречает сидящую в кресле аббатису («auf einem Sessel sitzen»), которая приказала «поставить гостье стул» – «einen Stuhl hinzusetzen» [8, с. 225], с которого гостья чуть позднее «поднялась в сильном возбуждении и стала перед пультом», а затем «снова опустилась на свой стул» [5, с. 309] – «wieder auf ihren Stuhl» [8, с. 227]. Торговец сукном Фейт Готгельф разговаривал с матерью четверых братьев «усадив ее на стул» – «auf einen Stuhl niedergenoetigt» [8, с. 221]. С боем полуночи братья «вдруг подымаются одновременным движением со своих мест» [5, с. 306] – «von ihren Sitzen empor» [8, с. 223]; аббатиса, сообщая о чудесном предотвращении казалось бы неминуемого иконоборческого погрома, не просто говорит, что «никто не ведает, кто, собственно, ... управлял тем произведением», но акцентирует внимание на внешне случайной, даже избыточной детали «спокойно сидя за органом» [5, с. 310] – «ruhig auf dem Sitz der Orgel dirigiert habe» [8, с. 227]. В целях акцентирования движения по вертикальной оси вниз Клейст использует в тексте новеллы этимологически родственные глаголы legen (класть) и liegen (лежать), обозначающие действие и результат этого действия, т. е. достигнутое состояние. Данные лексические единицы, их словоформы (Partizip I и II) и производные распределены по всему тексту, получая при этом ранг ключевых слов и, соответственно, ключевых понятий. Выделим их основные контексты. Так, аббатиса накануне торжественного богослужения узнала, что дирижировавшая монастырским хором монахиня больна и «лежит 262 в совершенно бессознательном состоянии» [5, с. 300] – «in gaenzlich bewusstlosem Zustande daniederliege» [8, с. 217]; в конце повествования аббатиса сообщила об очень странном обстоятельстве: «... сестра Антония ... больная, без сознания, совершенно не владея своими членами, лежала распростертая в углу своей монастырской кельи» [5, с. 310], а к вечеру того же дня больная скончалась от нервной горячки – «... die Kranke nicht noch am Abend desselben Tages, an dem Nervenfieber, an dem sie daniederlag, und welches frueherhin gar nicht lebensgefaehrlich schien, verschieden waеre» [8, с. 227]. Придаточное атрибутивное «an dem sie daniederlag» в данном контексте не несет никакой новой информации, оно лишь повторяет эксплицированное ранее содержание. На наш взгляд, функция этого придаточного чисто стилистическая: оно потребовалось автору, чтобы еще раз упомянуть ключевое для данного текста понятие liegen. Аналогичную функцию выполняют и те придаточные относительные, значение которых не входит в последующие тематические цепочки. В начале повествования сообщается, что монахини «монастыря Св. Цецилии, который в те времена находился у ворот этого (Аахен) города, готовились торжественно справлять праздник тела Христова» [5, с. 298] – «im Kloster der heiligen Caecilie, das damals vor den Toren dieser Stadt (Aachen) lag» [8, с. 216]; мать братьев перед возвращением в Гаагу оставила «маленький капитал, который она внесла в суд в пользу своих сыновей» [5, с. 311] – «eines kleinen Kapitals, das sie zum Besten ihrer armen Soehne bei den Gerichten niederlegte» [8, с. 228]; городской магистрат считает, что братья «страдали извращением религиозной идеи» [5, с. 302], однако у Клейста в оригинале «da dieselben jedoch an der Ausschweifung einer religioesen Idee krank lagen» [8, с. 219] снова использована словоформа lagen от глагольной лексемы liegen. Братья, в свою очередь, ссылаются на открывшееся только им одним сакральное знание и говорят, «что если бы славный город Aaхен знал то, что знают они, то отложил бы свои дела в сторону» [5, с. 303] – «wenn die gute Stadt Aachen wuesste, was sie, so wuerde dieselbe ihre Geschaefte bei Seite legen» [8, с. 220]. Приглашенная нидерландка видит, что перед аббатисой на пульте лежит (liegt) партитура мессы, но юная послушница все равно разъясняет, что, «когда в этой партитуре не нуждаются, она обычно находится в комнате досточтимейшей игуменьи» [5, с. 309] – «und es pflege seitdem, wenn man es nicht brauche, im Zimmer der hochwuerdigsten Frau zu liegen» [8, с. 226]. Аббатиса ссылается на свидетельское показание, которое «было записано... и помещено в архив» [5, с. 310] – «Durch ein Zeugnis, das... aufgenommen und im Archiv niedergelgt ward» [8, с. 227]. Приведенные контексты позволяют сделать вывод о неслучайности и даже очевидной закономерности употребления в тексте лексем, родственных или производных от legen и liegen: belegen – «Viele 263 hundert Arbeiter ... waren ... beschaeftigt, ... Daecher und Zinnen... mit starkem, hellen, im Strahl der Sonne glaenzigen Kupfer zu belegen» [8, с. 225]; торговец сукном Фейт Готгельф выясняет обстоятельства («Anliegen»), приведшие женщину в Аахен; Verlegenheit: «wegen Auffuehrung eines schicklichen Musikwerks, in der lebhaftesten Verlegenheit war» [8, с. 217]. В этом отношении чрезвычайно мотивирован и подзаголовок новеллы «Legende», выраженный именем существительным, по форме и фонемному составу совпадающим с причаcтием I очень часто употребляемого в тексте глагола legen; кроме того, этимологически существительное Legende – от употребляемого в церковном обиходе латинского legenda, legere, нем. lеsen – означало «чтение житий святых», а после 16-го века сформировалось дополнительное значение «sagenhafte unglaubliche Geschichte» [7, с. 394]. Построенный таким образом текст обнаруживает признаки самоорганизующейся художественной структуры, в которой ставшие интерпретацией языковые знаки функционируют по собственным законам, становясь «условно свободными, условно независимыми, условно самостоятельными» [3, с. 401]. Рассмотрение специфики языковых средств концептуализации семантического пространства в новелле «Святая Цецилия, или власть музыки. Легенда» позволяет сделать выводы о новаторском и виртуозном владении Клейстом, привлекающим гносеологические и аксиологические ресурсы внутренней формы слова с целью активизации диалога с адресатом, всем сложным репертуаром композиционно-речевых форм, проявляющемся в скрупулезной работе с языковыми и речевыми средствами различных уровней. ––––––––––––––– 1. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. – М., 1959. 2. Карельский А. Революция социальная и революция романтическая // Вопр. лит. – М., 1992. – N 2. – С. 187–226. 3. Лосев А.Ф. Специфика языкового знака в связи с пониманием языка как непосредственной действительности мысли // Известия АН СССР, т. 35, № 5. – 1976. – С. 395–407. 4. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. – М., 1996. 5. Немецкая романтическая повесть. В 2-х т. Т. 2 / Под общ. ред. Мих. Лифшица. – М. – Л., 1935. 6. Штайн К.Э. Гармония поэтического текста. Монография / Под ред. проф. В.В. Бабайцевой. – Ставрополь, 2006. 7. Duden. Etymologie. Herkunftswoerterbuch der deutschen Sprache. – Мannheim / Zuerich, 1963. 8. Kleist Heinrich von. Saemtliche Werke und Briefe. Herausgegeben von Helmut Sembdner. Sechste, ergaenzte und revidierte Aufl. Zwei Baende. Bd. 2. – Muenchen, 1977. 264 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В РОМАНАХ В. ВУЛФ Набокова Н.А., Ставрополь По наблюдениям ученых, модернизм есть особая психотехника, посредством которой «художник стремится преодолеть последствия омертвления культуры, замыкаясь в пределах своей профессии» [4, с. 267–283]. Главный смысл художественной деятельности он видит не в изменении окружающего мира во имя общественного идеала, а в изменении способа изображения или способа «видения» мира. «В недалёком будущем хорошо написанная морковь произведёт революцию», – говорит художник Клод в романе Э. Золя «Творчество». Так начинается серия формальных экспериментов, с помощью которых художник надеется подчинить своей воле поток уродливой «современности», а там, где это становится уже невозможным, примирение искусства с жизнью достигается отрицанием всех признаков реального бытия. А. Б. Генис полагает, что «модернизм стремился не расширить у зрителя представление об окружающей действительности, а воздействовать на его систему восприятия, на его ментальный аппарат, конструирующий картину мира» [2, с. 210]. Вот почему модернизм трудное искусство – оно рассчитано на активное сотворчество. «Творческие задачи, которые ставили перед собой художники, работавшие в рамках модернистской эстетики, определяли ... и стилевую организацию произведения. Наиболее характерной для модернизма 20-х годов ХХ в. стала орнаментальная проза, художественным принципом которой является организация прозаического текста по законам поэтической речи». В эпоху модернизма, в особенности в периоды сближения прозы и поэзии, поэзия могла заимствовать у прозы те или иные звуковые приемы. В то же время, влияние могло идти весьма продуктивно и в другую стороны: от поэзии к прозе. В самом деле, слово выступает уже не только как денотат, но и как самостоятельный элемент в художественной системе. Н. А. Кожевникова считает, что «речь в произведении «расстилается» над характерами и сюжетом» [5, с. 216]. Слово, попадая в поэтический контекст, резко расширяет свое семантическое поле, вступает в метафорические отношения с другими словами и актуализирует такие значения, которые не могут быть учтены ни одним словарем. Поэтический контекст, таким образом, проявляет смысловую глубину и неисчерпаемость слова, делает его насыщенным множеством угадываемых художником и читателем смыслов. Он подчинен не логике сюжета, но логике метафор, обнажающих в слове «бездну пространства» их смыслов, делая произведение неисчерпаемым [3, с. 231]. Исследователи выделяют целый ряд признаков, которые сближают модернистскую прозу с поэзией: это специфический характер 265 слова, которое стремится ко множественности смыслов и неисчерпаемости значения; это организация повествования, основанная не на сюжетных причинно-следственных связях, а на ритмических повторах, лейтмотивах образов, ассоциативных связях. Лейтмотивы берут на себя организующую функцию сюжета. Здесь, в орнаментальной прозе преобладает ориентация не на чужую речь, способную лишь замутнить метафору, а на сознание поэта. Предметом изображения является при этом не столько реальная действительность, сколько ее отражение в сознании автора или героя; изображается, как и в лирике, не столько реальность, сколько реакция личности на эту реальность. Именно такой – лирический – тип организации повествования использует В. Вулф, прежде всего в романе «Миссис Дэллоуэй», хотя для нее эта манера оказывается наиболее продуктивной на протяжении всей ее творческой жизни. Весь роман пронизывают необычные образы-символы, изображенные персонажами: образ Септимуса – страх смерти, который исчезает с его самоубийством; Питер Волш – неопределенность; Элизабет Дэллоуэй – молодость, ускользающая от мисс Килман, одинокой старой девы; приезжие из других городов и стран – тревога, беспокойство и т. д. Подобный принцип организации текста давал возможность В. Вулф сделать его максимально полифоничным: роман как бы впитывает в себя голоса и звуки Лондона. Текст романа организован не объективно, что характерно для эпического рода литературы, а сориентирован на воспринимающее сознание с его ассоциативностью, смещением временных пластов, свободным передвижением в пространстве, сменой ракурсов, сближением «далековатых явлений». Все сказанное заставляет нас констатировать, что повествование в «Миссис Дэллоуэй» тяготеет к лирическому типу изображения «с присущими способами увеличения внутреннего объема текста», так что внутри него «создаются условия художественной тесноты», подобные «тесноте стихотворного ряда», что связано «с использованием принципа повтора» [7, с. 81–82]. Организация текста по поэтическим принципам дает возможность В. Вулф не столько прямо и объективно изобразить действительность, сколько заострить и довести до предела крайние позиции в общественном сознании эпохи. В. Вулф стремилась реализовать на практике свои эстетические установки – передать средствами языка непрерывную мелодию внутренней жизни человека, «изменчивый и постоянный дух» его глубинного «я». Основной задачей своего искусства В. Вулф считала исследование психологической жизни человека, которую она изолировала от социальной среды. Окружающий мир интересовал ее лишь в той мере, в которой он отражался в сознании героев. Все романы В. Вулф – это своеобразное путешествие вглубь личности, которую читатель может принять или не принять, но которой не имеет право диктовать. Пи266 сательница упорно искала, будучи смелым экспериментатором, новые пути в искусстве, стремясь к предельной глубине психологического анализа, к выявлению безграничных глубин духовного начала в человеке. «Отсюда свободная форма диалогов и монологов, импрессионистическая манера описания обстановки и пейзажа, своеобразная композиция романов, в основе которой воспроизведение потока чувств, переживаний, эмоций героев, а не передача событий» [6, с. 363–364]. Споря с реалистами, которые шли за типичным или за общим, В. Вулф убеждала в необходимости обратить внимание на то, что принято считать малым, – на мир души. Все ее романы – об этой внутренней жизни, в которой она находит больше смысла, нежели в социальных процессах. Особенности внутреннего мира человека она объясняла извечными качествами натуры человека, но людям она симпатизировала. Она воспринимала жизнь как причудливое, но закономерное переплетение света и тьмы, добра и зла, красоты и безобразия, юности и старости, расцвета и увядания. Наибольшей известностью пользуются ее романы «Jacob’s Room» («Комната Джекоба», 1922), «Mrs. Dalloway» («Миссис Дэллоуэй», 1925), «To the Lighthouse» («К маяку», 1927), «The Waves» («Волны», 1931). Роман «Миссис Дэллоуэй» В. Вулф создавала с ориентацией на Джойса, увлеченная замыслом воспроизведения жизни в духе «Улисса». Сквозь призму одного дня передана жизнь героини и тех, чьи судьбы связаны с ней. В тексте романа фиксируются «моменты бытия», ограниченные временем (июньский день 1923 года) и пространством (район Уэст-Энда). В романе нет экспозиции, он начинается словами: «Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself» [8, с. 4] – «Миссис Дэллоуэй сказа­ла, что сама купит цветы» [1, с. 29]. С этого момента читателя увлекает поток времени, движение которого фиксируют удары часов Биг Бена, магазинных часов на Оксфорд-стрит, а затем вновь колокол на башне Биг Бен. Всплывают картины прошлого, возникая в воспоминаниях Клариссы. Они проносятся в пото­ке ее сознания, их контуры обозначаются в разговорах, реп­ликах. Временные пласты пересекаются, наплывают один на другой, в едином мгновении прошлое смыкается с настоящим. «Do you remember the lake?» she said in an abrupt voice, under the pressure of an emotion which caught her heart, made the muscles of her throat stiff, and contracted her lips in a spasm as she said «lake.» For she was a child, throwing bread to the ducks, between her parents, and at the same time a grown woman coming to her parents who stood by the lake, holding her life in her arms which, as she neared them, grew larger and larger in her arms, until it became a whole life, a complete life, which she put down by them and said, «This is what I have made of it! This!» And what had she made of it? What, indeed? sitting there sewing this morning with Peter» [8, с. 54]. – «А помнишь озеро?» – спрашивает Кларисса у друга 267 своей юности Питера Уолша, и голос у нее пресекся от чувства, из-за которого вдруг невпопад стукнуло сердце, перехватило горло и свело губы, когда она сказала «озеро». Ибо – сразу – она, девчонкой, бросала уткам хлебные крошки, стоя рядом с родителями, и взрослой женщиной шла к ним по берегу, шла и шла и несла на руках свою жизнь, и чем ближе к ним, эта жизнь разрасталась в руках, разбухала, пока не стала всей жизнью, и тогда она ее сложила к их ногам и сказала: «Вот что я из нее сделала, вот!» А что она сделала? В самом деле, что? Сидит и шьет сегодня рядом с Питером» [1, с. 113]. Параллельно с линией Клариссы развертывается трагиче­ская судьба травмированного войной Септимуса Смита, ко­торого миссис Дэллоуэй не знает, как и он ее, но жизни их протекают в одних пространственно-временных пределах, и в какое-то мгновение пути их пересекаются. В то самое время, когда Кларисса совершает свою утреннюю прогулку по Лон­дону, она проходит мимо спящего на скамье в парке Смита. Одно мгновение. Его роль и место во множестве других мгно­вений бытия постепенно выявляются. Септимус Смит вопло­щает в себе скрытую, никому неведомую сторону натуры Клариссы. Самоубийство Смита освобождает Клариссу от навязчивой мысли о смерти. Разрывается круг одиночества. В финале романа звучит надежда, рожденная встречей Кла­риссы и Питера после долгих лет разлуки. Ни в одном из предшествующих произведений В. Вулф сила эмоционального восприятия «переливов реальности» и мастер­ство их передачи не достигали таких высот, как в «Миссис Дэллоуэй», и нигде осуждение существующего не звучало столь определенно. В связи с этим романом она писала в своем дневнике: «Я хочу показать жизнь и смерть, разум и безумие, я хочу подвергнуть критике социальную систему и показать ее в действии... Я думаю, что это наиболее удовлетворительный из моих романов» [10, с. 210]. Подобная самооценка – большая редкость для Вулф. К своим созданиям она всегда была настроена критиче­ски, мучилась от неуверенности в своих силах, страдала от по­стоянно преследовавших ее мыслей о том, что желанные цели оказались недостигнутыми. Это не раз приводило к нервным срывам, а подчас и к глубокой депрессии. Можно утверждать, что каж­дое произведение В. Вулф – художественный эксперимент. В «текучей прозе» она передает движение времени, чувств, вос­приятие жизни в детстве, в юности, в старости; намечает кон­туры параллельно развивающихся судеб людей, в какой-то момент переплетающихся, а потом вновь расходящихся. Запе­чатлеть в одном мгновении суть бытия – вот что особенно важно для В. Вулф. Психологизм ее прозы изящен и тонок, его рисунок прихотлив. Писательницу интересует не развитие событий, а движение сознания, эмоций и чувств. Фиксация динамики их виртуозна, увлекательна в своем многообразии. «Она грезит, делает предположения, вызывает видения, 268 но она не создает фабулу и сюжет, и может ли она создавать характеры?» спрашивает современник и почитатель таланта В. Вулф писатель Э. М. Форстер. В своей лекции о В. Вулф он отмечал: «Она лю­била вбирать в себя краски, звуки, запахи, пропускала их через свое сознание, где они переплетались с ее мыслями и воспоминаниями, а затем снова извлекала их на свет, водя пером по бумаге... Так самозабвенно, как она, умели или хотя бы стремились писать немногие... Она полностью владела своим сложным мастерством» [4, с. 300]. В. Вулф умела писать серьезно и шутливо, она погружалась в творимую ею иллюзию, не выпуская ее структуру из-под своего контроля. ––––––––––––––– 1. Вулф В. Миссис Дэллоуэй. На маяк. Орландо. Волны. Флаш. Рассказы. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Эссе: [сб.]: пер. с англ. / В. Вулф. – М.: Пушкинская библиотека: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. Генис А.Б. «Полдень» Майкла Джойса // Иностранная литература. – М.: Просвещение, 1994. – № 4. Голубков М.М. Русская литература ХХ в.: После раскола: Учебное пособие для вузов / М. М. Голубков. – М.: Аспект Пресс, 2002. Зарубежная литература ХХ века: Учеб. для вузов / Л.Г. Андреев, А.В. Карельский, Н. С. Павлова и др.; Под ред. Л. Г. Андреева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа; 2003 Кожевникова Н. А. Типы повествования в русской литературе XIX–XX вв. – М.: Ин-т русского языка РАН, 1994. Михальская Н.П., Аникин Г.В. История английской литературы: учебник для гуманитарных факультетов вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. Скороспелова Е.Б. Русская советская проза 20–30-х годов: судьбы романа. – М.: «Просвещение», 1985. Woolf V. Mrs. Dalloway – Вулф В. Миссис Дэллоуэй. Роман. На англ. яз. – М.: Менеджер, 2002. The Diary of Virginia Woolf. Vol. 5. 1936–1941. Ed. Anne Olivier Bell. – London: Hogarth P., 1984. ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ К.М. ВИЛАНДА КАК ЭЛИТАРНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ Озола А.Н., Старополь В этом году в Германии отмечается 275 годовщина со дня рождения К.М. Виланда, общественно-литературная деятельность которого пришлась на вторую половину XVIII – начало XIX вв. Однако зрелое немецкое Просвещение чаще всего связывают с именами Лессинга, Гёте и Шиллера, оставляющих в тени своей славы 269 не менее интересных и творческих личностей. Будучи убежденным и деятельным просветителем, Виланд интегрировал в своем творчестве «основные социально-критические и эстетические тенденции эпохи, он рассматривался будущей критикой (начиная с А. Шлегеля) как самая «загадочная фигура», стоящая вне просветительской идеологии и ее национального духа» [8, с. 125]. Творческая многогранность Виланда не могла не вызвать весьма противоречивые отзывы о нём и его творчестве: Виланд и «немецкий Вольтер» («Voltaire allemande» − выражение Наполеона) [13, с. 7], и «ненемецкий, безнравственный, поверхностный писатель» (мнение «штюрмеров»). Отрицательное отношение к Виланду, сложившееся в литературной борьбе его времени, предопределило трактовку его творчества в немецком литературоведении XIX в. Авторы историколитературных трудов видят в Виланде последователя французского материализма и рационалистической поэзии, не свойственных национальному характеру немецкой культуры. В Германии сразу после смерти автора о его заслугах предпочли забыть, на него повесили ярлык «фривольного поэта», «подражателя». Из известных работ, посвященных К.М. Виланду, можно назвать только «Жизнь К.М. Виланда» Й.Г. Грубера (J.G. Gruber „C.M. Wielands Leben“, 1827). По мнению Ф. Зенгле, автора первых послевоенных работ о Виланде, к середине XX века его творчество «неизвестно не только широкой литературной общественности, но и большинству специалистов», исследования о нем представляют собой «груду обломков» [17, с. 9]. Начиная с 50-х гг. прошлого столетия ситуация резко меняется – Виланд вновь входит в моду, в многочисленных литературоведческих исследованиях западных ученых нередко можно увидеть слова „Ehrenrettung“ (реабилитация), „redivivus“ (воскрешение), „Revision“ (ревизия), „Rehabilitation“ (реабилитация), „Restauration“ (восстановление), „Wieland-Renaissance“ (Возрождение Виланда) и др. (см.: 12; 14; 18). На современном этапе талант и оригинальный писательский стиль Виланда не подвергаются сомнению как со стороны зарубежных, так и отечественных филологов. К.М. Виланд поднял немецкую литературу на значительную высоту – ему Германия обязана тем, что ее национальная литература вышла на европейскую арену. Подтверждение этому мы находим у А.А. Морозова: «Виланд придал немецкой литературе если не оригинальность, то гибкость и легкость. Он сделал ее занимательной и привлекательной для европейского читателя» [9, с. 17]. Цель данной статьи – рассмотреть доминанты идиостиля К.М. Виланда в литературном контексте эпохи Просвещения. Принимая во внимание тот факт, что в идиостиле отражены не просто психологические особенности личности писателя, но и его особенности, определяемые общественным сознанием писателя – политическим, этическим, национальным, религиозным, а также то, что идиостиль обусловлен и 270 специфическими стилистическими чертами данной исторической эпохи [3, с. 282], видится целесообразным кратко обозначить основные биографические данные К.М. Виланда, повлиявшие на становление его творчества. Кристоф (Христоф) Мартин Виланд (Christoph Martin Wieland) родился 5 сентября 1733 в семье пиетистов, где христианская религиозность и идеалы чувствительности сформировали его мышление. Интерес к античности и способность к языкам Виланд начал проявлять в достаточно юном возрасте: в 8 лет он в совершенстве владел латинским языком и мог свободно переводить Горация, Овидия, Цицерона, рано освоил древнееврейский, а греческий знал настолько хорошо, что мог читать Платона и Гомера в оригинале. После окончания религиозной школы Виланд поступил на юридический факультет Тюбингенского университета. Однако к теории права он не испытывал особого интереса, с гораздо бóльшим рвением штудируя философию Лейбница, Вольфа и Шефтсбери, филологию и историю, а также пробуя свои силы на литературном поприще. В 50-е годы под влиянием Клопштока и Бодмера Виланд пишет ряд произведений, проникнутых духом христианского благочестия и религиозного мистицизма. Сам автор назовет позже эти работы «незрелой пробой сил» [19]. В биберахский период (1760–1770 гг.) в творчестве Виланда и его духовном развитии начинается крутой перелом – он освобождается «от детской веры, от пиетизма отца, и раскрывает свою душу воззрениям разума» [16]. Виланд плодотворно работает и создает в жанре воспитательного романа «Историю Агатона» (1766–1767). Параллельно Виланд работает над рядом комических произведений: романом «Дон Сильвио» (1764), сборником «Комические рассказы» (1762–65), романами в стихах «Музарион» (1768) и «Идрис» (1768), которые создали ему славу непристойного эротического писателя. В годы усиления общественных противоречий в Германии – заката движения «Бури и натиска», появления Веймарского классицизма, а в конце 90-х гг., в пору формирования романтизма, Виланд не остался безучастным к новым явлениям немецкой литературы. Общение с Гёте, Мерком и Шиллером несомненно сказалось в усилении критицизма, проявившемся в «Истории абдеритов» (1774). В позднем творчестве Виланда ясно опреде­лились идеалистические попытки преодоления вульгарности мещанской идеологии средствами фантастики: возникает серия произведений со сказочной тематикой: «Зимняя сказка» (1776), «Шах Лоло» (1778) и др. и эпическая поэма «Оберон» (1780), в которой переплелись художественные черты «Сна в летнюю ночь» Шекспира, традиции средневекового рыцарского эпоса и античного романа эпохи эллинизма. После падения Священной Римской империи в 1806 г. Виланд почувствовал, что наступила новая эра, чуждая ему. Последние годы жизни он провел уединенно в неустанной писательской деятельности. К.М. Виланд скончался 20 января 1813 г. в Веймаре. 271 Кратко рассмотрев основные жизненные и творческие вехи К.М. Виланда, обратимся к рассмотрению стилевых доминант автора. Для выявления особенностей идиостиля К.М. Виланда нами были выбраны два его романа: «История Агатона» и «История Абдеритов». Считаем нужным обосновать выбор именно этих произведений. Поддерживая идею о необходимости устройства жизни по «античным» законам разума и природы, Виланд усердно работает над монументальным романом «История Агатона». Современник Виланда Лессинг отметил, что «это первый и единственный роман для мыслящего человека с классическим вкусом» [7, с. 259]. Если учесть, что Виланд работал над этим романом в течение 28 лет, то можно сказать, что в нем в полной мере отразилась индивидуальность, специфика философских и эстетических взглядов писателя. В 1762 г. в письме к Циммерману Виланд писал: «Несколько месяцев тому назад я начал писать роман, который назову «Историей Агатона». В нем я описываю самого себя, как воображаю себя в условиях, в которых жил Агатон, и делаю его в конце повествования счастливым так, как я желал бы этого для себя» [19]. С учетом исторических событий, изменчивости мировидения самого Виланда, развитие характера ведет сюжет в направлении, прямо противоположном тому, какое было запланировано. Начав с намерения изобразить становление героя как процесс очищения высоких этических идеалов от примеси серафических иллюзий, Виланд заканчивает тем, что ставит Агатона перед выбором между циническим гедонизмом и отречением от мира. «История абдеритов» выступает как одно из наиболее ярких произведений, благодаря которому К.М. Виланд получил пропуск в мировую литературу. Работа над романом ведется шесть лет. Замысел книги обдумывался долго и тщательно. По собственному свидетельству, Виланд намеревался создать «обобщающую картину глупостей и чудачеств всего рода человеческого, а в особенности нашей нации и нашего времени» [19]. В 1774 г. в «Немецком Меркурии» появились первые части книги: «Демокрит среди абдеритов» и «Гиппократ в Абдере». Успех был на­столько велик, что в том же году эта часть романа вышла отдельным изданием. В 1779 г. печатается вторая половина, а через год роман выходит полностью в переработанном и расширенном виде. Впоследствии «История Агатона» и «История абдеритов» неоднократно переиздавались и переводились на иностранные языки. По мнению Л.Г. Бабенко и Ю.В. Казарина, употребление языковых средств в тексте полностью зависит от воли автора, его индивидуального стиля. Это порождает и мотивирует пестроту, разнообразие и оригинальность употребления лексики и грамматических форм в произведениях писателей даже близких по времени, методу и литературнохудожественному направлению [1, с. 214]. Поэтому филологи стремятся выявить главные, доминирующие средства речевой структуры того 272 или иного произведения, формирующие уникальность его стилевой организации, т.к. «современный анализ языка художественной литературы характеризуется детерминантным подходом, поиском ведущих, доминантных речевых средств, позволяющих выделить главные, «ключевые» слова, семантические текстовые поля и т. п., организующие целостное единство художественного текста в его эстетическом восприятии» [10, с. 31]. На основании вышеизложенного мы считаем, что на базе «Истории Агатона» и «Истории абдеритов» могут быть выделены с опорой на классификацию А.Б. Есина [5, с. 350–363] стилевые доминанты К.М. Виланда. Анализируемые романы характеризует такая стилевая доминанта, как описательность (писатель преимущественно обращает внимание на статические моменты бытия) в сочетании с психологизмом (концентрация внимания писателя на внутреннем мире своих героев). В «Агатоне» преобладает психологизм несмотря на то, что автор пытается дать занимательное развитие сюжета (авантюрность романтических приключений, нравы пиратов, дворцовые интриги, внезапные раскрытия «тайн» и т. д.), яркие и контрастные эффекты сочетаются в романе с глубоким психологическим раскрытием образа. Психологизм романа обусловлен также его философской и идейно-нравственной проблематикой, которая предполагает поиск личностной истины, своего места в мире, оформляющегося в постоянном внутреннем напряжении и во взаимодействии с иными точками зрения на мир. В «Абдеритах» доминирует описательность, вызванная тем, что Виланд ставил своей задачей нарисовать не отдельные личности с их судьбами (как в «Агатоне»), а образ Германии (в оболочке г. Абдеры), ее историческую судьбу, национальный характер, особенности культурно-бытового уклада. В этом романе в значительно большей степени, чем в «Агатоне», нашли отражение тог­дашние общественнополитические условия немецкой действи­тельности, сложность идейных позиций самого писателя. Если прежде Виланд вставлял в текст большое количество пространных философских монологов, то теперь жизненность повествования достигается более конкретным раскрытием социальных контрастов, углублением психологической («портретной») характеристики многих героев, введе­нием массовых сцен. В этих двух произведениях большую роль играет прием контраста, который можно квалифицировать как стилевую доминанту Виланда. Отчетливое и резкое противопоставление, которое реализуется практически в каждом предложении «Истории Абдеритов», служит организующим принципом композиции изображаемого мира. Избрание местом действия Абдеры давало возможность по­строить роман как контраст между разумом и неразумием, как столкновение между Демокритом, олицетворяющим просвети­тельское представление о разумном человеке и разумном бытии, и абдеритянами – воплощением 273 неразумия (парность образов). Особенностью контраста в этом произведении является характер распределения отрицательного и положительного элементов: на первый план Виланд выдвигает отрицательные типы и характеры, давая положительное лишь как фон для них либо не давая вовсе. В «Агатоне» явление контраста также представлено: во-первых, сам герой контрастен – обладая красивой внешностью, он был эгоистом; во-вторых, в противостоянии природы и разума, материального и идеального (происходит раздвоение сюжета, когда с одной стороны, показано воздействие материальных факторов, реальной среды на жизнь действующих лиц, с другой стороны, главными и определяющими в развитии сюжета оказываются установления разума и природы [2, с. 70]); в-третьих, явление контрастности предстает в парности образов (например, возлюбленные Агатона служительница храма Психея – гетера Даная). При рассмотрении художественного мира А.Б. Есин с точки зрения художественной условности выделяет две противоположные стилевые доминанты – жизнеподобие и фантастику. Несмотря на то, что Виланд с большой точностью воссоздал античный мир, проработал детали, мы, тем не менее, склонны полагать, что данный мир достаточно условный. «Срок давности» событий позволил автору свободно оперировать материалом и под «маской античности» воспроизвести картины немецкой действительности, обозначив актуальные проблемы филистерской Германии. Фантастическая образность достигается приемами сатиры. «Именно сатира являлась той областью творчества, где Виланд не знал себе равных в немецкой литературе своего времени. Он был новатором, открывшим неизвестные ранее возможности сатирической прозы» [4, с. 222]. Сатира Виланда неоднородна: если в «Агатоне» это легкая ирония, то в «Абдеритах» это не только ирония, но и тонкий юмор, меткая сатира, гиперболический сарказм. Виланд умело пользовался такими сатирическими приемами, как употребление значащих имен (Гипербол, гимнософисты, Грилл), пародирование судебных разбирательств, философских диспутов, церковной службы. Наиболее значимой для рассматриваемой нами проблематики представляется следующая пара типологических характеристик, связанная с мерой использования средств языковой изобразительности и выразительности, тропов и фигур (сравнений, метафор, градаций, повторов), а также пассивной лексики и лексики ограниченной сферы употребления (архаизмов, неологизмов, варваризмов). Эти приемы могут составлять существенную особенность стилистики произведения, но могут и почти не использоваться. В последнем случае важно прямое значение слова, функция которого – точное обозначение деталей изображенного мира. Это свойство художественной речи Г.Н. Поспелов, следуя традиции, предложил называть номинативностъю. Противопо274 ложную тенденцию, связанную с косвенным или описательным обозначением предметов и созданием словесно-речевого образа, называют риторичностью [11, с. 56]. Однозначно можно констатировать, что стиль Виланда характеризуется высокой степенью риторичности. Его произведения насыщены большим количеством стилистических выразительных и изобразительных средств. Язык Виланда отличается подчеркнутой индивидуальностью: «он предпочитал длинные предложения и многочисленными гипотаксисами и вставками; при этом многословные вставки прерывают струящийся поток мыслей» [15, с. 311]. Философские отступления, целые куски прозы нередко оформляются Виландом как диалог (чере­дование вопросов и ответов), причем диалог часто дается как в драме – без вводящих реплик, основной текст сочетается с рассуждениями автора, с его обращениями к читателю как к собеседнику, с восклицаниями. Он дает читателю возможность самостоятельно прийти к выводу. Но даже здесь не предполагается однозначности как трактовок прочитанного, так и выводов, потому что автор во всем предпочитает остроумную критическую дискуссионность. Нередко Виланд противоречит собственному тексту в примечаниях, и «...его не смутило бы, если бы кто-нибудь написал новые примечания, содержащие опровержение его собственных. Это не следует ставить Виланду в упрек, ибо именно подобная нерешительность делает допустимой шутку, тогда как серьезный подход к вещам всегда грешит односторонностью...» [6, с. 22]. Стилевой доминантой является также и композиция произведения, которая может быть простой и сложной. Оба романа К.М. Виланда, по нашему мнению, имеют простую композицию. В области сюжета – это прямая хронологическая последовательность, в области повествования – единый повествовательный тип, в области хронотопа – единство времени и места. Фабула романа «История Абдеритов» построена таким образом, что она представляет собой систему концентрических кругов: от главы к главе примеры абдеритской глупости становятся все более грандиозными и зловещими. Сюжет романа «История Агатона» вполне традиционен для романа воспитания: в поисках возлюбленной Агатон попадает в различные города и страны, испытывая многочисленные превратности судьбы, приходит к гармонии с самим собой и окружающим миром. Таким образом, можно констатировать, что К.М. Виланд выступает как элитарная языковая личность эпохи Просвещения, процесс формирования мировоззрения и становления творческого метода которой был неоднозначным и исключительно сложным, что отразилось в его произведениях. Художественный мир Виланда, вобрав в себя переходные явления на немецкой литературной арене, был на границе классицизма и романтизма. По нашим наблюдениям, для художественного 275 пространства К.М. Виланда характерны такие стилевые доминанты, как описательность в сочетании с психологизмом, контрастность, фантастика, риторичность, простая композиция. Мы имеем достаточно веские основания считать Кристофа Мартина Виланда художником со своим индивидуальным творческим лицом. ––––––––––––––– 1. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика. – М.: Флинта: Наука, 2003. 2. Берковский Н.Я. Реализм буржуазного общества и вопросы истории литературы. – Западный сборник. Т.1. / Под ред. В.М. Жирмунского. – М., Л.: Изд-во АН СССР, 1937. – С. 53–86. 3. Брандес М.П. Стилистика текста. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Прогресс-Традиция; ИНФРА-М, 2004. 4. Данилевский Р.Ю. Виланд и его «История абдеритов» // К.М. Виланд. История Абдеритов. Серия: Литературные памятники. – М.: Наука, 1978. – С. 221–244. 5. Есин А.Б. Стиль //Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и термины. – М.: Высш. шк.; «Академия», 2000. – С. 350–363. 6. Жеребин А.И. Идейная и творческая эволюция К.М. Виланда (1760– 1770-е годы): Дисс. ... канд. филол. наук. – Ленинград, 1984. 7. Лессинг Г. Гамбургская драматургия. – М-Л.: Академия, 1936. 8. Мартынова О.С. История немецкой литературы: Средние века – эпоха Просвещения: Конспект-хрестоматия. – М.: Академия, 2004. 9. Морозов А.А. Немецкая волшебно-сатирическая сказка // Немецкие волшебно-сатирические сказки. Серия: Литературные памятники. – Л.: Наука, 1972. – С. 5–59. 10. Новиков Л.А. Противопоставление как прием // Филологический сборник. – М.: ИРЯ, 1995. – С. 326–335. 11. Поспелов Г.Н. Проблемы литературного стиля. – М.: Изд-во Моск. унта, 1970. 12. Beißner Friedrich. Versuch einer Rehabilitation Wielands // Welt und Worte, 1964. – S. 235–238. 13. Brender I. Christoph Martin Wieland in Selbstzeugnissen und Bilddokumen­ ten. – Reinbeck: Rowohlt, 1990. 14. Brückl Otto. Wielands «Erzählungen». Eine Formale Untersuchung im Hinblick auf die weltanschauliche und literarische Entwicklung der ersten Hälfe des 18. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Revision des Wieland-Bildes: Diss. zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philologie. – Tübingen, 1960. 15. Eggers H. Deutsche Sprachgeschichte. Band. 2. Das Frühneuhochdeutsche und das Neuhochdeutsche. – Hamburg: Rowohlt Taschenbuchverlag GmbH, 1986. – S. 244–349. 16. Kloeden W. C.M. Wieland. // Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. [Электронный ресурс: http://www.bautz.de/bbkl от 20.05.2007]. 17. Sengle F. Wieland. Leben und Wirken. – Stuttgart: Metzler, 1949. 18. Stockum Th. C. Wielands redivivus // Stockum Th.C. Von F. Nikolai bis Th. Mann. – Croningen: Wolters, 1962. – S. 57–75. 19. Wieland C.M. Werke in 36 Bden. Bd. 13. // Briefe [Электронный ресурс: http://www.gasl.org/as/referenz/alles.php от 15.06.2007]. 276 ТЕМАТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ БИБЛЕЙСКИХ РЕМИНИСЦЕНЦИЙ КАК ИНВЕНТИВНЫЙ СТЕРЖЕНЬ В «ДИСКУРСЕ УСПЕХА» Дж. МЭРФИ Ворожбитова А.А., Зуев М.Б., Сочи В практике речемыслительной деятельности проповедников ХХ в., исповедующих так называемое «новое мышление», доминирует «дискурс успеха». С научно-филологических позиций в исследуемых переводных текстах книг американского проповедника и литератора Дж. Мэрфи, данный тип дискурса тесно связан с категориями интертекстуальности и прецедентности. В системе координат лингвориторической парадигмы [1] инвентивный стержень дискурса как текстового пласта репрезентирует его идейно-тематическую составляющую. Соответственно изучение инвентивных функций библейских реминисценций в метафизическом дискурсе успеха предполагает их выявление и классификацию, а также описание с точки зрения их роли в речемыслительном процессе языковой личности, которая специфическим образом осуществляет инвенцию в ходе продуцирования данного типа дискурса. Интенциональный спектр Дж. Мэрфи как продуцента метафизического «дискурса успеха», обусловивший обилие библейских реминисценций, репрезентируют многочисленные высказывания самого автора, содержащие прагматические интерпретации значимости Книги книг. Для него Библия – это «мудрое пособие» по практической психологии, в котором даются ответы на все жизненно важные вопросы. Одним из основополагающих принципов Священного Писания, по Мэрфи, является возможность изменить судьбу к лучшему с помощью правильных мыслей, убеждений и настроений. Автор призывает взглянуть на Библию по-новому, и открыть в ней для себя прямую дорогу к изобилию – как духовному, так и материальному, почувствовать силу и уверенность, необходимые для того, чтобы достичь в жизни успеха и стать счастливым. Специфические установки и особенности восприятия канонического текста Библии литературной личностью, носителем ярко выраженного прагматизма, выражает мощное стремление именно в повседневной жизни извлечь максимальную практическую пользу из чтения Библии при решении различных проблем. В метафизическом дискурсе успеха Дж. Мэрфи мы разграничиваем интертекстуальность 1-го уровня, или первичную интертекстуальность, – введение в авторский текст собственно библейских реминисценций, и интертекстуальность 2-го уровня, или вторичную интертекстуальность. К последней мы относим микротексты авторских молитв, навеянных Библией и предлагаемых реципиенту для повторения 277 с целью исправления и позитивного моделирования своих жизненных событий, судьбы в целом. Далее представим тематическую типологию библейских реминисценций, которая базируется на данных основаниях. I. Интертекстуальность 1-го уровня (первичная интертекстуальность) как механизм создания инвентивной сетки дискурса Дж. Мэрфи. Основными инвентивными функциями библейских репрезентаций в русских переводах текстов Дж. Мэрфи, выявленными нами в результате анализа, являются следующие: 1. Формирование единого метафизического поля дискурсивных интерпретаций, в котором соседствуют и синергетически взаимодействуют библейские источники и авторские тексты Дж. Мэрфи, тяготеющие к осмыслению мироустройства с позиций религиозного практицизма. Например: отталкиваясь от библейского «Бог – это все, что есть. Один с Богом – это большинство. Если Бог за нас, кто против нас? [Послание к Римлянам, 8:31], автор книги «Вечные жизненные ценности» Дж. Мэрфи, пишет: «Я знаю и верю, что Бог – это Дух Живой Всемогущий, Вечно Живущий, Всемудрый, и нет такой силы, которая могла бы бросить вызов Богу. Я знаю и полностью принимаю то, что, когда мои мысли Божественны, сила Бога с моими мыслями о добром. Я знаю, что не могу получить то, чего не могу дать, и я направляю мысли, полные любви, мира, света и добра, на этого человека _______ (назовите имя) и на всех остальных. Мой иммунитет укрепляется, я получаю Божественную энергию, и меня всегда оберегает ореол Божественной Любви. Все оружие Бога направлено на мою защиту. Меня ведет и направляет Божественная Сила, и я ощущаю радость бытия. ...Полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек [Псалтирь, 15:11] [3]. Приведенный фрагмент свидетельствует о том, что Дж. Мэрфи, органично переплетая во вторичном тексте библейские репрезентации и их авторские интерпретации, создает особое метафизическое пространство, в котором духовные категории осмысляются с точки зрения житейской логики, благодаря чему формируется новое прочтение Библии, адекватное идеологии «американской мечты». 2. Использование библейских реминисценций в качестве исходного речемыслительного материала для продуцирования прагматического дискурса-интерпретанты. Библейские цитаты во вторичном тексте книг Дж. Мэрфи являются единицами, играющими роль исходного материала и требующими современной трактовки с учетом философии практицизма, доминирующей в этосе, логосе и пафосе данной литературной личности проповеднического типа. Цели такой интерпретации могут быть различны, в связи с чем характер дискурса-интерпретанты в аспекте инвентивной функции библейских реминисценций может быть классифицирован 278 как: а) незначительная коррекция традиционного понимания; б) существенное изменение толкования, в) метафоризация. Рассмотрим обозначенные типы интертекстуальных включений: 2.1. Незначительная коррекция традиционного, широко известного толкования библейских цитат: – «Владычество на раменах (плечах) Его», – говорится в Священном Писании. Это значит, что мы должны довериться Божественной Мудрости, позволить ей вести нас, направлять и сопровождать во всех путях [4]. – В подобных примерах интерпретация строится на уточнении значения известной цитаты: понимание «владычества» как силы Божественной Мудрости, которая при соблюдении определенных условий (желании довериться и положиться на нее) способно обеспечить успех в повседневной жизни. – Помните: «Каков внутри, таков и снаружи», «И на земле, как на небе» (Евангелие от Луки 11:2). Иными словами, вы увидите, как ваши убеждения претворяются в реальность, ибо человек, является «выражением собственных убеждений, их суммой»! [4]. – Традиционно сопоставляемые аспекты: «внутреннее/внешнее»; «небесное/земное», «духовное/материальное» – в текстах Дж. Мэрфи трансформируются в дихотомию «убеждение/реальность», что открывает возможность по-новому взглянуть на природу человека как моделирующего реальность своего мира, формирующего желаемую действительность существа, которое в этом плане создано «по образу и подобию Божию». 2.2. Существенное (вплоть до принципиального) изменение привычного толкования в силу того, что оно, будучи основано на буквальном понимании Библии, само является причиной многих человеческих заблуждений и даже болезней: Господь не питает нас, как птиц небесных, мы сами должны сознательно обратиться к Вечной Силе и Присутствию за помощью и содействием, чтобы они направили наши пути, дали жизненную силу и энергию, необходимые для удовлетворения нужд [4]. В данном контексте интерпретируемая БР получает непривычное звучание, так как цитата «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Евангелие от Матфея, 6: 26) претерпевает изменения, полностью трансформирующие первоначальный смысл: призыв нуждающегося в помощи к активным и сознательным собственным действиям. Цель подобного рода обращений к Божественному началу – удовлетворение повседневных человеческих нужд – сформулирована в духе прагматизма. Так, случай из жизни, описанный в газете, является поводом к анализу неверных толкований широко известной библейской цитаты. 279 Данный пример служит иллюстрацией того, к каким тяжелым последствиям может привести буквальное следование Библии, что выступает в качестве дополнительного аргумента в пользу пересмотра прежних истолкований. – И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей: И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей [Откровение Иоанна Богослова, 22:18–19]. Было бы абсолютной нелепостью воспринимать эти истины буквально. Вы, должно быть, уловили фигуральный, аллегорический и метафорический стиль этих стихов [3]. Интерпретации библейских реминисценций данной подгруппы направлены на предотвращение понимания смыслового поля Библии в его эксплицитном виде, причем поиск имплицитных смыслов обусловлен, по мнению продуцента дискурса, множеством негативных последствий буквального прочтения Священного Писания, о которых он информирует реципиента. Таким образом, текст Библии, с точки зрения Дж. Мэрфи, не только допускает комментарии, но и с необходимостью нуждается в них, при этом намеренное искажение цитат (например, Господь не питает нас, как птиц небесных), по замыслу продуцента, лишь способствует устранению трудностей интерпретации при погружении реципиентов в текст со сложной внутренней структурой. 2.3. Приведение известного толкования в соответствие с новыми жизненными условиями путем метафорической интерпретации: – «Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня нe всегда имеете» [Евангелие от Матфея 26:11)], – говорит Иисус. Hищие, которые всегда с нами, это внутреннее состояние неудовлетворенности и желание достичь большего. (Выделено авторами в качестве инициальной фразы метафорической интерпретации.) Ведь часто бывает так, что если в деньгах нет недостатка, то появляются проблемы со здоровьем или конфликты в семье, трудности и недоразумения с детьми. Такие моменты жизни, когда вы ощущаете дисгармонию, хотите что-то изменить или вам чего-то не хватает для полного счастья, делают вас беднее [4]. Итак, использование библейских реминисценций в качестве исходного материала для прагматической интерпретации является важной инвентивной функцией, обеспечивающей содержательную основу дискурса успеха. 3. Формирование с помощью библейских реминисценций речевого портрета автора текста – продуцента метафизического дискурса успеха. Исследование текстов Дж. Мэрфи позволило нам заключить, что многие библейские реминисценции образуют своеобразное темати280 ческое единство и извлекаются автором из текста-источника по мере необходимости. Поскольку интерес проповедника сконцентрирован прежде всего на прагматической мировоззренческой доминанте, он опирается в дискурсивно-текстообразующем процессе на те изречения, которые могут оказаться полезны. В таком случае можно говорить об особом типе интерпретации, при котором анализируется не весь первоначальный текст как единое произведение, а лишь его фрагменты, отобранные автором-интерпретатором как соответствующие его замыслу, коммуникативному намерению и обладающие, по его мнению, наивысшей степенью убедительности в избранном ключе. Данный тип интерпретации правомерно квалифицировать в качестве выборочной интерпретации которая предстает в качестве ведущей стратегии речемыслительной деятельности данной литературной личности проповеднического типа. В рамках данной общей стратегии нами были выделены следующие типы контекстов, репрезентирующие авторские тактики дискурсивного процесса Дж. Мэрфи: 3.1. Введение библейских реминисценций в качестве подтверждения справедливости авторских высказываний: – Было время, когда я преподавал химию в средней школе. Одни дети очень хотели изучать этот предмет; они усердно занимались, проводили какие-то самостоятельные исследования, были идеалистами и хотели сделать что-нибудь великое для человечества. Другие были неисправимыми лодырями; они не хотели учиться, проводили большую часть времени в бассейне и вообще проявляли полное равнодушие к моему предмету. Должен заметить, что с их коэффициентом умственных способностей было все в порядке, просто они делали неправильный выбор. ...Изберите себе ныне, кому служить... [Книга Иисуса Навина, 24:15] [3]. Обращаясь к библейским реминисценциям в приведенном выше фрагменте, Дж. Мэрфи решает конкретную коммуникативную задачу – дополнительно аргументировать свою позицию с помощью риторического приема «ссылки на авторитетный источник». В связи с этим выбор используемых в его вторичном тексте библейских цитат отнюдь не является случайным. Он отражает взгляды продуцента данного типа дискурса и усиливает именно те смысловые отрезки, которые являются для него принципиально важными в содержательном плане. Далее приводимый пример иллюстрирует приемы введения БР в качестве подтверждения справедливости авторских высказываний как бы «от противного» (что перекликается с пунктом 2.2 нашей классификации): Я согласен с теми людьми, которые считают, что их работа часто недооценивается. Но почему же так получается? Одной из причин является неправильное отношение к деньгам, а точнее, тайное или явное пренебрежение ими. Многие считают деньги «презренным ме281 таллом» или уверены, что «корень всех зол есть сребролюбие» [1-е Тимофею 6:10]. Иногда в подсознание закрадываются мысли, что бедность все-таки есть добродетель, которые также становятся камнем преткновения на пути к процветанию. Такая неправильная установка может быть навязана человеку с детства, основываться на предрассудках или неправильном понимании Священного Писания [4]. Появление библейской цитаты в данном контексте легко прогнозируемо, так как само название книги, – «Как привлекать деньги» – воспринимается как провокационное по отношению к тексту-источнику. Потенциальному реципиенту, безусловно, знакомы библейская трактовка темы денег, богатства («Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко...» и т. п.) и те цитаты, которые приводит Дж. Мэрфи, поэтому вторичный текст, строящийся с учетом наличия этого знания, отличается полемичностью. Однако спор ведется не по поводу смысла самой библейской реминисценции, а вокруг ее традиционных интерпретаций, укорененных в массовом сознании. 3.2. Введение библейских реминисценций как дополнительного аргумента при разъяснении причин неудач, болезней. Автор, выступающий в роли наставника, использует слова Священного Писания как аргумент для утверждения: причина страданий заключается в страхе перед ними. Страх, ставший причиной несчастья, описан в Библии в Книге Иова. История многострадального Иова напоминает о необходимости терпения, смирения даже в том случае, когда мы не можем объяснить причину несчастий. Дж. Мэрфи приводит цитату (БР) в качестве доказательства справедливости своей трактовки. 3.3. Введение библейских реминисценций с целью аргументирование сообщаемых истин, следование которым уже привело к позитивным результатам в обыденной жизни конкретных людей. Такими результатами являются, например, достижение материального благополучия, восстановление физических сил; обретение душевного комфорта вследствие изменения мировоззрения, жизненных установок. Примеры: Как-то я познакомился с человеком, который потерял все сбережения и дом во время кризиса 1929 года. Он подошел ко мне после лекции, которую я читал в одном из отелей Нью-Йорка, рассказал о себе и в конце добавил: «За четыре года я заработал миллион долларов и все потерял во время кризиса, но я могу наверстать упущенное. Деньги – это только символ богатства. Вот увидите, скоро они сами прилетят ко мне в руки, как пчелы на мед». На протяжении нескольких последующих лет я поддерживал связь с этим человеком, чтобы понять, в чем же секрет его твердой уверенности в успехе. Вы удивитесь, но правило, которое он вывел, старо, как мир, а точнее, как Священное Писание, и звучит так: «Пре282 вратите воду в вино!» Когда он прочитал Евангелие от Иоанна, то сразу понял, что нашел ответ на все вопросы: как стать здоровым, счастливым, богатым, найти мир и душевное спокойствие [4]. Это «чудо «превращения воды в вино», описанное в Евангелии от Иоанна, Дж. Мэрфи интерпретирует как исполнение всех желаний, осуществление планов и задумок. Подробно анализируя фрагмент о Кане Галилейской, открывающий повествование о чудесах Иисуса, проповедник призывает: «Выберите счастье, здоровье, любовь, богатство и представьте себе, что все это стало реальностью». «Превратить воду в вино», по Дж. Мэрфи, – это значит изменить жизнь, заставить сознание направить энергию всех мыслей о бедности на осуществление мечты об успехе и богатстве, освободить от состояния бедности и нужды и культивировать готовность принять богатство и изобилие. Внутренняя неудовлетворенность заставляет нас достигать новых высот, а не сидеть сложа руки. Многие знаменитые изобретатели, исследователи и ученые хотели что-то изменить, облегчить жизнь людям или найти новое решение повседневных проблем. Им удалось найти ответы на вопросы, когда они обратились к Божественному Присутствию, которое внутри, нашли в себе бесценную жемчужину знания. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня» [Псалом 33:5] [4]. – Обращаясь к Псалмам Давида, Дж. Мэрфи цитирует фрагмент, в котором говорится о Божественном величии, способном оценить веру и послушание. Далее рассмотрим примеры контекстов, демонстрирующих интертекстуальность иного рода, собственно авторскую – включение в основной текст авторских молитв самого Дж. Мэрфи. II.Интертекстуальность 2-го уровня (вторичная интертекстуальность) как механизм создания инвентивной сетки дискурса Дж. Мэрфи. Микротексты навеянных Библией авторских молитв, выступают в дискурсе Дж. Мэрфи специфическими интертекстуальными включениями, которые вводятся двумя основными способами: 1) Авторские молитвы непосредственно предлагаются реципиенту для введения в свое ментальное пространство и ежедневного применения путем повторений; 2) Авторские молитвы вводятся в основной текст в составе иллюстраций, приводимых житейских примеров – как эффективные речемыслительные конструкты для самовнушения, предложенные автором ранее в тех или иных ситуациях различным людям, которые успешно применили их на практике, и на этом основании рекомендуемые читателям данных книг. Авторские молитвы Дж. Мэрфи можно классифицировать в соот283 ветствии с тем, какова в каждом конкретном случае целевая установка обращения к Богу (Всемогущему, Бесконечному Интеллекту, Божественному Присутствию, Закону, Порядку и т. д.). В связи с этим нами выявлены следующие типы данного вида интертекста: 1. Авторские молитвы, направленные на достижение материального благополучия: – Перед рождественскими каникулами я консультировал одну девушку, которая уже заканчивала третий курс колледжа, но не могла больше там учиться, потому что ее отец лишился руководящей должности и теперь не мог позволить себе оплатить учебу дочери. Девушка последовала моему совету и стала часто молиться, утверждая: «Бог открывает мне возможность закончить четвертый курс в колледже, согласно Божественному Закону и Порядку». Она повторяла молитву вновь и вновь, осознавая, что запечатлевает в своем подсознательном разуме эту просьбу благодаря вере и ожиданию наилучшего. – Спустя несколько дней она успокоилась и обрела душевное равновесие. В канун Рождества ее бабушка, которая прежде никогда не делала внучке никаких подарков, неожиданно преподнесла ей чек на три тысячи долларов, добавив при этом, что та всегда может рассчитывать на финансовую помощь с ее стороны. Вот так девушка получила ответ, откуда никак не ожидала. Просто она поверила, что это произойдет, и подсознание ответило ей [3]. Данная авторская молитва является типичной для текстов Дж. Мэрфи, поскольку носит сугубо прагматический характер с учетом описываемой ситуации. 2. Авторские молитвы, направленные на восстановление физических сил, обретение здоровья: – У меня была назначена встреча с одной из его прихожанок, которая рассказала, что на протяжении многих лет страдала эмфиземой легких – как она считала, из-за курения. Я дал ей одну очень старую молитву: «Я вдыхаю мир Бога и Любовь Бога. Дыхание Всемогущего дает мне жизнь, мир и гармонию». А недавно я получил от нее письмо, где она сообщает, что произносила эту молитву каждый вечер перед сном в течение получаса. Она делала это медленно, спокойно, с глубоким чувством, и вскоре последовало полное исцеление. Этим женщина доказала, что является не рабой своего физического состояния, а свободно рожденным духом, триумфально проходящим через нее в соответствии с собственными желаниями [3]. Смешение в молитве двух семантических пластов: прямого и переносного (болезнь органов дыхания и метафорически наполненная вербализация процесса дыхания («вдыхать мир Бога», «дыхание Всемогущего») не только сближает с ситуацией, но и актуализирует скрытые смыслы. Смешение прямого и переносного семантиче284 ских пластов направлено на усиление прагматического воздействия. В предложенном для регулярного воспроизведения тексте обыгрываются имеющаяся ситуация и желаемый результат, тем самым актуализируется подсознательное стремление реципиента к выздоровлению. Специфика такой авторский молитвы на инвентивном уровне – именно в предельном сближении с реальной ситуацией, в желании назвать все вещи своими именами, максимально конкретизировать их. Отсюда в тексте повторяются лексемы, конкретизирующие физиологические процессы – «вдыхать», «дыхание», а не просто используется абстрактная установка «Я хочу выздороветь». – Несколько лет тому назад я навестил одного больного человека у него дома...Он хулил Бога и злился из-за того, что заболел, потерял деньги и работу. Он был раздражительным, капризным, придирчивым и заявлял, что отречется от своей веры, так как Бог «играет с ним не по правилам»... Я предложил ему попробовать изменить линию поведения: благодарить врача и сиделку, которая приходила ухаживать за ним, следовать их указаниям и благословлять их, а затем простить себя за то, что взлелеял в своем разуме негативные мысли. Далее я предложил, чтобы он почаще выражал признательности Господу такими словами: «Отче, благодарю Тебя за чудесное исцеление, которое происходит во мне. Я знаю, что Божественное Присутствие может исцелить меня». Больной последовал этому совету и вскоре заметил большие перемены. Он понял, что, кроме себя самого, ему некого винить. В результате через несколько недель он поправился. Когда он исцелил свой разум, исцелилось и его тело [3]. Цель данной благодарственной молитвы заключается в вербальном моделировании желаемой реальности в ментальном пространстве – в создании словесного фона, предвосхищающего результат и исполняющего роль некоего материально выраженного позитивного настроя по отношению к обстоятельствам, складывающимся определенным образом и ранее воспринимавшимися негативно. 3. Авторские молитвы, направленные на обретение душевного комфорта вследствие изменения мировоззрения, жизненных установок: – Одна дама пожаловалась мне, что она несчастлива, разочарована, прошла через три бракоразводных процесса, что сейчас ей пятьдесят, она написала много статей и ее выступления пользовались успехом в женских клубах, но ничто из написанного ею никогда не было опубликовано. В заключение она добавила: «Возможно, меня преследует какой-то злой рок». Я сказал, что ей необходимо покончить с этим патологическим страхом перед злыми Силами, ополчившимися против нее, и вступить в жизнь, где господствует все доброе и реализуется желаемое. Все, что 285 ей нужно сделать для этого, – направить свой взор нa то, что хорошо, что конструктивно, гармонично, игнорируя всe остальное. Согласно моему совету, женщина в течение месяца проводила один эксперимент и по истечении этого времени должна была сообщить о результатах. Она намеренно переключила внимание на то, что желала видеть в своей жизни, утверждая: «Бесконечный Интеллект открывает мне путь, которым могут быть приняты мои статьи. Я вступаю в счастливый брак, я невероятно активна и получаю Божественное Возмещение. У меня необычно высокий доход, постоянный и честно заработанный. Я отдаю свои таланты человечеству. Меня ценят, я востребована и нужна людям. Это поистине прекрасно!» Она постоянно повторяла эти великие истины, сконцентрировав все свое внимание на конструктивной стороне жизни. И еще до окончания месяца сообщила, что, подобно манне небесной, к ней пришло признание. Ее пригласили работать в одно издательство, где вскоре все написанные ею работы были опубликованы. К ней потянулись люди, которые прежде ее просто не выносили. Женщина перестала думать о нужде – вместо этого ее разумом управляет идея изобилия. Более того, она счастливо вышла замуж [3]. Приведенная авторская молитва фиксирует желаемый результат, придавая большее значение потенциальным возможностям, нежели реальному положению вещей. Подобная установка заставляет сосредоточиться на позитивном решении проблемы, расставляя акценты и определяя пути психологического освобождения от неудачного опыта. По мнению Р. Дилтса, американского политолога, теоретика нейролингвистического программирования, «применение фрейма результата подразумевает такие действия, как замена формулировки проблемы на формулировку цели, а описаний с использованием «негативных» слов – на «позитивные» описания [2, с. 40]. В описанных историях («случаях из жизни») большое значение имеет сама «процедура» прочтения молитв, аккумулировавших в себе библейские истины и сформулированных Дж. Мэрфи с учетом специфики обыденного сознания людей, стремящихся с их помощью позитивно изменить свою жизнь. В приведенных нами примерах, демонстрирующих силу и принцип действия АМ, актуализируются такие бытийные категории, как время, способ и результат: – время (молитва произносится «каждый вечер... в течение получаса», результат наступает «вскоре», «спустя несколько дней» после начала молитв, «еще до окончания месяца»); – способ (интенсивность: молитву нужно произносить «вновь и вновь», «постоянно»; характер произнесения: «медленно, спокойно, с глубоким чувством», «запечатлевая в своем подсознательном разуме эту просьбу благодаря вере и ожиданию наилучшего, «концентрируя все свое внимание на конструктивной стороне жизни»); 286 – полученный результат («она успокоилась и обрела душевное равновесие», «получила ответ, откуда никак не ожидала», «вскоре последовало полное исцеление», «пришло признание», «ее пригласили работать...», «написанные ею работы были опубликованы», «к ней потянулись люди, которые прежде ее просто не выносили», «она счастливо вышла замуж», «перестала думать о нужде – вместо этого ее разумом управляет идея изобилия»). Психолингвистический механизм воздействия АМ на реципиента в интерпретации продуцента дискурса предстает следующим образом: «Утверждайте вдохновенно и сознательно, что вы родились, чтобы побеждать и торжествовать, и что это ваше святое право – быть здоровым, богатым и преуспевающим; что Бог хочет, чтобы все люди были счастливыми, радостными и свободными. Без устали твердите, что Божественное Руководство принадлежит вам, Божественный Закон и Порядок принадлежит вам, и Божественная гармония принадлежит вам. Провозглашайте, что Божественные Богатства – ваши, и вы каждый день все больше и больше выражаете свою Божественную сущность. Утверждайте эти великие истины с чувством и пониманием, и ваше подсознание выразит все это в вашей жизни как опыт, обстоятельства и события» [3]. Разнообразие и высокая частотность данного типа интертекстуальных включений в исследуемых текстах позволяет говорить об АМ как о важном текстообразующем приемев области инвенции, характерном для американского проповеднического дискурса как «метафизического дискурса успеха». Примеры микротекстов уровня вторичной интертекстуальности демонстрируют вечное стремление человека достичь максимального результата при минимальных усилиях. Автор акцентирует внимание реципиента на привлекательности такого метода: легкости и простоте получения желаемого результата в кратчайшие сроки. С точки зрения философии практицизма, сторонником которой является американский проповедник Дж. Мэрфи, текстовые фрагменты – прагматические интерпретанты Библии, целенаправленно внедряемые человеком в свое сознание и подсознание, выступают наилучшим рецептом для решения любых жизненных проблем. ––––––––––––––– 1. Ворожбитова А.А. Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты. Монография. – Сочи: СГУТиКД, 2000. 2. Дилтс Р. Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП. – СПб., 2008. 3. Мэрфи Дж. Вечные жизненные истины / Пер. с англ. Л.А. Бабук. – Мн.: «Попурри», 2006. 4. Мэрфи Дж. Как привлекать деньги / Пер. с англ. Т.И. Василинчик. – Мн.: Попурри, 2007. 287 СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ Атабиева Асият Даутовна – к. филол. н., старший научный сотрудник отдела балкарской литературы Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований Аутлева Фатима Аскарбиевна – к. филол. н., доцент Адыгейского государственного университета. Базиева Гульфия Джамаловна – к. филос. н., старший научный сотрудник отдела этнологии Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований Бронская Людмила Игоревна – д. филол. н., профессор Ставропольского государственного университета Бушуева Людмила Павловна – аспирант Ставропольского государственного педагогоческого института Вахитова Тамара Михайловна – д. филол. н., ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН Ворожбитова Александра Анатольевна – д. филол. н., д. пед. наук, профессор Сочинского государственного университета туризма и курортного дела Головчинер Валентина Егоровна – д. филол. н., профессор Томскго государственного педагогического университета Груздева Юлия Алексеевна – аспирант Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова Дегтярева Алла Алексеевна – преподаватель Волгодонского филиала ЮФУ Егорова Людмила Петровна – д. филол. н., профессор Ставропольского государственного университета Егорова Юлия Михайловна – ст. науч. сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН Завельская Дарья Александровна – к. филол. н., старший научный сотрудник Институт Мировой литературы А. М. Горького РАН Зуев Михаил Борисович – аспирант Сочинского государственного университета туризма и курортного дела. Иванова Ирина Николаевна – д. филол. н., профессор Ставропольского государственного университета 288 Кажарова Инна Анатольевна – к. филол. н., старший научный сотрудник сектора кабардинской литературы Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований Ларионова Марина Ченгаровна – д. филол. н., профессор, ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Логунова Олеся Николаевна – аспирант Ульяновского государственного педагогического университета Лоткова Ольга Алексеевна – к. филол. н. Невинномысского государственного гуманитарно-технического института Малыгина Инна Юрьевна – аспирант Ставропольского государственного университета Маркова Татьяна Николаевна – д. филол. н., профессор Челябинского государственного педагогического университета Меркулова Ирина Ивановна – к. филол. н. Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева Минина Светлана Павловна – замдиректора по научно-методической работе, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 29 г. Пятигорска. Набокова Наталья Александровна – аспирант Ставропольского государственного университета Нагапетова Анжела Герасимовна – к. филол. н., доцент Армавирского государственного педагогического университета Озола Анна Николаевна – аспирант Ставропольского государственного университета Орловски Жан – д. гум. н., профессор университета Марии КюриСклодовской в Люблине Остапенко Лидия Алексеевна – аспирантка Белгородского государственного университета Осьмухина Ольга Юрьевна – кандидат культурологии, доцент, старший научный сотрудник Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева Откидач Надежда Андреевна – преподаватель русского языка и литературы Ессентукского педагогического колледжа Пиванова Элина Викторовна – к. филол. н., доцент Ставропольского государственного университета Пирогова Мария Николаевна – педагог-организатор, преподаватель русского языка и литературы Марийского политехнического техникума Сергеева Ирина Сергеевна – аспирант Харьковского национального педагогического университета Серебряков Анатолий Алексеевич – к. филол. н., доцент Ставропольского государственного университета 289 Силантьев Аркадий Николаевич – к. филол. н., доцент СевероКавказского государственного технического университета Сипко Юлия Николаевна – к. филол., н., доцент Ставропольского государственного университета Степанова Татьяна Маратовна – д. филол. н., профессор Адыгейского государственного университета Тамаев Павел Михайлович – д. филол. н., профессор Ивановского государственного университета Терехова Оксана Михайловна – аспирант Московского государственного университета им. Ломоносова Тимижев Хамиша Тарканович – д. филол. н., заведующий отделом адыгской филологии Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований Толпаева Галина Петровна – к. филол н., доцент Ставропольского государственного университета Тхагазитов Юрий Мухамедович – д. филол. н., заведующий сектором кабардинской литературы Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований Фокин Александр Алексеевич – к. филол н., доцент Ставропольского государственного университета Ханинова Римма Михайловна – к. филол. н., доцент Калмыцкого государственного университета. Ходус Вячеслав Петрович – к. филол. н. Ставропольского государственного университета Чекалов Петр Константинович – д. филол. н., профессор Ставропольского филиала Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова Шарданова Ирина Валерьевна – к. филол. н., ст. преподаватель Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова Шатохина Ольга Алексеевна – аспирант Ставропольского государственного университета Шиков Кошмазук Муссович – д. филол. н., профессор Адыгейского государственного университета Содержание I. Общие вопросы Егорова Л. П. ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПИСА­ТЕ­ЛЯ: ПРОБЛЕМА ДЕФИНИЦИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Фокин А. А. «творческая индивидуальность» как по­нятие антропологической поэтики . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Осьмухина О.Ю.АВТОРСКАЯ МАСКА КАК ФОРМА ВОПЛОЩЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ПИСАТЕЛЯ . . . . . . . . . . . . 17 Ходус В.П. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ «БЕЗМОЛВИЯ» В ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ (по данным метапоэтики) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ларионова М.Ч. СООТНОШЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО И ИНДИВИ ДУАЛЬНОГО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ . . . . . . . . . . . . 30 Пирогова М. Н. КОНЦЕПТОСФЕРА ЗАГОВОРОВ КАК ПРЕЦЕДЕНТ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Шатохина О.А., Чекалов П.К. О разработке понятия «творческая индивидуальность писателя» в со ветском литературоведении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 . II. УРОКИ КЛАССИКОВ Меркулова И.И. ОБРАЗ ДОРОГИ В ТВОРЧЕСКОМ СОЗНАНИИ ПУШКИНА: ПРОЗА 1830 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Минина С.П. ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И.С. ТУРГЕНЕВА В ОЦЕНКЕ НЕМЕЦКОГО КРИТИКА XIX ВЕКА ЛЮДВИГА ПИЧА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 291 Логунова О.Н. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СЮЖЕТА В ПОВЕСТЯХ Л.Н. ТОЛСТОГО «СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА» И И.Д. СУРГУЧЕВА «ГУБЕРНАТОР» (к проблеме творческой индивидуальности) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Груздева Ю.А. ПРОБЛЕМА КОММУНИКАЦИИ И ЕЕ ВОПЛОЩЕ НИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ТОЛСТОГО И ЧЕХОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Завельская Д.А. ПРЕДМЕТНЫЙ ОБРАЗ У КУПРИНА И ШМЕЛЕВА . . . . . . . . . . . . . 72 Бронская Л.И. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА В СТРУКТУРЕ ТЕКСТА («Бег времени» А. Ахматовой) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Головчинер В.Е. РАЗМЫШЛЕНИЯ О СТИХОТВОРЕНИИ МАЯКОВ СКОГО «ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ» . . . . . . . . . . . . . 88 Вахитова Т.М. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛЕОНОВА-РОМА НИСТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Пиванова Э.В. ОБРАЗ АВТОРА КАК ОБЪЕКТ МЕТАПОЭТИЧЕ СКОЙ РЕФЛЕКСИИ В. НАБОКОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Дегтярева А.А. ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ В.В. НАБОКОВА В ПОЭТИКЕ АВТОРИЗОВАННОГО ПЕРЕВО ДА («Лолита») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Бушуева Л.П. О ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Толпаева Г.П. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В МАЛОЙ ПРОЗЕ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Остапенко Л.А. ИГРОВОЕ НАЧАЛО В РАССКАЗЕ В.М. ШУКШИНА «СУРАЗ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 292 III. ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХХ ВЕКА Степанова Т.М., Аутлева Ф.А. В.А. ЖУКОВСКИЙ: К ПРОБЛЕМЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ПЕРЕВОД ЧИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Тамаев П.М. К ВОПРОСУ ОБ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ В ПЬЕСЕ А.А. ПОТЕХИНА «ЧУЖОЕ ДОБРО ВПРОК НЕ ИДЕТ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Иванова И.Н. САМОИРОНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ А. ТИНЯКОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Егорова Ю.М. РОМАН И. ШМЕЛЕВА «СОЛДАТЫ»: НЕУДАВШИЙСЯ ЗАМЫСЕЛ ИЛИ ТРАГЕДИЯ АВТОРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Терехова О.М. ЮРИЙ СЛЕЗКИН: ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬ НОСТЬ ПИСАТЕЛЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Шарданова И.В. ФИЛОСОФИЯ ЗАГЛАВИЯ РАССКАЗА А. С. ГРИНА «ВОЗВРАЩЕНИЕ»: К ВОПРОСУ ОБ ОППОЗИЦИИ МОТИВОВ «ПУТЬ» / «ДОМ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Нагапетова А.Г. ЧЕЛОВЕК В «ПРОИЗВОДСТВЕННОМ» РОМАНЕ Ф. ГЛАДКОВА «ЦЕМЕНТ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Силантьев А.Н. К проблеме Характеризации творческой Индивидуальности авторов обэриу (А. Введенский. «Елка у Ивановых») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Малыгина И.Ю. «БОГ» В МИРООЩУЩЕНИИ ПИСАТЕЛЯ И ЕГО ГЕРОЕВ (на примере поэзии Д. Хармса) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Орловски Ж. ДАНИИЛ АНДРЕЕВ: УНИКАЛЬНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 293 Маркова Т.Н. ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ПОЛИФОНИЧНОСТЬ ИДИОСТИЛЯ Л.С. ПЕТРУШЕВСКОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Сипко Ю.Н. субъективация действительности как один из аспектов реализации творческой индивидуальности М. Палей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 IV. ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ В ЛИТЕРАТУРАХ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА Шиков К.М. ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ КАК ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН (на материале адыгских литератур) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Тхагазитов Ю.М.ЭВОЛЮЦИЯ КАБАРДИНСКОГО РОМАНА И ТВОР ЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Кажарова И.А. КОНЦЕПЦИЯ ГЕРОЯ В ЛИРИКЕ АЛИМА КЕШОКОВА . . . . . . . . . 2 1 0 Атабиева А.Д. СВОЕОБРАЗИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО СТИЛЯ Т. ЗУ МАКУЛОВОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Базиева Г.Д. ЛИРИЧЕСКАЯ ПРОЗА БОРИСА ЧИПЧИКОВА . . . . . . . . . . . . . . . 218 Тимижев Х.Т. Откидач Н.А. Сергеева И.С. 294 ИДИЛЛИЧЕСКОЕ МИРООЩУЩЕНИЕ О. ЧЕЛИКА В ПЬЕСЕ «КАФА» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 О САМОБЫТНОСТИ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ЧЕРТЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ А.Т. ГУБИНА . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Особенности преломления поэтики французского символизма в пьесе И.Д. Сургучева «Осенние скрипки» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Ханинова Р.М. РАССКАЗ БОРИСА ФИЛИППОВА «ПОДУШКА» (индивидуализация речевого стиля) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Лоткова О.А. К ВОПРОСУ О ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ Н.И. МАЗУРКЕВИЧА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 V. ИЗ ОПЫТА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Серебряков А.А.ЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ ТЕКСТООБРАЗОВАНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ НОВЕЛЛЫ Г. ФОН КЛЕЙСТА «СВЯТАЯ ЦЕЦИЛИЯ, ИЛИ ВЛАСТЬ МУЗЫКИ. ЛЕГЕНДА» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Набокова Н.А. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В РОМАНАХ В. ВУЛФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Озола А.Н. ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ К.М. ВИЛАНДА КАК ЭЛИТАРНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Ворожбитова А.А., Зуев М.Б. ТЕМАТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ БИБЛЕЙСКИХ РЕМИНИСЦЕНЦИЙ КАК ИНВЕНТИВНЫЙ СТЕРЖЕНЬ В «ДИСКУРСЕ УСПЕХА» Джо на МЭРФИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Научное издание ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ Сборник материалов Международной научной конференции (Ставрополь, 2–3 октября 2008 г.) . Редактор-составитель Егорова Людмила Петровна — доктор филологических наук, профессор Ставропольского государственного университета Издательство Ставропольского государственного университета. Ставрополь, ул. Пушкина,1а. Сдано в печать 20.09.09. Формат 60 х 84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ л. 17,20. Тираж 500. Заказ ??. Отпечатано в типографии СГУ.