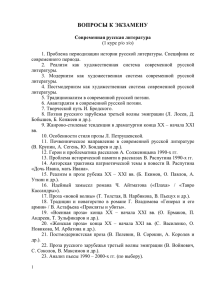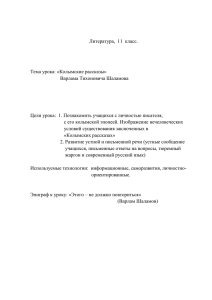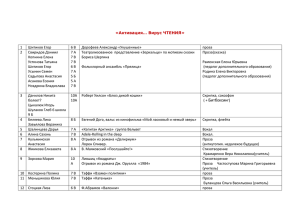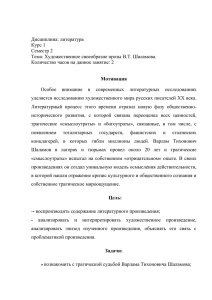ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РЕАЛИЗМ В. ШАЛАМОВА © Зайцева А.Р.
реклама
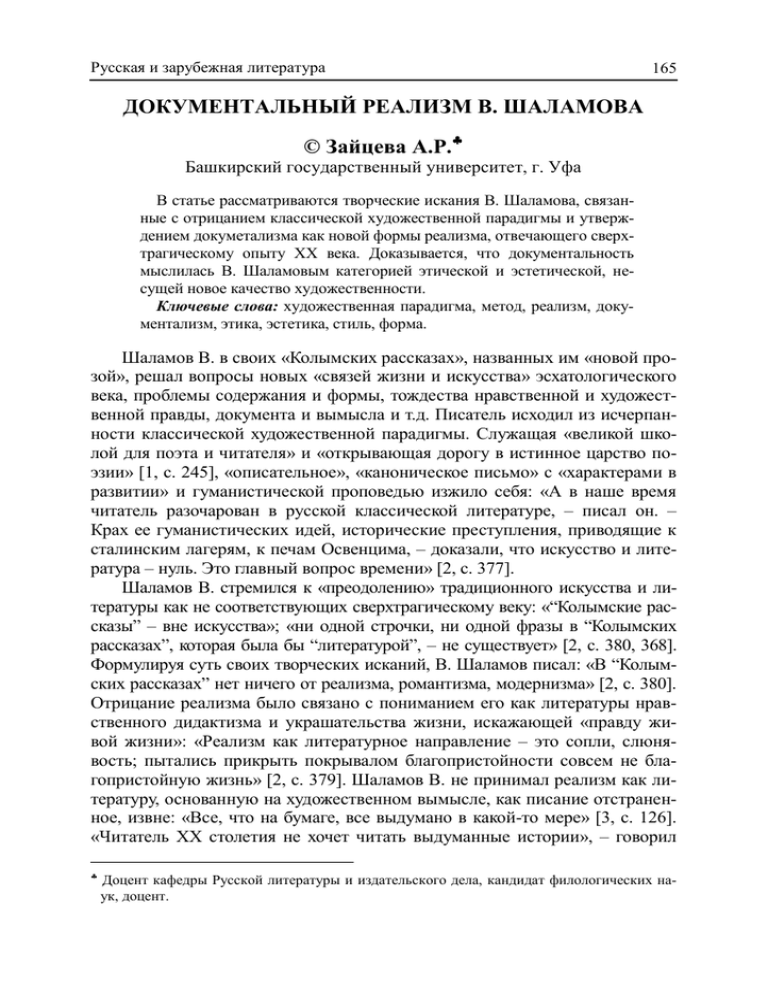
Русская и зарубежная литература 165 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РЕАЛИЗМ В. ШАЛАМОВА © Зайцева А.Р. Башкирский государственный университет, г. Уфа В статье рассматриваются творческие искания В. Шаламова, связанные с отрицанием классической художественной парадигмы и утверждением докуметализма как новой формы реализма, отвечающего сверхтрагическому опыту ХХ века. Доказывается, что документальность мыслилась В. Шаламовым категорией этической и эстетической, несущей новое качество художественности. Ключевые слова: художественная парадигма, метод, реализм, документализм, этика, эстетика, стиль, форма. Шаламов В. в своих «Колымских рассказах», названных им «новой прозой», решал вопросы новых «связей жизни и искусства» эсхатологического века, проблемы содержания и формы, тождества нравственной и художественной правды, документа и вымысла и т.д. Писатель исходил из исчерпанности классической художественной парадигмы. Служащая «великой школой для поэта и читателя» и «открывающая дорогу в истинное царство поэзии» [1, с. 245], «описательное», «каноническое письмо» с «характерами в развитии» и гуманистической проповедью изжило себя: «А в наше время читатель разочарован в русской классической литературе, – писал он. – Крах ее гуманистических идей, исторические преступления, приводящие к сталинским лагерям, к печам Освенцима, – доказали, что искусство и литература – нуль. Это главный вопрос времени» [2, с. 377]. Шаламов В. стремился к «преодолению» традиционного искусства и литературы как не соответствующих сверхтрагическому веку: «“Колымские рассказы” – вне искусства»; «ни одной строчки, ни одной фразы в “Колымских рассказах”, которая была бы “литературой”, – не существует» [2, с. 380, 368]. Формулируя суть своих творческих исканий, В. Шаламов писал: «В “Колымских рассказах” нет ничего от реализма, романтизма, модернизма» [2, с. 380]. Отрицание реализма было связано с пониманием его как литературы нравственного дидактизма и украшательства жизни, искажающей «правду живой жизни»: «Реализм как литературное направление – это сопли, слюнявость; пытались прикрыть покрывалом благопристойности совсем не благопристойную жизнь» [2, с. 379]. Шаламов В. не принимал реализм как литературу, основанную на художественном вымысле, как писание отстраненное, извне: «Все, что на бумаге, все выдумано в какой-то мере» [3, с. 126]. «Читатель ХХ столетия не хочет читать выдуманные истории», – говорил Доцент кафедры Русской литературы и издательского дела, кандидат филологических наук, доцент. 166 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА он. – Описание придуманной жизни, искусственные коллизии и конфликты раздражают читателя» [2, с. 374, 357]. Стороннее писательство В. Шаламов определил как «принцип туризма», когда художник оставался «“вовне”, “над” или “в стороне”». «Новая проза отрицает этот принцип туризма», – заявлял он [2, с. 365]. Подрыв доверия к литературе вымысла и к роману с его сакрализацией личности объясняется «новой шкалой требований к литературному произведению», предъявляемой к нему читателем, ищущим в нем не историю вымышленного героя, а правду о себе и своем трагическом времени: «Сегодняшний человек сверяет себя, свои поступки не по поступкам Жюльена Сореля или Растиньяка, или Андрея Болконского, но по событиям и людям живой жизни – той, свидетелем и участником которой читатель был сам» [2, с. 358]. Отвергая традиционные типы художественности, говоря о «потребности читателя в чем-то более серьезном, чем роман», В.Шаламов ставит перед собой главный вопрос: «Какая литературная форма имеет право на существование? К какой литературной форме сохраняется читательский интерес?» [2, с. 357]. Писатель связывал этот вопрос со сверхзадачей своего творчества: «Искусство для художника ставит необычайно простую задачу – писать правду» [2, с. 323]. Самой правдивой и нравственной формой, вызывающей «безграничное доверие» нового читателя, В. Шаламов считал литературу мемуарно-биографическую и документальную: «Это голос времени, знамение времени», «это – нравственное и художественное требование современной литературы» [2, с. 358, 365]. Документальность означает ту сверхправдивость в искусстве, когда «писатель должен уступить место документу и сам быть документальным. Это веление века» [4, с. 59]. Документальная проза обладает «абсолютной достоверностью протокола, очерка», которая не требует дидактики, художественного домысла, «сравнений и пестроты». Эта форма выражает новый, этический тип отношений литературы и читателя: «Литературе этого рода свойствен “эффект присутствия” <…> человек не чувствует, что его обманули, как при чтении романа <…> сегодняшний читатель спорит только с документом и убеждается только документом» [2, с. 358]. Именно в нем читатель находит разрешение конечных вопросов жизни и искусства: «Читатель ищет, как и раньше, ответа на “вечные” вопросы <…> ищет ответов о смысле жизни, о связях искусства и жизни <…> Но задает этот вопрос не писателям-беллетристам, не Короленко и Толстому, как это было в XIX веке, а ищет ответа в мемуарной литературе» [2, с. 359]. Это взыскание читателем истин о вечном накладывало на писателя высшее нравственное требование: «Потребность в такого рода документах чрезвычайно велика. Ведь в каждой семье, и в деревне и в городе, среди интеллигенции, рабочих и крестьян, были люди или родственники, которые погибли в заключении. Это и есть тот русский читатель, который ждет от нас ответа» [2, с. 362]. Свою «новую прозу» он рассматривал как Русская и зарубежная литература 167 ответ на это главное веление: «Каждый мой рассказ – это абсолютная достоверность. Это достоверность документа»; «в документе течет живая кровь времени» [2, с. 373, 375]. Отрицая прежний реализм, В. Шаламов называл себя «прямым наследником реалистической школы»: «Мои рассказы и есть, в сущности, последняя, единственная цитадель реализма» [4, с. 60]; «я документален, как реализм» [2, с. 383]. Категориальное понятие «реализм» для В. Шаламова означало его тождество документу и художественности: «Все, что выходит за документ, уже не является реализмом, а является ложью, мифом, фантомом, муляжом» [4, с. 60]. Метод В. Шаламова можно назвать «документальным реализмом», где документ был не только материалом, но конструктивной художественной основой произведения. Документальность как новую форму реализма он резко противопоставлял «литературе факта», «очерка» и «публицистике»: «Надо помнить, – говорил он, – это не только разные этажи литературной культуры, но разные миры»; «к очерку никакого отношения проза “Колымских рассказов” не имеет», в ней «отсутствует публицистика» [2, с. 375, 361]. Писатель не стремился создать и объективную летопись истории века, как это сделал А. Солженицын в «Архипелаге ГУЛаге», «Красном колесе». Шаламов В. не раз говорил, что его проза – «не проза документа, а проза, выстраданная как документ»; «мой рассказ – документ <…> личное свидетельство. Я летописец собственной души. Не более» [2, с. 370, 382]. Писатель отстаивал документально-автобиографическую литературу, основанную на правде «изнутри», выстраданную «собственной шкурой – не только умом, не только сердцем, а каждой порой кожи, каждым нервом своим»: «Собственная кровь, собственная судьба – вот требование сегодняшней литературы <…> Весь “ад” и “рай” в душе писателя» [2, с. 362, 360]. Поэтому метод В.Шаламова можно определить и как экзистенциальный документализм – «документ собственной души». Отсюда излюбленная писателем «яформа», повествование от первого лица, в котором бьется личная кровь, судьба и боль автора, которые он не передоверяет герою объективированному, стороннему, т.е. ложному. Документализм В. Шаламова опрокидывает его эстетический пессимизм, неверие в писательство и литературу: «Я не верю в литературу. Не верю в ее возможности по исправлению человека» [4, с. 3]. Правда лично пережитого давала ему право писать и относиться к творчеству прежде всего как к долгу совести и «нравственной ответственности, которой у обыкновенного человека нет, а у поэта она обязательна» [4, с. 3]. «Современная новая проза, – утверждал он, – может быть создана только людьми, знающими свой материал в совершенстве, для которых его художественное преображение не является чисто литературной задачей, а долгом, нравственным императивом» [2, с. 364]. Его «Колымские рассказы» есть этический акт худож- 168 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА ника-лагерника, заведомо знающего, что его слово не исправит мир, но не имеющего права молчать: «Человек должен что-то делать» [4, с. 3]. Документальность мыслилась В. Шаламовым категорией этической и эстетической одновременно, она несла новое качество художественности: «Достоверность протокола, очерка, подведенная к высшей степени художественности, – так я сам понимаю свою работу», – писал он [2, с. 380]. Абсолютная точность в топонимике, датировке событий, в воспроизведении полных имен героев имела целью «создание документального свидетельства времени, обладающего художественной и документальной силой одновременно» [4, с. 63]. Перед В. Шаламовым вставала проблема адекватной документу художественной формы: «Преодоление документа есть дело таланта, – писал он. – Сам выбор формы может говорить о содержании», «дело художника – именно форма, ибо в остальном читатель может обратиться к экономисту, к историку, к философу» [2, с. 367, 376-377]. Поиски «новой, необычной формы для фиксации исключительного состояния, исключительных обстоятельств и в истории, и в человеческой душе» [2, с. 380] составляли, может быть, ядро творческих усилий писателя-лагерника. Он считал, что «важность темы сама диктует определенные художественные принципы», и искал ту литературу, где «разрушаются рубежи между формой и содержанием» [2, с. 366]. Так рождался стиль, имеющий «законы мускульного характера», «так возникло одно из основных правил: лаконизм, – пишет Шаламов. – Фраза должна быть лаконична, проста, все лишнее устраняется еще до бумаги» [2, с. 372]. Предельно сжатый, лапидарный стиль, который В. Шаламов сравнивал с «короткой, звонкой пощечиной», был воплощением принципа тождества этики и эстетики, выражал равенство правды и художественности, предельной честности автора к изображаемому: «Всякое другое решение уводит от жизненной правды», – говорил он [2, с. 366]. О самом диком и страшном из арестантской жизни – о моральном и физическом «растлении», о бессмысленных убийствах и извращениях, о «предателе, который сидит в каждом человеке», о его озверении человека и каннибализме В. Шаламов пишет скупо, жестко, ударно. «Об этом должно быть рассказано ровно, без декламации», – утверждал автор [2, c. 365]. «Все человеческие чувства – любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, честность – ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания», – так «веско, плотно, кондиционно» пишет он о феномене расчеловечивания. Впервые в литературе В. Шаламов показал духовную деградацию человека как чисто физиологический процесс, как результат убывания «физической массы тела», когда вслед за истощением плоти угасают сознание, память, речь, совесть. Структура кристалла в слове В. Шаламова была новым проявлением художественной «эмоциональности», которую он считал обязательным требованием к документальной литературе: «Я ставил себе задачей создать доку- Русская и зарубежная литература 169 ментальное свидетельство времени, обладающее всей убедительностью эмоциональности» [2, с. 375]. Называя «Колымские рассказы» «документом эмоционально окрашенным», В. Шаламов считал, что «такая проза – единственная форма литературы, которая может удовлетворить читателя ХХ века» [2, с. 374]. Эмоциональность в «новой прозе» писателя достигается абсолютной внешней без-эмоциональностью, предельной сдержанностью, безоценочностью повествования. В его рассказах о мире «запредельном», «за-человеченном» нет ни крика, ни протеста, ни мольбы, ни жалоб, ни осуждения, ни защиты. «В лагерной теме нет места для истерики», – писал он. Именно такой бесстрастный, редуцированный стиль мог передать предел изнеможения, истощения человека-«червя», «шлака», растоптанного адом: «Проза моя – фиксация того немного, что в человеке сохранилось [2, с. 60]. «У меня было мало тепла. Не много мяса оставалось на моих костях, – говорит автобиографический герой. – Этого мяса достаточно было только для злости, последнего из человеческих чувств» («Сентенция»). Подобной формой В. Шаламов снимал традиционную тему суда над падшим, тему преступления и наказания. Сломленный, искалеченный «голодом, холодом, побоями» человек В. Шаламова – неподсуден. В рассказе «Июнь» о своем напарнике-доносчике автор говорит тихо и просто: «Ведь он не подлец. Он просто несчастный человек». «Ровный, без декламации» показ предела падений человека становится у писателя единственно возможной формой защиты его и, может быть, прощения: «Голодному человеку можно простить многое, очень многое» («Заклинатель змей»). Нейтральная, безоценочная эстетика В. Шаламова передает тот ведомый ему предел упадка сил, который делает безнравственной всякую умозрительную оценочность или интеллектуально выраженное отношение как унижающие трагизм положения человека. «Из всего прошлого остается документ», – писал В. Шаламов [4, с. 59]. Этот документ страшен, беспощаден, трагичен. Но его «художественный», «эмоционально окрашенный» «документ души» стремился не к «фиксации» всеуничтожающего зла, а к его преодолению: «А в более высоком, в более важном смысле любой рассказ – документ об авторе, – и это-то свойство, вероятно, и заставляет видеть в “Колымских рассказах” победу добра, а не зла» [2, с. 363]. Список литературы: 1. Шаламов В. Манифест о «новой прозе» // Вопросы литературы. – 1989. – № 5. 2. Шаламов В. Собр. соч.: в 4 т. Т. 4. – М., 1998. 3. Шаламов В. Воспоминания (о Колыме) // Знамя. – 1993. – № 4. 4. Шаламов В. «Новая проза» // Новый мир. – 1989. – № 12.