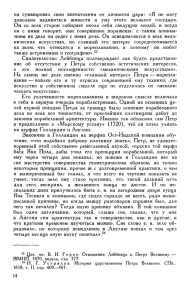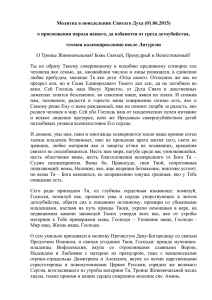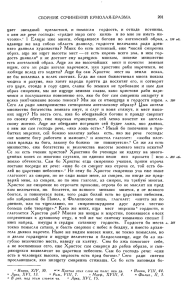ФИЛОСОФСКИЙ ВЕК ИДЕЯ ИСТОРИИ В РОССИИ XVIII ВЕКА
реклама

ФИЛОСОФСКИЙ ВЕК Т. В. Артемьева ИДЕЯ ИСТОРИИ В РОССИИ XVIII ВЕКА St. Petersburg Center for the History of Ideas __________________________________ http://ideashistory.org.ru St. Petersburg Branch of Institute for Human Studies RAS St. Petersburg Branch of Institute for History of Science and Technology RAS St. Petersburg Centre for History of Ideas ____________________________________________________________ THE PHILOSOPHICAL AGE ALMANAC 4 Tatiana Artemieva THE IDEA OF HISTORY IN 18-CENTURY RUSSIA St. Petersburg 1998 Санкт-Петербургское отделение Института человека РАН Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники РАН Санкт-Петербургский центр истории идей ___________________________________________________ ФИЛОСОФСКИЙ ВЕК АЛЬМАНАХ 4 Т. В. Артемьева ИДЕЯ ИСТОРИИ В РОССИИ XVIII ВЕКА Санкт-Петербург 1998 St. Petersburg Center for the History of Ideas __________________________________ http://ideashistory.org.ru Ответственные редакторы альманаха: Т. В. Артемьева, М. И. Микешин В оформлении использовано аллегорическое изображение философии из книги «Иконология, объясненная лицами, или полное собрание аллегорий, емблем и пр.». Т. 2. М., 1803. Издание осуществлено при поддержке OSI/HESP Summer School Program 1998 и ФЦП «Интеграция» E-mail: [email protected] Четвертый выпуск альманаха «Философский век» включает монографию Т. В. Артемьевой «Идея истории в России XVIII века», изданную в помощь слушателям Летней школы молодых ученых «Идея истории в российском Просвещении» (Санкт-Петербург 29 июня — 12 июля 1998 г.). Монография посвящена анализу философии истории в России XVIII в. Исследуются концептуальные схемы и архетипические модели, лежащие в основе исторических сочинений. Привлечен анализ работ не только «профессиональных историков», но и «писателей истории», таких как Екатерина II, И. П. Елагин, Ф. А. Эмин. Издание снабжено текстологическими иллюстрациями, дающими представление о формах и особенностях историософского знания того времени. Это фрагменты сочинений, многие из которых не были опубликованы или являются библиографической редкостью. Для студентов, аспирантов, исследователей русской философии и истории, всех, интересующихся историей русской философии. Редактор Д. Р. Есипович Компьютерный макет: М. И. Микешин Артемьева Т. В. Идея истории в России XVIII века. — «Философский век». Альманах.: Вып. 4. СПб., 1998. — 267 с. © Альманах «Философский век» © Т. В. Артемьева, 1998 5 СОДЕРЖАНИЕ Содержание ………………………………………………………………... Contents ……………………………………………………………………. 5 6 ИДЕЯ ИСТОРИИ В РОССИИ XVIII ВЕКА От летописи к истории ………………………………………………. Время Петра ………………………………………………………….. Новые авторитеты ……………………………………………………. Эпоха исторического фундаментализма …………………………… Дворянин-философ как писатель истории …………………………. Философия истории князя М. М. Щербатова ……………………… Философия истории по «елагинской системе» …………………….. Сочинители истории …………………………………………………. История политическая и история духовная ……………………… «Екатерининское время» как «философский век», или Проблемы историософской персонологии ……………………………………… Заключение …………………………………………………………… 166 178 ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ И КОММЕНТАРИИ А. И. Манкиев. Ядро истории Российской ………………………….. В. Н. Татищев. История Российская ……………………………….. М. В. Ломоносов. Древняя Российская история …………………… Ф. А. Эмин. Российская история ……………………………………. Екатерина II. Записки, касательно российской истории …………. Х. А. Чеботарев. Вступление в настоящую историю о России … М. М. Щербатов. История Российская от древнейших времен ….. И. П. Елагин. Опыт повествования о России ………………………. М. Н. Муравьев. Учение истории …………………………………… Н. М. Карамзин. История государства Российского ………………. 183 188 197 201 210 214 220 224 254 259 11 29 39 54 62 79 94 135 160 6 CONTENTS Contents …………………………………………………………………….. Contents (in English) ………………………………………………………... 5 6 THE IDEA OF HISTORY IN 18-CENTURY RUSSIA From Chronicle to History …………………………………………….. The Time of Peter ……………………………………………………... New Authorities ……………………………………………………….. The Epoch of Historical Fundamentalism …………………………….. The Nobleman-Philosopher as a Writer of a History …………………. Prince M. M. Shcherbatov's Philosophy of History …………………... Philosophy of History According to «Elagin's System» ……………… Writers of History ……………………………………………………... Political History and Spiritual History ………………………………... «The Time of Catherine» as «the Philosophical Age», or Problems in Historiosophical Personology …………………………………………. Conclusion …………………………………………………………….. 166 178 TEXTOLOGICAL ILLUSTRATIONS AND COMMENTARIES A. I. Mankiev. The Core of Russian History …………………………... V. N. Tatishchev. Russian History …………………………………….. M. V. Lomonosov. Ancient Russian History …………………………... F. A. Emin. Russian History …………………………………………... Catherine II. Notes, Concerning Russian History …………………….. Kh. A. Chebotarev. Introduction into the Real History about Russia …. M. M. Shcherbatov. Russian History from Ancient Times on ………… I. P. Elagin. An Attempt to Narrate about Russia …………………….. M. N. Murav'ev. A Doctrine of History ……………………………….. N. M. Karamzin. History of the Russian State ………………………… 183 188 197 201 210 214 220 224 254 259 11 29 39 54 62 79 94 135 160 7 The fourth issue of «The Philosophical Age» almanac includes T. V. Artemieva's monograph «The Idea of History in 18-Century Russia», published to help the participants of the Summer school for younger scholars «The Idea of History in Russian Enlightenment» (St.Petersburg, 29 June — 12 July 1998). The monograph is dedicated to an analysis of philosophy of history in 18century Russia. Conceptual schemes and archetypical models, on which historical writings are based, are put under scrutiny. Works of both «professional historians» and «writers of history», such as Catherine II, I. P. Elagin, F. A. Emin, are being studied. The book is furnished with textological illustrations to form an idea of forms and special features of the historiosophical knowledge of that time. The illustrations are fragments of works, many of which have not been published or are bibliographical rarities. ИДЕЯ ИСТОРИИ В РОССИИ XVIII ВЕКА 11 ОТ ЛЕТОПИСИ К ИСТОРИИ Е сли обратиться к философским сочинениям XVIII в., характеризующим структуру философского знания, то мы не найдем там понятие «историософия», или «философия истории». Обычно философия, которая понималась в достаточно широком смысле слова — как «объяснение причин явлений», — подразделялась на теоретическую и практическую, иногда добавлялась и натуральная. К теоретической философии принадлежали логика и метафизика. Последняя, в свою очередь, включала в себя рациональное богословие, онтологию, космологию и пневматологию (учение о душе и духах). К области практической философии относились политика, этика и экономика, а к натуральной — все естественные науки, прежде всего физика и математика. Только В. К. Тредиаковский вводит историческую дисциплину в свою схему философского знания, да и то это «история философическая, коя предлагает и повествует приращение и умаление Мудрости, и при том объявляет первейших ее любителей, распространителей и возобновителей» относящаяся к тому же к разряду вспоПубликуемые тексты и цитаты приводятся в соответствии с современными нормами орфографии с сохранением некоторых особенностей языка XVIII в. Исследование поддержано Российским гуманитарным научным фондом, грант № 96-03-04207. 12 могательных, «предуготавливающих наук» 1. Таким образом, философия истории не воспринималась вычлененно, институциализированно, определенно, ее как бы «не существовало» в природе философского мышления. В определенном смысле идеи философии истории поглощались самим предметом истории, понимаемом в самом широком смысле этого слова. Уже в 1803 г. в статье «История» «Нового словотолкователя» дается концептуальный анализ понятия истории, представлены ее функции, цели и задачи. «В истории находим мы учреждение, приращение и изменение различных обществ, населявших землю; открываем в ней причину и цель, по которым предки наши действовали. Никакая другая наука столько не способна, как сия, к образованию нас в науке сердца человеческого, в науке существеннейшей и занимательнейшей» 2. Автор словаря не просто фиксирует уровень и состояние современного ему исторического знания, но предлагает собственную методологию изложения. Он справедливо отмечает, что историк в своей работе сталкивается с двумя трудностями: он должен следовать исторической достоверности, а потому отделять историческую правду от вымысла и предвзятости, кроме того, ему необходимо последовательно и систематично изложить то, что в действительности происходило непоследовательно и хаотично. Автор предлагает «сперва разделить Историю каждого народа на различные царства, искать в каждом царстве главнейшие лица в различных родах, поставить их хронологическим порядком в разных столбцах. Первая картина представила бы глазам разделение материй и предметов; установив таким образом внимание, сделать перечень из частной истории государя, т. е. из всего того, что существенно до его касается или что от него произошло: от государя прейти к начальникам правосудия и к знаменитым судиям. Вкратце повторить членами историю законодательства и судопроизводства, отсюда обратиться к иностранным министрам для включения в историю их политических негоциаций и обоюдных польз государей и народов. Потом рассмотреть министров военных сил, образование и дисциплину войск, войны и успехи или неудачи оных: министры необходимо покажут генералов и главнейших полководцев, министров внутренних дел, полководцев, министров 1 Т р е д и а к о в с к и й В. К. Слово о мудрости, благоразумии и добродетели// Соч. и переводы как стихами, так и прозою: В 2 т. Т. 2. СПб., 1752. С. 253. 2 История// Я н к о в с к и й Н. Новый словотолкователь. Ч. 1. СПб., 1803. Стб. 855. 13 внутренних дел государства, министров морских сил и министров финансов, из коих каждый в особенности представил бы отделенно картину нравов наций и политическое оных правление, морские силы, сражения на море и прочие богатства земли, промышленность, пользу или неудобства такого или другого управления. Все то, что имеет отношение к религии, должно быть почерпнуто из церковных лучших и достовернейших писателей. Следуя порядку столбцов, найдешь ученых, главнейших писателей и артистов, одни из них представляют обширность и развитие знаний человеческих, другие — успехи наук, а иные историю свободных наук или рукоделий» 3. Автор сожалеет, что не видит исследователя, работающего по подобной программе, ибо результатом следования его методу, бесспорно, стало бы произведение «из всех сочинений литературы наилучшее, а следовательно, полезнейшее для граждан всех областей» 4. Традиционная классификация различных исторических сочинений предполагала, что история разделяется в «трояком смысле»: «в рассуждении времени», «в рассуждении материи и содержания», «в рассуждении предметов, или количества, описываемых вещей» 5. Первая делится на древнюю (от сотворения света до Рождества Христова) и новую (от Рождества Христова). Древняя история «есть шестироякая», поскольку включает в себя Иудейскую историю («о народе Божием»), Ассирийскую («о народе человеческом»), персидскую, греческую, китайскую и римскую. Новая история — «многочисленная», она повествует о судьбе отдельных народов — русского, польского, турецкого и т. д. История «в рассуждении материи» представляет собой историю духовную, или церковную, светскую, или гражданскую («о нравах и государственных законах и правительствах»), естественную или натуральную, описывающую этапы развития трех царств природы. История «в рассуждении предметов, или количества, описываемых вещей» включает в себя всеобщую историю («о многих государствах вообще»), частную («об одном каком государстве или стране») и особенную («о делах одного какого-либо человека») 6. Однако, как бы ни систематизировались и 3 Там же. Стб. 856–857. Там же. Стб. 857. 5 Н о в о е краткое понятие о всех науках, или Детская Настольная учебная книга. Отд. 2. М., 1796. С. 26. 6 Там же. С. 26–27. 4 14 ни классифицировались исторические сочинения, они не предполагали наличие особой умозрительной сферы, а включали ее в ткань самого произведения. Отсутствие специальной дисциплины позволило исследователям русской культуры XIX в. сделать поспешные заключения об отсутствии самого историософского знания. Этот вывод поддерживался авторитетом П. Я. Чаадаева. В качестве аргумента приводилось его известное высказывание: «Не будут, думаю, оспаривать, что логический аппарат самого ученого мандарина Небесной империи функционирует несколько иначе, чем логический аппарат берлинского профессора. Как же вы хотите, чтобы ум целого народа, который еще не испытал на себе влияния ни преданий древнего мира, ни религиозной истории с ее борьбой против светской власти, ни схоластической философии, ни феодализма с его рыцарством, ни протестантизма, словом, ничего того, что более всего воздействовало на умы на Западе, как хотите вы, чтобы ум этого народа был настроен точь-в-точь, как умы тех, кто всегда жил, кто вырос и кто теперь еще живет под влиянием всех этих факторов. Конечно, и среди нас, независимо от этой преемственности мыслей и чувств, могло появиться несколько гениальных людей, несколько избранных душ, но тем не менее нельзя не пожалеть о том, что в мировом историческим распорядке нация в целом оказалась обездоленной и лишенной всех этих предпосылок. На нас, без сомнения, очень сильно сказалось нравственное влияние христианства; что же касается его логического действия, нельзя не признать, что оно было в нашей стране почти равно нулю. Прибавим, что это один из интереснейших вопросов, которым должна будет заняться философия нашей истории (курсив мой. — Т. А.) в тот день, когда она явится на свет» 7. Разумеется, Чаадаев имел в виду вовсе не философию истории в собственном смысле этого слова, а скорее тот тип мышления, тип рациональности, который был характерен для российского менталитета и который, конечно, служил основанием для историософских построений. Понятие «философия истории» в современном понимании было впервые введено Вольтером. «Великое наведение порядка» в хозяйстве философии привнесло в нее множество новых терминов, которые, однако, фиксировали уже устоявшиеся направления исследо7 Ч а а д а е в П. Я. Отрывки и разные мысли / Публ. З. А. Каменского// Вопросы философии. 1986. № 1. С. 131. 15 вания. Это явилось следствием самого философского метода, используемого просветителями XVIII в., который можно было бы уподобить хождению с фонарем в темном помещении и последовательному освещению того или иного предмета. Мыслители полагали, что свет разума не только прогоняет чудовищ, но и помогает увидеть истинный облик исследуемых объектов, зафиксировать их качественную определенность. Определенность требовала имени, поэтому каждый объект, выхваченный из тьмы лучом пытливого разума, немедленно поименовывался. Это не было равнозначно процессу творения. Луч света не создавал объект, но делал его доступным, выставлял на всеобщее обозрение. Новая философская терминология давала имена уже существующим понятиям, и они, в свою очередь, обретали новый смысл. Так, введенные Хр. Вольфом «дуализм», «плюрализм», «монизм», «психология», «онтология», «телеология» или понятие «эстетика», впервые употребленное Баумгартеном, безусловно, делали философский анализ более точным, хотя и не означали «изобретения» ни эстетики, ни психологии и пр. То же произошло и с философией истории. Естественно, что философская мысль не могла не делать объектом своего изучения исторический процесс или оставить вне своего внимания понятие социального времени. Однако философией истории она стала называть это, как уже отмечалось, с легкой руки Вольтера. Историософская мысль не нашла своего выражения в специальных наукообразных трактатах. Она была рассредоточена в «текстах культуры» и выражалась в формах «политического романа»; «восточной повести»; «письма к приятелю»; комментированного перевода, маргиналий, социально-политической утопии и т. д. Для современного исследователя интересны и насыщенные историософскими идеями художественно-публицистические жанры, государственные документы и правительственные манифесты, мемуары и пр. Наиболее важным источником являются прежде всего исторические сочинения, представляющие собой творческое осмысление исторических событий, и преамбулы к ним, где обосновывалась теоретическая позиция историка, поэтому в первую очередь должны быть рассмотрены именно они. В XVIII столетии произошли принципиальные изменения в понимании истории, что нашло отражение и в форме, и в содержании. Исторически ограниченное, тенденциозное, мифологичное летописное изложение, характерное для средневекового сознания, усту- 16 пило место собственно историческому сочинению. Летописи перестали рассматриваться как «достоверные источники», сделались объектом сравнительного анализа. И все же вплоть до выхода «Краткого летописца» М. В. Ломоносова в 1760 г. в практике преподавания использовались синопсисы — сборники летописных сведений. Одним из наиболее популярных был «Синопсис, или Краткое собрание от различных летописцев о начале славянороссийского народа и первоначальных князех богоспасаемого града Киева» Иннокентия Гизеля. «Начала славенского рода» велись в нем от Ноя через его сына Иафета. В 131 г. после потопа шестой сын Иафета Мосох, «шедши от Вавилона с племенем своим абие в Азии и Европе под брегами Понтского или Чернаго моря, народы мосховитов от своего имене осади; и отсюда умножуся народу, поступал день ото дня в полунощные страны за Черное море над Доном и реками… И тако от Мосоха, праотца славенороссийского, по наследию его не только Москва народ великий, но и вся Русь или Россия вышенареченная произыде…» 8 Провиденциализм, лежавший в основе средневековых исторических сочинений, в своем классическом виде уже не устраивал ни русскую, на западноевропейскую мысль. Августиновский «путь к Царству Божию» сменился несколько рационализированным пониманием Ж.-Б. Боссюэ (1627– 1704), сочинение которого «Discours sur l’historie universelle…» («Рассуждение о всеобщей истории…», 1681), где он дал обзор истории человечества от Адама до Карла Великого, было хорошо известно в России. Это означало не отказ от провиденциальных принципов, а смену проблематизации. Социодемиургические начала историософии ясны и очевидны, их нечего обсуждать, здесь нет проблемы. Она начинается тогда, когда мы переходим от тезиса «Бог — творец мировой истории» к тезису «Человек — субъект божественного промысла». Бурные события начала XVIII в. сделали особенно актуальной проблему времени. Ощущение временных изменений, течения времени, его изменчивости и возможной качественной определенности 8 Г и з е л ь И. Синопсис, или Краткое собрание от различных летописцев о начале славянороссийского народа и первоначальных князех богоспасаемого града Киева. В лето от создания мира 7223. От Воплощения же Бога Слова. М., 1714. С. 25. — Существует мнение, что «Синопсис Гизеля более, кажется, сделал вреда, чем пользы нашей отечественной истории. он распространил много ложных сведений, которые ввели в заблуждение некоторых наших писателей XVIII столетия» (С т а р ч е в с к и й А. Очерк литературы русской истории до Карамзина. СПб., 1845. С. 83). 17 было подкреплено календарной реформой, проведенной Петром I, в результате которой летоисчисление стало вестись не от сотворения мира, а от Рождества Христова, что передвинуло точку отчета сразу на 5508 лет. Появился новый праздник — Нового года, ритуально фиксировавший цикличность временных процессов, кроме того, это заставляло ориентироваться на европейский календарь. Календарная реформа усилила восприятие перелома, создала ощущение перехода некоего временного барьера, после которого началось как бы другое время. Особенно ярко сказалось это на том поколении, которому довелось жить на этом переломе и осмысливать его в контексте повседневных событий. Вот пример, на который обращает внимание Н. Я. Эйдельман, — надпись на надгробии Михаила Юрьевича Щербатова, отца знаменитого историка М. М. Щербатова: «1738 года сентября 26 дня погребен здесь генерал-маэор и Архангельской губернии губернатор, князь Михаил Юрьевич Щербатов, который родился в 186 году [7186, или по-нашему 1678 г.— Т. А.] ноября 8 дня и по возрасте его 14 лет, в 200 г. [в 7201, или 1678 г.— Т. А.] взят в комнаты блаженные и вечно достойные памяти Его императорского величества Петра Первого, а в 201 году [в 7201, или 1693 г.— Т. А.] пожалован в порутчики в лейб-гвардии Семеновский полк и был на Воронежских, Азовских походах и под Керчью, а в 1770 году [уже по новому стилю! — Т. А.] пожалован в оном же полке капитаном и служил оба нарвские походы под Шлиссенбургом и под Лесным на Левенгубской баталии, и под Гроднею, также и на турецкой акции под Прутом. 1705 майя 5 числа пожалован от инфантерии полковником. И потом был на многих баталиях, а в 1729 году пожалован от Его императорского величества Петра II бригадиром и находился при полках. 1731 года апреля 28 числа пожалован при коронации Ее императорского величества Анны Иоанновны за отличие службы в генерал-маэоры, потом определен в Москве в обер-коменданты, а в 1732 году июля 26 числа по всемилостивейшему Ее императорского величества именному указу послан в город Архангельск в губернаторы, и находился там при делах Ее императорского величества 6 лет, и во шестое лето преставился в городе же Архангельске сего 1738 года июля 22 числа в 7 часов пополудни 52 минуте, на память святой равноапостольской Марии Магдалины, а тезоименитство его ноября 8 дня…» 9 9 Цит. по: Э й д е л ь м а н Н. Я. Твой 18-й век. М., 1991. С. 64. 18 Современники отмечали сильное и неоднозначное впечатление, которое произвела перемена летоисчисления и перенос празднования Нового года на простой народ. Так, например, И. Голиков отмечает, что многие удивлялись тому, «как мог Государь переменить солнечное течение, и, веруя, что Бог сотворил свет в сентябре месяце, остались при своем старом мнении» 10. Петр, конечно, понимал, что перемены, связанные с привычным укладом жизни, воспринимаются болезненно, поэтому продумал систему мер, если не смягчающих их, такой цели он не ставил никогда, то демпфирующих недовольство. И. Голиков пишет: «Ведая же умоначертание народа своего, всякую перемену обрядов относившего насчет, так сказать, веры, каковою казалась им и сия, то, дабы на то время занять народные мысли каким другим предметом, рассудил премудрый Государь установленный им новый 1700 год начать с великим торжеством и представить очам народа такие зрелища, каких он не видывал и которые бы сильны были отвлечь его от всяких других развратных толкований» 11. Петр велел украсить столицу зеленым ельником, хорошо иллюминировать, а также отметить событие пушечной пальбой. Всю ночь митрополит Рязанский Стефан служил «со всем церковным великолепием» и колокольным звоном. Затем он произнес проповедь, в которой указал на необходимость и пользу проводимого мероприятия. Для народа были выставлены вино, пиво и угощение, а для приближенных устроен бал. Календарная реформа — не единственная черта, отделившая XVIII в. от предшествующего. В Петровскую эпоху были осуществлены реформа алфавита и введение гражданского шрифта, разделившие церковную и светскую литературу, церковная реформа, реформа костюма, этикета и многие другие. Петровский человек стал иначе писать и говорить, одеваться, вести домашние дела, любить, общаться с друзьями. Он начал по-другому питаться, стал жить в других домах, сменил ценностные и образовательные ориентиры. «Птенцы гнезда Петрова» были не просто иные, как в общем-то и подобает любым «птенцам», они были демонстративно иные, принадлежащие другому времени и даже отчасти другой стране. В Петровскую эпоху Россия обрела несколько парадоксальный эпитет, воспроизводившийся впоследствии с завидным постоянством — 10 Г о л и к о в И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России. Ч. II. М., 1788. С. 6. 11 Там же. С. 3–4. 19 «молодая». «Древняя Русь» трансформировалась в «Молодую Россию», создав иллюзию не только сдвига или перелома, но и некоего круговорота. Идея циклического, или коловратного, движения времени была характерна для первой половины века. Разрабатывалась концепция «мировых часов», «мирового коловорота», «мирового маятника» и т. д. Историческое время пытались выразить в метафорике прибора, измеряющего время, отсюда — «часовые» метафоры, связанные с циферблатом, стрелками, маятником и т. д. Развивая понравившуюся ему идею Лейбница, Петр I сказал по поводу спуска на воду нового военного корабля: «Историки, между прочим, доказывают, что первый и начальный Наук престол был в Греции, откуда, по несчастию, принуждены были они убежать и спрятаться в Италии, а по малом времени рассеялись уже по всей Европе; но нерадение наших предков им воспрепятствовало и далее Польши пройти не допустило. Я не хочу изобразить другим каким-либо лучшим образом сего Наук прехождения, как токмо циркуляциею, или обращением, крови в человеческом теле, да и, кажется, я чувствую некоторое в сердце моем предвидение, что оные науки убегут когда-нибудь из Англии, Франции и Германии и перейдут для обитания между нами на многие веки, а потом уже возвратятся в Грецию на прежнее свое жилище» 12. «Мир никогда не останавливается, — пишет Н. И. Новиков, — беспрестанно в движении находится, и в сих бесконечных его переменах время пожирает и паки возвращает великие зрелища, кои принадлежат до круга периодических происшествий» 13. Ощущение времени как движущегося, изменяющегося, текучего предполагало обсуждение вопроса о том, меняет ли оно качественную определенность, на то ли самое место возвращается маятник исторических часов, те ли же самые цифры указывают их стрелки. Такую «маятниковую» модель рассматривает А. Н. Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву». Он пишет: «Христианское общество вначале было смиренно, кротко… потом усилилось, вознесло главу, устрашилось своего пути, вдалось суеверию; в исступлении шло стезею народам обыкновенною; воздвигло начальника, 12 Цит. по: Т е з а у р Э м м а н у и л . Философия нравоучительная… СПб., 1764. С. 1–2 (Предисловие). 13 Цит. по: Д е р г а ч е в И. В. Из истории русской общественной мысли 70-х годов XVIII века// Ученые записки Ульяновского гос. пед. ин-та . Серия историческая. 1969. Т. XXI. Вып. 5. С. 235. 20 расширило его власть и Папа стал всесильный из царей. Лутер начал преобразование, воздвиг раскол, изъялся из-под власти его и много имел последователей. Здание предубеждения о власти Папской рушиться стало, стало исчезать и суеверие: истина нашла любителей, попрала огромный опыт предрассуждений, но не долго пребыла в сей стезе. Вольность мыслей вдалась необузданности… Дошед до краев возможности, вольномыслие возвратится вспять. Сия перемена в образе мыслей предстоит нашему времени» 14. Радищев считал, что современное ему время находится как бы «между» двумя «суевериями». От одного оно уходит, а к другому стремится. «Блаженны, что не увидим нового Магомета» 15, — заключает он свое рассуждение. Осмысление «неуловимого» времени предполагало включение в число исторических дисциплин специальной науки хронологии, которая, как отмечает профессор Московского университета Филипп Генрих Дильтей, «обучает нас полагать время каждому приключению, когда оное происходило» 16. Хронология «служит к тому, чтобы мы могли следовать истории, не смешивая приключений одних с другими… Хронология не допускает смешивать персов, например, победителей при Кире, с персами ж, побежденными Александром; Грецию во времена Фемистокла и Мильтиада и Грецию во времена Филиппа; добродетель мужественную и строгую храбростию римлян во время Фабриция и их нежность во время Августа» 17. Для обозначения времени вводятся «особливые слова»: «век», «лустр, или пятилетие» (употребляется только в стихах), «олимпиада», «эгира» (хиджра — понятие, связанное с началом мусульманского летоисчисления — днем 26 июля 622 г., когда Мухаммед переселился из Мекки в Медину), «солнечный круг» (28 лет), «лунный круг» (19 лет), «индикт» (15 лет, мера времени, употреблявшаяся в Древнем Риме), «анахронисм» и «период Юлианский». Более крупные категории это — «эра» и «эпоха». «Эра» — «основание времени, определенное каким-нибудь особливым народом, от которого начинают считать годы» 18; «эпоха» «есть утвержденная точка, или 14 Р а д и щ е в А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву// Радищев А. Н. Полн. собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М.; Л., 1938. С. 260–261. 15 Там же. С. 261. 16 Д и л ь т е й Ф. Г. Первые основания универсальной истории с сокращенною хронологиею в пользу обучающегося российского дворянства: В 3 ч. Ч. 1. М., 1762. С. 7. 17 Там же. С. 9. 18 Там же. С. 11. 21 определенное и примечанию достойное в истории время, которое, будучи обыкновенно установлено в некотором особливом приключении, употребляется хронологистами, начинающими считать годы»19. В XVIII в. историческое время еще не полностью отделилось от мифологического. При этом библейская мифология предстает в причудливом соединении с античной. Тот же Дильтей приводит различные виды исторической классификации. Так, исторический процесс можно разделить «на семь веков»: I век — от сотворения мира до потопа (1657 лет); II век — от окончания потопа до смерти Авраама в 2083 г. (426 лет); III век — от смерти Авраама до освобождения израильского народа от египетского рабства в 2513 г. (430 лет); IV век — от Исхода до момента полного завершения храма Соломона в 3000 г. (487 лет); V век — от сотворения храма до окончательного плена израильского народа в 3468 г. (468 лет); VI век — от вольности, данной израильтянам Киром, до рождества Иисуса Христа в 4000 году (532 года); VII — от Рождества Иисуса Христа по 1762 г. Можно и на две части: до Рождества Христова (время Ветхого завета, или древняя история) и после Рождества Христова (время Нового завета, или новая история). Возможны и другие классификации. Так, например, следуя мнению Варрона, историческое время можно разделить на «темное и неподлинное» (от творения человека до потопа); «баснословное» (от потопа до Олимпийских игр) и «историческое» (от Олимпийских игр до нашего времени). Можно использовать и деление «древних стихотворцев», которые рассматривают исторический процесс как смену «золотого», «серебряного», «медного», «железного» веков. Мифологические события тесно перемешаны с историческими, порой они полностью сливаются. Так, отвечая на вопрос: «какие были первые жители в Америке?», — Дильтей говорит: «финикийцы и хананеи». Объясняя, «как хананеи зашли в Америку», он пишет: «Они, будучи выгнаны из своих земель от Иисуса Навина, пошли в Африку, откуда, по их поселении в Мавритании, распространились по морю Атлантическому, сперва до островов Счастливых, а потом до противоположной матерой земли, которая есть Америка» 20. Спрашивая: «Что нам известно об американцах во время Соломона?», — он пишет: «Хирам, царь Финикийский, и Соломон, царь Израильский, отправили в то же время флоты свои в Америку 19 20 Там же. С. 23. Там же. Ч. 2. М., 1763. С. 323–325. 22 для сыскания там сокровищ, откуда Соломон получил чрезвычайное множество самого лучшего и самого чистого золота на строение храма Иерусалимского» 21. И далее: «Скифы, пришед в Америку от севера, разорили все то, что финикияне сделали, и завладели оною землею» 22. Учитывая, что Хирам, Соломон и события, связанные со строительством храма Соломона, активно использовались масонской мифологией, нельзя не увидеть здесь дополнительные аллюзии. Фактически «Первые основания универсальной истории…» тесно связаны с утопическими построениями XVIII в., особенно ярко выраженными в социально-политической утопии М. М. Щербатова «Путешествие в землю Офирскую». Отсутствие достаточной информации об Америке «прежде приходу гишпанцов» дополняется библейско-масонской мифологией. Использование мифологических данных в качестве исторического источника, прямого или косвенного, являлось методологической установкой русских мыслителей. В статье «О пользе мифологии» Г. В. Козицкий (1725?–1775) пишет о том, что без изучения мифологии невозможно понять строй мышления древних народов, в особенности сочинения историков, географов, писателей и философов. Каждое мифологическое понятие, каждый образ многообразно вписан в культуру и насыщен историческими аллюзиями. Мифология важна как для гуманитарных, так и для естественных наук. Так, например, астрономия зафиксировала свои мифологические истоки в названиях небесных светил. Эта ситуация сохраняется до сих пор, и все попытки ее изменить можно воспринимать не более как курьезы. Козицкий приводит пример с астрономом Юлием Шиллером, который, следуя учению Беды Достопочтенного, решил сделать небо «христианским». Он поменял названия созвездий следующим образом: • Большую Медведицу назвал он Святым Архангелом Михаилом; • Дракона — младенцами, избиенными от Ирода; • Дельфина — Водоносом в Кане Галилейской; • Андромеду — гробом Христовым; • Овна — Святым Апостолом Петром; • Быка — Святым Андреем; 21 22 Там же. С. 325. Там же. С. 327. 23 • Ориона — Святым Иосифом и т. п. 23 Этому примеру попытался последовать некто Ерард Вейгель, который, «для сыскания себе у высоких особ милостии и у всех людей похвалы, вознамерился выдумать новое небо, которое он назвал Геральдическим и вместил в оное гербы европейских государей, князей и прочих людей» 24. Он, в свою очередь обозначил: • Большую медведицу — Слоном королевства Датского; • Лебедя — рукой с мечом, символом саксонского двора; • Плеяд — Пифагоровой таблицей, «которую он за герб купеческий почитал» 25. Истоки естественнонаучных предположений о начале мира тоже погружены в неопределенность мифологических описаний. Вся античная философия описывала (со)творение мира именно мифологическим образом, «баснословие почитая за науку о естестве вещей, и о происхождении их, о свойствах и переменах, случающихся в натуре» 26, а «Исиодово родословие богов в самом начале не что иное есть, как философское мнение, каким образом сей мир сотворен» 27. Лукреций и Эпикур, описывая Венеру, подразумевали «под именем сей богини фисическую по своей философии силу, всем вещам бытие и пребывание дающую» 28. Более всего важно изучение мифологии для наук гуманитарных, прежде всего для истории. Нет сомнения в необходимости и важности ее изучения. «История представляет нам начала, укрепление и распространение государств, подает основательные правила и показывает в самом деле сбывшиеся примеры к управлению целых народов, описывает прехвальные и вечной славы достойные дела мужей знаменитых, определяет точное время когда, каким образом и кем населены ужасные пустыни и непроходимые дубравы, когда пагубными неприятельскими войнами или междуусобными раздорами цветущие пред тем разрушились царства. Сия толь нужная, полезная и приятная наука не может достигнуть к совершенству без мифологии» 29. Но «история, приближаясь к своим началам, теряется, 23 См.: К о з и ц к и й Г. О пользе мифологии// Трудолюбивая пчела. Генварь. 1759. Там же. С. 20. 25 Там же. С. 21. 26 Там же. С. 22. 27 Там же. С. 22–23. 28 Там же. С. 22. 29 Там же. С. 14. 24 24 наконец, в мифологии» 30. Первые сведения об истории носят характер неотрефлексированного, метафорического, гиперболизированного знания. Однако другой информацией мы не обладаем, поэтому вынуждены научиться читать мифологические тексты. В противном случае, «где сыщем мы о древнейших народах известия, откуда узнаем их происхождение, правление и случившиеся в нем перемены, кто объявит нам имена, родословие, добрые и худые поступки их владельцев, от того уведомимся, где и кем изобретены и заведены различные науки и художества, кем состроены часто в истории упоминаемые города, храмы и прочие удивительные здания!» 31. Разумеется, историческое описание точнее, чем мифологическое, однако и историки противоречат друг другу. Существует мнение, что мифологическое знание опасно, ибо оно «великою помрачает тьмою» истинные события, пропагандирует многобожие и т. п. И все же в «столь просвещенные времена» многобожие не представляет реальной опасности, а за «темнотою» мифологии можно увидеть «свет» событий истинных, и, хотя «сокровенные под баснями», они распознаются не сразу, но другого источника для изучения Древнего мира нет. Переход на «европейское время» демонстрировал, что Россия является не менее «европейской страной», чем все остальные. Этот тезис не только провозглашался в государственных документах, но и стал ориентиром для отечественной историографии. В России пропагандировались и изучались сочинения европейских авторитетов, в рамках концептуальных построений которых осмысливалась история России. Первый шаг предполагал перевод сочинений тех историков, которые писали о России. По инициативе Петра I было переведено «Введение в гисторию Европейскую через Самуила Пуфендорфия, на немецком языке сложенное…» (СПб., 1723) . «Гистория…» Пуфендорфа содержала раздел «О России или обще о Московии», где автор не очень лестно отзывался о «природе россиян». Он пишет: «Ниже бо россияне тако суть устроены и политичны, яко же прочии народы европейскии. В письменах же толь неискусны суть, яко в писании и прочтении… Паче же и самые священницы толико суть грубы и всякого учения непричастны, яко токмо прочитовати едину и вторую Божественного писания главу, или толкование Евангельское, умеют, больше ничего не знают. Зазорны 30 31 Там же. С. 14. Там же. С. 15. 25 и невоздержательны суть, свирепы и крове жаждущие человецы, в вещех благополучных бесчинно и нестерпимую гордостию возносятся; в противных же вещех низложеннаго ума и сокрушеннаго … Низкий же народ паче удобен есть. Рабский народ, рабско смиряется и жестокостию власти воздержатися в повиновении любят» 32. По поводу этого перевода существует любопытный анекдот «Петра Великого тщательность о переводе иностранных книг на российский язык», вошедший в один из сборников анекдотов о Петре I «Подлинные анекдоты Петра Великого, слышанные из уст знатных особ в Москве и Санкт-Петербурге, изданные в свете Яковом фон Штелиным…». В нем говорится: «… Между прочим, избрал так же сей мудрый монарх превосходную книгу под заглавием “Пуфендорфа введение в историю Европейских государств”. Он отдал ее одному монаху [Гавриилу Бужинскому. — Т. А.], прославившемуся уже хорошими переводами разных книг, и просил его как можно скорее совершить перевод помянутой книги. Монах преложил свое старание и через несколько месяцев изготовил перевод … Царь принял оный от него с приятным видом, несколько листов в нем пересмотрел, как будто бы искал какого места и остановился на одной главе, которая казалась быть последнюю в той книге. Между тем приметили в царе окружающие его, что он переменился в лице и начал приходить в гнев. Он в самом деле вдруг с негодованием взглянул на монаха и сказал: “Безумец! Что приказал тебе я сделать с сею книгою?” “Перевесть”, — ответствовал монах. “Разве это значит перевод?” — продолжал царь и показал ему параграф о Российском государстве, в коем переводчик совсем пропустил хулительные слова о свойствах российского народа, также инде прекрасил некоторые места и несколько делал оные российскому народу ласкательнее. “Пойди сей час”, — говорил потом царь, отдавая ему во гневе ложный его перевод, сделай, что я тебе приказывал и переведи сию книгу во всех частях так, как сочинитель оную написал. И таким образом, оная от слова до слова в подлиннике была переведена и по выпечатании оной в четвертую долю листа посвящена царю и вручена ему при возвращении его с победоносного Персидского похода иеромонахом и префектом Гавриилом в 1723 г. При вышепомянутом случае пространнее говорил император, что он сию главу не в поношение своих подданных хотел напечатать, но ко 32 П у ф е н д о р ф С. Введение в гисторию Европейскую через Самуила Пуфендорфия, на немецком языке сложенное… СПб., 1723 . С.737–738. 26 исправлению их и сведению что до сего об них в других землях заключали, и дабы они мало-помалу могли познавать, каковыми они до сего были и какими ныне посредством его трудов сделались» 33 . Следует отметить, что второй переводчик «Введения в историю…» С. Пуфендорфа 1767 г., Борис Волков, не стал сокращать текст, но снабдил каждое критическое замечание автора подробнейшими комментариями и опровержениями, суть которых сводилась к тому, что если «московиты» и обладали подобными качествами, то последующие блестящие правления полностью изменили положение дел. Тот же Штелин приводил анекдот «Петра Великого попечение о российских летописях», в котором говорится о внимании, уделяемом Петром I историческим исследованиям. Он пишет: «Как некогда при дворе Петра Великого зашел разговор о древней Российской истории и сему монарху рассказано, что уже много древних российских достопримечательностей в Германии, Франции и Голландии издано в свет, но сказал сей прозорливый государь: “Это все ничего не значит. Могут ли сии люди писать что-нибудь о древней нашей истории, когда мы еще сами ничего об оной не издавали? Может быть, они только нас побуждают к тому, чтоб дать о том лучшее сведение. Я довольно знаю, что подлинное начертание древней Российской истории рассеяно по разным местам государства и в монастырях у монахов сохраняется. Я уже давно имел намерения поручить хорошему повествователю написание истинной древней Российской истории, но всегда имел в том препятствие”. Вскоре потом (1722 года) разослал сей монарх свои повеления в знатнейшие монастыри государства, а особенно в новгородские и киевские, чтобы приискать находящиеся там летописи, собрать их и прислать в Московский Синод. Во исполнение сего повеления собраны были рукописные российские летописи, из числа коих была внесена некоторая часть в Императорский кабинет, а оттуда по его кончине в библиотеку Московской синодальной типографии, где сии драгоценные рукописи и поныне тщательно сохраняются» 34. Одним из первых «повествователей» стал «справщик» московской типографии Ф. Поликарпов, получивший от Петра I задание «из русских летописцев выбирать и в согласие приводить прилеж- 33 «П о д л и н н ы е анекдоты Петра Великого, слышанные из уст знатных особ в Москве и Санктпетербурге, изданные в свете Яковом фон Штелиным…» М., 1787. С. 381–384. 34 Там же. С. 197–198. 27 но» 35. Результатом осмысления источников стала «История о владении российских великих князей», однако это сочинение стало по сути новой компилятивной летописью. Она была «не очень благоугодна» Петру I и не вышла в свет. Более концептуальной стала история секретаря Российского посольства в Швеции А. Я. Манкиева «Ядро Российской истории». Он осудил иностранных авторов, «ругающих» народ русский «без чистой совести и срама», противопоставив им изложение наиболее существенных событий российской истории, начиная от Адама и кончая победой Петра I под Полтавой. В главе «О произведении народа рускаго» он приводит подробную генеалогию славянских народов, идущую от Ноя через Иафета и его сына Мосоха. Вероятно, имя шестого сына, Иафета — легендарного прародителя европейских народов, было избрано по созвучию с названием российской столицы, ибо Манкиев, как и многие другие историки, считал, что Москва получила свое имя от Мосоха. Свое сочинение Манкиев посвятил Петру I, но это посвящение не вошло в издание. С. Соловьев в статье «Писатели русской истории XVIII века» приводит этот текст: «Всемилостивейший Царь Государь; Вашего Царского Величества всюду пространно и высоко славимое имя дало мне вину, дабы дерзнуть сей убогий мой труд, в котором история русская собрана, Вашему величеству восписать, а особно повелело мне то славных Вашего Царского Величества дел и над неприятелями побед великолепие, которыми свою высокую и вседражайшую Персону Ваше Величество украсил, и свою державу в надежности поставило так, что Вашего Величества держава Россия своим гербом, си есть, орлом, который от ядовитых змеев угрызения себя и своих птенцов хранячи, на крутых высоких и непреступных каменных горах гнездится обыкл, здесь приосененна, полными усты воспеть долженствует in Petra, или лучше, in Petra secura, в Петре безопасная и надежная стала зане великодушием, бдением, попечением и храбростию Вашего Царского Величества Вседражайшей персоны, от всяких неприятельских ядовитых язв и нападений защищена и обид отомщена, в надежности, как орел на горе жительствует. Что о историях обще надлежит, когда я природу истории помышлю, весьма помышлю, что они великие видению человеческому приносят пользы, понеже в них, как в чистейшем зеркале, прежде 35 Цит. по: П е к а р с к и й П. П. Наука и литература в России при Петре Великом: В 2 т. Т. 1. СПб., 1862. С. 317. 28 живших бытия, советы, речения и дела так добрые, как злые видим…» 36 Петр I прекрасно понимал значимость исторического сочинения и стремился к тому, чтобы его достижения, в первую очередь военные, были зафиксированы историками. Истории он придавал политическое значение, поэтому и историков назначал из своего ближайшего окружения. Так, стал историком вице-канцлер П. П. Шафиров, написавший «Гисторию Свейской войны» и «Рассуждение, какие законные причины его величество Петр Великий … к начатию войны против короля Кароля XII Шведскаго 1700 году имел» (СПб., 1722; написана в 1716 г.). Его книги представляют собой сборник комментированных документов, показывающих вину Швеции и оправдывающую необходимость ведения Россией военных действий. По сути это то же летописное изложение, только выполненное представителем другой социальной группы и в другой системе ценностных измерений. Харизматические черты личности Петра, соединенные с его властолюбием и социально-политическими амбициями, отменяли возможные рассуждения о «законах истории», которые, казалось, не имели смысла применительно к «творцу истории». Прижизненная история Петра могла быть только летописью его славных дел. Поэтому первыми историческими сочинениями стали работы, написанные после его смерти. 36 С о л о в ь е в С. Писатели русской истории XVIII века// Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. Кн. II. Отделение III. 1855. С. 3–4. 29 ВРЕМЯ ПЕТРА С мерть Петра многими воспринималась как катастрофа. Это чувство прекрасно выражено в «Слове на погребение Петра Великого», которое произнес над его гробом Феофан Прокопович. Герой ушел в вечность, и для всех стало очевидно, что прошлое невозвратимо, а будущее непредсказуемо. Имя Петра ассоциировалось с целой эпохой, причем эпохой перелома, «окна в Европу», новой России. Его политическая харизма должна была не только окормлять последующих монархов, но и оправдывать их право на престол. В особенности это касалось женских монархий, устойчивость которых опиралась на непререкаемость авторитета Петра, а также на кровное или духовное родство с Первоимператором. И действительно, если назвать подряд «женщин на троне» в российской истории, то мы можем указать на Екатерину I (1725–1727)— вдову, Анну Иоанновну (1730–1740) — племянницу, Елизавету Петровну (1741–1761) — дочь Петра I. Особое место в ряду «женщин на троне» занимает Екатерина II (1762–1796). Она демонстрирует новый тип отношения к Петру и новый тип женщины у власти. Она не родственница, но идейная продолжательница. Она составляет Петру определенную метафизическую пару, причем делает это основой своей идеологии. 30 Вместе с тем Екатерина I, наследовавшая престол, не только не была личностью, способной олицетворять власть, но, более того, она нуждалась в духовном покровительстве своего царственного супруга и после его смерти. Поэтому она инициировала создание сочинений, в которых и осмысливалась, и увековечивалась жизнь этого человека. В специальном манифесте Екатерины I говорилось: «Великая Государыня Императрица указала: Петру Шафирову сочинять Историю от дней рождения высокославной и вечно достойной памяти Его Императорского Величества до 1700 году или, до начала Шведской войны, какие ведомости ему к тому потребны, по его требованиям отпустить» 1. О Петре было написано немало. Это и «История императора Петра Великого от рождения до Полтавской баталии и до взятия в плен остальных шведских войск при Переволочне включительно» Феофана Прокоповича, «Гистория о царе Петре Алексеевиче» Б. И. Куракина, «О достопамятных случаях в жизни государя императора Петра Великого (от рождения в 1672 году до кончины в 1725 году) краткое описание» Ф. И. Соймонова. Посвященные ему исследования не только описывали жизнь выдающейся личности, но и отчасти пытались осмыслить механизм ее влияния на исторический процесс. Все они связывали успехи петровских начинаний исключительно с особыми качествами Петра: его пытливым умом, знанием людей, личной храбростью, решительностью. Во всех, даже самых незначительных событиях его жизни, привычках, обыкновениях виделся особый смысл, объясняющий значимость его поведения. Хотелось найти объяснение, «разгадать секрет» мотивации поступков великого человека, секрет, который, как тогда казалось, поможет понять, куда и как течет «река времян». Первым посмертным биографом Петра стал автор рукописи «Краткое описание блаженных дел великого государя Петра Великого самодержца Всероссийского, собранное чрез недостойный труд последнего раба Петра Крекшина, дворянина Великого Новаграда» 2. В ней автор изложил события жизни Петра до 1706 г. Имя Крекшина не пользовалось авторитетом среди его современников, не принимают всерьез его свидетельства и современные исследова1 П о л н о е собрание законов Российской Империи с 1649 г. Т. VI: 1723–1727. СПб., 1830. С. 476. 2 См. об этом: П л ю х а н о в а М. Б. История юности Петра I у П. Н. Крекшина// Ученые записки Тартуского Государственного ун-та, № 513. Тарту, 1981. 31 тели историографии XVIII в. Ему предъявлялись обвинения в мелочности, недостоверности. Историк Г.-Ф. Миллер писал, что Крекшин сочинял, «что хотел, чтобы только можно было бы сказать что-нибудь о Петре Великом на каждый день, хотя бы это состояло лишь в том, что государь ходил в церковь или обедал со своей супругой и детьми» 3. По обычаю XVII столетия Крекшин возводил родословие дома Романовых к Гостомыслу, а фактические неувязки считал порчей родословных книг, произведенной Борисом Годуновым. Он даже предлагал Сенату сжечь все книги, в которых род Романовых производится не от Гостомысла. Ему же принадлежит «Описание о начале народа славянского», где он производит все народы Европы «от Московского народа». Летописная форма повествования, избранная Крекшиным, была очень популярна в XVII в. Такого рода жанр получил название «повести о старобытных князьях». В XVIII столетии Крекшин был «еще живым историческим преданием», исследователем, ориентированным на образцы летописного повествования, но не невеждой, каковым считал его Миллер 4. В сочинении «Разговоры в Царстве мертвых, Краткое описание славных и достопамятных дел Императора Петра Великого, Его знаменитых побед и путешествий в разные Европейские государства со многими важными и любопытства достойными происшествиями, представленное разговорами в Царстве мертвых генералфельдмаршала и кавалера Российских и Мальтийских орденов графа Бориса Петровича Шереметева, боярина Федора Алексеевича Головина и самого сего великого Императора с Российским царем Иоанном Васильевичем, Шведским королем Карлом XII, Израильским царем Соломоном и Греческим царем Александром» (СПб., 1788) Крекшин рассказывает о визите Петра I в Англию. Поистине фундаментальным собранием материалов о Петре I стал труд И. И. Голикова (1734–1801). Автор происходил из купеческого звания и не мог получить настоящего образования. Однако он компенсировал это колоссальной работоспособностью и энтузиазмом. Голиков считал себя «в долгу» перед императором, так как в 1782 г. был освобожден из заключения, куда он попал в связи с делом о беспошлинном ввозе «французской водки» по случаю открытия в Петербурге памятника Петру I и покровительства президента 3 4 Цит. по: Там же. С. 17. Там же. С.20. 32 Коммерц-коллегии А. В. Воронцова 5. Существует романтическая легенда о том, что он коленопреклоненно перед памятником поклялся отблагодарить своего избавителя, оставил коммерческие дела и занялся записками 6. Голиков не только изучал то, что было уже написано о Петре, но и расспрашивал старожилов. Екатерина II, узнав о нем, открыла сочинителю библиотеки и архивы. С 1788 г. он начал издавать «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России», а с 1790 г. — «Дополнения к деяниям Петра Великого» в 18 томах. Кроме того, Голиков выпустил в 1798 г. «Анекдоты Петра Великого», а позже книгу в классическом жанре «сравнительных жизнеописаний» — «Сравнение свойств и дел Константина Великого со свойствами и делами Петра Великого» (Ч. 1–2. М., 1810). Сам Голиков считал себя не «историком», а «собирателем», обратившись к такого рода деятельности из «охоты размышлять (философствовать)» 7. Первым поводом для философствования становится для него возможность различных оценок обожаемого героя. Голиков полностью опровергает мнение, высказанное Ф.-И. Страленбергом о сочинении «Das nord- und ostlische Theil von Europa und Asia, in so weit solches das gantre russische Reich mit Siberien und der grossen Tartarey in sich begreiffet» (Stockholm, 1730) 8. Рукописный перевод этой книги попал к Голикову из библиотеки И. И. Шувалова. Он посвящает «неправедным нареканиям Страленберговым на монарха» фактически половину первого тома «Деяний Петра Великого…». Страленберг, бывший шведский офицер, мог познакомиться с жизнью России и оценками Петра современниками, когда находился в России в плену. Он понял, что «в России де есть две стороны людей, из коих одна превозносит Его Величество похвалами, а другая утверждает, что сей монарх более сделал России зла, нежели добра» 9. Хулители Петра утверждают, что он: • «…возводил на высокие степени без всякого различия с дворянами из низкого звания людей»; 5 П л ю х а н о в а М. Б. И. И. Голиков// Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1. Л., 1988. С. 207. 6 С т а р ч е в с к и й А. Очерк литературы русской истории до Карамзина. СПб., 1845. 7 Там же. С. 174. 8 Сочинение Страленберга было издано на английском (Лондон, 1738), французском (Амстердам, 1757), испанском (Валенсия, 1780) языках. 9 Г о л и к о в И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России. Ч. 1. М., 1788. С. 1. 33 • «…определял к себе молодых людей без разбору же, благородных и неблагородных»; • «…тем молодым людям дозволял осмеивать бояр, наблюдающих старинные обычаи»; • «…допускал к стану своему произведенных из простых солдат офицеров и фамильярно с ними обращался, в числе которых негодующие россияне помещали и господина Лефорта»; • «…посылал в чужие края детей боярских для изучения недостойных дворянского звания художеств рукомесел и наук, без разбору же, благородных с подлыми»; • «…без различия же записывал их в солдаты и употреблял во всякие работы»; • «…возвел князя Ромодановского на такую степень, которая его власть подавляла»; • истребил стрельцов; • учредил Тайную канцелярию; • разрешил слугам доносить на своих господ и поощрял их к этому; • наложил новые подати и поборы; • построил Санкт-Петербург; • установил тяжкую обязанность, заключающуюся в очистке каналов; • сделал суды слишком строгими, а судей — невежественными; • отменил формулу «Государь указал и бояре приговорили»; • заставлял себя прославлять в формах, оскорбляющих чувства верующих; • слишком регламентировал деятельность купцов, что привело к «разорению торговли и торгующих»; • слишком жестко проводил политику ориентации на западные ценности, особенно в том, что касалось внешних символов. В результате насильственной перемены платья, бритья бород и т. д. возникло много мятежей и кровопролития; • продемонстрировал свою непомерную жестокость в деле царевича Алексея 10. Голиков более чем на 100 страницах опровергает одно обвинение за другим. Причем аргументы приводятся различные — от фактологических до эмоционально-чувственных. Так, последний пункт 10 Там же. С. 1–3. 34 о жестокости монарха он опровергает, сопоставляя Петра, который не допустил до царствования недостойного сына и тем самым спас нацию, с Марком Аврелием, который не воспрепятствовал, а, напротив, способствовал, чтобы престол занял его сын Коммод, ставший впоследствии тираном. Сочинения о Петре отличались особенным объемом и фундаментальностью. Младшие современники пытались сохранить воспоминание о любом высказывании или поступке почитаемого императора. Так, Ф. О. Туманский издал «Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деяниях императора Петра Великого» в 10 частях (СПб., 1787–1788). «Время Петра» было отражено не только в институциализированных формах «научных трактатов» по истории, но и в метафорико-аллегорических текстах. Под мифологическим «псевдонимом» Персея, Геракла, Ясона, апостола Петра, даже «Петра Великого» Петр I становился героем исторических полотен, од, аллегорических композиций, монументально-декоративных памятников искусства 11. Эти же формы использовались и для выражения оппозиционных настроений. Например, широкое распространение получил сатирический лубок «Как мыши кота хоронили», изображающий его похороны. Нужно сказать, что тема антигероя, царя-антихриста тоже присутствовала в российской историографии. Этому способствовала чуть ли не намеренная установка самого Петра на профанирование не только церковных, но вообще сакральных обрядов и символов: «Хульник и богопротивник, он приказывал встречать себя в торжественные приезды в Москву, подобно Сыну Божию; дети, одетые в белые подстихари, расставленные у триумфальных ворот, с вайями 12 и ветвями, пели при его приезде: “Благословен грядый во имя Господне! Осанна в вышних!” 13 И в другом хотел он уподобиться Христу: во время маскарадных игрищ с нарочно устроенного корабля бросал он на площадь живую рыбу, “яко бысть во явлении Господни апостолам, ловящим рыбы в море на корабле” из Спас- 11 См. об этом: Ш а н с к и й Д. Н. Историческая мысль// Очерки истории русской культуры. Ч. 3. М., 1988. С.122–161. Вайя — ветвь. 13 Это было во время празднования Полтавской победы 21 декабря 1709 г. 12 35 ского монастыря выходил, возложив на главу свою терновый венец, в таком же венце изображал себя на монетах…» 14 Как антихриста изображал Петра глава секты странников, основателем которой был Евфимий (1743–1792). Он написал «Толкование на лова Ипполита, Папы Римского об антихристе», «О злополучных последних временах и о знамениях антихристовых», «Цветник, собранных на старообрядцев» 15. Евфимий дает нумерологическое доказательство того, что Петр является антихристом. «…Оный Петр не принял на себя царского имени, — пишет он, — но восхотел по-римски именоваться: император. А в римлянех оное иператорско наименование без мыслете состоится, яко о том показуется в троязычных букварях, сиречь: иператор. Смысл этого слова тот же, что титин, знаменующий сатану: исчисли обое, титин и иператор, и узришь: 666» 16. Подсчеты Евфимия очень просты, хотя и не совсем добросовестны (по-латыни император пишется все-таки с мыслете — imperator). Как известно, каждой букве церковнославянского, как, впрочем, и русского алфавита, соответствует определенное число. Они выглядят примерно так: и 10 + п 80 + а также : е 5+ р 100 + а 1+ т 300 + о 70 + р 100 = Итого: 666 т 300 + и 8+ т 300 + и 8+ н 50 = Итого: 666 «Все повинующиеся императору антихристу заклеймлены его печатью, — отмечает Евфимий, — отрицаются Христа и предаются дьяволу. Петр I есть чувственный антихрист. Все его повеления ложны, законопреступны и богопротивны» 17. Оппозиционные настроения по отношению к деятельности Петра I выразились в раскольничьей историографии, которая создавалась в традициях житийной древнерусской литературы. Центральным ее сюжетом был конфликт «старой» и «новой» веры. В определенном смысле именно она продолжила «непосредственные» традиции древнерусской литературы, создавая образцы, уже заведомо 14 Ш м у р л о Е. Петр Великий в оценке современников и потомства. СПб., 1912. С. 18. См.: Там же. С. 19–20. Цит. по: Там же. С. 20. 17 Цит. по: Там же. 15 16 36 являющиеся анахронизмами в век Просвещения. Впрочем, рукописная книга в XVIII столетии, особенно в первой его трети, имела столь же широкое хождение, как и печатная. «Тот простой факт, что значительное количество списков древнерусских летописей, хронографов, сказаний, житий и т. п. памятников датируется XVIII веком, наглядно свидетельствует, что с появлением светской рационалистической историографии вовсе не прекратилась средневековая традиция, основывавшаяся на провиденциалистическом понимании истории. Значительная часть русского общества в рассматриваемое время (и даже во второй половине XVIII в.) удовлетворяла свой интерес к отечественной и зарубежной истории за счет памятников донаучного периода развития исторической мысли» 18. Образ Петра-антихриста существовал в культуре как логичная оппозиция Петру-богу. Фигура царя устойчиво пребывала в диапазоне сакральности, вне зависимости от того, в какую сторону отклоняло ее народное восприятие. Вся жизнь Петра сопровождалась необычными событиями и божественными предзнаменованиями. В «Сказании о зачатии и о рождении Петра Великого» П. Крекшин пишет, что в ночь на 11 августа 1671 г. Симеон Полоцкий и Дмитрий Ростовский увидели в небе яркую звезду возле планеты Марс, из чего заключили, что царица Наталья Кирилловна зачала сына. Е. Шмурло обращает внимание на ту естественность, с которой происходит это обожествление царя в поэзии, начиная от ломоносовского «Он бог твой, бог твой был, Россия», заканчивая развернутым образом А. П. Сумарокова, сравнивающего Коломенское, место рождение Петра, с Вифлеемом («Российский Вифлеем, Коломенско село…») 19. Е. Шмурло приводит свидетельство фетишизации персонологического выражения высшей власти, которая чрезвычайно характерна для России. Этот фетишизм является по сути предельным воплощением «лидероцентристской» идеологии, настолько насыщенной в своих чувственно-эмоциональных проявлениях, что она распространяется и на искусство, и на мораль, и на религию. «Инвалид Кирилов, — пишет Е. Шмурло, — имевший случай делить с государем труды и опасности жизни и теперь, пережив царя на много лет, доживающий на покое остаток своих дней. У него был небольшой финифтяной портрет Петра, который он держал посреди образов в 18 19 Ш а н с к и й Д. Н. Историческая мысль. С. 129. Ш м у р л о Е. Петр Великий в оценке современников и потомства. С. 36. 37 переднем углу и поклонялся ему, как иконе: ежедневно лобызал, теплил перед ним свечу, точно это было изображение какого-нибудь угодника. На замечание местного архиерея о несоответствии его поступков с предписаниями православной церкви Кирилов с негодованием возразил: “Петр был как ангел-хранитель, защищал от врагов, наравне делил все трудности походов, едал с нами общую кашу, обращался как равный и отец; сам Бог прославил его победами, не допустил коснуться до него смерти и раны, а ты говоришь: не должно образу его молиться!” Единственное, на что согласился старик, это не ставить свечи, но самый портрет продолжал стоять наряду с образами» 20. Только постпетровское поколение историков смогло осмыслить эту харизматическую фигуру. Так, М. М. Щербатов посвящает специальное исследование выявлению как социально-исторических, так и индивидуально-личностных причин и мотивов тех или иных поступков и решений Петра. В статье «Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого» Щербатов показывает, каким образом соединяются в человеке различные качества, как формируется характер. Историк полагает, что пороки и добродетели не являются трансцендентными и универсальными константами, а связаны с определенной социальной средой и временем. Качества, подвергающиеся моральной оценке, Щербатов предлагает разделить на «врожденные», связанные с темпераментом; «вкорененные», представляющие собой устойчивые комплексы общественных предрассудков; «человеческие слабости» и «нравы» — исторически определенные моральные системы, формирующиеся в результате воспитания. «Признаемся всем, — пишет он, — что жесток был Петр Великий, но возложим отчасти сию жестокость на время, в которое он родился, на обстоятельства и на образ, которым воспитан был… Нужда его заставляла быть деспотом, но в сердце он имел расположение и, можно сказать, влиянное познание взаимственных обязательств государя с подданными» 21. Исторические сочинения, посвященные Петру I, составили целый пласт не только российской, но и мировой историографии, использующей персоналистическую модель в объяснении исторических явлений. Его фигура заняла значимое место в своеобразном 20 Там же. С. 36. Щ е р б а т о в М. М. Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого// Сочинения князя М. М. Щербатова: В 2 т. Т. 2. М., 1898. Стб. 38–39. 21 38 «историческом пантеоне» государственных деятелей «европейского масштаба», олицетворяя эпоху в российской культуре и российской государственности. 39 НОВЫЕ АВТОРИТЕТЫ Н ачиная с учреждения в 1724 г. Петербургской академии наук историческое знание окончательно обрело если не научную, то наукообразную форму. Академия учреждалась из «трех классов» наук — математического, физического, а также «гуманиоры, гистории и права», в котором должны были работать специалисты в области «студиум антиквас» (красноречия и древностей), «истории древней и нынешней», «ндравоучения» (права, политики, этики). Преимущественное внимание уделялось наукам естественного цикла, гуманитарные оказывались на втором плане как «неприкладные» и «непрактические». Статьи по истории выходили в академических изданиях — «Комментариях Санктпетербургской Академии наук» и «Месячных исторических, генеалогических и географических примечаниях в Ведомостях», издававшихся с 1728 г. Однако ни эти издания, в которых публиковали свои сочинения Я. Штелин, Ф.-Г. Штрубе де Пирмонт, Г.-З. Байер, ни лекции по истории в Академическом университете, читавшиеся Г.-Ф. Миллером, И.-Э. Фишером и другими, не давали обобщающего знания по истории России. Далеко не все иностранные ученые, приглашенные в Петербургскую академию наук, этот «рай ученых», по выражению Хр. Вольфа, собирались изучать историю России, многие, находясь на российской службе, реализовывали 40 собственные проекты. Тем не менее они привнесли в систему организующихся научных институтов методологию исследования, принятую в Европе, способствовали включению России в «невидимый колледж» — европейское научное сообщество. Следует остановиться особо на нескольких академиках-иностранцах, оказавших наибольшее влияние на формирование «собственного взгляда» на историю российских исследователей, и, безусловно, спровоцировавших последующее бурное развитие исторического мышления 1. В первую очередь следует назвать имя Герарда-Фридриха Миллера (1705–1783), выходца из Германии, учившегося в Ринтельнском, а затем в Лейпцигском университетах. Как пишет А. Старчевский, «еще в детстве прочили ему, что он будет служить России по энтузиазму, показанному им при виде Петра Великого, когда монарх проезжал через Герфорд» 2. В 1725 г. Миллер был приглашен в Петербургскую академию наук и зачислен в нее адъюнктом. Затем он получает должность преподавателя латинского языка, истории и географии в академической гимназии. В 1728 г. он становится редактором газеты «Санкт-Петербургские ведомости», которая издавалась Академией наук, в 1732 г. — редактором исторического журнала «Sammlung russischer Geschichte», выходившего на немецком языке в 1732–1765 гг. С 1731 г. — член Академии наук. Объектом исследований молодого немецкого ученого становится российская старина. Он анализирует древнерусские летописи, переводит на немецкий язык «Повесть временных лет». В 1733– 1743 гг. Миллер осуществляет экспедицию в Сибирь, результатом которой стал фундаментальный труд «Описание Сибирского царства и всех происшедших в нем дел от начала, а особливо от покорения его русской державой по сии времена». Первый том вышел на русском языке в 1750 г. и переиздан в 1763 г., отдельные части второго тома печатались в «Ежемесячных сочинениях». Полностью сочинение Миллера на русском языке появилось только в 1941 г. 3 Ему принадлежит также «Описание живущих в Казанской губернии языческих народов, яко то: черемис, чуваш и вотяков. С показанием 1 См. об этом: А л п а т о в М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII — первая половина XIX века). М., 1985. 2 С т а р ч е в с к и й А. Очерк литературы русской истории до Карамзина. СПб., 1845. С. 261. 3 М и л л е р Г.-Ф. История Сибири. Т. 1–2. М.; Л., 1937–1941. 41 их жительства, политического учреждения, телесных и душевных дарований, какое платье носят, от чего и чем питаются, о их торгах и промыслах… С приложением многочисленных слов на семи разных языках, как то: на казанско-татарском, черемисском, чувашском, вотяцком, мордовском, пермском и зырянском…» 4. Как видно из названий этих сочинений, Миллер был не только историком, но и лингвистом, географом, этнографом и т. д. Его сочинения являются уникальным источником по ныне исчезнувшим языкам и используются современными исследователями. Кроме того, Миллер — крупнейший собиратель рукописей и исторических документов. До сих пор так называемые «портфели Миллера» привлекают внимание историков богатством собранных в них материалов. «Исторический энциклопедизм» Миллера соответствовал «энциклопедическому» взгляду на науку. «Многознание» и специализированность в различных областях исследователей XVIII в. не означали какой-то особенной эрудиции или таланта. Это было следствием «монологического» метода, выработанного в недрах умозрительного метафизичествования, который применялся последовательно ко всем областям знания, давая прекрасные результаты. Новое, «научное» видение мира, отличавшее век Просвещения, предполагало предварительное «наведение порядка» в океане разрозненных фактов. Именно поэтому XVIII в. был «веком классификаций», которые давали возможность создать из Хаоса обыденного знания Космос упорядоченных научных теорий. Конечно, «метод умозрительных классификаций» требовал определенной эрудиции, но она должна была отличаться скорее «широтой», нежели «глубиной». Исследователи явно или неявно ориентировались на принципы, сформулированные Хр. Вольфом, а в России популяризировавшимися Г. Н. Тепловым. В первом на русском языке учебнике по философии «Знания, касающиеся вообще до философии, для пользы тех, которые о сей материи чужестранных книг читать не могут» Теплов пишет о видах философского познания. Философию он рассматривает в самом общем виде — как «отыскание причин явления», полагая, что именно философский подход является теоретическим основанием любой науки. Философское познание может быть трояким: историческое, что означает «знать вещи просто бытность», собственно философическое, предполагающее необходимость и потребность «знать бытности причину» и высшее — мате4 См.: Е ж е м е с я ч н ы е сочинения. СПб., 1756, июль–август. 42 матическое, означающее исследование причины и постижение ее «количества и силы» 5. Историческое познание имеет чувственный характер, это «голое известие о бытности» 6, поэтому его необходимо дополнить философским, могущим «вещь доказывать через ее причины» 7, и математическим. Таким образом, историку предписывалось не только собирать и описывать факты, но сравнивать, анализировать и интерпретировать. В 1747 г. Миллер был назначен на должность ректора Академического университета и получил звание российского историографа, что дало ему новые возможности для работы, в том числе в государственных архивах. Он принимает российское подданство и становится одним из представителей российской науки немецкого происхождения. Феномен «немцев в России» или вообще «иностранцев на российской службе» и их заслуги перед российской наукой требуют отдельного исследования. Следует отметить лишь то, что «диаспора иностранных ученых» возникла в России не случайно 8. Высокий уровень развития науки предполагает не только наличие талантливых и образованных исследователей, но и создание благоприятных условий для работы, наличие специальных социальных институтов, определенный уровень оценки научных достижений. Многие российские академики, будучи иностранцами по происхождению, развивали российскую науку, или, что будет точнее, «науку в России», ибо наука — явление вненациональное, но не внегосударственное. В России именно государство являлось организатором и научных институтов, и научных исследований, это привело к определенной «официализации» и безусловной идеологизации науки. Если в естественных науках это казалось не таким явным, то в гуманитарных, и в частности в исторических, часто было не только очевидно, но даже и демонстративно. Сам Миллер неоднократно утверждал, что он далек от политики и не склонен идеологизировать свои выводы: 5 Т е п л о в Г. Н. Знания, касающиеся вообще до философии для пользы тех, которые о сей материи чужестранных книг читать не могут. СПб., 1751. С. 67. 6 Там же. С. 80. 7 Там же. С. 105. 8 См. вышедшие недавно материалы русско-немецкого семинара: «Немцы в России. Руссконемецкие научные и культурные связи» — «Н е м ц ы в России: Проблемы культурного взаимодействия». СПб., 1998 и «Н е м ц ы в России: люди и судьбы». СПб., 1998. 43 «Историк должен казаться без отечества, без веры, без государя» 9. Тем не менее он переживал, когда находил в сочинениях иностранных авторов рассуждения, способствующие «бесславию российского народа». В заметке под названием «Предложение, как исправить погрешности, находящиеся в иностранных писателях, писавших о Российском государстве» 10, Миллер пишет о том, что в зарубежных работах о России часто не учитываются те изменения, которые произошли в стране в XVIII в. Характерно, что он не считает «абсолютной точкой отсчета» Петра Великого, справедливо полагая следующее: между «великими деяниями» Алексея Михайловича и преобразованиями Петра стоит очень важная фигура Федора Алексеевича 11, недолгое (1676–1682 гг.), но насыщенное яркими свершениями правление которого несправедливо забыто историками. Миллер посвящает жизни и правлению этого царя специальное исследование 12. «Всякой, читая со вниманием печатанные в чужестранных землях о Российской империи книги, — пишет Миллер, — и сам имея некоторое знание в Российской истории и географии, не может спорить, что оные книги наполнены премногими погрешностями, что очень много в них недостает того, что потребно к обстоятельному знанию о России и что повторяются в них разные известия, писанные лет тому назад за сто и за двести, к бесславию российского народа, равномерно как бы оныя времена еще не миновались, в коих предки наши более к войне, нежели к другим наукам склонны будучи, имевши с иностранными народами весьма малое сообщение, конечно, от нас, их потомков, нравами и обхождением (в чем признаться нам не стыдно) несколько были отличны. Но за что нас попрекать всегда теми же пороками, когда оные при воссиявшем наук свете, обстоятельным познанием должностей, коими мы Богу, 9 Цит. по: М и л ю к о в П. Н. Главные течения русской исторической мысли. Т. 1. СПб., 1897. С. 96. 10 А. Б. Каменский предполагает, что поводом для написания этой статьи стала обида Миллера, российского историографа, который вместе с Ломоносовым должен был готовить материалы для Вольтера, получившего предложение правительства Елизаветы Петровны написать сочинение о Петре I. Согласно Миллеру, такая работа была бы лучше сделана отечественным автором. (см.: К а м е н с к и й А. Б. Судьба и труды Г.-Ф. Миллера// Миллер Г.-Ф. Сочинения по истории России. Избранное. М., 1996. С. 389). 11 См. о нем: Б о г д а н о в А. П. Царь Федор Алексеевич: философ на троне// Философский век: Альманах. Вып. 2. СПб., 1997. С. 83–98. 12 См.: М и л л е р Г.-Ф. История жизни и царствования Феодора Алексеевича// Миллер Г.-Ф. Сочинения по истории России. Избранное. С. 320–354. 44 ближнему и самим себе обязаны, коротко сказать, изучением нравоучительной науки и разумным подражанием всему тому, что у других благонравных народов похвалы достойное примечается, хотя не у всех, однако у лучшей части российского народа благополучно прекратились» 13. Миллер отождествляет себя с россиянам, говоря о «наших предках», употребляет значимое в данном контексте местоимение «мы». В нереализованном «Проекте создания Исторического департамента Академии наук» он пишет о том, что история России плохо известна в Европе. Это связано отчасти с тем, что о ней писали преимущественно иностранные авторы, а «сколько в иностранных печатных книгах об оной ни находится, однако ж такие описания в славу Российской империи служить не могут, потому что сочинители тех книг, яко иностранцы, которые в России ненадолго пребывание имели и российского языка довольно не знали и довольных способов к такому важному делу не имели, также иногда, следуя своим пристрастиям, сущей правды не высмотрели, или иные, и не бывши в России, к описанию об оной устремились, и одни из сочинений других выписывали или неосновательным разглашениям поверили, или только то, что в публичных ведомостях объявляется, за основание приняли» 14. Миллер призывает усилить внимание к развитию отечественной исторической науки и на основании тщательного изучения источников создать подробную и правдивую историю Российского государства. Однако Миллеру не удалось сохранить результаты своих исследований вдали от политико-идеологических проблем. 5 сентября 1749 г. в день именин Елизаветы Петровны Миллер должен был произносить речь на торжественном собрании Академии наук. Эта речь носила название «Происхождение народа и имени Российского». Она положила начало бурному обсуждению так называемого «варяжского вопроса». Собственно сама проблема была сформулирована еще Готлибом Зигфридом Байером (1694–1738), переехавшим из Германии в Россию в 1726 г. До Байера этим вопросом пытался заниматься Г. Лейбниц. Генеалогия входила в число интересов великого мыслителя, тем более, что знание этой науки 13 М и л л е р Г.-Ф. Предложение, как исправить погрешности, находящиеся в иностранных писателях, писавших о Российском государстве// Миллер Г.-Ф. Сочинения по истории России. Избранное. М., 1996. С. 15. 14 [П р о е к т создания Исторического департамента Академии наук]// Там же. С. 353. 45 упрочивало его положение при европейских дворах. Обсуждая проблему происхождения Рюрика с берлинским библиотекарем Матюреном-Весьером Ла-Крозом, интересовавшимся русской историей, Лейбниц высказывал предположение о том, что Рюрик являлся датчанином. Он считал, что страна, из которой вышли варяги, называлась Вагрия. По его мнению, Вагрией называлась область, в которой находился г. Любек и которая была прежде населена славянами 15. Петр I хотел, чтобы Лейбниц продолжил исследование этого вопроса, и поручил Я. В. Брюсу вступить с ним в переписку, однако смерть Лейбница в 1716 г. приостановила на время обсуждение данной темы 16. Байер являлся специалистом в области восточных языков и истории Древнего мира. Переехав в Россию, он считал себя ближе к Востоку. В Петербурге он изучал санскрит. Древнерусские летописи он изучал в немецких переводах, однако именно ему принадлежит первое слово в формулировании норманнской теории, которую он подробно обосновал в книге «О варягах» (СПб., 1767). До Байера происхождение Рюрика как потомка Августа, а вслед за ним и московских царей было принято выводить из Пруссии. Основываясь на собственном прочтении первых, самых «темных» строчек Радзивилловского списка «Повести временных лет», Байер полагал, что эти генеалогические линии ведут в Скандинавию. Собственно, вопрос о том, кем был Рюрик, «немцем» или «варягом», сам по себе не мог иметь столь важного значения, которое он приобрел позже. «Байер был безусловно прав, отрицая родословную русских царей как начинающуюся якобы от Августа. Из петербургских академиков-немцев он первым начал высвобождение древнейшей русской истории из тумана легенд» 17, — отмечает М. А. Алпатов. Сложность заключалась в выводах, которые сделал историк и которым был приписан статус политической проблемы. Главная причина спора была сформулирована В. К. Тредиаковским, который, кстати, отстаивал славянское происхождение Рюрика. Он писал: «Хотя нет ни одного, мню, в истинных россиянах, собственно так называемых ныне, который бы не всем желал серд15 См.: Г е р ь е В. Отношение Лейбница к России и Петру Великому по неизданным бумагам Лейбница в Ганноверской библиотеке. СПб., 1871. С. 102. 16 С т а р ч е в с к и й А. Очерк литературы русской истории до Карамзина. С. 107. 17 А л п а т о в М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII — первая половина XIX века). С. 17. 46 цем, чтоб презнаменитым варягам руссам, прибывшим к нам государствовать в нас и бывших достославными предками великолепных самодержцев наших, быть точно сими нынешними и всегдашними россиянами, произойти издревле от сего, конечно, российского корене и говорить, с самого начала сим одним нашим языком славенороссийским: однако утверждения иностранных, и еще не бесславных, писателей оных не токмо делают наши желания тщетными, но еще всех нам путей едва не пресекают, чтоб мощи сердцам нашим хотя только того желать уже с основанием. Сие коль есть ни превосходное и твердое предрассуждение о достоинстве первоначальных наших государей, для того, что писатели как на перерыв друг перед другом присвояют их к разным славным и храбрым народам, однако ж нам несколько предоссудительное, как отъемлющее у нас собственное наше и дражайшее добро, и через то лишающее нас природныя нашей славы. Когда ж инославными писателями изобрели за должное по единому самолюбию токмо, как мнится, повествовать о высокопоставленных варягах, и воля своих читателей, по степеням вероятности, потщилась удостоверять их, что будто сии варяги нам чужеродные и от нас разноязычные, то мы не ободримся ль изобресть за должнейшее, имея в том преискреннейшее участие, чтоб нам утверждающимся на самой, поскольку возможно достоверности, описать наших началобытных самодержцев как единоязычными, так и тождеродными с нами? Возможно ль, говоря откровенно, и достойно ль пребыть своим бездейственным при чужих пререкающим удовольствием, да и не стремиться к исторжению отъемлимого у нас не по праву? Высота, светлость и превосходство первенствовавших верховно у нас Великих князей к тому нас обязывают, а честь цветущего, всегда и ныне, российского народа, не умолкая возбуждает. Должно, должно было давно уж нам препоясаться силами, не токмо к восприпятствованию, не весьма удостояющихся в рассуждении сего заключений, но и к утверждению и как будто по вкореняемому насаждению светозарныя истины и непоколебимыя правды» 18. Вопрос о происхождении государства, государственной власти, закономерном характере установления того или иного типа политического режима не мог не находиться в центре историософских размышлений. Собственно говоря, государственное покровительст18 С о л о в ь е в С. Писатели русской истории XVIII века// Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. Кн. II. Отд. III. 1855. С. 47–48. 47 во историческим исследованиям предполагало, что они будут являться частью официальной идеологии. При этом вопрос о началах государственности формулировался так: «Кто первый стал княжить?» Исторический персонализм не давал возможности поставить вопрос иначе, вне зависимости от некоей личности, которая должна была бы служить первоначальной точкой отсчета. Как в философской антропологии «происхождение народа и имени Российского» исследовалось от Адама, так и в государственно-правовой теории оно должно было вестись от первого правителя. Таким образом, отвечая на вопрос о том, «Кто был Рюрик?» — исследователь делал вывод о самостоятельности российской государственности или ее заимствованном характере. Именно так и поняли свою задачу академики, обсуждавшие «скаредную диссертацию» Миллера. Прежде всего против нее выступил М. В. Ломоносов, подробно и резко осудивший ее недостатки в «Репорте в Канцелярию академии наук 16 сентября 1749 г.». Главное обстоятельство, возмутившее Ломоносова, заключалось в том, что славяне показаны в ней «подлым народом», которых все побеждают и которые не имеют даже собственного имени, кроме данного им «чухонцами». Ломоносов полагал, что Рюрик происходил из славянского племени роксолан. На стороне Ломоносова выступили С. П. Крашенинников, Н. И. Попов, В. К. Тредиаковский, И. Э. Фишер, Ф.-Г. Штрубе де Пирмонт. Обсуждение диссертации носило чрезвычайно бурный характер. Сам Ломоносов писал: «Сии собрания продолжались больше года. Каких же не было шумов, браней и почти драк! Миллер заелся со всеми профессорами, многих ругал и бесчестил словесно и письменно, на иных замахивался палкою и бил ею по столу конферентскому» 19. То, что «норманнская теория» была идеологической, а не теоретической проблемой, хорошо иллюстрирует комментарий Екатерины II к сочинению Иоанна Готгильфа Стриттера (Штриттера) (1740– 1801) «История Российского государства» (СПб., 1800–1802). Она отмечала в том числе: «1) сооблазнительно покажется всей России, аще приимите толкование г. Стритера о происхождении российского народа от Финнов; 2) самое отвращение и соблазн немалое доказательство, что происхождения разные; 19 Л о м о н о с о в М. В. Полн. собр. соч.: В 11 т. Т. 6. М.; Л., 1952. С. 549. 48 3) хотя Россияне со Славяны разного происхождения конечно, но отвращение не находится между ими; 4) г. Стриттер откуда уроженец? Конечно, он какую ни есть национальную систему имеет, к которой натягивает. Остерегайтесь от сего» 20. Важной заслугой Стриттера было извлечение из византийских историков информации, относящейся к славянам и в особенности к России. Это было опубликовано в фундаментальном сочинении на латинском языке «Memoriae populorum, olim ad Danubium, pontum Euxinum, paludem Moeotidem, Caucasum, mare Caspium, et inde magis ad Septentriones incolentium, e Scriptoribus historiae Byzantinae erutae et digestae a Joanne Gotthilf Strittero…» (T. I–IV. Petropoli. 1771–1779). Еще до опубликования этого сочинения появился русский сокращенный перевод, сделанный В. Световым — «Известия византийских историков, объясняющия российскую историю древних времен и переселения народов, собраны и хронологическим порядком расположены Иваном Штриттером» (СПб., 1770– 1776). Крупным историком немецкого происхождения на российской службе был Август Людвиг Шлецер (1735–1809). Образование он получил в Виттенбергском и Геттингенском университетах. Шлецер знал около пятнадцати языков, изучал библейские древности, мечтал о поездке на Ближний Восток. Однако судьба распорядилась иначе, и Шлецера в 1761 г. приглашают работать в Россию, где он провел, по его собственному признанию, лучшие годы своей жизни. С 1762 г. Шлецер — адъюнкт Академии наук по русской истории. Для ее изучения он использует свои филологические знания, которые пополняет, осваивая русский язык. Немецкий эрудит несколько высокомерно относится к своим русским предшественникам. С одной стороны, он привносит в российскую историческую науку приемы анализа исторических источников, разработанные на Западе, а с другой — отказывает русским историкам в концептуальности и рассматривает их труды лишь как вспомогательный материал. Это чрезвычайно обидело самолюбивого Ломоносова, которого Шлецер ценил прежде всего как «профессора химии». Ломоносов характеризовал планы Шлецера как «бесстыдство» и «самохвальство», а на попытку немецкого ученого указать его место и роль в российской историографии написал: «Я еще жив и пишу сам». 20 С т а р ч е в с к и й А. Очерк литературы русской истории до Карамзина. С.235–236. 49 И Шлецер, и Ломоносов были недостаточно справедливы друг к другу. Шлецером была проделана громадная работа по анализу источников (в первую очередь различных списков «Повести временных лет») и переводу их на «ученые языки», вводу их в научный оборот европейских историков. Он создал целую серию работ по русской истории на немецком языке, среди которых «Опыт исследования русских летописей» (1768), «Аскольд и Дир. Русская история, критически описанная» (1773) и др. Именно Шлецеру принадлежала мысль о необходимости исследования славянских рукописей в Ватиканском архиве. Эту работу впоследствии проделал его ученик А. И. Тургенев. Вместе с тем он, безусловно, несколько преувеличивал свои заслуги перед российской наукой. «Теперь знает свет, что изучение русской литературы станет достоянием не только России, но и всего ученого мира... — писал он. — До меня никому не было известно, что такое русские летописи. Сама Академия не знала, сколько имеется в ее библиотеке сводов, о их составе и классификации» 21. Разделяя взгляды теоретиков «просвещенного абсолютизма», Шлецер считал адекватным воплощением своего политического идеала «екатерининскую», а позже «александровскую» Россию. В своей концепции он уделяет значительное место анализу исторических судеб России. В фундаментальном труде «Представления о всеобщей истории» (СПб., 1772) Шлецер полагает, что бессмысленно описывать историю всех государств и народов, следует выделить те, которые оказали существеннейшее влияние на «великие перемены мира». По его мнению, выделив народы, «первенствующие» в «великом обществе мира», историк избавится от излишнего материала, мешающего ему понять целое. «Из множества известий, под которыми часто история важного народа погребена бывает, отделяет он только те, которые показывают... только действительно великие деяния, купно с их причинами... все прочее... не нужно»22. Позже, в капитальном сочинении о Древней Руси «Нестор: Русские летописи на древлесловенском языке, сличенные, переведенные и объясненные Августом Лудовиком Шлецером» (СПб., Ч. 1–3. 1809– 1819.) он окончательно выделяет из всех народов римлян, германцев и россиян. И, исходя из этого, он намечает периодизацию всемирной истории. До Шлецера в периодизации была принята «теория четырех монархий», рассматривающая наиболее крупные государственные сис21 Цит по: А л п а т о в М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII — первая половина XIX века). С.43. 22 Там же. С. 32. 50 темы — ассиро-вавилонскую, персидскую, греко-македонскую и римскую как своеобразную структурную основу всемирной истории. У Шлецера Древний Восток и Древняя Греция относились к предыстории. С его точки, зрения периоды от сотворения мира до потопа и от потопа до римской истории бедны источниками и не предполагают возможность систематического научного изучения. Собственно об истории можно говорить, начиная с римлян, которые «завоевали южную треть нашей частицы Вселенной и собранное ими у этрусцев, греков, египтян, карфагенян и азиатцев просвещение распространили до Рейна и Дуная, но не далее» 23. Это была «первая волна цивилизации». Вторая связана с появлением германцев. «Германцы по сию сторону Рейна, а особливо франки с V столетия, еще же более со времен Карла Великого... назначены были судьбою рассеять в обширном северо-западном мире первые семена просвещения. Они выполняли это предопределение, держа в одной руке франкскую военную секиру, а в другой — Евангелие; и самые даже жители верхнего севера по ту сторону Балтийского моря или скандинавы, к которым никогда не заходил ни один немецкий завоеватель, с помощью германцев начали мало-помалу делаться людьми» 24. Вне цивилизации осталась огромная территория, которую должны освоить славяне. Однако последние находились в состоянии своеобразной «спячки», пока их не «разбудили» норманны, сыгравшие в «третьей волне цивилизации» роль катализатора. Норманны сами не имели высокой культуры, культурный импульс шел из Царьграда через Древнюю Русь. В книге «Tableau de l’histoire de Russie» (1769), позже переведенной на русский язык под названием «Изображение Российской истории, сочиненное г. Шлецером», он дает следующую концептуальную периодизацию истории России. Это: • «Россия рождающаяся» — период от «призвания варягов» до смерти князя Владимира (862–1015); • «Россия разделенная» — от смерти Владимира до установления ордынского ига (1015–1216); • «Россия утесненная» — от установления ордынского ига до Ивана III (1216–1462); 23 24 Там же. С. 33. Там же. 51 • «Россия победоносная» — от Ивана III до Петра I (1462– 1725); • «Россия цветущая» — с 1725 г. Периодизация Шлецера, описывающая этапы развития Российского государства, была чрезвычайно популярна и использовалась в отечественной историографии едва ли не до недавних пор, с тем только изменением, что точкой отсчета, с которой начиналась «Россия цветущая», был не 1725 г., а 1917. Согласно Шлецеру, возникновение в России монархии представляет собой классический пример общественного договора. Он считал, что освобождение рассказа Нестора от всякого рода «сочинительства» дает прозрачную картину естественного образования российского государства. Правда, в дальнейшем, Шлецер если и не пересмотрел свою концепцию, то несколько переставил в ней акценты. Идея естественного договора отступает на задний план перед идеей суверенитета 25. Немецкие историки видели задачи исторического исследования в открытии нового знания и беспристрастного изложения этого открытия. По их мнению, служители Клио должны находить и излагать, но не интерпретировать факты, однако идеологическая интерпретация исторических сюжетов была неизбежна, и поэтому они невольно попадали в гущу политических событий и были вынуждены корректировать свои выводы в соответствии с ними. Так, именно по политическим причинам Миллер отказался от мысли о норманнском происхождении Рюрика, это позволило Шлецеру заметить, что «обстоятельства... преобразили историю в политическую науку: почему и должно было часто приноравливаться к политическим, хотя и бесполезным видам» 26. Зависимость истории от политики, причем как от «большой», так и от «малой», демонстрировалась не только результатами исследований, но и фактами социального бытия истории как науки, доступностью документов, изучением истории России в учебных заведениях. Характерный пример истинно «российского» отношения к источникам приводит А. Старчевский. Он пишет о том, что в последние годы царствования Екатерина II под влиянием А. И. Мусина-Пушкина решила сосредоточить все старинные русские лето25 См. об этом: Р о л л ь К. А. Л. Шлецер и его концепция Российской истории// Немцы в России: Проблемы культурного взаимодействия. СПб., 1998. С. 97–98. 26 Там же. С. 46. 52 писи в Петербурге, чтобы в дальнейшем издать их. Для этого она издала специальный указ, который обязывал монастыри доставить все имеющиеся у них рукописи в Святейший Синод. «Воля государыни была исполнена: изо всех монастырей России привезено было множество летописей; в архиве Святейшего Синода есть список, какие именно летописи и откуда были доставлены. Императрица хотела, чтобы граф Мусин-Пушкин занялся устройством комиссии, которая должна была приступить к самому изданию. Но мы знаем, как мало этот государственный сановник приготовлен был к этому делу; поэтому, по восшествии на престол императора Павла, дано было повеление опять разослать летописи по тем местам, откуда они поступили. Святейший Синод приказал подрядить извозчиков для доставления летописей в Москву, куда должны были являться от всех монастырей за получением их обратно. Все летописи уложены были в одни сани и отданы на ответственность ямщика; они находились в дороге около шести недель, в самое дождливое время (весною). В Москве оказалось, что некоторые из них были потеряны, другие сгнили, третьи повреждены, дальнейшая судьба этого процесса нам неизвестна» 27. В отличие от немецких, историки-французы, писавшие о России, даже не ставили задачи беспристрастного и квалифицированного изложения материала. Таким историком был и великий Вольтер (1694–1778). Известность Вольтера как историка связана с его «Опытом о нравах и духе народов» и «Веком Людовика XIV». Именно Вольтером был введен термин «философия истории», и, исходя из своей философии истории, он посчитал возможным согласиться на просьбу Елизаветы, результатом чего стало сочинение, посвященное времени правления Петра I «Histoire de l’Empire de Russie sous Pierre le Grand», русский перевод которой «История царствования Императора Петра Великаго. Сочинена г. Волтером» в трех частях вышел в свет только в 1810 г. Вольтер писал историческое сочинение, не зная хорошо России, основываясь на документах, которые готовили для него Миллер, Ломоносов и другие историки. Шлецер отмечал, что в книгу проникло «бесчисленное множество неверно описанных бессмертным поэтом происшествий», не помог и присланный Миллером материал, так как, «по собственному Вольтерову признанию, известно, что ему не хотелось рыться в кипах получаемых им бумаг, почему, не рассматривая, отдал их в 27 С т а р ч е в с к и й А. Очерк литературы русской истории до Карамзина. С. 231–232. 53 Публичную библиотеку» 28. Первым и весьма язвительным рецензентом рукописи фернейского мудреца стал М. В. Ломоносов. Он отметил многочисленные ошибки и неточности, показывающие слабое знание Вольтером не только русской истории, но и действительности. Еще более негативную реакцию вызвали сочинения Ж. Кастера, П.-Ш. Левека, Н.-Г. Леклерка, Г. Сенака де Мельяна, К.-Л. Рюльера и других французских писателей, пытавшихся познакомить французскую публику с интереснейшим периодом в жизни российского общества — XVIII веком 29. Несмотря на неоднозначность научных качеств этих сочинений почти все они были запрещены в России, чаще всего по причинам политического характера. 28 Ш л е ц е р Ф.-Л. Нестор. Ч. 2. СПб., 1816. С. 159. См. об этом: С о м о в В. А. Французская «Россика» эпохи Просвещения и русский читатель// Французская книга в России в XVIII веке. Л., 1986. С. 173–245. 29 54 ЭПОХА ИСТОРИЧЕСКОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА Г устав Шпет писал: «Внешним признаком, по которому можно определить наступление и наличность в исторической науке периода философской истории, является прежде всего ее стремление обнять свой предмет во всей его конкретной полноте и всеобщности. Поэтому это есть период по преимуществу всеобщих и универсальных историй» 1. В России такой период начался во второй половине XVIII в., когда появилось множество исторических сочинений отечественных авторов, пытавшихся осмыслить и изложить русскую историю «от начала до конца». Это время можно было бы назвать эпохой исторического фундаментализма. Объектом исторического описания становилась как вся страна, так и отдельные ее регионы, например «Опыт казанской истории древних и средних времен» (СПб., 1767) П. И. Рычкова. Она даже была переведена на немецкий язык — «Historie von Kasan» (1772). Первым крупным российским историком был В. Н. Татищев (1686–1750). Его фундаментальному сочинению «История Российская» не повезло. Рукопись была представлена в Академию наук в 1 Ш п е т Г. Г. История как проблема логики: Критические и методологические исследования. М., 1916. С. 30. 55 1739 г., а опубликована лишь в 1768 г. Историческое повествование Татищева представляет собой не просто аналитическую переработку источников, хотя для современных исследователей представляет немалый интерес то, что в работе над книгой Татищев ссылается на летописи, не дошедшие до наших дней. В своем исследовании он ставит ряд теоретических задач: выясняет связь возможных форм правления с географическими и социокультурными условиями страны, исследует причины происхождения крепостного права в России, разрабатывает методологию работы с источниками, выявляет философские основания исторического мышления. Татищев разделяет историю на «святую», «церковную», «политическую», «гражданскую», или «светскую», историю «наук и ученых» и «протчие некоторые не так знатные» 2. Необходимость изучения истории несомненна. Демонстрируя примеры, относящиеся к прошлому, она учит «о добре прилежать, а зла остерегаться» 3. История лежит в основании всех наук. Она необходима при изучении богословия, юриспруденции, политики, медицины. Несомненна польза изучения отечественной истории. Однако она должна изучаться в контексте всемирной, иначе невозможно объективное ее изложение. В особенности нужна история философии — «вся философия на истории основана и оною подпираема, ибо все, что мы у древних, правые или погрешные и порочные мнения, находим, суть истории к нашему знанию и причина ко исправлению» 4. Мнение Татищева о соотношении философии и истории, высказанное в начале века, становится почти аксиомой. В своеобразном методическом указании 1790 г. «Способ учения» говорится, что «история подает наилучшие правила жизни и есть как бы на все случаи оной приноровленная философия (курсив мой. — Т. А.)» 5. Чтобы писать историю России, необходимо было преодолеть некоторые препятствия, получить «высочайшее» благословение или занимать официальный пост. Это требовалось для получения доступа к источникам, поскольку архивы и казенные книгохранилища были закрыты для частных лиц. Исторические изыскания приравнивались к государственной службе, ибо историкам вменялось в 2 Т а т и щ е в В. Н. История Российская: В 7 т. Т.1. М.; Л., 1962. С. 79. Там же. С. 80. 4 Там же. 5 С п о с о б учения// Сычев-Михайлов М. В. Из истории русской школы и педагогики XVIII в. М., 1960. С. 171. 3 56 обязанность не только систематизировать документы и последовательно излагать события, но и делать выводы, соответствующие официальным установкам. Таких установок было две: 1) Россия, будучи европейской страной, закономерно проходит все этапы развития, которые характерны для Западной Европы; 2) единственной возможной формой государственной власти, «естественной» и исторически обусловленной является неограниченная монархия, «самодержство». Первое положение в явном виде было сформулировано самой Екатериной II (1729–1796) в «Наказе», где Россия названа «европейской страной», а также в «Записках, касательно Российской истории». Конечно, в работе над объемным сочинением Екатерина пользовалась услугами «референтов» — историков А. П. Шувалова, митрополита Платона (Левшина), И. П. Елагина, А. И. Мусина-Пушкина, И. Н. Болтина, А. А. Барсова, Х. А. Чеботарева, однако концептуальная схема принадлежала ей самой. Главная идея «Записок…», предназначенных первоначально для образования внуков, заключалась в демонстрации места и роли самодержавия в истории России. Екатерина как бы «опрокидывает» популярную в Век Просвещения концепцию «просвещенной монархии» в прошлое и рассматривает всякую монархию как «просвещенную» или же ориентированную на «просвещенность». Интересно, что творчество императрицы дает яркий пример использования разнообразных форм для отражения историософских представлений. Помимо собственно исторических исследований и государственных документов, Екатерина использует жанр «исторических представлений» и даже полемических сочинений. Так, например, в сочинении императрицы «Антидот», направленном против «дурной, великолепно напечатанной книги» аббата Шаппа д’Отроша «Путешествие в Сибирь» (Chappe d’Auteroche «Voyage en Sibérie» (Paris, 1768)) не только опровергаются нелестные характеристики, которые французский ученый-путешественник дал России и обычаям русского народа, но и высказывается ряд соображений теоретического характера. Разбирая главу «О русском правительстве с 861 по 1767 год», Екатерина анализирует понятия «закона», «обычая», «революции», характеризует типы политических режимов («образы правления»), причины политических переворотов, критерии определения «согласия всей нации», или «голоса народа». 57 Екатерина опровергает мнение французского ученого о том, что в России не уважаются законы. «…Мало есть государств, в которых закон уважался бы настолько, как у нас, — пишет она. — Никакой судья, крупный или малый, не может постановить решение, не сославшись на закон, сообразно с которым он действует… Римские законы были введены у нас вместе с христианством, ибо они входили в состав законов церковных… Древние законы новгородские не отличались ничем от тех, которым тогда следовал почти весь Север» 6. Однако русский народ и не нуждается в законах, ибо «никогда не было народа, который бы более управлялся нравами и обычаями, чем наш» 7. Екатерина полагает, что эта черта является составной частью национального характера народа, равно как и любовь к государю. На упрек аббата о том, что в России происходят «беспрестанные революции», она отвечает следующим образом: «Я на это скажу вещь, которая удивит многих; а именно, что в России никогда не происходило революций, разве когда нация чувствовала, что впадает в ослабление (курсив мой. — Т. А.). У нас были царствования жестокие, но мы всегда с трудом переносили лишь царствования слабые. Наш образ правления, по своему складу, требует энергии; если ее нет, то недовольство делается всеобщим, и, вследствие его, если дела не идут лучше, происходят революции. У нас никогда не происходило такой, для которой нельзя было бы отыскать достаточных поводов в событиях, никогда они не были делом прихоти» 8. Разумеется, все сказанное следует отнести если и не к оправданию, то к объяснению ее собственных действий во время дворцового переворота 1762 г., который, кстати, Екатерина Великая и ее близкая в то время подруга Екатерина Малая (Е. Р. Дашкова) называли не иначе, как «революцией». Екатерина избегает в «Антидоте» прямого анализа событий того времени, делая это в косвенном обращении к событиям более ранним — дворцовому перевороту 1741 г., воцарению Елизаветы Петровны. Она пишет: «Думаете ли вы, чтобы эта последняя вступила на престол, если бы не была уверена в согласии всей нации? Конечно, нет; ее бы не успели на это склонить. Если вы меня спросите, что я разумею под общим голо6 А н т и д о т (противоядие). Полемическое сочинение Государыни Императрицы Екатерины II // Осмнадцатый век. Кн. IV. М., 1869. С. 290. Там же. С. 295. 8 Там же. С. 299. 7 58 сом народа или его согласием, то я отвечу вам, что когда мы чувствуем, что государство в опасности, то имеется пункт, относительно которого у нас, как и во многих других странах, в трудное время, не сговариваясь, все соединяются в одном чувстве. Эта точка, на которой соединяются все умы, есть спасенье Отечества, обнимающее собою спасение всех отдельных личностей. Когда все умы согласны относительно этого пункта, революция близка; если нет, то крамола не удается; она слаба и недействительна, ибо она только крамола, и в ней не выражается всеобщее желание» 9. Императрица была не только автором многотомного сочинения по российской истории, но и драматических произведений, посвященных становлению российской государственности — «Начальное управление Олега», «Подражание Шакеспиру, историческое представление без сохранения феатральных обыкновенных правил, из жизни Рурика», «Игорь». Знаменитый сюжет часто использовался не только в исторических сочинениях, но и художественной литературе. «Варяжский вопрос» разбил на два лагеря не только историков. Если первоначально спор шел об этнической принадлежности Рюрика, кто он — славянин (М. В. Ломоносов) или «варяг» (Г.-Ф. Миллер, А.-Л. Шлецер, Г.-З. Байер), то в екатерининскую эпоху более существенным казался вопрос о том, какой тип власти он олицетворял — абсолютную монархию (Екатерина II, И. Н. Болтин, Н. М. Карамзин) или же монархию, ограниченную правами аристократии (М. М. Щербатов). Однако все единодушно сходились на признании «мирного» начала российской истории. Варяжские князья не узурпировали власть, а были наделены ею самими призвавшими их новгородцами. Поэтому между государями и подданными должны сохраняться отношения гармонические, и те и другие обязаны неукоснительно выполнять взаимные обязательства. Обращения к «началам» не случайно находились в центре «ученых споров». Историки полагали, что именно эти «начала» предопределили специфику социально-политического устройства страны. Россия стала неограниченной монархией «естественным» образом, в результате добровольного соглашения между народом и призванными варяжскими князьями. Этим она отличалась, например, от Франции, где захват франками римской Галлии предопределил социальный антагонизм между классами феодалов (франками-захватчиками) и крепостных крестьян (порабощенных галлов). Обраща9 Там же. С. 302. 59 ясь к истокам, русские мыслители нередко проводили исторические аналогии между Древним Римом, Древней Грецией и Древней Русью. Поиски «своей античности» приводили к метафорам, обращенным к римской культуре как образцу совершенной государственности. В рамках этих аллюзий чаще всего фигурировал Великий Новгород, который сравнивался с республиканским Римом и олицетворял собой идеал народного правления. В конце 80-х гг. XVIII в. появилась легенда, согласно которой Рюрик хитростью и обманом захватил власть, вырвав ее из рук народного вождя Вадима Новгородского, и тем самым определил смену демократического правления монархическим. Она представляла собой вольную интерпретацию сюжета Никоновской летописи, опубликованной в 1773 г. в новиковской «Древней Российской вивлиофике». В 1789 г. Я. Б. Княжниным была написана пьеса «Вадим Новгородский». В ней показана попытка «народного героя» полководца Вадима захватить власть в Новгороде и отнять ее у «узурпатора» Рюрика. Драматическое столкновение двух героев приводит к гибели Вадима. Преследования автора пьесы, которая вышла в свет в год Французской революции, а затем его смерть и запрет «Вадима Новгородского» создали вокруг Княжнина ореол мученика в борьбе за демократию. На самом деле в лице Вадима и Рюрика сталкиваются скорее обычай и закон. Вадим стоит на стороне освященных стариной традиций, Рюрик полагает, что они приводят к хаосу и анархии, как уже случалось не раз и как было, когда его пригласили новгородцы «навести порядок», а потому предлагает ввести систему иерархии и жестко фиксированное законодательство. В пьесе Екатерины II Вадим выведен менее привлекательным персонажем. Один из новгородских посадников, пытаясь смирить его честолюбие, говорит ему: «Народы приобыкли повиноваться Государю, деду твоему, не поважены иметь тут прение, где следует исполнять его волю; кто из нас не умеет повиноваться, тот не умеет другими повелевать» 10. Еще в «Наказе» она писала, что наиболее естественной для России должна быть самодержавная власть, «всякое другое правление не только было бы России вредно, но и разорительно... Лучше повиноваться законам под одним господином, нежели угождать многим» 11. Как в исторических сочинениях Екате10 Е к а т е р и н а II. Подражание Шакеспиру, историческое представление без сохранения феатральных обыкновенных правил, из жизни Рюрика. СПб. 1786. С. 9. 11 «Н а к а з » императрицы Екатерины II. СПб., 1907. С. 3–4. 60 рины, так и в ее пьесах Рюрик, Олег, Игорь — полновластные самодержавные властители, а следовательно, абсолютизм — исторически сложившийся, а потому нерушимый институт. Некоторые историки рассматривали обращение истории к фиксированному «первоначалу» не как недостаток, а как достоинство российской истории. «Нет ничего натуральнее, — пишет профессор Московского университета Х. А. Чеботарев (1746–1815), — как начинать историю России с того времени, с которого народ делается порядочным государственным корпусом; и с того времени точно начинаются Российские летописцы. Следовательно, Российская история, какое счастье для историка! (курсив мой. — Т. А.) не имеет баснословного времени, т.е. она не подвержена ни басням, ни преданиям, ни мифологическому хаосу» 12. Действительно, очень немногие, как, например М. В. Ломоносов (1711–1765) в «Древней Российской истории», обращались к «России прежде Рурика». Ломоносов был автором ряда исторических произведений. Это прежде всего разнообразные «примечания», «замечания», «добавления» и «репорты», связанные с полемикой внутри Академии наук, «Описание стрелецких бунтов», «Краткий Российский летописец с родословием» 13. Его «Древняя Российская история» также имеет несколько полемический характер. Одна из главных задач этого сочинения — показать, что »в России толь великой тьмы невежества не было, какую представляют многие внешние писатели» 14. Ломоносов проводит определенную аналогию «в порядке деяний российских с римскими», находя «владение первых королей, соответствующее числом лет и государей самодержству первых самовластных Великих князей российских; гражданское в Риме правление подобно разделению нашему на разные княжения и на вольные городы, некоторым образом гражданскую власть составляющему; потом единоначальство кесарей представляю согласным самодержству государей московских» 15. Единственная разница заключается в том, что «Римское государство гражданским владением возвысилось, самодержством пришло в упадок. Напротив того, разномысленною вольностию Россия едва не дошла до крайнего разрушения; самодержавством как сначала усилилась, так и после 12 Ч е б о т а р е в Х. А. Вступление в настоящую историю о России. М., 1847. С. 2. См.: Л о м о н о с о в М. В. Полн. собр. соч.: В 11 т. Т. 6. М.; Л., 1952. Там же. С. 170. 15 Там же. С. 170–171. 13 14 61 несчастливых перемен умножилась, укрепилась, прославилась» 16. Таким образом, история представляет собой «славное прошлое», являющееся своеобразным «вектором», по которому развиваются настоящие события, «она дает государям примеры правления, подданным — повиновения, воинам — мужества, судиям — правосудия, младым — старых разум, престарелым — сугубую твердость в советах, каждому незлобливое увеселение, с несказанною пользою соединенное» 17. Ломоносов полагает, что главные события российской истории необходимо увековечить в живописи, поэтому пишет своеобразные программы к историческим картинам — «Идеи для живописных картин из Российской истории». Ломоносов предлагает увековечить следующие сюжеты: «Взятие Искореста»; «Основание христианства в России»; «Совет Владимиру от духовенства»; «Единоборство князя Мстислава»; «Горислава»; «Мономахово единоборство»; «Мономахово венчание на царство»; «Победа Александра Невского над немцами ливонскими на Чудском озере»; «Обручение князя Феодора Ростиславича»; «Начало сражения с Мамаем»; «Низвержение татарского ига»; «Приведение новгородцев под самодержство»; «Царица Сумбек»; «Право высокой фамилии Романовых на престол всероссийский»; «Погибель Расстригина»; «Козма Минич»; «Олег князь приступает к Царюграду сухим путем на парусах»; «Олег, угрызен от змея, умирает»; «Сражение Святославле с печенегами в порогах»; «Избавление Киева от осады печенежской смелым переплытием россиянина через Днепр»; «Князь киевский Святослав Ярославович кажет свое великое богатство послам немецким»; «Князь Дмитрей Михайлович Пожарский в опасности от злодея...»; «Тот же князь Пожарский бьется с поляками...»; «Царь Василий Иванович Шуйский при венчании своем на царство клянется боярам, что он прежних враждеб помнить не будет...»; «Гермоген, патриарх московский, посажен в тюрьме...» 18. Ломоносовская программа «визуальной историографии» не только обозначала вехи и направления российской истории, но и выражала традиции «умозрения в красках», характерные для русской философии. 16 Там же. С. 171. Там же. 18 Там же. С.365–373. 17 62 ДВОРЯНИН-ФИЛОСОФ КАК ПИСАТЕЛЬ ИСТОРИИ М ожно выделить две социальные структуры, в рамках которых формировалась философская мысль в России XVIII столетия. Первая ориентировалась на классическую традицию профессионального философствования. Она была связана прежде всего с Академией наук и Московским университетом. Другая — развивалась в кругу просвещенной элиты. Ее субъектом был не «профессионал», а мыслитель, имеющий досуг, достаток и образование для того, чтобы предаваться «свободному любомудрию». Псевдоним, избранный Ф. И. Дмитриевым-Мамоновым — «дворянин-философ», достаточно точно обозначает тот сравнительно узкий круг российского общества XVIII в., который потреблял и производил философское знание. Каждая из названных структур порождала особый тип текстов, собственную проблематику, а поэтому их изучение требует различных подходов и исследовательских стратегий. В стране, где государи просили советов, посылали любезные письма, приглашали на службу или милостиво жаловали таких мыслителей, как Лейбниц, Хр. Вольф, Вольтер, Дидро, Монтескье, и других быть «философом» было не только престижно, но и необхо- 63 димо для того, чтобы поддержать свое реноме в свете. Знакомство с этими мыслителями, с их текстами или хотя бы признание их в качестве авторитетов приближало к «высшим сферам» и включало в кастовую систему ценностей. Следует отметить, что и сами авторитеты охотно общались с русскими аристократами и «сильными мира». Хорошо известны истории личных и эпистолярных связей Петра I с Лейбницем и Хр. Вольфом; А. Кантемира с Монтескье; И. И. Шувалова с Вольтером, Руссо, Рейналем, Дидро, Гельвецием; Екатерины II с Д. Дидро, Ф.-М. Гриммом, Вольтером; Е. Р. Дашковой с Дидро, А. Смитом; Д. А. Голицына с Гельвецием, Дидро, Вольтером; А. Орлова с Руссо. «Дворянин-философ» чувствовал себя «гражданином мира» 1 и принадлежал равным образом и российской, и европейской культуре. Соединяя в себе эти культуры, он занимал особое место в деле просвещения, обеспечивая духовное единство России и Запада. Это наложило отпечаток на формы философствования, которые были далеки от наукообразных трактатов, порожденных философским «профессионализмом», равно как и на проблематику. Внутри этого слоя, конечно, исследовались свойственные эпохе метафизические архетипы (доказательства бытия Бога и осмысление его сущности, выявление происхождения зла, количества субстанций в мире и т.п.), однако помещенные в иной социокультурный контекст они подчас политизировались, социологизировались или этизировались, что качественно меняло смыслы, выводы и способы отражения философской рефлексии. В особенности это касалось социальной философии, в том числе социального утопизма и историософии. Среди многочисленных слоев российского общества XVIII в., включая маргинальные группы («преподавателей высших учебных заведений», «крепостной интеллигенции», «иностранцев на российской службе», «ученое монашество», «просвещенное купечество» и т.п.), невозможно найти такой, которая бы обладала необходимыми условиями для «свободного философствования», кроме дворянства. И действительно, досуг, образование, личная свобода, отсутствие меркантильных установок, непосредственной идеологической зависимости, вовлеченность в мировую культуру, наконец, потребность занять мировоззренческую позицию, возвышающуюся над обыден1 Так называл себя М. М. Щербатов, подписывая написанную по-французски «Записку по крестьянскому вопросу», позже этот своеобразный псевдоним использовал его внук П. Я. Чаадаев. 64 ной и соответствовавшую привилегированному положению в социуме, могли соединяться лишь в этом сословии. Такая ситуация объясняет некоторую тождественность понятий «философ» и «большой барин», «вельможа», характерную для XVIII столетия. В. Ф. Одоевский дает описание того, «что тогда называлось философ». Человек такого рода, герой одной из его повестей «был страшный волокита, писал французские стихи, не ходил к обедне, не верил ни во что, подавал большую милостыню встречному и поперечному; в его голове странным образом уживалась величайшая филантропия с совершенным нерадением о своих детях и самая грубая барская спесь с самым решительным якобинизмом» 2. Таким образом, обыденное сознание выделяло «философов» как некоторую группу в среде дворянства, отличающуюся необщепринятым образом мыслей, ориентацией на западную, прежде всего французскую, реже — английскую, культуру, демонстративным антиклерикализмом, «вольтерьянством». С другой стороны, образ философа часто связывался с какими-то странностями поведения, ипохондрией и мизантропией. «Что есть философ и чем рознится философия от всех других на свете вещей. Сколько в нашем народе о сей науке понятия, о сем не нужно пространно говорить. Многие оную называют уединенным житием, а философом того, кто от общества человеческого удален, о котором, хотя он и ничего не делает, говорят: живет де по-философски. Может быть, сие понятие о философе и философствовании имеет свое издалека произведенное начало: однако ж не к нашему намерению. Сие народное мнение или от недостатка книг, или, буде на других языках читать могут, от недостатка разумения происходит» 3. Обыденное представление о философии и философах имело иные смыслы в просвещенной среде, где философ предстает скорее мудрецом или государственным мужем. Г. Н. Теплов в своем сочинении «Знания, касающиеся вообще до философии для пользы тех, которые о сей материи чужестранных книг читать не могут» писал: «…В науке философской все то заключается, что человека делает Богу угодным, монарху своему верным и услужным, а ближнему в 2 О д о е в с к и й В. Ф. Катя, или История воспитанницы // Одоевский В. Ф. Повести и рассказы. М., 1959. С. 130. 3 Т е п л о в Г. Н. Знания, касающиеся вообще до философии для пользы тех, которые о сей материи чужестранных книг читать не могут. СПб., 1751. С. 65–66. 65 сообщество надобным» 4. Мысль Теплова чрезвычайно близка мнению, выраженному автором статьи «Рассуждение о пользе теоретической философии в обществе», напечатанной в 1756 г. в журнале «Ежемесячные сочинения». Автор считает необходимым «разрушить то предосуждение, будто философия делает нас человеческому обществу бесполезными» 5. «Удовольствие в познании истины» вложено в нас Богом, а потому нет ничего более естественного, как употребить на это досуг и силы. Для этого и нужна философия, ибо «все то, что делает нас обществу полезнейшими, чем исправляется наш разум, чем укрепляется наша смотреливость, все то, почему бываем мы способными великое соединение истин ясно и скоро перейти мыслию. Но сие делает теоретическая философия. Она расширяет пространство нашего духа по вмещению вдруг большего числа понятий, нежели как бывает у неученых, она представляет нам близкими дальние следствия некоего положения, которые другой уже по долговременном размышлении постигает» 6. В статье анонимного автора «О философии», помещенной в «Примечаниях на Санкт-Петербургские ведомости» дается развернутая аллегория, представляющая философа садовником в прекрасном саду, хозяин которого удален от процесса повседневного труда, но следит за ним издалека. Сад обозначает мир, хозяин сада — Бога, садовник, возделывающий свой сад, является философом. С одной стороны, философы «особливый чин составляют» 7, а с другой — каждый желающий достичь совершенства в своей деятельности «в своем роде философом быть должен» 8. Таким образом, тщательное возделывание сада, достижение успеха на избранном поприще, деятельность, приумножающая славу и богатство хозяина, есть деятельность если и не философская, то осуществляемая философом. Разумеется, «тексты», создаваемые представителями философствующего нобилитета, качественно отличались от системы логически непротиворечивых дискурсов, производимых в трактатно-риторической форме преподающими «логику и метафизику» университетскими профессорами. Вместе с тем это была лишь иная фор4 Там же. С. 26. Р а с с у ж д е н и е о пользе теоретической философии в обществе// Ежемесячные сочинения 1756, сентябрь. С. 216. 6 Там же. С. 219–220. 7 О ф и л о с о ф и и // Примечания на Санкт-Петербургские ведомости. Ч. 52., 1738, июнь. С. 197. 8 Там же. 5 66 ма, иной способ выражения своих размышлений, в соответствии с иным типом коммуникаций, хранения и распространения знания, возможностями его пропаганды. Не говоря о качественном различии интеллектуальной и просветительской деятельности в различных сословиях, отметим, что даже возможности дворянского просвещения менялись в зависимости от статуса. Так, мелкий помещик А. Т. Болотов на протяжении десятилетий заполнял своими статьями номера журналов, а Н. И. Новиков полки книжных лавок изданными им книгами, в то время как Петр I создавал Академию наук, И. И. Шувалов основывал Московский университет, а Екатерина II — Российскую Академию. Сочетание просвещенности и власти предполагало не только иные масштабы, но и качественно иной способ деятельности. Просветитель брал на себя прежде всего роль инициатора и организатора, а иногда даже и спонсора. В отличие от композитора, испытывающего потребность в интерпретации его замысла, или музыканте, способном извлекать божественные звуки из своей скрипки или флейты, но нуждающемся в партнерах и аудитории, дворянинфилософ брал в руки инструмент, доступный не многим — дирижерскую палочку, предполагающий не только высочайший профессионализм в творческой интерпретации партитуры, но и незаурядные организаторские способности. «Музыкантом» такого рода и был И. И. Шувалов, волею случая и «случая» в эпоху Елизаветы и уже не случайно в эпоху Екатерины ставший писателем российской истории и виртуозно исполнивший «концерт для Вольтера с оркестром». П. В. Завадовский в свое время писал гр. А. Р. Воронцову: «По моему мнению, история та только приятна и полезна, которую или философы, или политики писали» 9. «История Российской империи в царствование Петра Великого» была результатом сотрудничества философа и политика — Вольтера и И. И. Шувалова. Поиски возможного автора предполагали, что он должен не только понимать «государственный» характер заказа, но и сам быть достаточно значимой фигурой, как в научном, так и в политическом мире. Выбор пал на Вольтера, который, безусловно, понимал политический и идеологический характер заказа, предполагающий написание не столько «правдивой», сколько «славной» биографии. Он продемонстрировал это своей «Историей Карла XII, короля 9 А р х и в князя Воронцова. Т. XII. М., 1877. С. 255. 67 Швеции». Популярность Вольтера в России, его авторитет в Европе, интерес к фигуре Петра, а самое главное настойчивость И. И. Шувалова, желающего видеть великого француза историком России, сделали свое дело, несмотря на возражения канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, полагавшего, что дело, связанное с государственным престижем, разумнее было бы поручить россиянину, и М. В. Ломоносова, считавшего, что этим россиянином должен быть именно он. К этому присоединилась досада Фридриха II за то, что «король философов» принялся писать «историю сибирских волков и медведей», да еще во время Семилетней войны 10. В 1756 г. Вольтер принял предложение, сделанное ему российским двором, и приступил к написанию истории Петра. Если Вольтер и не был историком в прямом и непосредственном смысле этого слова, то история как философская проблема являлась постоянным объектом его размышлений. Как писал А. С. Пушкин, Вольтер «внес светильник философии в темные Архивы Истории» 11. В статье «История» знаменитой «Энциклопедии» Вольтер рассуждает «о пользе истории», «исторической достоверности», правдивости историка, методе, манере изложения, стиле истории. Он полагает, что историческая правда обладает лишь относительной достоверностью. «Всякая достоверность, не обладающая математическим доказательством, есть лишь высшая степень вероятности. Иной исторической достоверности не существует» 12, — пишет он. Причины вероятностности исторического знания двояки. Они заключаются в относительной достоверности исторических свидетельств, а также в искренности историка. Рассуждая о максиме Цицерона, относящейся к истории: «Историк не смеет лгать или скрывать истину», Вольтер отмечает: «Первая часть этого предписания бесспорна, надо рассмотреть вторую. Если истина может быть сколько-нибудь полезна государству, то ваше молчание достойно осуждения. Но предположим, что вы пишете историю государя, который доверил вам свою тайну. Должны ли вы ее раскрыть? Должны ли вы рассказать потомству, что навлекло бы на вас обвинения, если бы вы поверили такую тайну даже только одному человеку? 10 См.: П л а т о н о в а Н. Вольтер в работе над «Историей» России при Петре Великом. Новые материалы// Литературное наследство. Т. 33–34. М., 1939. С. 1. 11 П у ш к и н А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 10. М.; Л., 1949. С. 95. 12 В о л ь т е р. История// Философия в «Энциклопедии» Дидро и Даламбера. М., 1994. С. 315. 68 Перевесил бы долг историка более важную обязанность? Предположим далее, что вы стали свидетелем какой-либо слабости, которая никак не повлияла на государственное дело. Должны ли вы рассказать о ней? В таком случае история стала бы сатирой» 13. В Предисловии к «Опыту о нравах» Вольтер пишет, что «дух, нравы, обычаи главнейших народов» — более фундаментальные понятия, чем, допустим, хронология, которая только загромождает память 14. Несущественной для понимания исторических закономерностей является частная жизнь исторических персонажей: «Насколько необходимо знать великие дела монархов, сделавших своих подданных лучше и счастливее, настолько же допустимо не иметь понятия об обыденной стороне жизни королей» 15. Он формулирует свою методологию отношения к источникам, позволявшую ему выбирать из массива исторических документов такие, которые не противоречили бы его теоретическим положениям: «Необходимо сделать выбор, и поставить себе определенные границы. Это — обширный магазин, где вы возьмете только то, что вам подходит» 16. Соображения, которые Вольтер излагал в концептуальных сочинениях, были во многом предварительно сформулированы в письмах к И. И. Шувалову, где обсуждались общие принципы изложения истории Петра. Вольтер понимает, что «история о сем великом муже должна быть необыкновенным образом написана» 17. Он предлагает заменить персонологический взгляд социологическим, полагая, что речь должна идти не об «истории Петра I», а об «истории России времен Петра I». В письме от 24 июня 1757 г. он пишет: «Кажется то важным, чтоб не называть сие сочинение жизнию или историею Петра I. Такое наименование необходимо обязывает историка ничего не скрывать. Тогда будет он принужден объявить неприятные истины, и естьли он их не объявит, то будет обесславлен, не делая чести тем, кои его употребляют. Итак, надлежит взять как для заглавия, так и для содержания Россию в царствование Петра I. Сие название удаляет все сказания о приватной жизни Царя, кои могли бы умалить славу его, и приемлет токмо такие, кои 13 Там же. С. 318. В о л ь т е р. Избранные страницы. СПб., 1913. С. 126. 15 Там же. С. 127. 16 Там же. 17 П и с ь м а Волтера к графу Шувалову (1757–1773). М., 1808. С. 11. 14 69 совокуплены с великими делами, им начатыми, и которые после его продолжали. Слабости или запальчивость нрава его ничего не имеют общего с сими важными предметами, и тогда сочинение равномерно споспешествовать будет славе ПЕТРА ВЕЛИКОГО, ИМПЕРАТРИЦЫ, Дщери Его и Его народа» 18. Согласно Вольтеру, «от современных историков требуется больше деталей, больше обоснованных фактов, точных дат, авторитетов, больше внимания к обычаям, законам, нравам, торговле, финансам, земледелию, населению» 19. Поэтому он задает Шувалову ряд вопросов о внешней и внутренней политике Петра I, об устройстве полиции, финансов, торговли и т. д. В письме от 7 июля 1758 г. Вольтер пишет, что его намерение «состоит в том, чтоб описать науки, нравы, законы, военный порядок, торговлю, мореходство, благоустройство и проч., произведенные ПЕТРОМ Великим, а не обнародовать либо слабости, либо жестокости, кои весьма справедливы. Не надлежит иметь низкость не признавать их, но благоразумие требует не упоминать об тех, поелику должен я, кажется мне, подражать Титу Ливию, который описывает важные предметы, а не Светонию, который токмо о приватной жизни повествует» 20. Позже, в энциклопедической статье об истории Вольтер развивает эту мысль: «Хорошо известно, что метод и стиль Тита Ливия, его важность, его разумное красноречие соответствуют величию Римской республики, что стиль Тацита более подходит для изображения тиранов, Полибия — для наставлений в военном деле, Дионисия Галикарнасского — для описания древностей» 21. И. И. Шувалов не только собирал для Вольтера информацию, пересылал ее и подбирал команду «референтов». Он не был также просто «заказчиком», полагавшимся на талант и квалификацию исполнителя. Шувалов стал фактическим соавтором, участвующим в обсуждении как мельчайших деталей, так и общих установок повествования. «Я читал все ваши примечания и все ваши наставления, — пишет Вольтер 7 июля 1758 г. — Я удостоверен теперь, что никто в свете столько не способен писать историю о ПЕТРЕ ВЕЛИ- 18 Там же. С. 8. В о л ь т е р. История. С. 319. П и с ь м а Волтера к графу Шувалову (1757–1773). С. 16–17. 21 В о л ь т е р. История. С. 319. 19 20 70 КОМ, как вы. Я ни что иное буду, как только вашим письмоводителем, которым я желал быть» 22. И далее: 24 декабря 1758 г: «Я требую объяснений от такого человека, который кажется мне весьма сведущим истории» 23. 29 мая 1759 г.: «Я всемерно буду стараться соответствовать вашим мыслям и вашим попечениям и надеюсь иметь честь отправить и вам будущей зимой все сочинение. Я вас прошу принять за благо то, чтоб я предавался моей склонности и образу моих мыслей: каждый живописец должен следовать своему искусству и употреблять цветы, кои покажутся ему лучшими» 24. 11 ноября 1759 г: «Я всегда имею нужду в новых объяснениях о Прутском походе…» 25 11 ноября 1759 г.: «Должен ли я поместить речь, которую приписывают Петру Великому, сказанную им в 1714 г. “…Кто из вас, друзья мои, мог бы подумать тридцать лет тому назад, что мы вместе будем выигрывать сражения при Балтийском море…”» 26 29 мая 1759 г.: «…Правду сказать, все, что клонится к безмерному превознесению, то всегда поставляет нас ниже того, что мы стоим. Вы тоже не желаете, чтоб были опровергнуты дела, доказанные всей Европою: скрывая всем известную истину, ославляют все другие и самая худая изо всех политик есть лгать… Естьли опыт мне доставил некоторое знание в искусстве писать, то я, не лаская никого, употреблю оное на усугубление, естьли возможно, почтения, коим обязаны Петру Великому и вашей империи» 27. 10 мая 1759 г.: «Я не ведаю, Государь мой, есть ли ваше намерение, чтоб история о ПЕТРЕ Великом была заключена главою, в коей показал бы я кратко, коим образом во всем последовали намерениям сего законодателя, с какой славою кончили начатое им все, что ваш народ учинил великого по счастливое время царствующей Императрицы» 28. Вольтер понимал, что И. И. Шувалов не стремится разделить с ним славу историка, как не стремился он к чинам, титулам и званиям. 11 ноября 1759 г. Вольтер пишет ему: «Что же принадлежит до 22 Там же. С. 14. Там же. С. 28. 24 Там же. С. 33. 25 Там же. С. 45. 26 Там же. С. 46. 27 Там же. С. 34. 28 Там же. С. 38. 23 71 вас, Государь мой, то вы удовольствуетесь быть Меценатом. Сие свойство столь благородно и полезно, сколь и ведет к роду славы, независимой от происшествий, и сотворено для превосходного разума и для благотворительного сердца. Вот истинная слава!» 29 Разумеется, это не мешало великому насмешнику за глаза называть Шувалова «русским маркизом Помпадур», а позже «бывшим русским императором» 30. Впрочем, человеком, «в течение пятнадцати лет неограниченно управлявшим империей протяжением в две тысячи лье» 31, называл Шувалова и герцог Ришелье. Удивление вызывали не столько возможности Шувалова при дворе Елизаветы Петровны, сколько его нежелание ими пользоваться. Гораций Уолпол (Walpole) называл Шувалова «философом, в течение двенадцати лет обладавшим полнотой власти и не нажившим ни одного врага» 32. Е. В. Анисимов отмечал, что Шувалов не стремился компенсировать незаконность своего могущества «блестящими атрибутами власти и внешнего почета» 33. Он отказался от графского титула, должности сенатора, обширных поместий с населением до 10 тыс. душ. 34 До конца царствования Елизаветы он оставался «генераладъютантом, от армии генерал-порутчиком, действительным камергером, орденов Белого Орла, Святого Александра Невского и святой Анны кавалером, Московского университета курстором, Академии художеств главным директором и основателем, Лондонского королевского собрания и Мадритской королевской Академии художеств членом» 35. «Скромность Шувалова, — пишет Анисимов, — прекрасно им сознававшаяся и даже подчеркивавшаяся, была не столько особенностью его характера, сколько типом поведения, обусловленным своеобразием положения этого фаворита при дворе. Такая неординарная манера поведения выделяла Шувалова из ряда титулованных вельмож и подчеркивала его исключительность еще 29 Там же. С. 47. См.: П л а т о н о в а Н. Вольтер в работе над «Историей» России при Петре Великом. Новые материалы. С. 41, 43. 31 Р у с с к а я культура и Франция. Литературное наследство. Т. 29–30. М.,1937. С. 160. 32 Г о л и ц ы н Н. И. И. Шувалов и его иностранные корреспонденты// Русская культура и Франция. С. 290. 33 А н и с и м о в Е. В. И. И. Шувалов — деятель российского просвещения// Вопросы истории 1985. № 7. С. 95. 34 Там же. 35 Цит. по: Там же. С. 95. 30 72 более выразительно, чем ордена и звания» 36. Роль покровителя наук и искусств, а позже, когда после воцарения Екатерины II ему пришлось жить за границей, «русского посла при общеевропейской литературной державе» 37, как называл его Н. Голицын, была для него более привлекательной, нежели высокие государственные посты. И. И. Шувалов более чем кто-нибудь другой мог называть себя «гражданином мира», мира, населенного людьми просвещенными, — писателями, художниками, философами, с удовольствием принявшими его в свое сообщество. Президент Эно (Henault) писал ему: «Репутация, которую вы создали себе у нас и которая повсюду за вами следует, могла бы сделать вас космополитом, человеком, принадлежавшим всем нациям» 38. Среди корреспондентов Шувалова такие выдающиеся личности, как Антуан Тома, один из создателей жанра «похвальных слов», автор «Похвального слова Петру Великому», госпожа Жоффрен, маркиза дю Деффан, аббат Галиани, герцогиня де Ла Вальер, граф де Карамон, госпожа де Жанлис, госпожа Неккер, Бюффон, кардинал де Берни, лорд Честерфильд, Д’Аламбер и др. Именно через Шувалова Екатерина II обратилась к Дидро с предложением перенести издание запрещенной во Франции «Энциклопедии» в Россию, он также служил посредником в переговорах о приглашении Д’Аламбера воспитателем наследника российского престола. С Гельвецием И. И. Шувалов переписывается по поводу значения правления Петра Великого для России. Гельвеций пишет Шувалову: «Бывают люди, самим небом предназначенные к тому, чтобы совершенствовать ум и нравы в той или иной стране и закладывать основы будущего ее величия. Царем [Петром I] положено начало тому труду, который вы сейчас завершаете. Привести в движение всю массу огромной нации может только ряд следующих один за другим великих людей, вступающих между собой в соревнование. Царю самая его власть дает в руки такие возможности, каких нет у наиболее влиятельного из вельмож, но у такого человека, как вы, недостаток возможностей искупается высокими его дарованиями… Вспомним, что самые наименования бесконечного множества могущественнейших народов погребены под развалинами их столиц, а благодаря вам наименование «русский» уцелеет, 36 Там же. Г о л и ц ы н Н. И. И. Шувалов и его иностранные корреспонденты. С. 259. 38 Там же. С. 277. 37 73 быть может, и тогда, когда самая держава ваша будет разрушена временем» 39. Шувалов отвечает: «Я хочу вам изобразить себя в настоящем виде и сперва вам дать понятие о состоянии нашего государства в отношении к наукам и искусствам. Петр I, сотворив или преобразовав все, не имел после смерти своей последователей в большей части своих предначертаний и мудрых заведений. Науки и искусства в государстве нашем получили свое начало со времен сего великого мужа: мы имели искусных людей во всех родах… Невнимание к их талантам и небрежение о воспитании новых художников подавили росток того, что прозябло, уничтожив столь лестные ожидания… Вот почему благородная ревность к учению совершенно была погашена во многих из моих соотечественников. Столь неприятный для нас промежуток времени дал повод некоторым иностранцам несправедливо думать, что отечество наше неспособно производить таких людей, какими бы они должны быть, сей предрассудок может истребиться одним временем» 40. Нет сомнения, что Вольтер писал историю России как произведение художественное, но не как роман, а скорее, как сочинение высокого стиля — как драму, как трагедию. В посвящении трагедии «Олимпия» И. И. Шувалову Вольтер пишет: «Трагедия должна в совершенстве передавать великие события, страсти и их последствия» 41, а в письме от 7 июля 1757 г. : «Я всегда думал, что история и трагедия требуют одинакового искусства, ясности, связи развязки и что нужно все лица на картине так представлять, чтоб они открывали достоинство главного лица, никогда не показывая желания превознести оное. На сем правиле основываясь, буду я писать, а вы мне будете сказывать» 42. Материалы для Вольтера готовила целая группа историков, среди которых был М. В. Ломоносов. Его работа «Описание стрелецких бунтов и правления царевны Софьи» почти дословно была воспроизведена Вольтером, с оговоркой, что это описание «извлечено полностью из записок, присланных из Петербурга» 43. Однако «Похвальное слово Петру Великому», произнесенное Ломоносовым в 39 Там же. С. 269. Там же. С. 272. 41 Л ю б л и н с к и й В. Ранний фрагмент трагедии «Дон-Педро» и посвящение трагедии «Олимпия» И. И. Шувалову// Русская культура и Франция. С. 272. 42 П и с ь м а Волтера к графу Шувалову (1757–1773). С. 15. 43 П а в л о в а Г. Е. Введение// Ломоносов М. В. Избранные произведения. Т. 1. М., 1986. С. 9. 40 74 апреле 1755 г., перевод которого занял 2 года, вызвало у Вольтера негативную реакцию, ибо, блестяще владея риторикой и поэтикой, Вольтер нуждался в фактах, а не метафорах. «То, что есть одна только похвала, часто служит к единственному показанию сочинителева разума» 44, — пишет он. Правда, до этого Вольтеру были переданы замечания Ломоносова и других «референтов» на рукопись первых восьми глав его труда. Некоторые из них вызвали у Вольтера чрезвычайно острую обиду, которую он перенес на нейтральное сочинение Ломоносова. Известно, что по поводу похвального слова Петру I архиепископа Платона, которое он получил в 1771 г. от Е. Р. Дашковой, Вольтер писал Екатерине II: «Сие слово, обращенное к основанию Петербурга и вашего флота, является, на мой взгляд, одним из замечательнейших в мире памятников. Я полагаю, что никогда ни один автор не имел столь счастливой темы для своего «Слова», не исключая и греческого Платона» 45. В январе 1761 г., когда работа была в основном закончена, И. И. Шувалов пишет Вольтеру: «Прислав вашу работу, вы меня изумили; она немного превосходит даже то, чего следовало ожидать от гения столь плодотворного и просвещенного. Вы возвели великолепное здание из простых кирпичей. Петр Великий создал грозную империю, руководимый лишь собственным гением. Вы… историю этого государя, руководствуясь только… [текст испорчен. — прим. публикатора] располагая лишь недостаточными материалами. Только вам одному, государь мой, будут обязаны за этот труд. В этом отношении я похож на некоторых министров Петра Великого, у которых были одни знания, между тем как всю работу исполнял он сам. Однако правильность вашего… [текст испорчен. — прим. публикатора] сумела возместить недостатки моего выбора, используя… самое лучшее и изображая его в истинном свете. Философские размышления, которыми вы украшаете истину, учат понимать факты и, вместе с тем, человеческие обязанности. Прекрасные деяния, вами рассказанные, побуждают людей с возвышенной душой подражать им, они будут примером и предметом восхищения для самого отдаленного потомства» 46. 44 П и с ь м а Волтера к графу Шувалову (1757–1773). С. 31. Цит. по: П р и й м а Ф. Я. Ломоносов и «История Российской империи при Петре Великом» Вольтера// XVIII век. Сб. 3. М.; Л., 1958. С. 175. 46 Цит. по: П л а т о н о в а Н. Вольтер в работе над «Историей» России при Петре Великом. Новые материалы. С. 18. 45 75 К сожалению, писем И. И. Шувалова к Вольтеру сохранилось немного. Писем же Вольтера, адресованных Шувалову, гораздо больше. Именно поэтому облик Шувалова как «писателя истории» подлежит не столько реконструкции, сколько конструированию. Однако очевидно одно. Вольтер не только прислушивался к мнениям Шувалова, более того, он в них нуждался. Он советовался с ним во всем, начиная от мелочей до принципиальных политических оценок. Так, в письме от 7 июля 1758 г. Вольтер пишет: «Я буду употреблять слово Russien (Россиянин, естьли вы того желаете), но я вас покорно прошу представить себе, что оно весьма походит на Prussien, и оттого кажется уменьшительным, что не сходствует с достоинством вашей империи» 47. Одним из наиболее сложных вопросов было дело царевича Алексея, которое сам Вольтер называл «le malheureux procès criminel du Tsarewitz» 48. Он пишет 1 ноября 1761 г.: «Я для вас, государь мой, работаю: вам следует просветить меня и наставить. Одного слова на поле будет для меня довольно или простого письма с некоторыми наставлениями о тех местах, в коих нахожу затруднения» 49. Ситуация была непростая, ибо осуждение, а затем смерть царевича Алексея снижали популярность Петра в глазах просвещенных европейцев. Вольтер равным образом боялся скомпрометировать себя как беспристрастного автора и не угодить заказчику. В октябре 1761 г. Вольтер получил от И. И. Шувалова рукопись официальной российской версии «Particularités concernant la vie et la mort du Tsarevitz Alexei Petrovitz» («Детали, относящиеся до жизни и смерти царевича Алексея Петровича») 50, где акценты были расставлены соответствующим образом. У Вольтера был и документ под названием «История принцессы, жены царевича, сына Петра Великого», подлинность которого российским двором категорически отрицалась 51. 23 декабря 1761 г. Вольтер отправил написанный том истории и ждет последних повелений: «Я уверен, что вы не желаете, чтоб я входил во все подробности, несообразные с достоинством истории, и что ваше намерение всегда было иметь великую картину, пред47 П и с ь м а Волтера к графу Шувалову (1757–1773). С. 30. См.: П л а т о н о в а Н. Вольтер в работе над «Историей» России при Петре Великом. С. 3. 49 П и с ь м а Волтера к графу Шувалову (1757–1773). С. 100. 50 Р у с с к а я культура и Франция. С. 164. 51 Там же. 48 76 ставляющую императора Петра в виде, всегда блистательном. Сочинитель особенной истории о мореходстве может сказать, как строили шлюпки, и считать снасти, сочинитель истории о государственной науке может объявить, чего стоит алтын в 1600 году и что он ныне стоит, но представляющий героя иностранным народам должен показать его величественным и учинить его важным для всех народов. Он должен убегать ведомостного и словопохвалительного тона. Я удостоверен, что вы не можете думать инако» 52. Время, когда шла переписка по поводу деликатного эпизода царствования Петра Великого, было чрезвычайно сложным и для самого И. И. Шувалова. В декабре 1761 г. умерла Елизавета. На престол вступил Петр III, затем Екатерина II. Разумеется, роль Шувалова при дворе изменилась, хотя и не так резко, как можно было бы предполагать, не будь одинаково «просвещенны» и подданный, и монарх. В марте 1762 г. он пишет Вольтеру: «Простите же мне, государь мой, за то, что, оказавшись в затруднительном положении, я не мог еще послать вам заметок об осуждении царевича. Но признаю себя виновным, так как раньше всего должен был бы позаботиться о том, чтобы вывести вас из неизвестности и ускорить окончание вашего славного и тяжелого труда. Теперь же, когда я стал спокойнее, я примусь за дело и через несколько дней буду иметь честь сообщить вам свои соображения; сделайте им лишь то употребление, которое вы найдете нужным. Но я настолько уверен в вашей доброте, что осмеливаюсь повторить просьбу, с которой уже к вам обращался: помедлить со вторым изданием первого тома, пока вы не проредактируйте его в тех местах, которые могут подать повод к нашему осуждению. Наши завистники и наши общие враги неистовствуют против нас более, чем когда-либо. Мое положение меня обязывает быть с ним осторожным, а вы меня слишком любите для того, чтобы желать меня скомпрометировать» 53. Впрочем, враги нашлись и у Вольтера, и у Петра I. 7 мая 1761 г. М. Л. Воронцов пишет И. И. Шувалову о появившейся в Париже книге «Письмо царя Петра господину Вольтеру о его истории России» («Lettre du czar Pierre а mr. de Voltaire sur son histoire de Russie»). «Прилагая оную при сем для любопытства, — пишет Воронцов, — я должен засвидетельствовать вашему пр-ву, что по учиненным уже дюку Шоазелю всякую похвалу, примечает, однако ж, что по сю пору все 52 53 П и с ь м а Волтера к графу Шувалову (1757–1773). С. 108. Р у с с к а я культура и Франция. С. 159–160. 77 старания были тщетны. Ваше превосходительство, изволите сами усмотреть, сколь злостен автор, но при том, сколь нескладны его рассуждения. Не сумневаюсь я, что просвещенная публика, которая знает прямую цену великим великого нашего Императора делам, не достиг себя уловить опытами, но паче предаст их достойному презрению» 54. Сочинение Вольтера предназначалось не для России, а скорее для Европы. П. Бартенев писал: «Цель, которую имели в виду, приглашая Вольтера писать историю Петра Великого, достигнута была вполне: сочинение его разошлось по Европе, и на модном языке того времени расточены были похвалы Российской империи» 55. На русском языке «История» Вольтера была издана лишь в 1809 г. Естественно, что в то время это сочинение было воспринято если и не как анахронизм, то как послание из «века минувшего», могущее вызвать лишь снисходительную улыбку превосходства «детей» над «отцами», пусть даже «патриархами европейского просвещения». М. Т. Каченовский в рецензии, помещенной в «Вестнике Европы», отмечал, что Вольтер «писал не как беспристрастный философ, но как француз, погрязший в предрассудках о невежестве и недостоинстве русских, которых, по его описаниям, можно почесть настоящими дикарями» 56. Таким образом, задача государственного характера была И. И. Шуваловым выполнена вполне. Трудно сказать, что бы было, если бы ему самому нужно было взяться за перо. Вероятно он, как и многие другие просвещенные «сильные мира сего», обладал особым талантом, талантом заказчиков, а не исполнителей, инициаторов, а не профессионалов, ценителей и любителей, а не авторов. Однако именно они осуществляли ту общественную потребность, без которой не движется вперед наука и не рождаются произведения искусства. Они составляли собой тот слой «слишком тонкий» и тот круг «слишком узкий», ту единственную социальную группу, в которой и для которой рождались бессмертные произведения, радующие нас по сей день. 54 А р х и в князя Воронцова. Книга 6. Бумаги государственного канцлера графа М. Л. Воронцова. М., 1873. С. 312. 55 Б а р т е н е в П. И. И. Шувалов// Русская беседа. Кн. 5. М., 1857. 56 Цит. по: С о м о в В. А. Французская «Россика» эпохи Просвещения и русский читатель. Французская книга в России в XVIII веке. Л., 1986. С. 202. 78 Анонимный автор статьи «О разности великого человека и человека славного, знатного и сильного» выделяет два вида истинно великих людей — ученых и политических деятелей. «Художество» первых касается до «великого умножения благополучия всем людям вообще; такое есть художество созерцательных умов, которые прилежат, что привесть в знатное совершенство оныя из человеческих знаний, которые наиполезнейшие к благополучию человеков, и чтоб доказать великое множество истин самых нужных к умножению благополучия всему человеческому роду. По счастию, для общей пользы в художествах сих созерцательных, которые ищут истин самых полезных, один великий ум, глубоким и постоянным размышлением, может высоко превзойти своих сверстников в великих благодеяниях, которые он промыслит обществу, и сделать себя великим человеком, не имея нужды ни в знатной породе, ни в великой силе, ни в великой власти, ни в великих доходах, ни в великих чинах: пространство ума есть ему за все сия преимущества» 57. «Другое знатное и важное художество есть умов больше деятельных, нежели созерцательных, больше принадлежащих к действу, нежели к размышлению; оное касается до великого умножения благополучия не всем людям вообще, но одному народу особливо» 58. Это цари, министры, военачальники, крупные администраторы. Как мы видим, И. И. Шувалов объединяет качества «великих людей», принадлежащих к первой и второй группе, органически принадлежит каждому из «художеств». В определенном смысле это тип нового человека, не «петровского», но «екатерининского», хотя и набравшего силу в «елизаветинское» время. Человека просвещенного и просвещающего, принадлежащего к «избранному» обществу прежде всего потому, что оно одновременно является и интеллектуальной элитой. Покровитель М. В. Ломоносова, инициатор основания Московского университета и Академии художеств, на протяжении ряда лет выполнявший в России роль своеобразного «министерства культуры», И. И. Шувалов пользовался авторитетом известнейших интеллектуалов Европы. В силу своеобразных, понятных лишь в контексте особенностей «философского века» причин, он имел большое влияние на культурную и общественную жизнь России. И это влияние Шувалов употребил для ее блага. 57 О р а з н о с т и великого человека и человека славного, знатного и сильного// Примечания к Санкт-Петербургским ведомостям. Ч. 59 и 60. В СПб., июля 24 дня 1741 г. С. 256. 58 Там же. 79 ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ КНЯЗЯ М. М. ЩЕРБАТОВА Д ля понимания исторических дискурсов XVIII в. важно обратиться к анализу не только самих текстов, но и целей и задач истории, а также фигуры историка. В «Рассуждении о двух главных добродетелях…» (1787) Н. Н. Мотониса говорится о том, что историку необходимо обладать двумя главными качествами: искренностью и «несуеверным богопочитанием». Для истории эти качества даже более существенны, чем для других наук, ибо «не так трудно узнавать ложь в философии, математике и прочих науках, кои основаны на несомненных правилах и доказательствах» 1. История же зависит лишь «от одной искренности писателя, следовательно, в ней одни вероятные доказательства имеют место» 2. Анонимный автор журнала «Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая и увеселительная, в пользу и удовольствие всякого звания читателей» сравнивает позиции философа и историка. Философ, по его мнению, «удуховляет утехи и 1 М о т о н и с Н. Н. Рассуждение о двух главных добродетелях, которые писателю истории иметь необходимо должно, то есть об искренности и несуеверном богопочитании// Литература и история. Вып 2 / Публ. Ю. В. Стенника. СПб., 1997. С. 287. 2 Там же. 80 очеловечивает мудрость» 3. Его задача заключается в осмыслении сущего и создании определенной стратегии жизни, в которой желания были бы подчинены рассудку. Знание историка неочевидно. Он должен добыть его, пройдя сложный путь поиска исторической истины, анализируя политические ошибки, злодеяния, достижения. Зато потом картина, нарисованная им, служит наставлением или укоризной всем возрастам и званиям. Даже цари, совершая поступки, не только учатся на прошлых ошибках, но думают и о будущих оценках. Историку нельзя приукрашивать найденного им знания. Он просто предъявляет его: «Философ теряется в своих системах, вития надмеру уповает на обавание красноречия, историк напоминает деяния и молчит» 4. Занятия историей имеют значение не только общественное, но и личное, ибо «мы, познавая людей, познаем и себя» 5, размышляет автор статьи «О истории». Он же формулирует основные правила, которым должен следовать историк: • «Останавливаться на том, что достойнее внимания, рачительно оподробить оное и предложить со всевозможною ясностию» • «Восходить до самого источника вещей и стараться открыть истинные причины, побудившие действовать людей, о коих он повествует». • «Поддерживать и оживотворять повести свои живым и благородным слогом, не выходя из пределов судии, наставляющего славу смертным, о коих он имеет случай говорить, смотря по тому, хвалы или хулы почитает он их достойными» 6. М. М. Щербатов (1733–1790) выполнял, пожалуй, все требования, предъявляемые к историку. Своей главной задачей он считал раскрытие закономерностей общественного и политического развития, причинную связь событий, установление которой, с его точки зрения, позволит не только познать прошлое, лучше понять настоящее, но и предвидеть будущее. Строя историческую ретроспективу, Щербатов находится под определенным впечатлением от со- 3 Б и б л и о т е к а ученая, экономическая, нравоучительная, историческая и увеселительная, в пользу и удовольствие всякого звания читателей. Ч. XII. Тобольск, 1794.С. 33. 4 Там же. С. 34. 5 Там же. Ч. VI. Тобольск, 1793.С. 8. 6 Там же. С. 6. 81 циологии Д. Юма. Как и последний, он представляет себе историю как «науку причин». Исторический детерминизм имел для Щербатова политическое выражение. Персонажи его «Истории российской от древнейших времен» поступают, всегда исходя из соображений политической целесообразности. Более того, иные мотивы поступков, психологические аффекты, «роковое» стечение обстоятельств Щербатов или не признает, или осуждает. Он первый обратил внимание на рассказ в «Повести временных лет» о сватовстве византийского императора к Ольге, отвергая версию о том, что мать уже взрослого Святослава могла прельстить Константина своей красотой, хотя летопись, характеризуя Ольгу, подчеркивает, что она была «очень красива лицом». Произведя не слишком сложные математические расчеты, историк сделал следующий вывод: «По крайней мере, ей было уже около семидесяти лет; следственно, как же было императору влюбиться в ее красоту... Мню, что более всего воспламенилось сердце императора тем, что, взяв ее себе в жену, мнил наследством и всю пространную Россию иметь или, по крайней мере, таковым супружеством таким себе сделать союзником Святослава, что не токмо сам не будет нападать на греков, но и от других врагов сию уже ослабевающую империю защитит. Политические виды, которые, конечно, могут и престарелому лицу красоту придать, которых не разумея, мню, тогдашние писатели к красоте Ольгиной приписали то, что единственно политика императора греческого была» 7. Характерно, что Н. М. Карамзин, объяснявший политические события с позиций «нежной чувствительности», полагал, что эпизод с сватовством Константина «народное баснословие прибавило». Согласно же Щербатову, излишние эмоции могут лишь встать на пути политического успеха. Так, например, анализируя неудачи Ивана Грозного в ливонских войнах, он считал, что одной из причин их была личная неуравновешенность царя, проявление им злобы и мстительности там, где ему следовало бы быть дружелюбным или, по крайней мере, сдержанным. В «Истории российской…» подробно описывается эпизод, связанный с осадой города Вендена (Кеси, Цесиса). Окружив крепость с запершимися там ливонскими рыцарями и горожанами, Иван Грозный, разгневанный оказываемым сопротивлением, приказал на глазах у осажденных сажать на 7 Щ е р б а т о в М. М. История российская от древнейших времен: В 7 т. Т. 1. СПб., 1770. С. 221–223. 82 кол пленных одного за другим. Понимая бессмысленность надежд на снисхождение, защитники крепости, среди которых были дети, женщины и священники, взорвали запасы пороха, предпочтя скорую гибель под развалинами изощренным пыткам в плену. Щербатов осуждает Ивана Грозного, который, подогреваемый жаждой мести, подтвердил свою репутацию жестокого государя: «Воспалился тогда злобою на сих защитников града Вендена российский государь; забыл, что и главнейшее ему составило препятствие в завоевании Лифляндии отвращение всех лифляндцев собственно от его особы в рассуждении его строгостей» 8.Он даже прерывает плавный ход повествования и вставляет специальный раздел «Размышление о поступке Иоанна Васильевича», где рассуждает об упущенных царем политических возможностях. «Имел российский государь удобный случай тогда Лифляндию себе покорить, — пишет Щербатов, — коль ни были неосновательны его требования; то подлинно есть, что, с одной стороны, поляки и литовцы с излишеством были привязаны к римскому католическому закону и направляемы бесноверным духовенством, никакого другого исповедания не терпели и, где возможность их была, гнать оные тщились. Напротиву того, лифляндцы, недавно принявши люторской закон, не меньше привязаны к догматам оного были и оказывали ненависть ко всем тем, кто папской власти повинуется. А как при самом начале, так и после, не токмо не показывали толикого удаления от греческой церкви, но паче искали с оною соединения; то уподобляя сие удобное на вере основанное расположение и яко в России всегда было терпение разных вер, но мог ли царь Иоанн Васильевич к самопроизвольному подданству сии народы склонить и самые изученные их войска приобщить к своим для войны с Польшею?» 9 Используя религиозные противоречия между Литвой, Польшей и Лифляндией, а также благодаря политическим маневрам, Иван Грозный достиг бы неизмеримо больше, чем постоянными войнами. Анализируя такие судьбоносные для России события, как крещение и монголо-татарское нашествие, Щербатов не просто описывает их, но пытается выявить всю совокупность причин, следствием которых они явились. Рассуждая о том, почему христианство не распространилось «само» во «время Ольгино», он пишет: «Справедливейшее решение, каковое я могу о сем представить, состоит в 8 9 Там же. Т. 5. Ч. 2. СПб., 1786. С.507. Там же. С. 413. 83 том, что хотя действительного гонения мучительного и не было, но презрение и посмеяние, в каком были христиане ... отвращало многих от предприятия сего закона» 10. Кроме того, «невежество российского народа, всегдашнее их упражнение в войне и ловитвах, ненависть к грекам, гордость к их невольникам, почти странствующая и дикая жизнь, мню, могли до определенного от Бога времени не допустить его проникнуть в наши страны. Я могу сие свое мнение утвердить и тем, что в нынешние времена видим в народах американских, африканских и сибирских, где все те народы, которые странствующую жизнь ведут и питаются ловитвою, невзирая на все усердие проповедников, с вящим, нежели другие, трудом могут склониться на принятие христианского закона» 11. Другими словами, христианство требует определенного уровня развития общества и не может утвердиться в нем ранее, нежели последнее «созреет» для такого события. Недостаточная «готовность» общества к такому шагу способна привести к переосмысливанию христианства, «языческой» его интерпретации, распространению «суеверий». Щербатов задается вопросом: отчего Россия не имеет мифологической предыстории, подобно Греции, Риму и другим древним цивилизациям? Он полагает, что славянское язычество не было вполне безобидным прошлым, пережитым и воспринимающимся как «детство». «Предстает на сие вопрос, — пишет он, — чего же ради в российских летописцах таковых басен не находилось, которые бы по крайней мере могли многие древности объяснить? Сие происходило оттого, что Россия не так, как другие страны, которые по степеням из грубейшего невежества выходили, но можно сказать, что вдруг (курсив мой. — Т. А.) сделала один шаг из самой грубости, каковую кочевой народ может иметь, гораздо к великому просвещению, то есть, что принявши вдруг христианский закон, обще с ним приобрели смягчение своих суровых нравов и письмены, которых, конечно, прежде не имел; и когда восставшие писатели, яко первый у нас был преподобный Нестор, не токмо не тужились сохранить баснословные древние идолопоклоннические предложения, но паче у неутвержденного в христианском законе народа старались их совсем из памяти изгнать. Вот причина, чего ради оных совсем у нас в памяти не осталось, а российская история, хотя поздно, но уже 10 11 Там же. Т. 1. С. 250. Там же. 84 освобожденная от всех баснословий начинается» 12. «Вдруг» изменившаяся культура «не захотела» знать свое мифологизированное прошлое, ибо это прошлое еще жило в ней и болезненно отзывалось на всякое неосторожное касание. Язычество продолжает оставаться «слишком актуальным» для культуры. Переход к христианству, «христианскому закону», как подчеркивал Щербатов, произошел прежде во внешних формах, в то время как усвоение христианской идеологии, моральных и мировоззренческих представлений соответствовало ему далеко не всегда. По Щербатову, в обществе должна наблюдаться определенная гармония «закона» с «нравами и обычаями». В статье «Размышления о законодательстве вообще» он пишет о том, что если вводимый закон не соответствует народным нравам, то действие его будет не только ограничено, но он может и вовсе не выполняться. «Закон» у Щербатова — это и феномен права, и некое институционализирующее, регламентирующее и организующее начало, в отличие от «обычая», который является выражением стихийного, неуправляемого и традиционного. «Закон» относится к области формы, «обычай» же составляет содержание, «закон» очевиден, «обычай» же не всегда выражен явно. Исследуя исторические события, историк должен выявить, где мы сталкиваемся с «законом», а где с «обычаем». Описывая чудесное знамение в Нижнем Новгороде, предшествующее одному из военных подвигов Ивана Грозного и вдохновившее его войско на подвиг, Щербатов приводит пример определенного несоответствия христианского «закона» и народного «обычая». Он оговаривается: «Сие первое повествование о чуде и действии, каковое оно над воинством произвело, чаятельно было причиною и многих других, которые впоследствии труда сего представлю не для того, чтобы совершенно о бытии оных уверял, ибо, кажется, и несовместно со святым нашим законом верить, чтобы Господь Бог в делах человеческих толь великие знаки воли своей особливыми чудесами и видениями показывал... Повествование о сих чудесах показует нам способы, как более привязанные к внешности, нежели к духовному разуму веры, народы в случае нужды управлять» 13. Невозможно, согласно Щербатову, изменить «нравы» и «обычаи» так же быстро, как «законы». Здесь нужно быть крайне осторож12 13 Там же. Т. 1. С. II–III. Там же. Т. 5. Ч. I. СПб., 1786. С.349. 85 ным, ибо, борясь с «суеверием», можно лишить народ и самой веры: «…не льстим себе, любомудрые, прогнать все суеверие от народа. Закон наш и догматы церковные к подвигу истребления сего зла нас побуждают, однако с крайнею мудростию и осторожностию в сем деле должно поступать, дабы, хотя прогнать суеверие, не учинить его совсем безверным и не разрушить бы ту связь, которая силою веры и закона связывает общества и налагает узду на тайные наши помышления» 14. Щербатов полагал, что чересчур буквальное следование внешним формам христианства, умноженное на суеверный «обычай», послужило одной из причин, ослабивших Россию накануне монголо-татарского завоевания. Он пишет: «…бывшие незадолго пред сим трясения земли, затмения солнца и кометы, что все за предзнаменования наших несчастий почитали, в крайнюю робость сии непросвященные народы привели... Дух неумеренной набожности вселился в сердце князей российских... неправо разумея должности закона христианского, в суеверие и бесноверие впали, преставая иметь попечение о всем том, что мирским и тленным называли, но единственно стремились к вечной жизни, якобы и самое защищение себя было противоуборство воле Господней и якобы защищение отечества не должность была христианского закона. Монахи же и духовный чин сии мысли паче утверждали, и, вкрадшись в мирское правление, яко тогда видно, что во всякие дела епископы мешались, можно сказать, твердость и великодушие отовсюду прогнали, а на место того дух монашеский вселили» 15. Конечно, «дух набожности» — не единственная причина поражения русских войск. В числе других Щербатов называет «превышение татар над россиянами в военном искусстве»; «нерегулярное и необученное войско, составленное из всякого состояния народа»; «разность вооружений». «Дух неумеренной набожности» ослабил прежде всего «дух» государственности и если не расколол, то обособил, обратил в иную, духовную, а не государственную сторону помыслы и поступки русских князей; в свою очередь, «нравы» и «обычаи» еще не настолько возвысились до «христианского закона», чтобы русский народ объединился как народ христианский против «нехристей» — завоевателей. Таким образом, дисгармония «закона» и «обычая» имела для российского государства самые трагические последствия. 14 15 Там же. С. 350. Там же. Т. 2. Ч. II. СПб., 1771. С. 574–575. 86 Согласно Щербатову, основополагающие человеческие качества не подвержены временным трансформациям. Сущность человека вечна и неизменна, поэтому как ни «трудно понимать потаенные причины давно прошедших дел, но люди всегда во одинаковых обстоятельствах почти одинаково понимают» 16. В этой неизменности — критерий достоверности исторического познания, ибо «пример настоящего есть то, что может наиболее направлять наши догадки о прошедшем» 17. С другой стороны, «история есть наука прошедших деяний, научающая нас и тем правилам, которым мы должны и в настоящих обстоятельствах последовать...» 18 Это не означает, что исторические события могут, в свою очередь, служить идеальным образцом, а исторические герои непререкаемым примером для подражания. Мы не должны слепо следовать тому, что уже кануло в Лету, и заниматься поиском абсолютных исторических аналогий. По Щербатову, «история не повторяется». Он не разделяет позицию сторонников мирового коловорота, характерную для Петровской эпохи и породившую образ «мировых часов», стрелки которых поочередно указывают на страны, коим надлежит первенствовать «на театре мира» пока не пробьет час других занять это почетное место. Не принимает он и идею циклического развития, т. е. исторического коловорота, предполагавшую, что человеческие сообщества движутся в некотором круге, поочередно пребывая в состоянии «просвещения» и «варварства». Исторический процесс, с точки зрения Щербатова, не замкнут, а линеен. Может быть, линия, по которой движется человечество, не так уж пряма, но вспять дороги нет. Мы должны учиться у Истории, а не повторять собственных или чужих ошибок. Задача историка заключается прежде всего в выявлении причин явлений, создании концептуальной картины, позволяющей увидеть основное и второстепенное, необходимое и случайное в общественном движении. Щербатов видит свою задачу в том, чтобы показать историю российской государственности, ее становление и тенденции развития. По его мнению, только сильное государство может сделать общество процветающим. 16 Там же. Т. 5. Ч. I. С. 8. Щ е р б а т о в М. М. Примечания на ответ господина генерал-маиора Болтина на Письмо князя Щербатова, сочинителя Российской истории, содержащия в себе любопытныя и полезныя сведения для любителей Российской истории, тако ж истинныя оправдания и прямые доказательства против его возражений, критики и охулений. М., 1792. С. 218. 18 Щ е р б а т о в М. М. История российская от древнейших времян. Т. 5. Ч. I. С. 349. 17 87 Идея народовластия не была близка Щербатову. В статье «Разные рассуждения о правлении» он пишет: «…несть ничего непостояннее сего правления: оно снедает свои недры, разделяется на разные партии, которые разные смутные поджигают, яко корабль на волнующемся море, хотя часто искусством кормщика от потопления избегает, но чаще еще и погибает, иногда у самой пристани. Понеже, окромя обыкновенного пороку медлительности, общего всем республикам, никакое государственное таинство скрываться не может... люди справедливого обычаю и неприятели лести не токмо презренны остаются, но и гонения претерпевают... Тщетно несправедливо обвиняемый человек, надеясь на свою добродетель и справедливость, мнит избежать от казни; довольно ему иметь двух смутных неприятелей, дабы осужденну быть, вместо чего преступник не теряет надежды, чтобы с помощью хорошего ритора, который приятным чарованием своего красноречия умеет разжалобить народ и затмить законы, быть оправдан сим смутным собранием. Любовь народа непостояннее его ненависти; они без всякого зазрения совести казнят того, который за несколько дней пред тем был избавителем отечества почитаем; и часто изгнанный с бесчестием человек возвращается в свое отечество при восклицаниях сего самого народа, который недавно ему неприятель был» 19. Однако еще более отвратительным кажется Щербатову «самовластие», «понеже сие есть мучительство, в котором нет иных законов и иных правил, окромя безумных своенравий деспота» 20. Можно было бы назвать идеальным аристократическое правление, но оно требует невыполнимого условия — нравственного совершенства каждого, претендующего на свою роль в системе государственной власти. «С первого взгляду несть ничего прекраснее главностей сего правления, — отмечает он, — тут мудрые люди сочиняют Сенат; не по своенравиям единого, но по здравому рассуждению разумнейших мужей государства дела течение свое имеют... тут каждый не ожидает награждений, не страшится наказаний, как токмо по мере услуг его государству. Сии достойные вожди народов трудятся для пользы отечества, сопрягают пользы их родов с пользою республики, которой управляют, законы тут не пременяются для пользы или своенравия единого; понеже равность между членов 19 Щ е р б а т о в М. М. Сочинения князя М. М. Щербатова: В 2 т. Т. 1. СПб., 1896–1898. Стб. 342–343. 20 Там же. Стб. 343. 88 Сената производит сопротивление; лесть, сие адское чудовище, не имеет власти в таком правлении; команда армий лишь храбрейшим и искуснейшим поручается, а не пронырливым придворным» 21. Между тем человеческая природа несовершенна, и «мудрые люди, сочиняющие Сенат, также бывают заражены честолюбием и собственною к себе любовию; каждый хоть и равен в Сенате, однако хотел бы властвовать и чтобы его голосу предпочтительно перед другими последовали. Сие рождает происки, партии, ненависти и другие злы... Хотя дела и решатся по большему числу голосов, однако большее число не всегда лучшее бывает; хотя проекты и не толь легко пременяются, но разные происходящие споры, в которых каждый хочет содержать свое мнение, а через препятствия, которые чинить, естли то противу его мнения определиться, толь медлеют, что часто оные в ничто обращаются... подлой народ... нигде столь не несчастлив, как под аристократическим правлением» 22. Наилучшим, по мнению Щербатова, является «монаршическое» правление. Оно тоже не идеально, но в большей степени соответствует «естественным» человеческим устремлениям и обычаям. «Понеже монаршическое правление имеет свое начало от правления патриархов или отцов фамилий, тут государь, по избранию ли иль по праву рождения, на престол бывает возведен, должен не толь себя почитать царем народа, который управляем, как отцом, а они себя его детьми считать» 23. Если бы Щербатов остановился на этом утверждении, оно ни в коей мере не расходилось бы с официально принятой концепцией естественного права, согласно которой отношение «государь — подданные» является проекцией отношений «родители — дети» и органично вытекает из принципов взаимоотношений между людьми. Щербатов включает в систему управления еще и «старших детей» — родовое дворянство. Царь осуществляет всю полноту исполнительной власти, тогда как Сенат, членами которого являются представители родовой аристократии, — законодательной. Щербатов не отказывается от теории естественного права, но модифицирует ее: «И яко в правлении каждого рода хотя вышняя власть и в персоне единого отца пребывает, однако и тот в важных делах спрашивает совета у старейших, иль мудрейших, своих детей, но тем найвяще, понеже в монаршическом правлении более 21 Там же. Стб. 338–339. Там же. Стб. 339–340. 23 Там же. Стб. 337. 22 89 важных дел случается, и что когда же надлежит сохранить установленные уже законы иль новые установить для благополучия народов; не необходимо ли нужно государю иметь совет, сочиненный из мудрейших и более знания имеющих в делах людей его народа, которые должны ему представить то, что может служить к счастью государств и отсоветовать, колико возможно, в вещах предосудительных государству и клонящихся к самовластию» 24. В качестве исторического примера Щербатов приводит все ту же Новгородскую республику, которая для Я. Б. Княжнина являлась символом народовластия, а для Екатерины II — воплощением самодержавного правления. Таким образом, интерпретации исторических событий не были вполне безобидны, а таили в себе прямые политические выводы. Русская история содержала в себе много опасных аллюзий, а также фактов, в том числе таких, как убийство Ивана Антоновича, дворцовый переворот 1762 г., смерть Петра III. И хотя «История…» Щербатова была далека до завершения, да он и не успел довести ее до XVIII в., нежелательные трактовки событий привели к определенным «профилактическим» мерам со стороны Екатерины II. Еще в начале своего царствования Екатерина писала о следующих доступных ей способах остановить поток неугодных сочинений: «1) зазвать автора, куда способно, и поколотить его, 2) или деньгами унимать его писать, 3) или уничтожить, 4) или писать в защищение» 25. В отношении Щербатова был избран четвертый способ. Довольно часто Екатерина II, тяготевшая к литературным и научным занятиям, «писала в защищение» сама, порой поручала это кому-либо из своего окружения. Так появились «Примечания на Историю древния и нынешния России г. Леклерка, сочиненные генерал-маиором Иваном Болтиным» (СПб., 1788). Непосредственным объектом критики И. Н. Болтина стала «История древней и новой России» Н.-Г. Леклерка. Однако «Примечания…» были косвенно направлены и против Щербатова. Леклерк, будучи врачом по профессии, лечил жену Щербатова Наталью Федоровну, получал у известного историка консультации и даже некоторые материалы, которые использовал в своей «Истории…». То, что Леклерк решил написать большое историческое сочинение, удивило и даже не24 Там же. Стб. 337. Цит. по: С о м о в В. А. Французская «Россика» эпохи Просвещения и русский читатель// Французская книга в России в XVIII в. Л., 1986. С.182, прим. 25 90 сколько шокировало Щербатова, прекрасно осведомленного о дилетантизме Леклерка, а также о том, что последний не знает русского языка, поэтому он и сам невысоко оценил этот труд. Но «Примечания» Болтина задели самого Щербатова, который увидел в них явные намеки на собственное сочинение. Через год в печати появилось «Письмо князя Щербатова, сочинителя Российской истории, к одному его приятелю в оправдание на некоторые скрытые и явные охуления, учиненные его Истории от господина генерал-маиора Болтина, творца Примечаний на Историю древния и новыя России г. Леклерка» (М., 1789). Щербатов пытался оправдаться и откровенно признал некоторые ошибки, неизбежные при написании столь глобального сочинения. Однако он не мог согласиться с принципиально негативной оценкой своего труда, отчетливо сознавая свое место среди историков России. Он оскорблен в своих лучших чувствах: «Признаюсь, что я и сам во многом недоволен моею “Историею”. Но вот следует вопрос, для чего же я с изнурением себе пишу? Вот, государь мой, мое оправдание. От юности моей считал, что каждый гражданин, поелику сила его достигать может, должен быть полезен отечеству своему; я в молодости моей, да и теперь не вижу достаточной истории России, предпринял ее писать... дабы через оную научиться познать состояние России... Несть в ней красноречия, — продолжает он, — находится, может статься, во многом темнота: инде и недостаток связи; но, напротив того, осмелюсь сказать, украшена она справедливостию, точным исследованием летописцев и редчайших писем из архивов, повсюду видимым беспристрастием и довольною смелостию, а по самому сему, естли кто после меня вздумает российскую историю писать, то уповаю... во многих случаях “История” моя ему будет воспомоществовать для сочинения изящнейшего труда и для сыскания нужных припасов» 26.Таким «изящнейшим» историком России стал Н. М. Карамзин, преемственность и даже некоторую зависимость которого от «Истории…» Щербатова отмечали некоторые позднейшие исследователи. Так, например, П. Н. Милюков считал, что «Щербатов был для Карамзина основным источником сведений по русской истории... Видно, что том щербатовской “Ис26 Щ е р б а т о в М. М. Письмо князя Щербатова, сочинителя Российской истории, к одному его приятелю в оправдание на некоторые скрытые и явные охуления, учиненные его Истории от господина генерал-маиора Болтина, творца Примечаний на Историю древния и новыя России г. Леклерка. М., 1789. С. 141. 91 тории” всегда лежал на письменном столе историографа и давал ему постоянно готовую нить для рассказа и тему для рассуждения» 27. И. Н. Болтин незамедлительно отзывается на «Письмо» Щербатова и в том же 1789 г. публикует «Ответ генерал-маиора Болтина на Письмо князя Щербатова, сочинителя Российской истории», где весьма язвительно замечает: «Сочинитель Письма извиняется перед своим приятелем в темном и необстоятельном написании о происхождении русского народа и незнанием ученых языков, несведением слов разных населяющих Россию народов и других... Положим, что приятель его сочтет такое извинение достаточным... однако же и при сем случае по долгу дружества должен будет ему сказать: “Но кто же принуждал Вас браться за дело выше своих сил и возможности? Не лучше ли было бы, по неимению сказанных помощей, оставить вещи так, как они были, нежели, писав из головы и без всякого основания, в вящую приводить их темноту, запутанность и безобразие?”» 28. Несмотря на то, что в предыдущем письме Щербатов клялся, что не будет затевать «ученую свару», таких оскорблений самолюбивый князь вынести не мог. Он пишет «Примечания на ответ господина генерал-маиора Болтина, на Письмо князя Щербатова, сочинителя Российской истории, содержащия в себе любопытныя и полезныя сведения для любителей Российской истории, тако ж истинныя оправдания и прямые доказательства против его возражений, критики и охулений» (М., 1792). В это время Болтин готовит к печати «Критические примечания генерал-маиора Болтина на первый том Истории князя Щербатова» (СПб., 1793) и «Критические примечания генерал-маиора Болтина на вторый том Истории князя Щербатова» (СПб., 1794). Только смерть Щербатова в 1790 г. и Болтина в 1792 г. прекратила этот поединок. Учитывая, что всего Щербатовым было написано 7 томов «Истории…», причем последние из них состояли из объемных частей (всего было написано 18 книг), а Болтин подробно и въедливо комментировал каждую строчку, можно с содроганием представить себе возможные повороты в могущих следовать 27 М и л ю к о в П. Н. Главные течения русской исторической мысли. М., 1887. Т. 1. С. 123– 124. Б о л т и н И. Н. Ответ генерал-маиора Болтина на Письмо князя Щербатова, сочинителя Российской истории. СПб., 1789. C. 9–10. 28 92 далее «ответах на ответ» и «комментариях на письмо к приятелю сочинителя ответа». Однако И. Н. Болтин, талантливый человек и блестящий историк, растративший свое дарование на написание бесконечных «комментариев», стал в судьбе Щербатова роковой фигурой. Пожалуй, ни одно историческое сочинение не подвергалось такому тщательному анализу, изощренной критике, откровенным издевательствам, насмешкам и даже передергиваниям. Вероятно, именно поэтому труд Щербатова был недооценен современниками, а отчасти и потомками. С удовлетворением можно отметить лишь то, что в конце 80-х годов XVIII в. полемика велась более цивилизованными методами, чем в конце 40-х. Философия истории не случайно не была включена в общую схему изучения философии. Пожалуй, это был единственный объект исследования, по отношению к которому не мог быть применен универсальный «упорядочивающий» метод метафизики. Теоретические построения в отношении общества рассматривались как внеметафизические конструкции. Его изучение определялось потребностью осознать происходившие перемены. В первой трети столетия они объяснялись теорией «мирового коловорота» (последовательного возвышения того или иного народа над другими) и «социального коловорота» (движения общества по кругу, когда упадок сменяется расцветом, и наоборот). В дальнейшем теория «коловорота» была подвергнута критике А. Н. Радищевым и А. П. Сумароковым, показывавшими, что каждый новый этап жизни общества сопровождается качественными изменениями. Потребность осмысления истории привела к появлению ряда фундаментальных исторических сочинений. Интерес к «самому началу» российской истории определялся способом мышления, для которого познание сводилось к выяснению первопричины, причем для большинства историков — М. М. Щербатова, Н. М. Карамзина, Екатерины II, В. Н. Татищева, Ф. А. Эмина — речь шла прежде всего о государственности. Лишь немногие, как М. В. Ломоносов, рассматривали Россию «прежде Рурика». Интерес к прошлому был попыткой разобраться в настоящем или оправдать его исторической традицией. При этом задачи и их решения формулировались на основе общеметодологических философских соображений. Если немецкие историки, работавшие в России (Г.-З. Байер, Г.-Ф. Миллер, А.-Л. Шлецер), видели свою цель преимущественно в открытии нового знания, то предста- 93 вители российской историософии полагали, что главной функцией исторического сочинения должно быть моральное поучение (В. Н. Татищев, Ф. А. Эмин), овладение духовным, в первую очередь чувственно-эмоциональным опытом прошлых поколений (Н. М. Карамзин), уяснение закономерностей общественных изменений (М. М. Щербатов), поиск аналогий существующей политической системы (Екатерина II). Представление об историческом процессе как результате взаимодействия крупных политических фигур, сословно-персоналистическая направленность философии истории (М. М. Щербатов) способствовали развитию исследований в области генеалогии. Другим направлением философского осмысления общества была социальная утопия, формировавшая идеальную модель общественного устройства. «Славное прошлое» и «светлое будущее» переходили одно в другое, как бы заслоняя собой настоящее. Однако на самом деле и историософия, и утопия выполняли функцию социальной философии и работали на настоящее, оправдывая его и осмысляя. 94 ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ ПО «ЕЛАГИНСКОЙ СИСТЕМЕ» О дин из биографов Ивана Перфильевича Елагина в статье, посвященной столетию со дня его смерти, отмечает своеобразную «забытость» этого человека тем, что Елагин «не принимает участия в гладиаторских играх исторического Колизея… он только их постоянный зритель (habitué), иногда изменяющий своему положению, чтобы сделаться принадлежностью общего движения» 1. Спустя еще сто лет с момента написания этой биографии имя Елагина забылось больше, став почти топографическим понятием, обозначающим место воскресных прогулок петербуржцев. Словесный (авто?)портрет Елагина, нарисованный в Предисловии к журналу «Всякая всячина»: «…приземист, часто запыхаюсь, широка рожа, заикаюсь, когда сердит, немножко хром, отчасти кос, глух на одно ухо, руки длиннее колен, брюхо у меня остро, ношу кафтаны одного цвета по году, по два, а иногда и по три» 2, как-то не ассоциируется с представлением о «философе» или «мыслителе». 1 Д р и з е н Н. В. Иван Перфильевич Елагин// Русская старина. Т. 80. 1893. С. 118. Цит. по: С т е п а н о в В. П. Елагин Иван Перфильевич // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1. Л., 1988. С. 307. 2 95 Тем не менее Елагин был если и не «типичным представителем», то, во всяком случае, достаточно «характерным явлением» в среде философствующего нобилитета екатерининского времени. И. П. Елагин (30 ноября 1725–24 сентября 1793) происходил из старинного рода, выехавшего из Германии в Россию в XIV в. До 13 лет получал домашнее образование. С 1738 по 1743 г. учился в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе вместе с кн. А. А. Прозоровским, А. П. Сумароковым, М. М. Херасковым, П. С. Свистуновым, С. А. Порошиным и др. В корпусе принимал участие в литературном обществе, главой которого являлся А. П. Сумароков. В стенах корпуса так же был театр, спектакли которого часто посещала императрица Елизавета Петровна. После выхода из Шляхетного корпуса с чином прапорщика некоторое время служил в Невском полку Петербургского гарнизона. С 1748 г. состоял писарем лейбкампании, а с 1751 г. служил у графа А. Г. Разумовского. К тому времени относится его дружба с Н. А. Бекетовым — соперником И. И. Шувалова. Впрочем, она продолжалась недолго. Любовь Бекетова к пению с придворными певчими показалась подозрительной, он был удален от двора и переведен в армию. В 50-е годы Елагин делается доверенным лицом великой княгини Екатерины Алексеевны, служит посредником между ней и Станиславом Понятовским. Вспоминая это время, Екатерина пишет в своих «Записках…»: «Это был человек надежный и честный; кто раз приобретал его любовь, тот нелегко ее терял; он всегда изъявлял усердие и заметное ко мне предпочтение» 3. В 1758 г. по делу канцлера А. П. Бестужева-Рюмина он был арестован вместе с В. Е. Адодуровым и ювелиром Бернгарди. Елагину было приказано отправиться в свое имение, где он пробыл до воцарения Екатерины II. В то время великая княгиня Екатерина Алексеевна писала ему: «Будь здоров и уверен, что невинность и усердие твои век из ума не выйдут» 4. Елагин действительно не был забыт императрицей, она вернула его из ссылки, сделав своим доверенным лицом. 27 июля 1762 г. вышел указ Екатерины II о награждении Елагина чином действительного статского советника и определении на службу в кабинет. 3 С о б с т в е н н о р у ч н ы е записки императрицы Екатерины II// Сочинения Екатерины II. М., 1990. С.214. 4 С б . Р у с с к о г о исторического общества. Т. 7. СПб., 1871. С. 76. 96 Он занимался делами бывшей фаворитки Петра III Елизаветы Воронцовой. Екатерина II посылала ему записки, свидетельствующие о взаимном понимании и доверии: «Перфильевич, сказывал ли ты кому из Лизаветиных родственников, чтоб она во дворец не размахнулась, а то, боюсь, к общему соблазну завтра прилетит» 5. Елагин так же занимался покупкой дома для Воронцовой в Москве, чтобы «она на Москве жила в тишине» 6. Рукою Елагина было написано, например, Собственноручное повеление Екатерины II от 6 сентября 1763 г. о мерах против распространения в России иностранных сочинений, направленных «против закона, доброго нрава и нас» 7. Елагин занимался шифровкой, иногда редактированием писем Екатерины, т.е. знал ее намерения и многие секреты. Об этом свидетельствуют записки самой императрицы, например: «Иван Перфильевич, кой час ты в цифры поставишь приложенное письмо, то пришли оное ко мне к подписанию и спеши с оным» 8; «Иван Перфильевич, поправь орфографию сей приложенной бумаги и принеси обратно ко мне» 9; «Елагину цифири отдать» 10; «г-ну Елагину в цифирях поставить и весьма секретно содержать» 11; «Иван Перфильевич, напиши своей рукой приложенные листы и перемени лицо, будто я пишу» 12, и т.д. «Перфильевич» был в курсе ученых занятий императрицы, разделял ее увлечение историей. Об этом свидетельствует собственноручная записочка Екатерины II о немецком историческом словаре 19 марта 1768 г.: «И. П. Пошли, пожалуй, в Ораниенбаум взять из тамошней библиотеки книги наз. Allgemeines historisches Lexicon, я думаю, что volumes есть со сто, вели их хорошенько уложить и сюда привести ко мне. Екатерина» 13. Порой императрица по-свойски бранила своего конфидента: «Слушай, Перфильевич… Скажу, что тебе подобного ленивца на свете нет да что никто столько ему порученных дел не волочит, как ты» 14, однако прощала слабости, ценя преданность и исполнитель5 Там же. С. 149. Там же. 7 Там же. С. 318. 8 Там же. С. 308. 9 Там же. Т. 27. СПб., 1880. С. 307. 10 Там же. С. 306. 11 Там же. С. 306, прим. 12 Там же. С. 309. 13 Там же. Т. 10. С. 283. 14 Там же. Т. 7. С. 351. 6 97 ность. Екатерина писала гр. Орлову от 11 января 1773 г.: «Ваша светлость лучше кого в свете знаете, колико я презираю подлецов и ласкателей, коих бесконечное множество около двора, и как много я почитаю все поступки, основанные на честности, великодушии и чистосердечии. Сожалительно мне, что изо всего многолюдства не много И. П. Елагиных… Я, конечно, не оставлю отличить его, господина Елагина, поведение; к нему умножится мое доброжелательство и почитание свидетельством вашей светлости» 15. Отношение уважения и доброжелательства отражено в шутливой подписи в письме к Н. Панину от И. Елагина, где Екатерина II подписалась: «канцлер господина Елагина» 16. Она одаривает его деньгами, крестьянами, домами, дорогими сувенирами. «Иван Перфильевич, — пишет Екатерина 8 сентября 1769 г. — которыя у вас хранились моих вещей от 1762 г. золотыя и с алмазами, вам известныя, возьми себе» 17. В 1766 г. Екатериной был учрежден «Стат всем к театрам и к камер и бальной музыке принадлежащим людям, тако ж сколько в год и на что именно для спектаклей полагается суммы». Елагин же 20 декабря 1766 г. был назначен директором Придворного театра и музыки с повелением «Елагину самому так как сочинителю того стата привести все по оному в прямое действие, дабы он тем самым мог доказать совершенство оного учреждения перед нами, а для того и Конторе повелеваем все, принадлежащее к тому, — ему Елагину препоручить в дирекцию» 18. Это был первый опыт организации театрального дела в России. Создание нового поста выводило управление театрами через Елагина непосредственно на Екатерину. Отношение Екатерины к Елагину и к его деятельности того времени хорошо демонстрирует шутливая заметка императрицы, относящаяся к концу 60-х — первой половине 70-х годов, в которой она, выявляя особенности характера или поведения своих приближенных, указывала, от чего они могли бы умереть: «Граф Брюс от прилива крови. Лев Александрович Нарышкин от апоплексии. Граф Иван Чернышев от гнева. 15 Там же. Т. 13. С. 298. Там же. Т. 10. С. 244. 17 Там же. С. 323. 18 Цит. по: К р у г л ы й А. И. И. П. Елагин (Биографический очерк)//Ежегодник Императорских театров. Приложения. Кн. 2-я. Сезон 1893–1894. СПб., 1895. С. 99–100. 16 98 Граф Захар Чернышев смертью праведных. Граф Румянцев, тасуя карты. Г-жа Штакельберг от удивления. Г-жа Полянская от сожаления. Г-н Остервальд от воздержания. Г-жа Остервальд от голода. Г-жа Зиновьева от смеха. Штакельберг от золотухи. Черкасов от задушения словом. Г-жа Протасова от родин. Илья Всеволожский от вздохов. Перфильев от несварения желудка. Граф Мюних от одышки. Фельдмаршал Голицын от зуда. Граф Панин от того, если он когда поторопится. Я от снисходительности. Козицкий от искания славянских слов. Козьмин от кости ерша. Стрекалов от питья английского пива. Елагин от садна слуховой перепонки, произведенного театральной гармонией» 19. Деятельность Елагина на посту «directeur des plaisirs» была достаточно заметной. Это был пост не только и не столько творческий, сколько административный и даже идеологический. Последнее обстоятельство не ускользнуло от взгляда известного критика нравов — М. М. Щербатова. Осуждая Екатерину II за «славолюбие», «пышность» и любовь к «лести и подобострастию», он отмечает: «Не меньше Иван Перфильевич Елагин употреблял стараний приватно и всенародно ей льстить. Быв директором театру, разные сочинения в честь ее слагаемы были, балеты танцами возвещали ее дела, иногда слава возвещала пришествие российского флота в Морею, иногда бой Чесменский был похваляем, иногда воспа с Россиею плясали» 20. Щербатов имеет в виду «аллегорично-пантомимный» балет «Торжествующая Минерва, или Побежденное предрассуждение», поставленный композитором Гаспаро Анджелини (17311803) 28 ноября 1768 г. в Санкт-Петербурге в придворном театре в 19 С б. Р у с с к о г о исторического общества. Т. 10. С. 321–322 («Jelagin d’une écorchure de tympan que lui donnera l’harmonie théâtrale»). 20 Щ е р б а т о в М. М. О повреждении нравов в России…// М., 1985. С. 122. 99 честь «благополучного и всерадостного освобождения Ея императорского Величества и Его императорского Высочества от привитыя оспы» 21. Чрезмерно критический пафос Щербатова, а также его обида на Екатерину хорошо известны, поэтому, вероятно, более объективным было мнение Н. И. Новикова, который писал, что «его тщанием российский театр возведен на такую степень совершенства, что иностранные знающие люди ему удивляются» 22. Елагин был хорошо известен и «как сочинитель». Н. И. Новиков отмечал, что Елагин «писал весьма изрядные стихотворения, как то элегии, песни и другое тому подобное; также сатирические письма прозою и стихами, много похваляемые знающими людьми за чистоту стихов и слога, нежность вкуса и хорошее и приятное изображение. Но, к великому сожалению, сии стихотворения еще не напечатаны; однако ж у всех охотников хранятся письменными… Слог его чист и текущ, а изображения нежны и приятны, а где потребно, важны и сильны, и его переводы по справедливости могут почитаться примерными на российском языке» 23. В «Известиях о некоторых русских писателях», автором которых был «один русский путешественник», а именно И. А. Дмитриевский, изданных первоначально на немецком, а затем на французском языке 24, было высказано сожаление о том, что «важные государственные дела слишком рано отвлекли его от занятий литературою. Но мы еще не оставляем надежды видеть в печати некоторые из его рукописей. Лучшая похвала ему то, что он после Ломоносова первый наш писатель в прозе и даже превосходит иногда Ломоносова в тонкости выражения» 25. Современники отмечали некоторое высокомерие Елагина, впрочем, вполне понятное в высокопоставленном вельможе и человеке, в полной мере знающего себе цену. В 1765 г. в составленном неким шутником «Сатирическом каталоге при Дворе Императрицы Екатерины II» он был выведен под именем графа де Тюфьера главного действующего лица в комедии Ф. Н. Детуша «Le Glorieux» — нари21 См.: А н д ж е л и н и Г. Торжествующая Минерва, или Побежденное предрассуждение. СПб., 1768. 22 Н о в и к о в Н. И. Опыт исторического словаря// Новиков Н. И. Избранные сочинения. М.; Л., 1951. С. 301. 23 Там же. С. 300–301. 24 См.: М а т е р и а л ы для истории русской литературы/ Изд. П. А. Ефремова. СПб., 1867. С. VIII–IX. 25 Там же. С. 136. 100 цательного выражения чванства 26. Сам Елагин, сравнивая себя с Вольтером, замечал: «Я не простил бы себе, если бы усомнился сравниться с ним в чем бы то ни было» 27. Елагин много занимался переводческой деятельностью. Вместе со своим секретарем В. И. Лукиным он перевел сочинение аббата Прево «Приключение маркиза Г. … или Жизнь благородного человека, оставившего свет», выдержавшее пять изданий, последнее издание включало в себя знаменитую историю Манон Леско (Ч. 1–7. СПб., 1780–1790). Елагин перевел «Мизантропа» Мольера, вступление и две первые части «Велизария» Мармонтеля. Переводы Елагина, как, впрочем, и многие переводы XVIII в., носили авторизированный характер. Текст переводился «приблизительно», мог содержать много вставок, комментариев, отступлений. В этом смысле интересен елагинский перевод из лейпцигского журнала «Belustigungen des Verstandes und der Witzes» (1751). Перевод Елагина был ответом на литературную полемику по поводу его же «Эпистолы к г. Сумарокову» (или «Сатиры на петиметра и кокеток») и содержал намеки на участников полемики — Г. Н. Теплова, М. В. Ломоносова, В. К. Тредиаковского. Указывая на своего «бывшего друга», господина Постоянникова, Елагин пишет: «Корпит он непрестанно над книгами и часто целые ночи в размышлениях препровождает, а со всем тем почти ни единого слова в беседе от него добиться невозможно. Не осмелится он и самому себе сказать, кто величайший философ, а я ведаю, что он все философические сочинения и наших, и старых времен неоднократно читал. Из сего можно о слабости его разума беспристрастно заключить…» 28 Елагин иронизирует над «школьной» философией, ее традиционным набором понятий и «птичьим языком». «Из философии, — отмечает он, — знаю я математический способ учения, противуречия, действующую причину, монады, согласие, лучший свет и другие, сим подобные слова, которыми я при случае более наделаю шуму, нежели полицейские барабаны во время пожара. Невтону даю перед Лейбницем преимущество, не для того, чтоб я их читал, но только для того, что я больше люблю англичан, нежели 26 См.: К р у г л ы й А. И. П. Елагин (Биографический очерк). Цит. по: К р у г л ы й А. И. Там же. С.113. А в т о р // Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие. 1755, сентябрь. С. 279–280. 27 28 101 немцов» 29. Трудно сказать, какова доля правды в этой шутке, отпущенной человеком, ставшим впоследствие главой именно «английского» масонства и довольно резким критиком «немецкого». Философическая серьезность пришла к Елагину несколько позже, в середине 80-х годов, когда он начал писать «Учение древнего любомудрия и богомудрия, или Наука свободных каменщиков, из разных творцов светских, духовных и мистических собранная и в 5 частях преложенная И. Е., великим российским провинциальныя ложи мастером. Начато в MDCCLXXXVI г.» В это время Елагин отошел от государственных дел и был уже не тем «Перфильевичем» для Екатерины II, как в годы их молодости. Более того, он углубился в те области, которые всегда вызывали неприязнь императрицы, пытаясь найти в масонстве разрешение «вечных вопросов» и «истинного разумения» «о сотворении Вселенной, о единстве и существе Бога, о бессмертии души и первородном человеке» 30, а также идеальные формы нравственного, социального и церковного устройства. В «Повести о себе самом», помещенной внутри «Учения древнего любомудрия…», Елагин пишет о том, что он хотел найти в масонстве. Первоначальной причиной вступления в ложу было юношеское тщеславие и любопытство — «узнаю таинство», «буду хотя на минуту в равенстве с такими людьми, кои в общежитии знамениты» 31. Его привлекало и «мнимое равенство» и «лестная надежда» «чрез братство достать в вельможах покровителей» 32. Но… «сие мечтание скоро исчезло, открыв и тщету упования, и ту истину, что вышедший из собрания вельможа… есть только брат в воображении, а в существе вельможа» 33. Он «препроводил многие годы в искании в 2 34 и света обетованного, и равенства мнимого, но ни того, ни другого ниже никакой пользы не нашел, колико ни старался» 35. Елагин разочаровался в масонстве, оно стало казаться ему «игрою 29 Там же. С. 91. Е л а г и н И. П. Учение древнего любомудрия и богомудрия, или Наука свободных каменщиков, из разных творцов светских, духовных и мистических собранная и в 5 частях преложенная И. Е., великим российским провинциальныя ложи мастером. Начато в MDCCLXXXVI г.// Русский архив. 1864. № 1. С. 95. 31 Там же. С. 99. 32 Там же. 33 Там же. 34 , 2 — знак масонской ложи. 35 Е л а г и н И. П. Учение древнего любомудрия и богомудрия… С. 99. 30 102 невеликого разума» или «игрой людей, желающих на счет вновь приемлемого забавляться, иногда непозволительно и неблагопристойно» 36. «Не приобрел я из тогдашних работ наших ни тени какого-либо учения, — пишет он, — ниже преподаяний нравственных, а видел токмо единые предметы неудобпостижимые, обряды странные, действия почти безрассудные; и слышал символы нерассудительные, катехизы, уму несоответствующие; повести, общему о мире повествованию прекословные; объяснения темные и здравому рассудку противные, которые или не хотевшими, или незнающими мастерами без всякого вкуса и сладкоречия преподавались» 37. На время Елагин «отклонился от собраний масонских», но «прилепился к писателям безбожным»: «Буланже, Даржанс, Вольтер, Руссо, Гельвеций и все словаря Белева, как французские и аглицкие, так и латинские, немецкие и итальянские лжезаконники, пленив сердце мое сладким красноречия ядом, пагубного ада горькую влияли в него отраву. Сие чтение так душу мою развратило, что и сам великий Невтон смешным мне казался» 38. Елагина несколько смущало то обстоятельство, что новые философы и «ансиклопедисты», а также их критики были «обществом свободных каменщиков». Это возбудило новый интерес к масонству, могущему подчинить «единому молотка удару» «столь великое число разного состояния людей… вельмож и простолюдинов, ученых и невежд, богопочитающих и афеистов, умных и простых, степенных и ветреных, кротких и сварливых, добродетельных и порочных» 39. И Елагин стал искать людей, «состарившихся в масонстве», и чужестранных братьев. Один из них — путешествующий по России англичанин помог снять с глаз «первую невежества завесу». Он поведал Елагину, что «масонство есть наука, что оно редко кому открывается, что Англия никуда и ничего на письме касательно оного не дает, что таинство сие хранится в Лондоне в особной ложе, древнею называемой, что весьма малое число братьев, знающих сию ложу, что, наконец, весьма трудно узнать и войти в сию ложу, а тем труднее в таинство ея посвященну» 40. Так началось знакомство Елагина с так называемым «английским» масонством. В пестром соцветьи раз36 Там же. С. 100. Там же. 38 Там же. С. 101. 39 Там же. С. 102. 40 Там же. С. 103. 37 103 личных масонских организаций в России XVIII в. английское масонство имело определенные и узнаваемые черты. Ему была чужда политизация иллюминатов или мистицизм розенкрейцеров. В Россию, как и в другие страны, масонство пришло из Англии, первоначально как организация, обеспечивающая духовные потребности небольшой английской диаспоры, а затем интегрировалось в российскую жизнь, видоизменившись и приспособившись к потребностям российского общества и особенностям российского менталитета. Исследователями отмечалось, что «масонство, собственно говоря, давало только форму; и каждый народ и даже отдельное лицо вливали в нее то содержание, которое гармонировало с их общим мировоззрением и характером. Положительный и трезвый ум англичан так и ограничил его чисто нравственными целями и идеями; склонный ко всему таинственному и туманному, гений германцев начал искать в масонстве каких-то чрезвычайных знаний и откровений; французы запечатлели его отличительною чертою своего характера — тщеславием и стремлением к внешнему блеску» 41. Английское масонство, как и все английское в России, привлекало своей основательностью и добротностью и простотой, оно было ориентировано прежде всего на нравственные искания и было далеко как от догматической принудительности, так и от демонстративности и стремления к усложнению организационной структуры путем введения новых степеней и знаков отличия. Обычно оно имело только три степени — ученика, товарища и мастера. Позже, уже в так называемом «шотландском масонстве» была введена степень «шотландского мастера». Впрочем, для самой Шотландии была характерна обычная английская система. Руководством для лондонских лож и в первую очередь Великой ложи (Grand Loge of England) была «Новая книга конституций», составленная в 1721 г. доктором богословия Д. Андерсеном («The Constitutions of the antient and honorable Fraternity of free and accepted Macons containing their History, Charges, Regulations etc. collected and digested, by order of the Grand Lodge, from their old Records, faithful Traditions and LodgeBooks, for the use of the lodges, by James Anderson, D. D. and Carefully Revised, continued, and Enlarged by John Entick, M. A.»). В 1770 г. по согласованию с берлинской ложей Royal York, работавшей по английской системе, в России был учрежден админист41 П е т р о в с к и й С. А. Очерки из истории русского масонства в XVIII в.// Христианское чтение. Июль-август. 1889. С. 128. 104 ративный центр — Великая провинциальная ложа, а в 1772 г. Елагин получил диплом утверждающий его звание «Провинциального Великого мастера всех и для всех русских» (of and for all Russians), выданный ему Великим мастером Лондонской Великой ложи герцогом Бьюфортом (Henry Somerset Duke of Beaufort) 42. Таким образом, как отмечалось в послании Великой ложи, 1772 год стал эпохой «расцвета и величия масонства в России» 43, а сам «высокопочтеннейший брат» Елагин — восстановителем «на твердую степень в России масонства» 44. Провинциальная ложа обязывалась представлять отчеты Ложе-матери, посещать собрания, праздновать день Иоанна Крестителя и присылать в Лондон с каждой вновь открываемой ложи сбор — 3 фунта 3 шиллинга. Елагин отнесся к новому статусу чрезвычайно серьезно. Его смущало лишь одно — секретность некоего знания, оберегаемого Ложей-матерью, которое, как полагал Елагин, составляет сущность масонского учения. Он сожалел о том, что «Аглицкая великая ложа, где и как сохраняет свои таинства… ни обществу нашему, ниже самим зависящим от нее и в самом Лондоне находящимся не известно» 45. Поэтому он начал «с отменным тщанием и с превеликою потерею денег собирать все то, что по разным местам Европы касательно до масонства учреждено и преподаваемо» 46. Елагин действительно собрал огромное количество масонских документов, но единственная «тайна», которая ему открылась, заключалась в осознании невозможности постичь трансцендентные смыслы учения обычными методами сбора и осмысления информации. «При всем старании моем, — чистосердечно признается Елагин, — открылась мне только та истина, которую в осторожность всем братьям и предлагаю, что за деньги масонская истина не продается и не покупается ни под каким видом» 47. Обращение к ритуальным масонским книгам, прежде всего к «Конститюции и иносказательной масонской повести», открыло 42 С е м е к а А. В. Русское масонство в XVIII веке // Масонство в его прошлом и настоящем. М., 1991. С. 141. 43 Цит. по: C r o s s A. By the Banks of the Neva: Chapters from the Lives and Careers of the British in Eighteenth-Century Russia. Cambridge, 1997. P. 30. 44 Н о в и к о в Н. И. Письмо А. А. Ржевскому от 14 февраля 1783 г.// Письма Н. И. Новикова. СПб., 1994. С. 26. 45 Елагин И. П. Учение древнего любомудрия и богомудрия… С. 104. 46 Там же. С. 103–104. 47 Там же. С. 104. 105 Елагину, следующее: «Масонство по древности своей, по происхождению его от народа в народ, по почтению его от всех просвещенных языков должно заключать в себе нечто превосходное и полезное для рода человеческого», а также то, что «сие нечто, то в ней неудобь понятно без ключа» 48. За этим «ключом» Елагин обратился к учениям древних религий, в которых пытался найти разгадку тайны масонства. В этих поисках он руководствовался наставлениями собрата NN (Станислава Эли, масонское имя — Седдаг, автора «Братских увещеваний», переведенных с немецкого самим Елагиным). Тот открыл своему ученику некоторые тайны, например, «что масонство есть древнейшая таинственная наука, святою премудростию называемая; что она все прочие науки и художества в себе содержит, как в ветхом нашем Аглицком катехизе, Локком изданном, сказано, что она ради некоторых неудобьсказуемых народу важностей темными гиероглифами, иносказаниями и символами закрытая от начала века существует, никогда в забвение не придет, ниже изменению, а тем меньше конечному истреблению подвергнется, что она та самая премудрость, которая от начала мира у патриархов и от них преданая в тайне священной хранилась в храмах халдейских, египетских, персидских, финикийских, иудейских, греческих и римских и во всех мистериях или посвящениях еллинских, в училищах Соломоновых, Елейском [Ессейском — ?], Синайском, Иоанновом, в пустыне и в Иерусалиме, новою благодатию в откровении Спасителя преподавалась; и что она же в ложах или училищах Фалеевом, Пифагоровом, Платоновом и у любомуд[р —?]цев индейских, китайских, арабских, друидских и у прочих науками славящихся народов пребывала» 49. Под руководством своего наставника Елагин приступает к изучению древней мудрости. Характерен выбор авторов, которые повлияли на формирование не только философской, но и историософской позиции Елагина. Он пишет: «Целые пять лет, яко время товарищем нашим на учение предписанное, препроводил под даваемым мне наставлениями в неусыпном чтении Божественного писания. Ветхий и Новый завет были и еще суть приятнейшие мои учителя. Отцы церковные, яко то: Ориген, Евсевий, Иустин, Кирилл Александрийский, Григорий Назианзин, Василий Великий, Иоанн Злато- 48 49 Там же. С. 105. Там же. С. 105–106. 106 уст, Иоанн Дамаскин, преподобный Макарий» 50. Кроме того, среди авторов, которые «стали толкователей невразумлению моему», Елагин называет Пифагора, Анаксагора, Сократа, Эпиктета, Платона, Гермеса Трисмегиста, «самого Орфея», Гомера, Зороастра, Геродота, Диодора Сицилийского, Плутарха, Цицерона, Плиния. Вероятно, сюда же можно добавить сочинения Дионисия Ареопагита, Григория Паламы, Блаженного Августина, а также, разумеется, сочинения англичан — И. Пордеджа, А. М. Рамзая, В. Гутчинсона, В. Дергама. Особое внимание было уделено знаменитому трактату СенМартена «О заблуждениях и истине» и «Братскому увещеванию» самого Станислава Эли. Чрезвычайно характерно, что в елагинском списке отсутствует имя такого авторитетного в масонском мире автора, как «теутонического философа» Я. Беме, хотя и упоминаются его британские последователи. Вероятно, откровенный мистицизм, сделавший его книги настольными изданиями московских розенкрейцеров, заставил Елагина сознательно не упоминать имя Беме, хотя, безусловно, он не мог не знать его сочинений. Анализируя корпус авторов, как античных философов, так и христианских «отцов», изучавшихся Елагиным, нельзя не увидеть очевидную неоплатоническую тенденцию. Интересно, что такого рода «образование» невозможно было получить ни в Петербургском Академическом, ни в Московском университетах, ни в церковных школах, где царствовала немецкая популярная философия и прежде всего вольфианство. Нельзя было узнать о ней и в «свете», безраздельно отдавшему свои предпочтения поверхностно понимаемым Вольтеру, Дидро, Д’Аламберу и др. Причины своеобразных путей философии неоплатонизма в Россию и эзотерический характер его влияния на русских мыслителей должен быть исследован особо. Характерно то, что эта тенденция, угаснув в «золотом» веке Просвещения, с новой силой пробудится в «серебряном» веке просвещенных. Нами уже отмечались неоплатонические сюжеты в философских исканиях масонов, в частности это касалось И. Г. Шварца 51. Он использовал неоплатонизм основанием для построения своей метафизики, Елагин же попытался построить на нем свою историософскую схему. 50 Там же. С. 105–107. А р т е м ь е в а Т. В. «Область дай уму…» // Мысли о душе. Русская метафизика XVIII века. СПб., 1996. С. 21–26. 51 107 Полученные в результате пятилетней работы знания Елагин решил объединить в некое обобщающее сочинение, резюмирующее его взгляды, а также могущее стать полезным для ищущих истину братьев. Компилятивный характер масонских сочинений, как, впрочем, часто и вообще сочинений эпохи Просвещения, в особенности в России, не был свидетельством интеллектуального бессилия, скорее напротив, знание текстов свидетельствовало об осведомленности, принадлежности к традиции, пребывании в контексте древней (пре)мудрости. При этом древнее понималось не столько как старое, сколько как универсальное, изначальное, вневременное. Эта позиция, характерная, впрочем, не только для Елагина, выражалась в постижении нового, как отыскиванию забытого старого, интерпретации, приспособлению к специфическим российским условиям. В предуведомлении ко второй части своих «Богомудрственных, каббалистических и магических объяснений» Елагин так и пишет: «Истина одна. Одно и то ж об ней и пишется… а для сего переводы, а не сочинение» 52. Вопрос о «самостоятельности» исследования, или новом знании, Елагин решил для себя еще в молодости, когда с иронией писал о мнении своего оппонента Постоянникова, что «сочинением назваться не может, что из разных книг выбрано», а такого человека, который «списывает», называл не «автором», а «пищиком». 53 Елагин никогда не считал себя таковым, даже, когда занимался компиляцией или переводом. В попытках разобраться в природе знания, вылившемся в XVIII–XIX столетиях. в споры о «старом» и «новом» просвещении, языке, общественном устройстве и т.д., Елагин занимал определенную и осмысленную позицию сторонника «старины». Он полагал, что мера знания, доступная человечеству и не может быть увеличена активностью отдельного человека, но он может пополнять свой личный запас знания и в этом смысле приблизиться к максимальному пониманию Мира, Бога и Самого Себя. Поэтому, с его точки зрения, стремление к познанию есть определенная обязанность человека, один из путей, ведущий его к нравственному совершенствованию. Однако это познание вовсе не должно быть стремлением к освоению принципиально «нового», ибо сначала нужно постичь то, что уже усвоено прошлыми 52 П е к а р с к и й П. П. Дополнения к истории масонства в России XVIII столетия // Сборник статей, читанных в Отделении русского языка и словесности. Т. VII, № 4. СПб., 1869. С. 92. 53 А в т о р // Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие. С. 280. 108 культурами. Для отдельного человека и этого знания может быть достаточно. Обращение к древним культурам требует знания языка, на котором они выражали свои мысли (Елагин всегда сожалел о том, что не знает древних языков). И все же сущностные структуры межкультурных коммуникаций могут быть понятны и современному человеку, если он расшифрует аллегорико-символические смыслы древней мифологии. Безусловно, это сложная и кропотливая, однако вполне выполнимая работа, при условии, что ищущий обладает пониманием логики построения мифологических систем древности. Поэтому освоению древнего знания предшествует поиск Ключа, могущего отомкнуть сокровищницу знания. Отсюда значимость метафоры «ключа» в масонских текстах, поиски «ключевых понятий», «ключевых субстанций», «ключевых персонажей». Таким образом, знание присутствует в современной культуре актуально и потенциально. Актуально — в виде различного рода текстов и памятников, где оно запечатлено в виде «гиероглифов», потенциально — в связи с приемами, методами и методиками, которые необходимо наработать для того, чтобы извлечь это знание из его хранилища. Елагин пытается расшифровать мистические и каббалистические тексты, хотя и чувствует, что он «еще ребенок, шатающийся между заблуждений и истины и ищущий просвещения себе в естественных начертаниях» 54. Преодолевать маргинальное пространство между заблуждением и истиной ему помогал знаменитый трактат Л. К. Сен-Мартена «О заблуждениях и истине, или Воззвание человеческого рода ко всеобщему началу знания» с характерным подзаголовком: «Сочинение, в котором открывается Примечателям сомнительность изысканий их и непрестанныя их погрешности и вместе указывается путь, по которому должно бы им шествовать к приобретению физической очевидности, о происхождении Добра и Зла, о Человеке, о Натуре вещественной, о Натуре невещественной, и о Натуре священной, об основании политических правлений, о власти Государей, о правосудии Гражданском и Уголовном, о науках, Языках и Художествах». На русском языке это сочинение было опубликовано в 1785 г., но его читали и по-французски, параллельно с этим оно ходило в рукописях. Изучение книги Сен-Мартена стало определенной эпохой в жизни Елагина, как и многих других масонов. «Явившись в отечестве 54 П е к а р с к и й П. П. Дополнения к истории масонства в России XVIII столетия. С. 93. 109 нашем и став почти общим всех читающим упражнением, произвела своим неудобо-вразумительным сокровенных в ней таинств предложением разнообразные о себе рассуждения» 55. Одни сочли ее «сумасбродною» и сделали объектом иронии и шуток, другие посчитали, что это «скрытая иезуитская система» или того хуже — «исчадие общества, иллюминатами называемого» 56. Елагин относил себя к «третьим», «мыслящим», которым эта книга «явно открывает истинные познания, как в любомудрии, так и в богомудрии, и что она, подражая слогу древних мудрецов, особливо Пифагору, дает истинное разумение о сотворении Вселенной, о единстве и существе Бога, о бессмертии души и первородном человеке — словом, что она содержит в себе все учение наше и в символическом все сие предлагает смысле» 57. Его «детство», основанное на стремлении найти «ключ» и «тайну» масонства, прекрасно иллюстрируется взаимоотношениями с Калиостро, который жил в его доме в 1780 г. и у которого, как говорят, Елагин учился «делать золото» из компонентов, привезенных из Польши. Разумеется, Елагин не был детски легковерным, или же абсолютно невежественным человеком. Кроме того, личность Калиостро настолько легендарна, что с трудом вмещается в рамки исторического исследования. В качестве одного из анекдотов (в первозданном смысле этого слова) можно вспомнить рассказ Екатерины II, которая писала Гримму о Калиостро, скрывающемся «dans la cave de monsieur Élaguine maître en chair déposé ou dépossédé, где он пил английское пиво и шампанского сколько мог; случилось так, что однажды, хватив через край, он после обеда зацепился за тупей секретаря дома, который дал ему пощечину; от пощечины к пощечине, в дело вмешались кулаки, г. Елагин, наскучившись “du frère rat de cave” и слишком крупным расходом вина и пива, а также жалобами секретаря вежливо уговорил его уехать, но не с помощью, как он грозился, а просто в кибитке; для того же, чтоб кредиторы не помешали… В пути этому “скромному экипажу” (cet équipage leste) он ему дал старого инвалида сопровождать его вместе с графиней до Митавы. Вот история Калиостро, где можно найти все, исключая чудесного» 58. 55 Е л а г и н И. П. Учение древнего любомудрия и богомудрия… С. 94. Там же. Там же. 58 Цит. по: Д р и з е н Н. В. Иван Перфильевич Елагин. С. 139. 56 57 110 Действительно, по пути к познанию истины Елагину приходилось преодолевать много препятствий, однако к середине 80-х гг. ему стало казаться, что он если и не нашел вожделенный «ключ», то понял некоторые «основы», дающие ему право дать общий обзор масонской истории, онтологии, космологии, учения о Боге, исторической антропологии и историософии. Гносеологический принцип он тесно связывает с организационным, призывает придерживаться «незыблемых оснований» и в том, и в другом. Интересно, что елагинский Восток находится на Западе, в Англии, сохранившей, по его мнению, первозданность истинного масонства. «Во все времена и при самых жестоких гонениях, — пишет он, — св[ятая] истина пребывала и пребудет навсегда одна и та же истина. В Англии и Шотландии с самого постановления Ордена свободных каменщиков не было никаких существенных изменений, ибо в недрах сестер сих прямое существо его пребывает. Но во Франции и Немецкой земле неудобь сказуемо сколько в коротких временах великих последовало перемен и с ними умствований и заблуждений? Англия дала свои конституции и в Берлине, и в Брауншвейге, и в Стокгольме, подобно как и нам, на учреждение великих провинциальных лож; но ни дала она никому, притом, более трех степеней, ниже каких-либо на письме объяснений, ибо закон запрещает писать и вырезывать наши таинства. От познания высших не отвергает она достойных братов, коим для снискания надлежащего просвещения отверзает она у себя древние врата, к которым, подобно как в древности в Египет, желающим путешествовать и света сего искать подобает. Устрашенные таковою трудностью вначале пылкие французы, а потом глупые германцы прибегли одни, гордясь остротою разума, другие омрачась корыстию к разнообразным вымыслам, которые показуют одних во многочисленности высших степеней суетность и пышность, других в сооружении систем горделивое корыстолюбие» 59. Елагин был скандализирован неразборчивостью розенкрейцеров давших степень «екосских рыцарей» недостойным этого высокого звания (большего, чем у самого Елагина) братьям. Он пишет: «Два повара, французы, в услужении у меня бывшие и кроме ложных счетов ничего писать не умеющих, показали мне достаточные грамоты из лож, где они не только разными екосскими рыцарями, но один из них и рыцарем Розе Круа и Востока сделан. Благодарение Богу, что они кроме имен, и ложных слов, и лент ничего не знают, 59 П е к а р с к и й П. П. Дополнения к истории масонства в России XVIII столетия. С. 112. 111 да и понятия ни малейшего о братстве не имеют. Здесь есть две ложи в домах у министров, и с моего дозволения: одна — французская, другая — итальянская, в которых упражняющиеся мастера оба французы и повары. Если б я не дозволил им по их обыкновению работать, они б, невзирая на то, не преминули открыть ложи по дозволению, в патентах их от В. Л. (Великой ложи) дюка де Шартра данному» 60. Нельзя сказать, что Елагин сохранил чистоту масонского учения. Фактически он обращался к той же литературе, что и розенкрейцеры, и даже делал те же выводы в поисках «света истинного знания». Однако то, что со стороны кажется очень близким и почти тождественным, изнутри представляется собственным, оригинальным путем к истине. Елагин осуждал стремление к тайне, в которой видел политическую нелояльность: «…Если находится в сей новой системе какая польза, почто начальники обители ее укрываются? Почто они не объявляют конечного предмета, к которому они привести братию желают?… Если ж учение ваше токмо нравственное, богоугодное, нравам каждого государства не противное, или с Пифагором физико-математическое, то чего опасаетесь предать оное на честное слово таких братий, которых честность и скромность в обществе, но и в общежитии гражданском известны?» 61 Направлением масонских «работ», полагал Елагин, должно быть внутреннее совершенство, а не внешнее переустройство. Вероятно он, как и почитаемый им Сен-Мартен, считал, что придет время, когда на трон зайдет не только государь-философ, но и государь-масон. Однако, будучи человеком чрезвычайно законопослушным, а к тому же уважая императрицу и как подданный, и как человек хорошо знавший ее лично, он никогда не думал о переустройстве существующего порядка, но лишь пытался понять и объяснить его. Наверное, именно это обратило перо И. П. Елагина к написанию истории России, которую он пытался интерпретировать и как органическую часть Всемирной истории, как политической, так и духовной. Историю, в которой явлено развитие Мирового Духа, воплощена сущность Мировой гармонии, явлена связь с Космическими сущностями. В 1789 г. он начинает работу над «Опытом повествования о России», которую продолжает до конца жизни. 60 61 Там же. С. 112–113, прим. Там же. С. 114. 112 Сначала Елагин хотел продолжить историю В. Н. Татищева и поэтому начал ее с 1462 г. 62 Он описал три царствия до кончины Ивана Васильевича, но потом решил довести историю до царствия Елизаветы Петровны. Затем он понял, что начальный этап российской истории важен для построения концептуальной картины исторического процесса. Кроме того, Елагина перестала удовлетворять история Татищева и он решил написать сочинение, которое бы имело самостоятельное значение. А. Старчевский замечает, что именно то, что Елагин считал наиболее существенным в своем «Опыте…» послужило причиной его осуждения. «Это произведение славилось до тех пор, пока не было напечатано, но по выходе в свет оно изменило выгодное мнение публики о нем. Он первый хотел ввести философию и критицизм в историю. Но философические и критические взгляды его нелепы… Слог этого творения вообще слишком высокопарен, витиеват и не везде правилен» 63. Старчевский приводит мнение одного из своих современников, который указал на главную идею историка: «Он первый понял, что история будет только одно скучное сцепление происшествий, одно утомительное повествование, пересказанное в одном порядке разными словами, когда оно не оживлено настоящими причинами деяний, не украшено политическими и философическими рассуждениями, когда в нем нет живой картины нравов, обычаев, законов государства, нет оттенка действующих лиц на сцене; имея сии достоинства “Опыт” его драгоценен, редок, будучи написан необыкновенным пером, двуличным, обращающимся по всему свету одинаково, живет со скромною свободою своею и до сих пор в рукописи. Отложивши ласкательство и боязнь, всегдашние оковы писателей народных, он смелою кистью тушует пороки и добродетели действующих и каждому из них дает настоящее место, цену, вес, но он не энтузиаст и не фанатик; и поэтому его умозаключения, доказанные прямою, смелою истиною, никогда не выходят за пределы скромности и уважения должного главам венценосцев. Жаль, что все хорошее кроется под тению неразрешимых обстоятельств: но сие действительно справедливо, что никто не подал мысли смотреть на историю нашу с такой хорошей точки (курсив 62 См.: С т а р ч е в с к и й А. Очерк литературы русской истории до Карамзина. СПб., 1845. 63 Там же. С. 190. 113 мой. — Т. А.), как сей писатель, и никто опять не был бы лучший руководитель для чтения оной без пристрастия и заблуждений» 64. Сочинение Елагина стало объектом критики еще до выхода в свет. Н. М. Карамзин, ознакомившись с ее содержанием, отмечал: «Она до времени Иоанна III выбрана почти из одного Татищева, наполнена бесконечными умствованиями и писана слогом надутым», однако он отмечает, что «найдутся и теперь люди, коим слог, искусство и философия его полюбятся... любопытные станут читать ее как замечательное произведение минувшего столетия России» 65. Екатерина II писала Ф.-М. Гримму: «Елагин, обративший русскую историю в витиеватую речь (style déclamatoire), так как последняя красноречива и скучна, ныне занят исправлением своей истории, согласно нашей родословной. Что до меня касается, то я нахожу в этой родословной все, что может иметь отношение к истории, как Вестрис читал настоящее благосостояние Франции в менуэте дофина той эпохи» 66. Почти все рецензии на публикацию «Опыта повествования о России» были отрицательными. Так. Н. М. Карамзин, выступивший под псевдонимом «θ», полагал, что гипотетические построения Елагина о «выборе вер» слишком смелы и фантастичны. Анализируя предположения о том, что этот эпизод был первоначально спланирован как театральное действие, а затем сценарий пьесы, написанный одной из жен Владимира, гречанкой, был принят Нестором за документ того времени и таким образом попал в «Повесть временных лет», Карамзин считает, что Елагин принимает желаемое за действительное. Он сравнивает елагинскую интерпретацию знаменитого сюжета с известным анекдотом о даме и монахе, которые, глядя на Луну, уверяли, что могут разглядеть там то, что не видно астрономам. «Монах уверял, что без трубы зрительной удобно различает соборный колокол от других предметов, дама божилась, что простыми глазами ясно видит мужчину, стоящего на коленях перед женщиною» 67. Согласно Карамзину, принятие христианства, причем именно греко-кафолического — акт не случайный, а необходимый и осознаваемый Владимиром как важнейшее государственное реше64 Цит. по: Там же. С. 199, прим. Цит. по: С т е п а н о в В. П. Елагин Иван Перфильевич. С. 307. 66 Цит. по: Д р и з е н Н. В. Иван Перфильевич Елагин. С. 136. — Вестрис — танцор парижской Оперы. 67 [К а р а м з и н Н. М.] Смелая догадка// Вестник Европы. 1805. № 10. С. 112. 65 114 ние. Он пишет: «…Владимиру нельзя было не видеть, что соседи его по принятии христианской веры приметным образом перерождались и из диких варваров становились людьми кроткими, благонравными; как государю мудрому и дальновидному ему нельзя было не догадываться, что успехи распространяющегося христианства рано или поздно должны иметь для России благодетельные следствия. Вот причины, которым хочу приписывать Владимирово желание сделаться Апостолом веры и просветителем своего народа! Пока не придумаю лучших и вероятнейших, буду доволен сими, но никогда не соглашусь театр почитать колыбелью нашего благочестия» 68. В Германии на книгу Елагина довольно резко отозвался А.-Л. Шлецер (Göttinger Gelehrte Anzeiger, 1804) и, вероятно, он же в Allgemeine Litteratur-Zeitung (1804, № 56). Последний отзыв вызвал, в свою очередь, рецензию Л. Неваховича, который пытался смягчить однозначно негативную оценку. В «Примечании на рецензию, касательно Опыта Российской истории г. Елагина» он пишет: «… Непростительно тем чужеземцам, которые позволяют себе без должного размышления осуждать россиян и основывать суд свой на одних поверхностных сведениях, столь, с другой стороны, прискорбно, что россияне досель допускали еще иноземцам думать о них так превратно и предосудительно» 69. Невахович цитирует рецензента, формулирующего принцип, которым руководствовались немецкие историки, работавшие в России: «Не многие из российских дееписателей умели достигнуть той высоты, на которой, однако ж, истинный дееписатель должен стоять, той высоты беспристрастия, где исчезает из виду всякое уважение, всякий предрассудок, доброжелательство, самое даже отечество, вера, народ, и где взор устремлен ни на что другое, как на одну истину» 70. Можно вспомнить и Г.-Ф. Миллера, который писал: «Историк должен казаться без отечества, без веры, без государя» 71. Русский рецензент опровергает подобную крайность, полагая, что любовь к своей стране не должна делать историка пристрастным. «Отечество — естьли разумные люди допустили сие правило: то в ограниченном смысле 68 Там же. С. 123–124. Н е в а х о в и ч Л. Примечание на рецензию, касательно Опыта Российской истории г. Елагина. СПб., 1806. С. 4. 70 Там же. С. 8. 71 Цит. по: М и л ю к о в П. Н. Главные течения русской исторической мысли. Т. 1. СПб., 1897. С. 96. 69 115 дееписатель не должен прикрывать, а еще менее утаивать пороки своего отечества. Но при всем том нет никакой надобности в погашении совсем любви к оному. Ему надлежит говорить о пороках своего отечества и правителей оного во всей истине; но не возбраняется говорить с соболезнованием, подобно сыну, оплакивающему несчастную судьбу своего родителя. Напротив того, имеет он первейшим долгом защищать права и достоинства отечества против всех, напрасно унижающих оные, и защищать с сугубым чувствованием любви к истине, а вместе и к отечеству. Любовь к отечеству и беспристрастие могут и должны существовать вместе» 72. Беспристрастие вовсе не означает буквальное следование распространенным мнениям, например в отношении знаменитого «варяжского вопроса». С. Соловьев отнес «Опыты» Елагина, вместе с «Российской историей» Ф. Эмина к «риторической школе», предполагая в этой характеристике все отрицательные коннотации, которые «специалист, работающий с документами», относит к деятельности по продуцированию «отвлеченных умозаключений». Знаменитый историк дал сочинению Елагина совершенно уничижительную характеристику, осудив как содержание, так цели и форму изложения. «Елагин, подобно Эмину, был литератором, славился своим красным слогом, и вот, на старости лет, счел за полезное посвятить этот свой красный слог отечественной истории… так, от нечего делать… (курсив мой. — Т. А.)» 73. Многие исследователи видели в «Опыте…» «историка-дилетанта» исключительно повод продемонстрировать свои стилистические способности, которые заключались в том, что он иногда писал, «почти по-славянски» (М. Н. Лонгинов), и «завершить свою литературную деятельность произведением, вполне соответствующем духу его славянофильских воззрений» 74. А. И. Круглый полагал, что его слог представлял собой «смесь церковнославянского и русского» доходящий до «славянчизны» 75. Однако такой упрек несправедлив. Елагин сам хорошо чувствовал стилистические погрешности современных ему историков. В начале своего исторического сочинения он писал: «Витийства правил и цветов 72 Н е в а х о в и ч Л. Примечание на рецензию, касательно Опыта Российской истории г. Елагина. С. 9. 73 С о л о в ь е в С. Писатели русской истории XVIII века// Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. Кн. II. Отд. III. М., 1855. 74 Д р и з е н Н. В. Иван Перфильевич Елагин. С. 136. 75 К р у г л ы й А. И. П. Елагин (Биографический очерк). С. 117. 116 словесных удобь возможно научиться, но природного сладкоглаголания, приятного для слуха, ударения и сложения речей и прелестного воображения никакое училище преподать не может, равно как и мыслей, и изобилия. Потому видим мы многих писателей, учеными красотами сияющих, но принужденно ученый их слог есть мука читателю и поношение учености, а украшение не к месту славянчизною есть зараза творцов несмысленных» 76. До Елагина «славянофилом», точнее, «предславянофилом» называли только М. М. Щербатова, чья «История Российская от древнейших времен» также была подвергнута критике «за стиль». Трудно понять, как можно назвать «славянофилом» переводчика французских романов и немецких философско-мистических текстов, главу «английского масонства», директора «музыки и театров» Ивана Елагина. Представляется, что мнение, основанное на этих аргументах, не более весомо, чем если бы оно основывалось на родственных отношениях между Елагиными и Киреевскими (А. П. Елагина, по первому мужу Киреевская, была матерью И. В. и П. В. Киреевских)… Вероятно проницательнее всех оказалась всетаки Екатерина, которая увидела непосредственную связь между «сочинением истории» и масонством, хотя и не одобрила ее. Она писала Гримму 12 января 1794 г.: «Что касается Елагина, то он умер, и его история останется, вероятно, незавершенной; он оставил после себя неслыханную громаду (un fatras inouï) сочинений, касающихся масонства, что доказывает, что он сошел с ума» 77. Действительно, масонские «работы» были важным подготовительным этапом для создания исторического сочинения. Осмысливая историю своего отечества, Елагин пытался вписать ее во всемирную историю, и на основании российской истории понять закономерности мирового исторического процесса. Елагина интересовала не только политическая история, но в большей степени «история идей» — история религии, эволюция философских представлений, способов и методов познания мира. Поэтому в числе немногих, если не единственных историков, использовавших сочинение Елагина как авторитетный текст, был автор сочинения «Изображение просвещения России» 78. Для него аналитическое сочинение Елагина, подвергавшее критическому разбору летописи и уделяв76 Е л а г и н И. П. Опыт повествования о России. М., 1803. С. XII. Цит. по: Д р и з е н Н. В. Иван Перфильевич Елагин. С. 137. 78 И з о б р а ж е н и е просвещения России// Северный вестник. Ч. 1–3. СПб., 1804. 77 117 шему большое место как политическим событиям, так и культурным достижениям являлось не только важным теоретическим источником, но и содержало ряд полезных методологических установок. Одна из главных идей Елагина, нашедшая отражение еще в его масонских трудах, заключалась в поисках некоего универсального языка, даже скорее кода культуры, усвоив который, можно не только читать современные тексты, но и расшифровывать тайное знание древности. «Алфавитом» такого языка Елагин считал «изобретенные в древности иероглифы», иными словами, визуализированные архетипические понятия, смысл которых может быть разгадан пытливым исследователем, исходя из транскультурных алгоритмов, заложенных в систему мировосприятия каждого человека. Эти понятия находятся как бы над конкретными проявлениями социокультурного своеобразия, формируя своеобразный, почти платоновский, мир первичных отражений божественных сущностей, за которыми скрывается уже сам единый Бог, явленный в мире человеческих восприятий многообразием своих проявлений. Эта дробность восприятия единого — неизбежное следствие несовершенства познания, ограниченности чувств и мыслительных возможностей. Однако некий «высший» уровень постижения сути, доступный человеку в минуты религиозного озарения, дает возможность соединить единичные впечатления в единую идею, начинающую светиться божественным светом знания в кульминационный момент понимания. Идеи исторической эволюции познания были развиты Елагиным в главе под названием «О непорочном источнике многобожия». Этот фрагмент не только не был опубликован в первом томе сочинения Елагина, но и не был предназначен им для печати. В нем Елагин проводит сравнительный анализ мировых религиозных систем и выявляет основные понятия древней, или, в соответствии с его теорией, «вечной», мудрости. Категориями культурного «метаязыка» становятся «единица», «точка», «равносторонний и равноугольный треугольник», «свет», «круг» («кольцо», «шар»), соединяющиеся в образе «огневидного шара», «крест», «четвероугольник». Каждое из этих базовых понятий получает соответствующую интерпретацию и является отражением божественных свойств. Интересно, что подобная попытка создания словаря универсального кода культуры была сделана полтора столетия спустя Павлом Флоренским. Творчество Флоренского насыщено «дизвитьемными» аллюзиями. Видно, что он хорошо знал и понимал специфику вы- 118 ражения той эпохи, чутко улавливал исходящие от нее интеллектуальные импульсы и реализовывал их в своем творчестве. Достаточно вспомнить его обращение к знаменитому сборнику Н. М. Максимовича-Амбодика «Емблемы и символы избранные» (СПб., 1788), эмблематический ряд которого так обогатил издание его знаменитого труда «Столп и утверждение истины», придав ему новые измерения и дополнительные смыслы. Идея визуализации абстрактных понятий, а точнее, изучение способов этой визуализации выразилась не только в использовании графических «эпиграфов». В 1920 г. Павел Флоренский предпринял попытку создания «Symbolarium’a» — «Словаря символов». Флоренский задумывал продемонстрировать и проинтерпретировать процессы развития и усложнения мысли и отражение этого в логике усложнения визуальных представлений. Сначала он хотел проанализировать простейшие геометрические фигуры — точку, окружность, треугольник, квадрат, затем — перейти к умножению их измерности (круг, шар, пирамида, куб) а также разнообразию форм. По его мнению, «идеографические знаки имели собственное существование и значение, независимо от языка словесного, а потому в некотором отношении идеографическая письменность может быть названа универсальным языком человечества» 79. Флоренский считает, что идеографические схемы подобны у всех народов, поэтому, если мы поймем соответствие между зрительным образом и логическим понятием, то сможем «прочитать» любой графический образ на национальном языке. Таким образом, он видит свою цель в «установлении значений зрительных образов, употребляемых в качестве обозначения понятий» 80. Данный словарь должен иметь «международный и внеисторический характер», где все визуализированные образы сведены к «единому конструктивному типу». Вначале Флоренский систематизирует графические образы, вычленяя следующие отделы, посвященные простейшим фигурам: • Точка • Вертикальная линия • Наклонная линия • Горизонтальная линия 79 Ф л о р е н с к и й П. А. Предисловие // Некрасова Е. А. Неосуществленный замысел 1920-х годов создания «Symbolarium’a» (Словаря символов) и его первый выпуск «Точка»// Памятники культуры. Новые открытия. Л., 1984. С. 102. 80 Там же. С. 104. 119 • Соединение вертикальной и горизонтальной линий • Угол • Треугольник • Четырехугольник • Крест • (Пяти, шести, семи, восьми)угольник • Круг (окружность) • Диск (поверхность круга) • Сфера • Яйцо • Волюта • Спираль Каждый отдел делится на подотделы, так в отделе «Точка» рассматриваются: • Точка • Две точки • Три точки • Многоточие и т.д. К сожалению, Флоренский написал только самый первый раздел этого словаря, посвященный точке, однако он считает этот символ одним из наиболее важных. «Простейший графический символ — точка, — пишет он, — по своему значению в областях мысли различнейших есть начало первоосновное. Отсюда понятно, [что] в символе точки завиты и основы же антиномии соответственных областей; как начало всего точка и есть и не есть. Поэтому она делается символом, во-первых, ряда бытийственного, в самых разных смыслах, а во-вторых, ряда не бытийственного, и, наконец, совместное утверждение бытия и небытия, относимое к одной и той же точке, устанавливает за нею ряд символических потенций» 81. Далее Флоренский предлагает рассматривать этот «конструктивный тип», в данном случае в различных аспектах: • Онтологическом — как начало, единицу, первопричину, Бога • Космологическом — как атом, электрон • Пневматологическом — точка как символ души — искры, оторванной от Абсолютного Света • Биологическом — точка здесь символизирует сведение жизненного процесса в некоторый жизненный центр — хромосому, 81 Там же. С. 106. 120 сперматозоид и т.п. Символические точки биологического — пуп, сердце и т.д. • Физическом — точка символизирует абстрактные функции — центр тяжести, инерции, в перспективе — точку схода, которая «поглощает реальность». В условиях «обратной перспективы» она маркирует основание бьющего в мир «фонтана реальности» • Этическом и ортобиотическом — означает целостность и неповрежденность физического или духовного существа • Эпистемологическом — объединение и средоточие художественного целого (точка «золотого сечения») • Психологическом — опоры внимания (акценты в письме, например во французском) и в музыке. Разумеется, Флоренский весьма далек от того, чтобы считать возможным нахождение однозначного, раз и навсегда установленного соответствия между символом и его значением. Он понимает, что это отношение связано не столько с конкретным значением, сколько с общим смыслом. «Символ не есть отвлеченное понятие, или некоторый артефакт, в отношении которого от нас или от кого бы то ни было зависит очертить точные границы и неким законодательным актом воспрепятствовать символу выходить за эти пределы — пишет он. — Как живое духовное образование символ сплочен и в себе определен, но изнутри, а не извне» 82. Определенная общность интенций мыслителей разных эпох говорит, конечно, не о непосредственном влиянии. Несмотря на множество общих идей, маловероятно, что Флоренский вдохновлялся чтением рукописи Елагина. Здесь чрезвычайно уместно будет вспомнить знаменитое правило Post hoc non est propter hoc, столь важное для историко-философского исследования. Вместе с тем очевидно, что осмысление проблемы невербального выражения абстрактных понятий, к которой обращались Елагин и Флоренский, а также С. Трубецкой, А. Лосев, М. Бахтин и другие русские мыслители, является актуальной для русской философии и культуры и порождено закономерностями ее собственного функционирования и развития. Елагин скорее сформулировал проблему, нежели разрешил ее. Легкость и «очевидность» его трактовок «иероглифов», аллегорий, мифологических образов несколько настораживает. Елагинские 82 Там же. С. 114. 121 подходы иногда носят не только умозрительный, но даже и спекулятивный характер. Интуитивные прозрения порой остроумны, но не всегда достоверны. Современник Елагина французский исследователь Шарль де Бросс, хорошо известный в России по работе «О культе боговфетишей, или Сравнение древней религии Египта с современной религией Нигритии» («Du culte des Dieux Fétiches, ou Parallèle de l’ancienne Religion de l’Egypte avec la Religion actuelle de Nigritie»), отметил, что «аллегория — универсальный инструмент, пригодный служить чему угодно. Достаточно один раз применить прием аллегорического истолкования, и начинает казаться, что с его помощью легко можно увидеть все, что захочешь, словно смотря в облака и воображая там разные фигуры. Метод аллегорий очень прост и требует от нас только некоторой доли рассудка и воображения. Это — обширное поле, дающее богатый урожай всевозможных объяснений, где всегда найдешь все, в чем нуждаешься» 83. Елагин рассматривает простейшие математические символы как наиболее адекватное выражение Абсолюта и из этого выводит «математическое» доказательство бытия Бога. Он пишет: «Искусство показует нам, что точка и единица суть единознаменующие математические в мыслях предположения, и как точка без черты, так и единица без последующих чисел не могут быть делимы, но оба знака производят от себя вещества и постижимые, и многоразделенные, яко точка, черта, окружение и все геометрические виды и тела, а единица числа до бесконечности. А понеже все видимое состоит из меры, века и чисел, то и предположенная, в воображении любомудрецов, единица есть самая творению вина, ибо, как вышесказано, пред нею нет никаких, а из нее истекают все последующие числа. Так равно и пред существом первоначальные вины, ничего впереди быть, ни вообразить неудобвозможно, следовательно, из сего существа всему естества творению и в нем движущимся телам, меру вес и числа в недрах их содержащим, яко числам из единицы, произойти беспрекословно подобало» 84. Он использует идеи «метафизики света» полагая, что «по чувствованиям телесным» «понятие о вечности, яко первого первоначальной вины свойства, изображалось светозарным кругом, точку или единицу в средине имеющем; 83 Б р о с с Шарль де. О фетишизме. М.,1973. С. 14. Елагин И. П. Опыт повествования о России.// Отд. рукописей РНБ ОСРК F. IV. 651/ 1. Л. 53 (об.)–54. 84 122 и, действительно, сей есть первый иероглиф существа всех существ…» 85 Другой символ, не менее почитаемый в культуре — равносторонний треугольник, символизирующий Святую Троицу. Если изображения треугольника и «огневидного шара» в христианстве символизируют соотношение Троицы и единого Бога, то в язычестве это символизировало «бездну вечности» и четыре стихии. Три стороны треугольника — это земля, вода и огонь, а окружающие его лучи — воздух. Вероятно, нет нужды напоминать, что круг (шар) и особенно треугольник, с расходящимися от него лучами, были одними из излюбленных масонских символов. Елагин довольно забавно обосновывает многобожие через натурфилософскую трактовку этих символов. «Сие самое физическое учение много способствовало жрецам к сокрытию единства Бога, — пишет он, — ибо, оградясь они непрекословными опытам, нашли способ всемогущество единого творца на разновидные поделить твари. Се корень многобожия, при котором надолго Вселенная оставалась» 86. Египетские жрецы понимали сакральный характер «треугольности», поэтому решили, что вершины этой фигуры будут обозначать имена основных божеств — Озириса, Изиды и Гора. Это определило политеистичность древних религий и последующее умножение божеств. Свет и огонь часто становились олицетворением Божества, ибо «огнь есть вина, или начало, стихий» 87. Это Озирис, Вулкан, Марс и т.д. Таким образом, мы видим, что за многообразием «огненных» божеств стоит идея единого Бога, выражающегося в стихии огня и света. То же с женскими божествами. Елагин считает, что все они — прежде всего Изида, а также Церера, Юнона, Минерва, Прозерпина, Сивилла, Геката, Астарта, Веста, и даже Фелица есть выражение архетипического женского природного начала Луны, Земли, воды, или «естества телесного». В мифе о Озирисе, Изиде, их сыне, младенце Горе, Елагин видит архетипическую основу христианского учения о Троице, как, впрочем, и во всей мифологии Древнего мира. Он пытается доказать, что хитросплетения древнейшей мифологии — это всего лишь особый тип текста, который описывает хорошо известные современному миру структуры. Параллели между мифологией Древнего мира и 85 Там же. Л. 54 (об). Там же. Л. 56 (об). 87 Там же. Л. 61. 86 123 славянским язычеством показывают, что и оно предвосхищало христианство, а точнее, имплицитно содержало в себе христианское учение. Для Елагина это обстоятельство значительно более важно, чем, например, известное свидетельство в летописях об апостоле Андрее. Елагин критически исследует летопись Нестора, который описывает путешествие Андрея Первозванного и провозглашение им христианства на территории будущей Руси. Он приводит свидетельства церковных авторитетов о том, что маршрут путешествия апостола был иным, поэтому «сомнительно бытие святого Андрея на горах Киевских» 88. Кроме того, «во время Андреево на сих горах едва ли было людей обитание», а следовательно, «водружение креста не показует еще не только крещения, ниже проповеди словес Христовых» 89. Помимо летописей и прежде всего «Повести временных лет», Елагин использует значительный корпус источников и исследований. Это в первую очередь сочинения историков, среди которых первое место занимают В. Н. Татищев, М. М. Щербатов (сочинения которого Елагин сравнивает иногда с «Телемахидой») И. Н. Болтин, Екатерина II, А. И. Лызлов, М. Д. Чулков, П. Н. Крекшин. Он использует также сочинения Г.-Ф. Миллера, Г.-З. Байера и А.-Л. Шлецера, М. В. Ломоносова, правда, в основном как объект критики. Среди сочинений западных авторов — «История Англии» Д. Юма, «Церковная история» К. Флери (Fleury), «Датская история» П.-А. Малле (Mallet), «Германская история» М.-И. Шмидта (Schmidt), «Введение в европейскую историю» С. Пуфендорфа, «…История древней России» Н.-Г. Леклерка. Елагин постоянно ссылается на сочинение «аглинского ученого собрания». Вероятно, он имел в виду сочинение George Psalmanorav, Thomas Salmon, John Cambell, George Sale «Histoire universelle depuis le commencement du monde jusqu’а présent: Traduite de l’anglais d’une société de lettres» (Amsterdam; Leipzig. T. 1–41. 1742–1779). Источниками по истории Древнего мира для него служили работы Диодора Сицилийского, Страбона, Плутарха, Геродота, Иосифа Флавия. Важным историческим источником Елагин считает Библию, прежде всего Пятикнижие Моисея и Послания апостола Павла. Разумеется, такие источники, как Библия или, например, сочинения Гермеса Трисмегиста (в 88 89 Е л а г и н И. П. Опыт повествования о России. М., 1803. С. 156. Там же. С. 155, прим. 124 выписках у Плутарха Евсевия), «не в прямом, но в иносказательном смысле принимать надлежит» 90. Он часто ссылается на бенедектинского ученого Бернарда Монфакона (Montfaucon) (1655–1741), знатока древностей, исследователя рукописных шрифтов («Palaeographia graeca» (1708)), издателя И. Златоуста, известного главным образом историческим трудом «Analecta graeca sive varia opuscula graeca inedita» (1688). Елагин был одним из первых историков, использующих в своем труде фольклор, народные песни. В своем исследовании он пытается найти исторические соответствия ряду былинных персонажей. Так, например, одного из жрецов Перуна — Богомила из Новгорода, прозванного Соловьем за дар сладкоречия, он отождествляет с былинным Соловьем-Разбойником, который покинул общество и презрел его законы, не желая принимать христианство 91. Так же как и его современники, Елагин видел в истории набор примеров для морального поучения. Характерно, что он считал наиболее существенной частью своего «Опыта» именно историософский компонент. Не случайно его сочинение предваряет «Приношение премудрости», а первоначальным его названием было «Опыт любомудрого и политического о государстве Российском повествования». Политическую историю России Елагин предваряет аналитической историей мировых религий. Она включает такие разделы и главы, как «Начало и толкование иероглифов, истинное Божество представляющих», «Начало идолопоклонства», «Умножение кумиров», «Рассеявшееся по земле от Египта многобожие и в Севере тоже самое», «О изображении кумиров» , «О идоложертвии, праздниках и одежде священников», «Законы и обряды в идолослужении» и т.д. 92 Елагин считает, что становление религиозных представлений тесно связано с политической системой. «Я для того необходимым себе долгом поставил распространиться в повествовании суеверия, что оно есть противуборное постановление веры, на которой всяческая в обществах политическая власть твердость свою полагает и от которой большею частию нравы и обычаи на- 90 Там же. С. 3–4. Там же. С. 432. См.: Е л а г и н И. П. Опыт повествования о России// Отд. рукописей РНБ ОСРК F. IV. 651/ 1–5. 91 92 125 родные истекают» 93. Многобожие произошло не только из непонимания сути божественных свойств, но и по политическим причинам. Хам — первый основатель многобожия и его внук Нимврод, который «учинился первым самодержцем», способствовали появлению и распространению многобожия. «Похищенное Нимвродом самовластие не могло не существовать, ниже утвердиться при простоте истинного богословия и любомудрия, которые учением естественного закона противоборствуют беспредельной власти, свободу человеческую угнетающей. Сего Святого учения правилам соответствует единая токмо власть, самовольство и буйность народную связующая и на заповедях от Бога человеку данных основанная. Она сокращает бурные стремления и тишину в обществах, предписанием должностей каждому сочлену, строго наблюдает. Напротив того, самовластие, желающее безответно повелевать, хочет чтоб прихотливые его веления беспрекословно исполняемы были. Оно не токмо врожденную в человека свободу, но и самую его совесть связует» 94. В этом месте Елагин ссылается на «Наказ» Екатерины II, разделяющей мнение о развращающем действии тиранической власти. Поэтому такое самовластие, иначе называемое «тирания», может сочетаться только с многобожием. Интересно, что такого рода исторические аналогии с современностью Елагин применяет довольно часто, сравнивая, например, ордынских татар с турками. Таким образом, по Елагину, поиски истинной, «неповрежденной» религии есть единственный путь к совершенному социуму, основанному на истинных добродетелях. Изучение истории, в особенности отечественной, поможет найти то истинное, «естественное» состояние общества и веры, которое было заложено от природы в человека. Елагин пишет: «...Какое может быть и созерцание очам нашим прелестнейшее, как картина деяний собственного своего Отечества? Правда, вкусы человеческие во всех видах своенравны суть, но вкус чтения любителей, в некоторое жития их время, едва ли не общественно к роду повествования обращается; ибо в нем находятся и добродетели, и пороки в высочайших степенях; и читатель, чудясь первым и о гнусностях последних жалея, принуждается исследовать самого себя и мысленно делами своими или веселится, или 93 94 Там же. Т.2. Л. 21. Там же. Л. 14. 126 гнушается, снося их со изображенными в повествовании» 95. Елагин размышляет о том, «какову должно быть повествователю?», и приходит к выводу, что «он учит нас любомудрию и политике... подобает ему, исследуя бытию причины, извлекать вредные или полезные следствия, и, отверзая душу и сердце действующих лиц, открывать добродетель к подражанию и порок к отвращению…» 96 Любомудрие и политику Елагин называет в числе основных задач постижения истории. В своем исследовании он стремится не (с)только к «исчислению фактов», сколько к пониманию причин и следствий. Особое внимание он уделяет харизматическим фигурам и полумифологическим персонажам, с которыми связывались качественные повороты российской истории. Елагин пытается бороться с гипнозом «общих мест», перетекающих из одного исследования в другое. Поэтому он особенно критичен там, где вместо объяснения приводится цитата из летописи, остроумно, но не достоверно комментирующая происходящее событие. К таковым объяснительным штампам он относит знаменитое призвание варягов («Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами»); месть Ольги древлянам и ее крещение («…и увидел царь, что она очень красива лицом и разумна…»); «выбор вер» Владимиром с наиболее часто цитируемым «Руси есть веселие пить, не можем без того быть» и т. д. Елагин чутко реагирует на возможную мифологизацию исторических событий, точно указывая на те места «Повести временных лет», которые некритично воспроизводились как объяснительные схемы на протяжении двух сотен лет. Именно эти места стали объектом особо пристального рассмотрения историка. По первоначальному плану «Опыт повествования о России» должен был быть доведен до «золотого века» Екатерины. Выявляя периоды развития России, или «корни времени», Елагин называет следующие: • «баснословное славян и Руссов на Днепре и Волхове пришествие и на брегах сих рек политическое их обществ сооружение» до Владимира • Разделение монархии на уделы • Перенос княжеского престола из Киева во Владимир на Клязьме 95 96 Там же. С. VI. Там же. С. IX. 127 • Монголо-татарское нашествие • Правление Ивана Грозного • Правление Романовых — от Михаила Федоровича до Петра I • «Златой век» царствования Екатерины II 97. Однако в своем опыте Елагин дошел лишь до правления Ивана Грозного, а опубликованный том заканчивается рассуждениями о значимости крещения Руси. По существу, в нем обсуждаются две проблемы: происхождение государства и религии, что находит воплощение в сюжетах о «призвании варягов» и «выборе вер». Елагин стоит на принципиальной позиции, заключающейся в убеждении, что и то и другое имманентно присутствует в духовном развитии нации, поэтому бессмысленно говорить о имплантированном или заимствованном характере государственной или религиозной идеи: обе органически вытекают из развития российской культуры. Елагин тщательно рассматривает истоки «варяжского вопроса». Он придерживается мнения, которое было выражено в екатерининских «Записках, касательно Российской истории», о славянском происхождении Рюрика, являющегося внуком новгородского князя Гостомысла, сына Буривоя, от которого и идет «корень родословия владетелей российских» 98. У Гостомысла было четыре сына, из которых ни одного не осталось в живых, и три дочери, одна из которых — Умила, была выдана за «варяго-русского князя». «Владение отца их, как сказывают, находилось на заливе Финском, или Варяжском, и, кажется, в ныне существующем Выборге и его окрестностях» 99. Объясняя происхождение Рюрика и его братьев, Елагин пишет, что они «по природе Руссы, а по княжению Варяги назывались», а следовательно, были «не из Прус» 100. Таким образом, Елагин выступает против главного аргумента сторонников норманнской теории происхождения государственности — «иностранного» происхождения Рюрика. В качестве дополнительных аргументов Елагин приводит свидетельства из Иоакимовской летописи о дополнительных «мерах предосторожности», предпринятых новгородцами. Они запретили Рюрику входить в Новгород со своим войском, а кроме того, сидя с братьями «в порубежных крепостях, иметь суд и расправу, свобододержавие новгородского сословия на97 Е л а г и н И. П. Опыт повествования о России. М., 1803. С. XLV–LV. Там же. С. 141. Там же. С. 149. 100 Там же. 98 99 128 блюдая» 101. Елагин отмечает, что новгородцы были чрезвычайно осторожны «в рассуждении своей вольности», «ибо и сам, призванный по общему государственных чинов собранию Рюрик, не мог без насилия постановить не только самодержавства, ниже единодержавия» 102. Как и Екатерина в своих «Записках…», Елагин переносит центр тяжести с Рюрика на Гостомысла, делая именно его «родоначальником» новгородской (российской) государственности. Он оправдывает даже нехристианство Гостомысла, рассматривая его как своеобразное «предхристианство», противопоставляя его «чистому исповеданию» «гибельное безбожие». «Гостомысл, идолопоклонник, богопочитания своего был примером и своим благоговением научал благоговению», — отмечает Елагин 103. Таким образом, снизив роль Рюрика и поставив в основание российской государственности Гостомысла, обладателя бесспорного славянского происхождения, Елагин снимает не только остроту «варяжского вопроса», но и подтверждает свою концепцию об естественном характере происхождения государственной власти. Следуя Екатерине в интерпретации славянского происхождения государственности, Елагин, тем не менее, резко расходится с ней в оценке роли Ольги в формировании политической системы Древней Руси. Если Екатерина в поисках исторических аналогий склонна преувеличивать роль государыни-женщины, то Елагин подчеркнуто следует в своем описании не Нестору, а Иоакиму, рисующему ее роль гораздо более скромной. По мнению Елагина, «писатели, полагающие княжение… Ольги в число владевших великих князей, весьма заблуждаются. Хотя и видно, что она соучаствовала в правлении, но сие не ея княжение, от которого женский пол, кажется, законами отчужден тогда был…» 104 Историк считает, что Ольга не была владетельной княгиней, хотя и полагает, что своим умом и нравственными качествами она выделялась из своего окружения и занимала особое место среди многочисленных жен и наложниц Игоря и даже заняла рядом с ним место своеобразного Ментора, которое до своей смерти занимал Олег. «Девичье» имя Ольги — Прикраса, она была внучкой Гостомысла, или, «по крайней мере, княж- 101 Там же С. 150. Там же. Там же. С. 145. 104 Там же. С. 246. 102 103 129 на из рода его» 105 и свое новое имя получила от Олега, выбравшего ее в жены своему подопечному. Елагин критически рассматривает многочисленные мифологические сюжеты, связанные с ее жизнью, отмечая, что «мудрая Ольга» не могла быть настолько «не по-христиански» жестокой, как это описано в сценах мщения древлянам, которых она погребла живьем. «Такое мщение есть мерзость любомудрию и славу божественной Ольги затмевает, — пишет Елагин, — поэтому сомневаюсь я в истине сего сказания, и лучше почитаю его ложным дееписателями вещанием, и дерзаю приписать его их невежеству или их собственному чувствованию» 106. Эпизод с сожжением древлянского поселения Елагин и вовсе считает вымыслом, наивно поясняя, что подобный опыт, предпринятый им самим, приводил к тому, что птицы с зажженным фитильком, привязанным к их лапкам, вовсе не летели в родное гнездо, а кружились на месте и камнем падали на землю. Таким образом, именно Елагин, вероятно, был первым историком, обосновывающим или опровергающим исторические сведения с помощью эксперимента. Согласно Елагину, описание исторических персонажей может нести на себе отпечаток субъективных оценок и личных пристрастий. Он отмечает, что часто писатель наделяет историческое лицо чертами собственного характера, «особливо когда недостаток прямых сведений хочет иногда своим пополнить умствованием» 107. Не следует ли понимать это рассуждение по поводу женского правления и «касательно российской истории» как достаточно откровенную аллюзию, не очень приятную для некоторых авторов, например Екатерины II. Впрочем, «мудрая Ольга», в отличие от ее неудачливого мужа, — это бесспорно положительный персонаж елагинского повествования. Именно ей принадлежит заключение государственной важности о том, что христиане являются более удобными подданными, нежели язычники, предварившее последующие шаги, сделанные ее внуком. «Идолопоклонники», «хотя в гражданской жизни и не были ни мятежны, ни сварливы, но в войне жадны, в ней жестоки и бесчеловечны, а в частных празднествах идольских шумны, неблагопристойны, бесстыдны… Другие смиренны в общежитии, 105 Там же. С. 196. Там же. С. 249. 107 Там же. С. 250. 106 130 между собою кротки, воздержанны и благонравны по учению Евангельскому, сострадательны по любви к ближнему и по долгу человечества. В супружестве мужи и жены верны, а дети, юноши, девицы и вдовы стыдливы и целомудренны по настояниям закона христианского» 108. Обратившись к новой религии, Ольга, вновь сменившая имя, теперь уже на христианское — Елена, «Петру апостолу подобно внесла в Россию ключи Царствия Небесного, и врата в селение праведных отверзла; наконец, мудростью Павлу подобная, постановила праведный суд и расправу между подданных и в земском градомудрии превзошла тогдашнего времени мужей политикою» 109. К сожалению, эти завоевания духа были отчасти утрачены во времена правления Святослава, который «не терпел» и «презирал» христиан, прежде всего в своем войске. Кульминацией исторического повествования Елагина является описание торжества христианства как государственной религии. Автор «Опыта…» отчетливо осознает сложность объяснения феномена «крещения Руси» и довольно подробно объясняет, как удалось Владимиру «преклонить подданных к такому трудному действию, каково есть пременение господствующей веры, ибо таковая в целом государстве премена без предварительных средств есть дело едва ли возможное» 110. Владимир руководствовался в первую очередь соображениями государственно-политического характера, размышляя над тем, «какое сословие, христианское ли, или идолопоклонное сильнее к утверждению его на княжение» 111. Таким образом, христианство было использовано им прежде всего как конструкция, укрепляющая идейно-политическое единство государства. Политизированное сознание мыслителя, сформировавшегося в эпоху «просвещенной монархии», почти отождествляло «религиозно-церковное» и «государственно-политическое». Для Елагина государственная идеология и государственная религия неразделимы и взаимообусловлены. Обращение славян к христианству было естественным, поскольку уже при Олеге они обрели государственность, которую требовалось закрепить национальной идеологией. Крещение Ольги указало направление возможной эволюции, нежелание Святослава заниматься подобными вопросам лишний раз подтвердило 108 Там же. С. 265–266. Там же. С. 291. Там же. С. 323. 111 Там же. С. 327. 109 110 131 их актуальность. Владимиру пришлось решать проблему обновления идеологии, соответствующей задачам построения государства. Языческая реформа оказалась малоэффективной, кроме того, значительная часть «бояр», а также большая часть войска были уже христианскими. Именно поэтому «стал он христианин и присовокуплением самовластия крестил всю Россию, что учинить ни малейшего не имел уже он затруднения, содержа великое при себе христианское воинство» 112. Описание пресловутого «выбора вер» в летописи Нестора кажется Елагину не соответствующим серьезности момента, искусственным и театрализованным. Выше уже говорилось о том, как критика приняла гипотезу историка, будто намеренно решившего эпатировать общество смелыми предположениями. Елагин, конечно, не думает, что летописец сознательно фальсифицировал историческое событие. Анализируя сюжет, описанный Нестором, Елагин приходит к выводу, что «сочинял он не из словесных сказок и ложных от народа внушений, но по каким-либо сбереженным в книгохранилищах древним запискам» 113. Этими записками был «сценарий» пьесы, написанной одной из жен Владимира и поставленный при княжеском дворе. «Хитрая гречанка» желала привлечь Владимира дополнительными уловками, придумала и поставила пьесу, главным действующим лицом которой стал сам князь. В театральном представлении, описанном Нестором, соблюдены все законы жанра. Доказывая это, Елагин обращает внимание на соблюдение театральных условностей и своеобразную группировку текста «по действиям». Действие I. Экспозиция Занавес открывается, и Владимир видит как бы себя, сидящего в кресле в украшенной «любострастной живописью храмине» 114. Появляются болгарские послы, которые предлагают князю многоженство, обрезание, «запрещение свиных яств и пития хмельного» 115. Князь произносит сакраментальную фразу о «вине» и «веселии». «Болгары, посрамленные отходят» 116. Действие заканчивается. 112 Там же. С. 327. Там же. 114 Там же. С. 393. 115 Там же. С. 394. 116 Там же. С. 395. 113 132 Действие II. Завязка «Театр, несомненно, переменяется, ибо второе действие вступлением немцев под названием папских послов начинается» 117. Елагин видит «искусство сочинителево, как он противностями характеров старался раздражать любопытство зрителей…» 118 Он противопоставляет мусульманам христиан, а христиан «западных», «которых исповедание яко раскол», показывает гордыми и надменными. Действие III. Кульминация «Пришествие жидов и их разглагольствование составляют третье зрелища действие. Они продолжительным повествованием чудес, для благоденствия праотцев их всемогуществом Божиим творенным, в недоверчивость приводят идолопоклонника; пророческими гласами и обращению их на путь истинный употребленными, скучают по непонимающему их сказания, и, наконец, неблагодарностью своея раздражают его долготерпение, а неверием во Христа, невинно ими распятого, заслуживают презрение, и яко изгнанные из Иерусалима, их отечества, с уничижением с позорища сгоняются. Так, приготовив сердца зрителей к важнейшему нравоучению и показанию истинныя своея веры, православный сочинитель открывает четвертое действие вступлением посла царей греческих» 119. Действие IV. Развязка Греческий мудрец убеждает князя обратиться в христианство. В принципе, он говорит то же, что и папские посланники, однако прибегает к сильному эмоциональному аргументу, поражая князя «внезапным показанием хартии, Страшный суд изображающей» 120. Елагин считает это новым доказательством театральности действия, «ибо сие показание ничто иное есть как то, что в театральных сочинениях внезапным поражением называется» 121. Князь отправляет послов в Византию. Действие V. Эпилог Послы возвращаются и рассказывают об увиденном. Князь решает принять христианство, его дружина, исполняющая роль хора, соглашается. Финальный диалог героя и хора звучит следующим образом: 117 Там же. Там же. 119 Там же. С. 396. 120 Там же. С. 397. 121 Там же. 118 133 Дружина (хор): «…и не принесла бы бабка твоя, мудрейшая из всех человек закона греческого, естьли б он не хорош был». «Княжеское лицо» (герой): «Где примем крещение?» Дружина (хор): «Где тебе угодно…» 122 Если достоверность описания «выбора вер» вызывает у Елагина сомнение еще и потому, что он видит здесь расхождения Никоновской и Иоакимовской летописи, то сам факт (акт) массового крещения описан в них одинаково. Характерно, что главным действующим лицом христианизации становится субъект государственной власти, князь, а не священник. Елагин видит во Владимире лицо сакральное, именно потому, что он наделен всеми властными полномочиями. Более того, он полагает следующее: христианству соответствует монархическое правление. Категорически отвергает он власть священников, считая, что теократия соответствует ранним этапам развития общества, наиболее же развитой формой государственного устройства, по его мнению, является монархия. «Духовная власть, иерархиею называемая, — пишет Елагин, — никогда и нигде в иное время не вкоренялась, как в суще непросвещенные веки; и единственно в общества погруженная, и, следовательно, суеверием омраченная в невежество в самой древности, во времена еще языческие употребляла она хитрость чудодеяний, и, верою и Божеством играя, употребляла их вместо прав, достоинств и истины. Сим священным покровом закрывая легковерному народу глаза, втекала она в непринадлежащую ей народную расправу… Так, под видом нелицеприятного суда прежде в правительство она внедрялась, а потом коварством в нем вкоренялась, пустосвятством распространялась и страхом небесного мщения утвержденная мучения во аде для порабощения себе народов изобрела» 123. Историк превозносит значение крещения не как клерикал, а как политик, государственный человек, вполне в духе века Екатерины, проводившей секуляризацию и испытывающей потребность в оправдании своей политики. Крещение — не только кульминационный момент в истории России, но и своеобразная точка отсчета. Именно с этого времени начинают реализовываться заложенные в ней потенции, как духовного, так и государственного характера. Уникальность ситуации, когда 122 Там же. С. 398. Е л а г и н И. П. Опыт повествования о России// Отд. рукописей РНБ ОСРК F. IV. 34/ 5. Л. 62, об. 123 134 в результате государственного решения менялся привычный уклад и веками почитаемые символы, связана с национальными особенностями россиян. Елагин формулирует принцип взаимоотношения высшей власти и народа: «Характер русского народа издревле таков был, каков и ныне есть и во веки веков быть должен: беспрекословное повиновение Государям. Подобает, чтобы мысли государевы были купно и народные, чтоб веления его составляли закон подданным и чтоб его деяния всего государства деяниями руководствовали. Таковы были предки наши, таковы и мы суть, таковы и все постоянные, благонравные и благоверные подданные к блаженству своему быть долженствуют. Народ непокорливый сам несчастие себе созиждает. Гнев Божий и меч правосудия монаршего суть жестокие орудия, в послушание его приводящие и всегда к познанию буйства его готовы» 124. Крещение повернуло Россию в сторону создания «политического тела», где право-политическое и духовное начала пребывают в состоянии гармоничного единства. Конечно, в течение столетий это равновесие не раз колебалось причинами как внутреннего, так и внешнего характера, но постепенно все больше и больше приходило в норму. Вероятно, будущее позволит стрелке весов и вовсе успокоится, начав отсчет дней безмятежных, наполненных неспешным и приятным трудом, спокойным размышлением, умеренными наслаждениями. Историософия Елагина тяготеет к утопизму. Он полагает, что у истории есть направление, заканчивающееся достижением цели, логика, позволяющая принимать разумные решения, и, наконец, некий смысл, позволяющий не повторять ошибок, уже сделанных в прошлом. Философия истории становится для него философией жизни. Он с оптимизмом смотрит в будущее, полагая, что сможет понять его и смоделировать по аналогии с прошедшим. 124 Е л а г и н И. П. Опыт повествования о России. М., 1803. С. 421. 135 СОЧИНИТЕЛИ ИСТОРИИ В предисловии к сочинениям Мабли А.-Л. Шлецер писал, что существуют четыре типа историков: историк-собиратель (Geschichtssammler), историк-исследователь (Geschichtsforster), составитель истории (Geschichtsschreiber) и историк-художник (Geschichtsmaler)1. Эти типы легко угадываются в русской историографии эпохи Просвещения. К первому можно отнести историков-немцев — Г.-Ф. Миллера, Г.-З. Байера и А.-Л. Шлецера, ко второму — М. В. Ломоносова и М. М. Щербатова, к третьему — В. Н. Татищева, к четвертому — Н. М. Карамзина. Однако в последнем подразделении можно выделить еще одну группу авторов, которых можно назвать «сочинителями истории». В их сочинениях не нужно искать демонстрации не известных ранее фактов, исследования малоизученных документов, заполнения «белых пятен». Они не ставят описательных задач, не стремятся к «новизне». Их гипотетические построения могут быть основанными на интуиции или «чистом умствовании», отсутствие информации компенсируется ими историческими аналогиями или просто фантазией. Они стоят у самых истоков водораздела, который направит науку и литературу в разные стороны. Сначала потоки будут идти параллельно, но 1 Р у б и н ш т е й н Н. Л. Русская историография. М., 1941. С. 159. 136 затем, расходясь все дальше и дальше, станут питать живительной влагой разные земли. Но это случится позже, уже во второй половине XIX в., эпоху прагматического отношения как к прошлому, так к настоящему и будущему. Век Просвещения еще давал возможность нераздельному исчислению фактов, их осмыслению и художественному отображению, порождая особый жанр исторического повествования, который одновременно демонстрировал новый материал, формулировал умозрительные предположения и запечатлевал все это на красочном полотне художественного описания. Вероятно, с наибольшей полнотой это выражено в художественно-исторической прозе Н. М. Карамзина, не случайно его «История государства Российского» осталась практически единственным историческим сочинением XVIII столетия, которое до сих пор читают (заметим, читают, а не изучают!) «неспециалисты», причем не по необходимости, а для собственного удовольствия. Синкретичность была характерна практически для всех фундаментальных сочинений по истории, которые в той или иной степени соединяли познавательность научного исследования, увлекательность исторического романа и концептуальность философского трактата. Однако иногда та или иная тенденция преобладала. Можно выделить некоторую группу историков, которые жертвовали научностью ради популярности, фактологичностью ради концептуальности. «Настоящие» историки часто осуждали такой подход, но культурой он был востребован и часто в неявном виде содержал информацию, которую не считали нужным помещать в свои сочинения историки, занимающиеся историей как наукой, в силу явной очевидности или неочевидности, недоказанности, высокой степени абстрактности содержащихся там положений. Обычно произведения подобного рода не получали достаточной интерпретации. И все же для выявления «духа эпохи» они являются не менее важным источником, чем добросовестные исследования фактов. Вследствие того, что философия истории (как и философия вообще) в России XVIII в. не выражалась в виде логически непротиворечивого научного трактата, обратимся к маргинальным формам выражения исторической и историософской мысли, прежде всего к тем историкам, которые ставили своей главной целью не выявление исторического факта, а формирование концептуальной позиции. 137 Одним из наиболее ярких представителей «писателей истории» был Ф. А. Эмин (ок. 1735–1770), известный также своими «политическими романами». В 1763 г. он выпустил два довольно объемных сочинения «Непостоянная Фортуна, или Похождения Мирамонда» и «Приключения Фемистокла и разныя политическия, гражданския, философическия, физическия и военныя его с сыном разговоры…», написанных под влиянием фенелоновского «Телемака». Значительное место в них посвящено выражению общественно-политической позиции Эмина, его гипотетическим предположениям по поводу возможного государственного устройства, высказанным, как это было принято, в форме социально-утопического проекта. Это описание утопических государств Фракии и Эолии, программа государственных преобразований, предложенная Ксерксу Фемистоклом («Приключения Фемистокла…»), идеальные государства Тефилет и Нисефа («Непостоянная Фортуна…»). Эмин полагает, что наилучшее государственное устройство основано на «естественном законе». По своим экономическим убеждениям он физиократ, в особенности применительно к России, основой процветания которой, как он считает, может быть только сельское хозяйство, прежде всего земледелие. Пример тому — Эолия, где все живут в достатке и «дороговизны не бывало» 2. Согласно Эмину, главное в государственном устройстве заключается не в предоставлении возможностей, а в ограничении потребностей. «…Простой крестьянин никогда никакого недостатка не претерпевает, — пишет он, — потому что кусок хлеба всегда у него готов и чего только он не захочет, то все имеет, потому что ничего такого не хочет, что у него нет» 3. Изменить что-либо в таком устройстве — означает ухудшить государственную стабильность и нарушить общественное спокойствие. «Тех, которые родились к хлебопашеству, не надобно воспитывать так, чтобы им можно было стараться о министерстве, ибо свойственное человеку самолюбие побудило бы их стараться о том, чтобы сравняться с прочими. Тогда рушилось бы благополучие общества, и должно бы одному в то время давать другой вид и другой порядок, что едва бы сделать и удалось. Положим, что они имеют такие же способности, как и прочие, но оных ни сыскивать, ни просвещать цельность и польза общества не дозво2 Э м и н Ф. А. Приключения Фемистокла и разныя политическия, гражданския, философическия, физическия и военныя его с сыном разговоры… СПб., 1763. С. 81. 3 Там же. С. 82. 138 ляют» 4. Статичность — наилучшее состояние государства и всех его институтов. Чтобы доказать это положение, Эмин обращается к российской истории. С 1767 по 1769 г. Эмин публикует три тома с характерным названием «Российская история жизни всех древних от самого начала государей все великия и вечной достойныя памяти ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО действия, его наследниц и наследников ему последование и описание в Севере ЗЛАТАГО ВЕКА во время царствования ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ в себе заключающая». На фронтисписе гравера П. Артемьева изображена Екатерина II с рогом изобилия, от которой исходят лучи света. В нижней части — Юпитер, мечущий молнии. Подпись гласит: Monstra Jovem referunt, domuisse furente trisulca Gratiis HÆC furias et pietete domat. или: Олимпа Бог с небес перуном злых разит, ТА кротостью своей из зла добро творит. Этим графическим «эпиграфом» Эмин сразу же показывает цели данного произведения, которые состояли не столько в противопоставлении «старины» и «новизны», сколько в панегирическом прославлении «современности». Несмотря на большой объем, его «Российская история…» была доведена только до 1213 г. Эмин не выполнил поставленной задачи и даже не приступил к описанию «златаго века». Исходя из взятого им темпа, (1 том ≈ 1 столетию) его отделяло от задуманного около пяти с половиной сотни лет или не менее 5 томов. Вместе с тем и написанного достаточно, чтобы понять основные положения философии истории писателя. «Каждому просвещенному человеку известно, — отмечает Эмин, — что знать самого себя есть первая и нужнейшая наука. А показать каждому гражданину начало его отечества, оного свойства, различность народов, оных происхождения, действия, склонности, нравы, разные перемены и разные приключения, из которых произойти может прямое наставление, чему следовать, и чего убегать должно, есть дело, в котором многие просвещенные общественной пользы желатели давно упражняются, и коего совершения не только каждое государство, но и весь просвещенный свет давно 4 Цит. по: Г у к о в с к и й Г. А. Идеология русского буржуазного писателя XVIII века// Известия АН СССР. Отделение общественных наук. 1936. № 3. С. 448. 139 желает» 5. По его мнению, необходимость изучения отечественной истории связана с тем, что европейские христианские государства представляют собой единую систему, понять функционирование которой, не разобравшись в работе отдельных ее частей, невозможно. «Христианские в Европе монархии, — пишет Эмин, — подобны искусно заведенным часам, составленным из многих пружин и тончайших частиц, одна другой соответствующих, от исправности которых благосостояние целого корпуса зависит. По той причине многие государства не только тщатся иметь исправную своего отечества Историю, но и чужие переводят на свой язык...» 6 Российская история имеет ряд преимуществ перед другими народами, ибо, во-первых, сохранилось достаточное количество исторических источников, а во-вторых, она не отягощена «баснословными» вымыслами. «Многие народы принуждены были из баснословия первоначальные исторические выводить действия. Они умствованием и разными догадками из басен нравоучения, из нравоучений прошедшие действия, из действий паки нравоучения производить старались…. Но мы имеем толь много драгоценнейших и вернейших записок, немало искусно собранных летописей, множество подлинников, древность изображающих, что из оных без всякого умствования, которое не столько изъясняет, сколько затмевает истину, можем собрать справедливую отечества нашего историю» 7. Таким образом, Эмин провозглашает, что будет следовать исключительно источникам и фактам. Однако, как мы увидим в дальнейшем, он сам привнес в историческое повествование не только «умствование», но и определенную дозу творческого вымысла. В Предисловии к «Российской истории…» Эмин размышляет о сложностях, с которыми он столкнулся, изучая источники. Их обилие создает определенные трудности, поскольку отсутствует четкий критерий отбора информации. Они могут быть недостоверными и противоречивыми. Буквальное следование источникам и излишняя доверчивость к ним могут ввести в заблуждение историка, загипнотизированного авторитетом древних летописателей. Поэтому сочинения известных авторов, например В. Н. Татищева, тоже грешат 5 Э м и н Ф. А. Российская история жизни всех древних от самого начала государей все великия и вечной достойныя памяти ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО действия, его наследниц и наследников ему последование и описание в Севере ЗЛАТАГО ВЕКА во время царствования ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ в себе заключающая: В 3 Т. Т. 1. СПб., 1767. С. V. 6 Там же. 7 Там же. С. VI. 140 противоречивостью. Эмин полагает, что Татищев так запутался в многообразных источниках, что «пишет вещи, совсем с правдою несходные» 8. Правда, «г. Татищев в том не виноват, что ему справедливые историки в руки не попали» 9. Согласно Эмину, выбор источника — дело достаточно важное, выбор должен быть основан на представлении автора о том, «кто сходнее с правдою пишет» 10. Однако определить это невероятно сложно, поэтому «каждый волен прилепляться к такому автору, который ему нравится» 11. В данном случае субъективность выбора авторитетного источника будет не недостатком, но предпосылкой творческой интуиции, ведь «о древности же писали около 1000 человек, но всегда несогласно» 12. Особенно не нравится Эмину «Никонов список»: «А мне кажется, что ни в одной почти российской летописи, которую я читал, нет столько забобонов, сколько в этом списке» 13. Эмин считает, что этот текст слишком «баснословен». Сам же он хочет очистить историю от мифологических напластований. «Особливо я боялся наполнить историю мою странными чудесами и многими баснями, дабы вместо исторических описаний не набаять тьму сказок, — пишет он. — Не старался я праотцев наших производить от аргонавтов, так как богемцы, ниже наших героев кормить волчьим молоком, которым римские историки прежних своих государей воспитали, не выводил я древних наших предков от богов, так как древний летописец французский Гунебалд де Фредегер, утверждающий, что прежний король французский был внук Приама и что другой его наследник произошел от Нептуна, водяного бога, ночью из волнистого своего царства вышедшего, и с королевой, его матерью, соединившегося; а Еразм монах написал, что Еней, основавший в Италии царство и в Капуе город, тогда столицу имеющий, платил королю французскому дань, чему Дон Бавды, ишпанский автор, смеется, на то не взирая, что ежели французская древняя история наполнена баснословных богов действиями, то вместо того ишпанские летописи кругом почти записаны действиями небесными, так что почти с каждым их полководцем вместе воевали противу неприятеля святые или ангелы с воздуха, как пишет Браядо, бросая вниз он сам не знает что… 8 Там же. С. XIII. Там же. С. XIV. 10 Там же. С. XVII. 11 Там же. 12 Там же. 13 Там же. 9 141 Не будет у меня таких сказок, какими историю свою наполнил славный итальянский автор Ариост, написав, что кавалеры Карла Великого долгое время воевали, споря о шлеме, который Гектор носил в Трое...» 14 Эмин сравнивает себя со старателем, который, промывая руду, добывает из нее драгоценные крупицы золота. Он считает, что делает историю достовернее, очищая от «баснословия». Вырабатывая методику работы с текстом, Эмин хочет обратиться к правилам работы с рукописями, предложенным А.-Л. Шлецером. Как известно, последний выделял летопись Нестора из всех остальных, полагая, что главная задача исследователя состоит в выявлении подлинного «мета» текста, очищении его от позднейших искажений. Эмин, «желая последовать… г. Шлецера правилам, начал собирать разные списки, сличать оные и думал решить дела по большинству голосов» 15. Однако ему не удалось найти «очищенного» Нестора, скорее наоборот: он не нашел в них ничего, кроме Нестора. Прочитав множество летописей, Эмин увидел в них «великое согласие», что не порадовало его, но «весьма опечалило», потому что «они Нестору и в повествованиях, с правдою несходных, последовали и оные крепко утверждали» 16. По Эмину, существует определенное социокультурное различие между европейскими хрониками и российским летописанием. Это связано и с идеологической ситуацией, традиционным для России государственным контролем над духовными процессами, сакрализацией фигур летописцев. Он пишет: «В иностранных землях, естьли кто сочинит историю, то наследник его или еще современщик, будучи ученый, а часто при учености и тщеславный человек, читает издание историческое своего предка глазами чрезмерно критическими. Ежели найдет в нем какую малейшую ошибку или какую-либо двойного знаменования речь, то, привязавшись к оной, пишет целый том, и вместо изъяснения больше прежнее повествование затмевает. Сие происходит от вольности в писании и от самолюбия человека ученого, который не погрешности других исправляет, но себя свету человеком ученым показать желает. От того в чужестранных исторических писаниях великое находится несогласие. Напротив того, наши летописцы совсем другого рода. Наши историки ученой гордости не 14 Там же. С. XIX–XX. Там же. С. XXIV. 16 Там же. С. XXV. 15 142 знали; они же взросли в такой земле, где ничего в древние времена без воли государей ни сделать, ни написать было не можно. Многие из них препровели жизнь свою в монастырях, где, привыкши к монастырской строгой жизни, о делах общественных вольно рассуждать не смели. Притом Нестор, первый летописец российский, после смерти в число святых включен. Тогда уже и помыслить о том наши летописцы боялись, чтобы Нестор мог ошибиться: ибо в то время не рассуждали, что святость чрез угождение Богу, а не через знание истории или иных наук приобреталась. Итак, и на согласие наших летописцев положиться не можно, следовательно, должно всему ими писанному доискиваться в чужестранных беспристрастных писателях подтверждения» 17. Эта ситуация приводит к необходимости сопровождать сведения, взятые из летописей, пространными комментариями и активно использовать информацию из других источников. Рассуждая о целях и задачах истории, Эмин отмечает, что она не может быть лишь простым перечислением фактов и не должна сводиться исключительно к описанию «политических дел». Главная задача исторического сочинения, как и художественного произведения, — «прямое наставление, чему следовать и чего убегать должно» 18. Так, он называет в числе недостатков летописания отсутствие аналитического взгляда на исторические процессы: «…Славный наш Нестор писал свою летопись не яко историк, но яко держатель государственных записок. В нем цена добродетелям и порокам не полагается; будущее, из настоящего истекающее и для просвещения весьма не потребное, не рассматривается; описанным действиям свидетели не представлены и причины оных не сыскиваны» 19. Это определяет качества, которыми должен обладать «исторический философ». Он не может быть «Диогеном, одиноко живущим... Историческому философу должно быть совсем другого рода. Ему надобно иметь дело с обществом и уведомлять оное своим описанием о том, что к пользе целого общества касается. Добродетели, которым должно следовать, а пороки, от которых обществу было или быть бы могло разорение, неотменно ему должно описывать ясно и поучительно» 20. Для этого он может использовать приемы не только 17 Там же. С. XXV–XXVI. Там же. С. V. Там же. Т. 3. СПб., 1769. С. III. 20 Там же. Т. 1. СПб., 1767. С. XXXVIII. 18 19 143 научного, но и художественного повествования. Так, Эмин признается, что вкладывает в уста исторических персонажей не те слова, которые они говорили, а те, которые они могли бы сказать. Он пишет: «...Должен я всех уведомить, что многие речи, которые в сей Истории разные говорят лица, выдуманы, например, речь, которую говорит Гостомысл к мятущемуся народу, уговаривая оный, дабы признать Рюрика на владение... Но естьли Гостомысл оной не говорил, то по малой мере должен был говорить что-нибудь тому подобное, чтобы взволновавшийся, гордый и ничего не рассуждающий народ мог усмотреть и привести к здравому рассуждению... Может статься, Гостомыслова речь была важнее и гораздо трогательнее той, которая в сей книге изображена; но я, сообразуясь с тогдашним временем, в которое красноречия, или, лучше сказать, протяженного и пухлого штиля не знали, старался говорить языком каждого человека сродним, составляя разные речи по большей части со всевозможной важности причин и обстоятельств» 21. Что можно сказать по этому поводу? Пожалуй, только вспомнить Дидро, который, рассуждая о великолепных речах Тита Ливия в его «Истории Рима» или кардинала Гвидо Бентивольо в его «Фландрских войнах», заметил: «Их читаешь с удовольствием, но они разрушают иллюзию. Историк, приписывающий своим героям речи, которые они не говорили, способен приписать им поступки, которые они не совершали» 22. Эмин дает слово всем центральным персонажам исторического повествования. Он приводит большой диалог Ольги и Святослава, обсуждающих возможность принятия ими христианства, речь воеводы Претича при осаде печенегами Киева. Насыщенность истории Эмина монологами привносит в нее элемент театральности, делает ее своеобразной пьесой, в жанре «исторических представлений», подобно тем, которые выходили из-под пера Екатерины II и ставились на сцене Эрмитажного театра, прежде всего «Начальное управление Олега», «Жизнь Рюрика», «Игорь». Для современного исследователя текст Эмина выглядит даже не столько театральным, сколько, как это ни анахронистично — кинематографичным. Его описания сражений предстают увиденными с вертолета глазами оператора-баталиста. Художественное полотно, на котором Эмин располагает исторические факты, заполняя «бе21 22 Там же. С. XLIX–L. Д и д р о Д. Жак-фаталист и его хозяин// Дидро Д. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1991. С. 309. 144 лые пятна» лирическими отступлениями, настолько убедительно, что кажется, будто видишь эту картину на экране. Приведем лишь один пример, описывающий сражения Святослава с болгарским полководцем Цимисхием. На страницах, предшествовавших этому описанию, Эмин помещает историю дворцового переворота, приведшего Цимисхия на трон. Эмин пишет о том, как Цимисхий коварно захватил власть, подкупив слугу князя Никифора Фоки и использовав преступную страсть его жены. «Дерзкий любовник напояет свой меч кровию царя и благодетеля своего. Сие ужасное позорище страстную любовницу нимало не устрашает, она веселым оком зрит простертое на ея лоне мужа своего тело; током из горла его текущая кровь брызжет на ее лицо; а она к Цимисхию любовные бросает взоры! Жестокая любовь! Несчастная страсть! Почто ты имеешь место в человеческих сердцах?» 23 Естественно, что после такого описания желание Цимисхия отказаться от уплаты дани Святославу кажется продолжением его черных дел, а поход против него Святослава — справедливым возмездием. Образ Цимисхия отягощен «презумпцией виновности» на основании неприглядного, но, согласимся, характерного для той эпохи эпизода. Поэтому сражение между Святославом (который, заметим, нападает) и Цимисхием, пытающимся защитить независимость своего небольшого государства, превращается в акт праведной мести славянского Парсифаля. Само сражение описано чрезвычайно ярко с такими подробностями и драматическими эффектами, которые могли бы позволить использовать данный текст в качестве сценария. Сначала вводится свет и цвет: «Лишь только багряная заря темноту мощную изгонять начала, то все Святославовы полки к вылазке из города приготовляться начали» 24. Затем появляется звук: «Звук труб, оружия и медных котлов, разъяренного войска крик, ржание коней по сему городу были слышны» 25. Изображение становится более подробным, и мы можем отчетливо увидеть, как «открывается город; полки из него выходят со своим предводителем» 26. Камера выхватывает из толпы лицо героя, и мы видим уже «крупный план»: «Святослав, яко разъяренный лев, на неприятеля 23 Э м и н Ф. А. Российская история… Т. 1. С. 229. Там же. С. 244. Там же. 26 Там же. 24 25 145 стремится, войска его повсюду за ним следуют. Во всех неприятельских войсках немалая произошла тревога, иного российский меч пополам пересекает, другого собственный его конь топчет и драгой лишает жизнию. Везде крик, везде ужас, везде неизбежимая смерть неприятелей российских устрашают» 27. Актуализация исторических событий за счет привнесения в них правдоподобного художественного вымысла не казалась какой-то «вольностью». Напротив, ретроспективный, и, естественно гипотетический психологический анализ представлялся единственно возможным для понимания, а тем более описания поступков людей в прошлом. Такой прием использовал Н. М. Карамзин, создавая вокруг персонажей «Истории государства Российского» особый эмоциональный флер. Его герои действуют «с ужасом», «с тяжким вздохом» или же «в радости и восторге сердца». Карамзин использует свое художественное мастерство и научную интуицию для описания внутреннего мира участников исторических событий. Его история — это «сентиментальное путешествие» в прошлое, умножившее славу «русского путешественника». Вероятно, именно «История» Карамзина могла бы быть противопоставлена мнению Г. Шпета согласно которому, социальные науки и история не изучают «души», а следовательно, «душевных явлений». Не обходит вниманием Эмин и пресловутый «варяжский вопрос». Он формулирует его как неправомерность мнения «профессора Беера» о том, что «Россия не только с своего начала, но и по двенадцатый почти век не могла иметь своих князей» 28. Эмин ссылается на Герберштейна, который считал, что «варяги говорили языком славенским, и законы их наблюдали, и потому новгородцы призвали их к себе на владение, что они были одного с ними поколения» 29, а также на ряд других авторитетных для него источников, впрочем, часто сомнительных для современных ему историков. Эмин строит свою систему опровержений с нарушением логического принципа, предостерегающего от того, чтобы доказывать «слишком много». Он утверждает, что: 27 Там же. С. 244–245. Там же. С. XXXIX. 29 Там же. С. XL. 28 146 • В России, а не на Западе следует искать истоки европейской культуры 30. • Даже если первые князья «были призваны от немцов… нам от них происходить весьма не стыдно» 31. • Искать истоки государственности так далеко в прошлом бессмысленно 32. • Профессор Байер слишком пристрастен в своей теории, ибо он «и французов, как и россиян, надеялся произвести от древних Финнов» 33. Кроме того, Эмин пытается скомпрометировать Байера, уличив его в плохом знании турецкого и арабского языков. Конечно, Эмин относится к Байеру чрезвычайно предвзято. Он видит в нем личного неприятеля и дает почти оскорбительную и несправедливую характеристику. Аргументация Эмина напоминает классический случай из учебника логики, иллюстрирующий Argumentum nimium probans (Довод, страдающий избыточностью). Один человек обвинил другого в том, что тот, взяв у него взаймы горшок целым, вернул его дырявым. На это обвиняемый ответил: «Во-первых, я у тебя горшок не брал, во-вторых, я его вернул целым, а в-третьих, он у тебя и был с дыркой»… Очевидно, что свою задачу Эмин видит не в установлении исторической достоверности, но в правдоподобном идеологически выверенном описании. Был ли персонифицирован «социальный заказ», выполняемый им, иными словами, выполнял ли писатель пожелание императрицы, сказать трудно. Скорее всего, непосредственного приказа на создание такого произведения он не получал. Однако расставленные им акценты вполне согласовывались с официальной точкой зрения. «Благородный Рюрик», «гордый Вадим», пытавшийся воспользоваться мятежными настроениями черни, «мудрая и верная Ольга» — Эмин воспроизводит весь набор историософских архетипов, рисуя исторические события «установленного», а точнее, «устанавливаемого» образца и критикует тех историков, которые ему не со30 «Я напротив того профессору Бееру мог бы сказать и гораздо доказательнее, что все почти европейские народы должны искать своих праотцев в землях, ныне России принадлежащих», — пишет он (Э м и н Ф. А. Российская история … Т. 1. С. XLII). 31 Там же. С. XLIII. 32 «Производить себя и других от самого Адама, есть дело бесполезное и к чести нынешнего народа не легко служащее, то я в том г. Бееру не последую». (Там же. С. XLII). 33 Там же. С. XLIII. 147 ответствовали. Это были прежде всего М. В. Ломоносов и немецкие историки Байер и Шлецер. Эмин неоднократно критиковал немецких историков на страницах своего сочинения. В определенном смысле его концептуальные построения имеют формой критический анализ их сочинений. Эмин возражает Шлецеру, который датирует «Русскую правду» временем Ярослава Мудрого. Эмин отмечает, что Нестор не пишет о «Русской правде» как о новом законе, кроме того, сам дух этого документа не соответствует христианству. Так, в ней оправдывается необходимость мести, проводятся различия между племянниками с материнской и отцовской стороны, которые имели преимущество при наследовании. Не согласен Эмин и с периодизацией, предложенной Шлецером. Этапы развития российской истории, предложенные Шлецером, о которых уже говорилось выше, он заменяет этапами становления абсолютизма. Эмин посчитал, что периодизация, предложенная немецким историком, слишком универсальна и ее можно найти у любого народа. Кроме того, определение России как «цветущей» является скорее эпитетом, причем не очень удачным, чем обозначением какого-то определенного этапа. Он считает, что «процветать — слово для нынешней России есть весьма скудное. Наше государство при Владимире, при Ярославе, при царе Иоанне Васильевиче и при многих иных государях процветало, но оного цвет чрез разные несогласия опадал весьма скоро; но ныне Россия цветет и плоды приносит» 34. Поэтому Эмин предлагает дополнить периодизацию Шлецера этапом России «плодоносной», обозначающим время царствования Екатерины Великой. По его мнению, этапы развития российской истории должны включать некоторые специфические особенности ее развития. Он предлагает выделять фазы развития в соответствии с изменениями типов политических режимов: • Княжения • Царствия • Империи Между периодизациями Эмина и Шлецера нет противоречия, более того, они совпадают в своих интенциях и демонстрируют движение России как определенную эволюцию социально-экономических и духовно-политических институтов из прошлого в будущее, 34 Там же. С. XLVIII. 148 от простого к сложному, от низшего к высшему. Просто основанием для периодизации Шлецер берет социально-политический, а Эмин чисто политический критерии. Однако для Эмина существуют лишь два способа исторического повествования — полемика и свободная интерпретация, доходящая до художественного вымысла. Поэтому он подвергает критике все сочинения, которые использует для своей работы. Эмин пребывает в пространстве политико-идеологических реалий, поэтому прошлое интересует его исключительно с точки зрения настоящего. Он с удовлетворением отмечает, что «начало истории» в России связано с реальными историческими событиями, а не мифологическими построениями. «Мы тем по справедливости должны предпочесть наших древних летописцев перед иностранными, что они в то время писать научились, когда в России христианская вера распространяться начала. И ежели прочие народы почитают то за славу и честь, что гораздо прежде нас начали быть просвещенны, то мы должны назваться счастливыми, что оной не имеем; ибо и наши летописи были бы наполнены баснями и многих богов больше невозможными, нежели удивительными действиями» 35. Именно поэтому для Эмина важна не только констатация факта или «знание обыкновений», но и выявление причин. Очень часто истоки причин и следствий уходят далеко в прошлое и даже теряются там. Однако при внимательном исследовании можно выяснить, что «каждое обыкновение имеет свою собственную историю, или, по крайней мере, свою баснь» 36. Задача историка состоит в том, чтобы найти тот «скрытный узел», который «в одно собрание все обыкновения с настоящими их началами и причинами связывает и в желанное приводит согласие» 37. Этой связи никогда не поймут ни те, которые слепо верят «преданиям отцов», не желая подвергнуть их не только малейшей критике, но и простому осмыслению, ни те, которые совсем отвергают необходимость исторического исследования, Эмин называет их «физиками». Истинного историка отличают широта кругозора и способность видеть явление во всей его полноте. «Счастливы те, — пишет Эмин, — кои от философической истины не удаляются; таковые, упрямство, умствование и своенравие от учености отделя, вещи могут зреть в настоящем их виде и писать исто35 Там же. С. 7. Там же. Т. 3. СПб., 1769. С. V. 37 Там же. 36 149 рию с желанным успехом; притом знание общей истории, твердость мыслей, прозорливое внимание, великое трудолюбие и подробное знание политического равновесия в Европе и в иных частях света много историкам в их деле вспомоществовать могут» 38. По Эмину, серьезное препятствие для историка — мифологизация исторических персонажей и событий, а также суеверие. Он не скрывает своего откровенного антиклерикализма и осуждает ханжество одного из своих критиков, который упрекает Эмина в преимущественном описании политической и пренебрежении к церковной истории. Следует отметить, что церковные историки, например, митрополит Платон в своей «Краткой церковной российской истории», считали естественным подобное «разделение труда». Эмину приходится оправдываться и в том, что он постоянно критикует Ломоносова. «Счастливое свойство эха славы! — отмечает он. — Я вместо извинения и теперь скажу, что г. Ломоносов при всех своих достоинствах не мог с желанною удачею писать Российской истории, как потому, что был занят многими делами, и, имев многих милостивцев и друзей, к первым был принужден ездить, а с другими знаться; так и по причине той, что не разумел литовского, татарского, турецкого, польского и иных мне вразумительных языков» 39. Заодно попадает и А. П. Сумарокову, допустившему, по мнению Эмина, ряд неточностей в описании стрелецкого бунта, и даже самому В. Н. Татищеву. Критическая оценка Эминым роли православия в истории России доходила до откровенного антиклерикализма. «Духовенство, которое когда усилится, — писал он, — то ничего их власти для общества вреднее нет» 40. С этих позиций им исследовался и излагался вопрос о «крещении Руси» и «выборе вер». Он рисует князя Владимира не одухотворенным «крестителем России», а тщеславным, похотливым и суеверным преступником, убившим своего брата Олега. Эмин указывает, что Владимир был до такой степени предан своим языческим богам, «столько был по своей вере набожен, что, узнав о нападении печенегов, не пошел от Перуна до тех пор, пока не окончал обыкновенные свои поклоны» 41. Он «толь много к идолам был пристрастен, что многобожие его превратилось в ти38 Там же. Там же. С. VII. Там же. Т. 2. СПб., 1768. С. 130, прим. 41 Там же. Т. 1. С. 283. 39 40 150 ранство» 42. Эмин так же, как и его современники В. А. Левшин, М. Д. Чулков и И. П. Елагин, обращал внимание на близость славянской и античной мифологии, полагая, что духовное развитие России и Европы проходило одни и те же этапы. Так, он выстраивает своеобразную «таблицу соответствий», считая, что славянский Хорс — это Марс, Лель — Купидон, Лада — Венера, Дида — Диана, Ниям — Плутон, Марзанна — Церера, Перун — Юпитер, Похвист — Эол, Погода — Зефир, Купала — Помона и т.д. Следует отметить, следующее: эта таблица не полна и не структурирована. Эмин в данном случае просто повторяет общие рассуждения, характерные для его эпохи. Интересны его наблюдения о сохранении значительного количества языческих обрядов, особенно в крестьянской среде. Эмин связывает неожиданный поворота Владимира к христианству исключительно с его тщеславием. «Сей князь столько был горделив, что, прочетши жизнь Соломонову и зная, что сей царь за премудрейшего и славнейшего в свете иногда почитался, хотел ему во всем следовать» 43. Больше всего преуспел он (хотя и не превзошел легендарного иудейского царя) в количестве наложниц, которых у Владимира было более восьмисот, содержащихся в трех больших сералях в Вышгороде, Белгороде и Берестове. Эмин пишет: «Утопающий в роскошах, многоженство жен и наложниц имеющий, и каждой жены веру иметь, наподобие Соломона желающий, Владимир не только разным поклонялся идолам, но и разные веры по склонности своей и женам, и наложницам наблюдать хотел, о чем узнав, разные пограничные народы спешили в Российское государство, каждый из них на свою веру желая обратить Владимира» 44. Таким образом, знаменитый «выбор вер» объясняется желанием Владимира превзойти легендарного персонажа. Со свойственным ему стремлением к театрализации Эмин вкладывает в уста каждого участника этого действа выразительную речь. Особенно примечательно описание мусульманского рая, вечно девственные гурии которого должны были бы послужить решающим аргументом для любвеобильного славянского князя. В свою очередь, роль Владимира, панически боящегося обрезания и на этом основании не желающего даже слушать рассуждения представителей ислама и 42 Там же. С. 285. Там же. С. 285–286. 44 Там же. С. 308. 43 151 иудаизма, выставлена в несколько комическом свете. «Равноапостольный» князь, «креститель Руси» представлен Эминым как тщеславный, властолюбивый, похотливый и не очень образованный человек. В сочинениях российских историков мы вряд ли найдем оценку Владимира, подобную той, которую дал ему Эмин. Странно, что этот факт не был предметом обсуждения в соответствующей литературе. Что заставило Эмина так критически оценивать персонажа, который находился вне критики даже в советские времена демонстративного антиклерикализма и атеизма? Ведь все приводимые им негативные характеристики — результат не столько фактографических исследований, сколько творческой, хотя и не совсем безосновательной интерпретации. Интересно, что в ряду достаточно «нейтральных» персонажей фигуры Владимира и Ольги выделяются явно обозначаемыми оценочными доминантами. Единственным мотивом для такой акцентированности персонологических сюжетов является желание Эмина провести определенные исторические аналогии. В случае с Ольгой он, несомненно, апологизирует «первое женское правление», отличающееся смелыми решениями, мудростью, обращением к истинным ценностям. Эмин дискредитирует Владимира, который, по его мнению, принимает христианство из тщеславия, и возвышает Ольгу, делающую это из духовной потребности. Нетрудно догадаться, что «мудрое» правление Ольги симметрично «просвещенному царствованию» Екатерины II. В этом смысле историческое сочинение Эмина направлено не столько против отдельных историков, полагавших, что Ольга не была «самодержавной правительницей», сколько к более широким слоям читателей для демонстрации мысли о том, что женские правления не только характерны, но и благодетельны для России. Эмин откровенно пишет о том, что в России персона царя часто воспринималась как сакральная. «Ни один народ, как древний, так и нынешний, — отмечает он, — так государей своих не обожает, как россияне. У них государь издревле поставлялся весьма недалеко от Бога» 45. В то же время сам государь не только не должен быть чрезмерно фанатичным, но, более того, он должен соблюдать меру в проявлении своей набожности. В противном случае он не выполняет своего прямого предназначения, а подчиняется своим прихотям. Эмин полагает, что «и христианский закон имеет свои степени 45 Там же. Т. 2. С. 58. 152 и что не всегда приписуется то в порок царю, что есть пороком в обществе, ниже всегда добродетельно у трона, что простонародьем за добродетель почитается» 46. Разумеется, хотя Эмин и был антиклерикалом, но отнюдь не антирелигиозным человеком. Об этом говорит одно из его последних сочинений «Путь ко спасению или разныя набожныя размышления, в которых заключается нужнейшая к общему знанию часть богословия», выдержавшее ряд изданий. Сочинение Эмина было принято публикой чрезвычайно критично, и ему пришлось оправдываться, еще не доведя его до конца. Одним из главных критиков стал митрополит Евгений, который упрекал автора в поспешности и некомпетентности. Так, «Из слов Никоновой летописи о Друзем князе вывел он Друза, князя Болгарского, о котором ни история и ни одна древняя известная летопись не упоминают. Русс и Прусс у него все одно, и Прусс был де брат императора Августа… От сбивчивости ли памяти своей, или от надежды на незнание своих читателей, он без зазрения совести ссылается на такие повествования и книги древних греческих и римских писателей, каких в сочинениях их никто не находил и не слыхивал…» 47 Если Эмину не удалось довести свое сочинение до «золотого века» времен Екатерины, то это удалось его критику — И. В. Нехачину (1771–1811) в сочинении «Новое ядро Российской истории от самой древности россиян и до нынешних дней блополучного царствования Екатерины II Великия на пять периодов разделенныя». Периоды, которые выделяет Нехачин, достаточно традиционны: I. «От пришествия Рюрика с братьями на княжение в Новгород до разделения России на уделы, т. е. от 862 по 1015 год». II. «От разделения России на уделы до покорения оной татарами под властью оной, т. е. от 1015 по 1237 год». III.«От покорения России татарами под власть свою и до уничтожения оной чрез Великого князя Иоанна Васильевича, или от 1238 по 1462 год». IV.«От освобождения России от ига татарского до вступления на Всероссийский престол из фамилии Романовых Михаила Федоровича, или от 1462 по 1613 год». 46 Там же. Т. 1. С. 431. Цит. по: С т а р ч е в с к и й А. Очерк литературы русской истории до Карамзина. СПб., 1845. С. 186. 47 153 V. «От начала вступления на Всероссийский престол из фамилии Романовых Михайла Федоровича и до нынешних дней благополучного царствования Екатерины II Великия» 48. Удивительно, что Нехачин, автор ряда исторических сочинений, в том числе посвященных Петру I, и по существу являющийся историком петровского времени, не выделяет эту эпоху как качественно новую, отличную от предыдущих. Его стремление «закончить» историческое повествование екатерининским веком как логическим завершением и блестящим воплощением исторических интенций от этого бы не пострадало, ибо модель «Петр I — Екатерина II» не является антиномической, но генетической. В этом смысле периодизация Шлецера, кстати, ставшая более популярной в русской историографии, учла эту особенность российской истории. Сочинение Нехачина, достаточно компилятивное, чего он и не скрывает, считая своей задачей написание книги краткой и популярной, отмечает характерная особенность перехода истории в «социологию» и даже отчасти апологию. Если М. М. Щербатов, по мере приближения к современности, становился все более критичным и «История Российская…» превращается в описание «повреждения нравов в России», то автор «Нового ядра…», напротив, в историческом повествовании усматривает симметричные параллели с современностью. Так, знаменитому екатерининскому путешествию по Волге 1767 г. находится аналогия в Древней Руси в путешествии княгини Ольги. «Внутреннее государственное устройство было … главным предметом попечений сей мудрой Владетельницы. Она, оставив Святослава, сама вскоре отправилась объехать земли, ей подвластные. Таков был обычай российских государей по вступлении на престол: увидеть своими очами все, что было им подвластно, рассмотреть состояние всех селений, узнать их способы и недостатки, расширить подати по силам различных подданных, распорядить доходы, искоренить злоупотребления, наградить добродетели, исправить погрешности, защитить утесненных и смирить утеснителей» 49. Нехачин достаточно откровенно проводит параллель между Ольгой и Екатериной, делая последней косвенный комплимент, говоря о том, что Ольга (Екатерина) «первая из женского 48 Н е х а ч и н И. Новое ядро Российской истории от самой древности россиян и до нынешних дней блополучного царствования Екатерины II Великия, на пять периодов разделенныя: В 2 т. Т. 1. М., 1795. С. XI. 49 Там же. С. 44. 154 пола в России народом управляла, но с толикою славою, что казалось, как бы она прообразовала могущество и счастие Российского скипетра в руках ея пола» 50. Завершается сочинение Нехачина краткой историко-экономической справкой, содержащей статьи: «О древних пределах России», «О нынешних пределах, положении, пространстве и климате России», «О разделении России на губернии, наместничества и области», «О гербах», «О народах, в России ныне обитающих». К концу XVIII в. раздел, повествующий о современности, становится обычным в сочинениях, предлагаемых для широкого круга читателей. Так, «Краткая Российская история, изданная в пользу народных училищ Российской империи» (СПб., 1799) Янковича де Мариево включала раздел, не только повествующий о царствовании «Екатерины II Алексеевны», но и о «внутреннем состоянии России с 1713 по 1798 год», содержащим в себе параграфы о вере, просвещении, торговле, «пространстве России, состоянии военной силы и народа», «законах и монете». Характерно, что в этом сочинении рассказ о масштабных социально-политических событиях предшествует более конкретному повествованию «о государях», правящих в те периоды, а в конце описания каждого периода дается подробная характеристика культурной жизни, включая «веру», «образ правления», «чины и войско», «науки и художества», «законы», «состояние … двора и народа» и т.п. Таким образом, структурирование текста «по царям», принятое ранее, уже перестает устраивать историческую мысль. Историческое сочинение П. М. Захарьина (1750–1800?) написано в жанре, ставшим в конце XVIII столетия анахронизмом. В своем сочинении «Новый Синопсис, или Краткое описание о происхождении славеноросийского народа…» (Николаев, 1798, предисловие датировано 1786, вероятно, годом написания) он попытался возобновить жанр синопсиса, использовав его для обоснования своих историософских и политических убеждений. Это сочинение не является оригинальным с историографической точки зрения. Основой его изложения является интерпретация «Синопсиса…» Иннокентия Гизеля, «Повести временных лет», а также сочинений М. Стрыйковского, И. Н. Болтина и М. М. Щербатова. Важным историческим источником для Захарьина служило Священное писание, откуда он черпает сведения о «самом начале» истории. При этом он ссылается 50 Там же. С. 40. 155 прежде всего на М. Стрыйковского, который ведет свою «Летопись Литовскую, Польскую, Русскую, Московскую…» от Ноя. Захарьин добросовестно описывает то, каким образом были поделены страны между тремя сыновьями Ноя. Симу досталась Азия, Хаму — Африка. Афету (Иафету) выпала особая удача, ибо ему «осталися в удел страны, на Запад и Север простирающиеся» 51. Переставляя акценты в «библейской географии», Захарьин полагает, что Европа с самого начала была отмечена особой божественной благодатью: «Она паче прочих, невзирая на меньшее пространство земель, блистает на земном кругу богатством, славою, мужеством, премудростию и добронравием; воздух имеет благорастворенный и умеренный. Народы, ея населяющие, быстры, глубокомысленны, храбры, великодушны, человеколюбивы, сострадательны и более всех прочих частей света преуспели в высоких науках и изобретениях» 52. Согласно Захарьину, Европа говорит в основном на трех языках — латинском, немецком и славянском. Таким образом, он повторят довольно распространенную точку зрения «лингвистического славяноцентризма», которая бытовала в российской историософии и историографии с начала века, частью как предрассудок, частью как гипотетическое предположение, частью же как результат умозрительной этимологии. Так, еще Ф. Эмин отмечал, что «начальный язык скифский был славенский» 53. В этом смысле интересна, например, переписка двух иерархов — католического и православного: Станислава Сестренцевича, представителя римскокатолической церкви в России, и архиепископа Булгарского Евгения, обсуждавших вопрос о происхождении латинского языка от славянского 54. Наиболее ярким представителем подобной позиции был, безусловно, В. К. Тредиаковский, этимологический метод которого С. Соловьев называл методом «внешних филологических сближений» 55. В статьях с характерными названиями «О первенстве 51 З а х а р ь и н П. М. Новый Синопсис, или Краткое описание о происхождении славеноросийского народа… Николаев, 1798. С. 5. 52 Там же. С. 5–6. 53 Э м и н Ф. А. Российская история… Т. 2. С. 10, прим. 54 П и с ь м о от Преосвященного Станислава Сестренцевича [нынешнего митрополита Римских церквей в России], Архиепископа Могилевского, к преосвященному Евгению, Архиепископу Булгарскому, и ответ сего Святителя о том, что древние Сарматы говорили языком Славенским // Вестник Европы. Май. 1805. № 9. — Интересно, что сама переписка велась на французском и итальянском языках. 55 С о л о в ь е в С. Писатели русской истории// Архив историко-юридических сведений, относящихся до России. Кн. II. Отд. III. М. 1855. С. 48. 156 Словенского языка перед тевтоническим», «О первоначалии Россов», «О Варягах Руссах Славенского звания, рода и языка» и др. Тредиаковский использует этот метод, производя «скифов» от слова «скитаться», «амазоны» от «омужены», «Британия» от «бородания» и т.п. 56 Впрочем, в высшей степени оригинальные мнения о роли языка для развития культуры и о возможностях воздействия на культуру через язык принадлежали не только российским авторам. Так, в журнале «Вестник Европы» в 1803 г. была помещена заметка под названием «Мудрое предложение одного ученого немца, сделанное им в России». «Мы не знаем имени сего благонамеренного Германца, — написано там, — но уведомляем читателей, что он предлагает нам забыть русский язык!! называл его варварским и неспособным для выражения тонких идей ума. “Россия, — пишет сей аноним в “Немецких ведомостях”, — Россия не может просветиться, естьли не откажется от своего грубого дикого языка. Предлагаю заменить его древнегреческим; предлагаю (что весьма легко) завести в каждой губернии, в каждом округе по нескольку греческих школ, и, лет через десять, все русские будут говорить языком Сократа, Платона и Демосфена. Тогда исчезнет главное препятствие, не допускающее россиян до умственного образования”» 57. Эта точка зрения была отражением принципиально славяноцентристской позиции, которая была в большей степени идеологической, нежели научной. Именно она являлась прямой или косвенной причиной исследования о «славянских амазонках», предпринятого Феофаном Прокоповичем в «Трактате о Амазонках» 58. Она же лежала и в основании другого его исследования, уже вполне научного, а именно «Историографии начатия имене, славы и расширения народа славянского» (1722). В этом сочинении Феофан выступал против итальянского историка Мавроурбия, утверждавшего, что «славянские апостолы» Кирилл и Мефодий были посланы к моравским славянам не из Константинополя, а из Рима. Интересно, что в своем исследовании Феофан опирался на сочинения западноевропейских историков 59. 56 См.: Там же. В е с т н и к Европы. 1803. Ч. IX. № 11. С. 189. 58 См. об этом: С т а р ч е в с к и й А. Очерк литературы русской истории до Карамзина. С. 103. — Он приводит свидетельство В. Н. Татищева о том, что этот трактат был поднесен Феофаном Прокоповичем Петру I в 1724 г. (См. С. 105). 59 Там же. С. 104. 57 157 Представление о славянском языке как о некотором «мета» или «пра» языке было не только результатом несовершенства лингвистической теории или просто заблуждением, но и следствием определенной идеологической позиции, разделяющей мир на «своих» и «чужих», что выразилось в понятии «немцы» (не-мцы — немые), в смысле иностранцы, не могущие говорить на русском (славянском) языке. «Немцами» часто называли иностранцев еще в первой половине XVIII в. Эта позиция была усилена восприятием древнеславянского языка как церковнославянского, т. е. сакрального. Такое мнение находило постоянное эмоционально-обыденное подтверждение в том, что Священное писание в России долгое время бытовало именно в переводе на церковнославянский язык. Захарьин обращается к обыденной этимологии, и, как и многие его предшественники, производит «славян» от «славы», «россиян» от «рассеяния», «Москву» от «Мосоха» и т. д. Главная мысль Захарьина высказана им в разделе о «нашествии татар», где он позволяет себе достаточно подробное отступление от принятого в книге конспективного изложения и излагает свою концепцию происхождения государственной власти и обоснование ее как высшей формы политического режима. «Ежели какое-либо общество, обладаемое единою самодержавною властью, охотно оной покоряется и исполняет со всевозможною деятельностию все от нее начертанное, будучи воспламеняемо единою любовию к общественному благу и верности верховной власти: то такое общество не имеет нужды страшиться внешних угнетений. Оно бывает подобно твердому телу, управляемому разумною главою, которая своею бдительностью и проницанием предохраняет его от различных внешних потрясений» 60, — пишет Захарьин. Общество, ослабленное несогласием и разобщением, всегда является уязвимым для внешних сил. Фактически вся история войн и завоеваний — это ни что иное, как история утраты единства, заключающегося в «безмолвном покорении» своим владыкам. Отказ от единодержавия погубил и Россию, которая своим несогласием спровоцировала и сделала возможным нашествие татар: «Сему ж самому жребию в сие плачевное время подвержено было и наше любезное отечество. Оно раздроблено было на разные маломощные части, которых владетели всегда один на другого взирали завистли60 З а х а р ь и н П. М. Новый Синопсис… С. 141–142. 158 выми глазами, и беспрестанно друг против друга восставая, так силы сего сильного и обширнейшего государства при временах единодержавия прежних князей изнуряли, что ниже тени в нем первого могущества, однако, не оставалось. А потому, когда выведены они были под разными знаменами противу крепкого и единодушного воинства Татарского, которым начальник их повелевал по своей воле, они, как не имеющие ни мужества, ни силы, ни взаимного согласия и доверенности, были разбиты и развеяны, как легкие осенние листики, сильным ветром» 61. Рассуждения о единоначалии и обоснования общественного устройства были развиты Захарьиным в сочинении, написанном в жанре «политического романа» «Арфаксад, халдейская повесть» (Ч. 1– 4. М., 1793–1795). В пространстве утопических предположений и фантастической мифологии он продолжает построение модели идеального общества. Некоторые черты «золотого века» он видит в прошлом, когда «приятная независимость царствовала во Вселенной, когда не знал род человеческий имени собственности… когда старейшие в семействах были оного владыками… наставники, судьи, миротворцы, толкователи тайн природы и учителя богослужения» 62. Под собственностью Захарьин понимает исключительно личную собственность, представляя свое идеальное общество как род большой коммуны. Интересно, что в условиях, когда невозможно расслоение общества на «богатых» и «бедных», оно все равно делится на «достойных» и «недостойных», в зависимости от их личных моральных и интеллектуальных качеств. Таким образом, необходима некая «третья сила», которая поддерживает «точнейшее равновесие» в обществе, придавая ему необходимую стройность и гармонию. Так же как Бог является гарантом и охранителем «мировой гармонии», верховная власть обеспечивает социальную стабильность. Тот, почти чисто физический смысл, который вкладывает Захарьин в понятие равенства, определяет его концепцию общества как такой машины, «в которой закон есть действуемая, а правительство — действующая пружина. Когда действуемая сила имеет в чем-нибудь недостаток, тогда действующая оный исправит, устрояет и приводит в порядочное движение, но когда расстроена и главнейшая, то есть действующая, сила, тогда сему злу ничем пособор61 62 Там же. З а х а р ь и н П. М. Арфаксад, халдейская повесть. Ч. I. М., 1793. С. 23. 159 ствовать не можно» 63. Эта механическая точка зрения включает в социальную гармонию даже существование сложного бюрократического аппарата. В сочинении, уже явно ориентированном на формулирование морально-политических идеалов — «Путь к благонравию», он пишет: «…Начальники по степеням, один другому подчиняясь, такую из себя смыкают цепь, которою ограждается общественная безопасность и через которую верховная власть держит в равновесии милость и суд» 64. Труды «сочинителей истории» принадлежат своему времени, своей эпохе. Они не всегда вырабатывают новое знание или даже не всегда используют уже полученное, предпочитая держаться стереотипных, привычных, устоявшихся суждений, отражают мнение большинства, которое, согласимся, всегда не право, консервативно, пристрастно, но критично, капризно и безапелляционно. Теоретической базой такого сочинительства является здравый смысл, формой изложения — наукообразная беллетристика, побудительной причиной — «выполнение социального заказа». Вместе с тем именно такие сочинения содержат ту гомеопатическую дозу нового, которую только и в состоянии усвоить «сообщество неспециалистов». Поэтому именно такие историки бывают популярны, преуспевают при жизни, но быстро забываются, когда на смену им приходят новые. Нынешнее российское общество, конечно же, не читает Эмина, Захарьина или Елагина. Однако для специалистов их сочинения представляют особый интерес. Исследователям истории идей, а тем более историографии и философии истории важно понять не только то, каким был уровень исторического и историософского знания, но и то, как формировалось историческое сознание общества, какие механизмы управляли созданием и ниспровержением мифологических конструкций, какие исторические архетипы обыгрывались на протяжении столетий, насколько механизмы, сформировавшиеся в век Просвещения, остались актуальными для современности. 63 64 Там же. Ч. II. М., 1793. С. 246. З а х а р ь и н П. М. Путь к благонравию. Николаев. 1798. С. 30. 160 ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ИСТОРИЯ ДУХОВНАЯ В особую группу можно вынести исторические сочинения, которые, стараются остаться в стороне от политических событий, обращаясь к свершениям духовной жизни, например истории церкви. Первая история православной церкви была написана митрополитом Платоном. Это «Краткая церковная Российская история». Нет надобности давать подробную характеристику этому человеку, представителю «ученого монашества», автору ряда богословских сочинений и проповедей. Став историком церкви, митрополит Платон был вынужден не только создать особый жанр, но и переосмыслить сложившиеся архетипы. Поэтому в своем сочинении он использует и летописи, и работы М. М. Щербатова, В. Н. Татищева, «князя Хилкова», или «Ядро истории Российской» А. И. Манкиева, «Новое ядро» Нехачина, «Опыт повествования о России» И. П. Елагина (правда, прежде всего как объект критики), а так же западных авторов, например «Церковную историю» К. Флери (Fleury), и др. Естественно, что Платон не приемлет антиклерикальные установки гражданских историков, а формирует свою концепцию возникновения и распространения христианства в России. Впрочем, для Платона важно не только христианское, но в большей степени 161 православное направление духовной эволюции Руси. Он сожалеет о том, что «не удостоилась Россия сей великой благодати, чтоб в ней насаждена была вера Христова непосредственно божественными руками апостольскими» 1. Хотя, с другой стороны, именно это избавило ее от «мрака Запада», т. е. от «Западныя Римския церкви». Платон, как и другие российские историки, очень высоко оценивает деятельность Ольги и ее личные качества. Он даже сожалеет о том, что не она была крестительницей Руси, ибо «обращение ее к Христу было весьма основательное, благонамеренное, просвещенное и с правилами Евангелия зело сходственное» 2. Впрочем, он далек от того, чтобы хоть как-нибудь критически относиться к Владимиру. Интересно, что то качество, которое осуждает у Владимира Эмин, а именно чрезмерную приверженность языческим святыням, митрополит Платон считает выражением религиозности, «души его особую к богослужению наклонность», и готовности воспринять истинную религию. Платон находит если не странным, то примечательным, что к «выбору вер» не были привлечены жрецы и князю самому пришлось решать такой трудный вопрос. Однако он категорически отвергает гипотезу И. П. Елагина, интерпретирующего этот эпизод как театральное представление, поставленное при княжеском дворе одной из жен Владимира — «грекиней». Платон подвергает это предположение самой строгой критике, называя его «суетным», «странным, «происшедшим из неочищенного духа». Он пишет: «Такая необыкновенная и странная мысль не могла произойти разве от похваляемого им везде любомудрия, с коим, может быть, и самое христианства принятие ему казалось быть несовместным» 3. Платон объясняет предположение Елагина его самомнением, считая, что оно произошло «от излишнего о себе самом мечтания и чтоб блеснуть какою-нибудь новизною» 4. По Платону, дух «любомудрия» и «нынешнего философизма» исказил восприятие исследователя. Елагин заблуждается, но не еретичествует, мудрый пастырь понимает и прощает это, как прежде он понял и простил Н. Новикова. 1 М и т р о п о л и т Платон. Краткая церковная российская история, сочиненная преосвященнейшим митрополитом Платоном. 2-е изд. Т. 1. М., 1823. С. 14. 2 Там же. С. 19. 3 Там же.С. 29, прим. 4 Там же. 162 В отличие от Елагина и Эмина, Платон чрезвычайно высоко оценивает нравственные качества Владимира. Учитывая, что все историки пользовались одними и теми же источниками, можно увидеть пути возможных их интерпретаций, связанных с исходными установками исследователя. Если для Эмина князь Владимир — правитель, которого он противопоставляет другому правителю, а точнее, правительнице, более мудрой и дальновидной, то для Платона он прежде всего креститель, инициатор «крещения Руси». Это заставляет церковного историка идеализировать образ Владимира, да и сам процесс принятия христианства до полного неправдоподобия: «…народ по повелению Владимирову… тотчас без всякого сопротивления или роптания оставил прежнюю свою веру языческую и принял христианскую. А из сего видно, что оное языческое служение никакого в сердце их не имело уверения и твердости, а состояло только в одной наружности» 5. Согласно повествованию Платона, Владимир отказался после крещения от всех языческих пороков настолько, что считал великим грехом даже наказание разбойников. Впрочем, наитягчайшим из всех грехов для православного историка является в первую очередь отход от православия и возможный альянс с католицизмом. Яркими красками нарисована история, происшедшая в 30 годах XV в. с «предателем митрополитом Исидором», который, по сговору с «хитрейшим из человек» Папой Римским, берет на себя полномочия обсуждать вопрос об объединении церквей. Характерно, что когда вероломный Исидор прибыл в Россию и объявил об договоре с Папой — он нашел главного противника этому альянсу не в среде духовенства, которое вело себя довольно индифферентно, а в лице Великого князя Василия Васильевича. «Да стоит же удивления, говорят летописцы, и я с ними удивляюся, — пишет Платон, — что все, и князи и бояре, молчали о сем, да и самые епископы российские были в сем случае слабы, воздремали и спали. Един Великий князь столько Богом умудрен был, что все сии прелести познал и пагубные их следствия удержал и един ревновал ко истине и благочестии» 6. «Введение латинства» кажется Платону наиболее опасным и в Смутное время, когда Лжедмитрий переписывался с «дядей антихристовым», как называет Платон вслед за летописцами Папу Рим5 6 Там же. С. 32. Там же. С. 296. 163 ского, «обещая, став царем с помощью его, всю Россию привести в латинскую веру» 7. Платон полагает, что легкость, с которой Гришка Отрепьев перешел в «латинскую веру», имела своим основанием его иностранное, возможно польское, происхождение. Он пишет: «Каждый день при столе его играла музыка, и никогда не ходил в баню, что по тогдашнему времени не иначе могло признаваемо быть, как что он не нашей природы и не русский» 8. Митрополит Платон отмечает, что отличительной чертой российской истории было то, что все «церковные дела с государственными соединены неразделимым союзом» 9. Поэтому церковная история в его изложении предстает как история государственной идеологии, а порой как история ее оправдания. Платон был одним из первых православных мыслителей, пытавшихся сформулировать концепцию изложения истории церкви, дать оценку исторических событий с точки зрения важности именно для такого угла зрения, увидеть закономерности церковного и религиозного развития. Не его вина, что он написал еще один вариант «гражданской истории». Сочинение Платона лишний раз подтвердило неразделимость православного и государственного. Этим оно и интересно современным исследователям. Некоторой особенностью изложения Платона является очень замаскированное сожаление о резком характере петровских преобразований. Платон осторожно намекает на то, что XVIII век был слишком «крутым поворотом» в исторической эволюции России, что имело даже символическое выражение. «Осмнадцатый век, — пишет он, — начало свое в России восприял тем, что отменено числить Новый год с 1 го сентября, а особое празднество, бывшее в тот день, оставлено, а повелено числить с 1 го генваря, что по Божиим сокровенным судьбам было как бы некоторым предзнаменованием, что в восемнадцатом веке течение всяких в России дел и вещей восприимет вид новый» 10. Сам Платон предпочел бы путь неспешной эволюции в сторону просвещения, который предлагал царь Федор Алексеевич: «От сего благоразумного государя все просвещение и поправление происходило не вдруг, но помалу и с соображением свойства народа, что все было бы еще тверже и надежнее, яко 7 Там же. Т. 2. М., 1823. С. 130. Там же. С. 157. Там же. С. 231. 10 Там же. С. 279. 8 9 164 основывал то на благочестии и утверждал своим благочестивым примером. Но сего благополучия нас непостижимая судьба Божия не удостоила» 11. Следует отметить, что личность царя Федора Алексеевича (1676–1682) и его программа политических и культурных реформ очень мало освещена в российской историографии. Тем менее она осмыслена в историософской литературе. В галерее исторических портретов царствующих особ он явно теряется на фоне таких колоритных характеров, как Алексей Михайлович, Софья и харизматический Петр I. Именно они кажутся «ключевыми» фигурами эпохи, творцами истории. Тем более любопытно узнать, что именно этот царь упразднил местничество, реформировал налоговую систему, местное самоуправление, структуру законодательной, судебной и исполнительной власти, начал создание Академии наук и даже ввел моду на европейскую одежду 12. Как пишет А. П. Богданов, «краткое правление юного и болезненного Федора Алексеевича богаче деяниями, чем вся первая половина царствования Петра I» 13. Высоко оценивал роль Федора Алексеевича А. П. Сумароков. В историческом сочинении «Первый и главный стрелецкий бунт, бывший в Москве в 1682 г. в месяце майи» он характеризует этого царя, откровенно противопоставляя его современным властителям и их фаворитам. «Царь Федор Алексеевич, — пишет он, — сидя на престоле российских государей, преодолевая препятствия слабого своего здравия, царствовал, умножая ежедневно благоденствие своего отечества, не имев ни жестокосердия, заглаждающего и самые великие дела монархов, ни мягкосердия, отклоняющего скипетр от правосудия… Был хранитель правосудия, любитель наук, покровитель бедных, решитель перепутанных тяжеб, истребитель разорительной одежды…искоренитель местничества… облегчитель народных тягостей и уменьшитель дороговизны… украситель красноречия цветами, из российского языка рожденными… [а это для Сумарокова важнейшее из достоинств! — Т. А.]» 14. Сумароков откровенно заявляет: «Бредят люди, проповедывающие, что мы до времени Петра Великого варвары, или, паче, скоты были; предки наши 11 Там же. С. 259. Б о г д а н о в А. П. Царь Федор Алексеевич: философ на троне// Философский век: Альманах. Вып. 2. СПб., 1997. С. 83–98. 13 Там же. С. 85. 14 С у м а р о к о в . А. П. Первый и главный стрелецкий бунт, бывший в Москве в 1682 г. в месяце майи. СПб., 1768. С. 7–8. 12 165 были не хуже нас; а сей последний царь в нашей древности был достойный брат Петру Великому» 15. Характерно сближение в данном случае позиций светского и церковного историков, каждый из которых в своей среде не отличался ни консерватизмом, ни, тем более, не тяготел к архаизму. Разумеется, к сочинению митрополита Платона или поэта Сумарокова не стоит обращаться в поисках новых фактов или исторических методологий. В строгом смысле слова это не «исследования историков», а «сочинения о истории». И все же интерес представляет расстановка акцентов, интерпретация знаменитых событий, использование сложившихся стереотипов, т. е. то, что можно отнести к историческому сознанию или философскому осознанию истории. 15 Там же. С. 10. 166 «ЕКАТЕРИНИНСКОЕ ВРЕМЯ» КАК «ФИЛОСОФСКИЙ ВЕК», ИЛИ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОСОФСКОЙ ПЕРСОНОЛОГИИ В соответствии с неписаной традицией XVIII век, а точнее, его вторую половину принято называть «философским веком». И действительно, эпитет «философский» сопровождает различные явления духовной жизни этого времени. Многообразные смыслы понятия «философия» выходили далеко за рамки ее строгого определения, да и само понимание философии позволяло рассматривать ее предельно широко, фактически отождествляя с умозрением. Однако и в «широком», и в «узком» смыслах философия рассматривалась как «царица наук» или метаучение, формирующее универсальный метод познания. Аллегорические изображения рисовали ее восседающей на троне, с символами света, с открытой книгой в руках, а иногда с короной на голове. В эпоху Просвещения универсальное знание, а тем более владение им имело чрезвычайно высокий статус, поэтому входило в систему «социальных добродетелей», обязательных для высшего сословия. Царственный образ философии гармонично сочетался с интеллектуальной харизмой просвещенных монархов, первой среди 167 которых была, конечно, Екатерина Великая. В годы ее правления особенно ярко проявился дух «философского века», а пропаганда просвещения в это время была возведена в статус государственной идеологии. Соединение «просвещенности» и «власти» было подчеркнуто почетным наименованием «Премудрой Матери Отечества», присвоенным Екатерине Уложенной комиссией и подчеркивающим метафизическое соответствие ее правления с правлением Петра — «Премудрым Отцом Отечества». Годы правления Екатерины II (1762–1796) не просто хронологически «совпадали» с эпохой Просвещения, они были связаны с особым типом политического режима — «просвещенной монархией», которая способствовала реализации идеалов, включавших в систему идеологических ценностей не только Силу, но Разум и даже Чувства. Сакральный образ Монарха секуляризовался, трансформировавшись в «государя-философа», что позволило последнему иметь узнаваемые личностные черты. И действительно, Екатерина II воплотила в себе яркие и противоречивые качества человека эпохи Просвещения, став ее своеобразным символом. Обращаясь к этой личности, мы видим за ней целую эпоху со своеобразным этосом, мировоззрением, традициями, культурой, а главное — особыми, ни на кого не похожими людьми. Жизнь человека, столь значительного и столь многогранного, как Екатерина Великая, не может быть объектом лишь биографического исследования. Она не только олицетворяет собой важнейшую эпоху российской политической и интеллектуальной истории, но сама ее творит. Центр, структурирующий исследовательское поле, обозначающий пересечение силовых линий смыслов может пребывать и в идейной, и в личностной сфере, а также в пространстве межличностных коммуникаций, в особенности, если речь идет об эпохе Просвещения, для которой характерна персонификация теоретической проблематики. При этом роль личности, становящейся центром идейных новаций заключается не столько в продуцировании этих идей, сколько в провоцировании их появления, иными словами, это роль не композитора, пишущего музыку, не исполнителя, извлекающего из своего инструмента мелодию, но дирижера, воплощающего замысел в акте объединения творческих и исполнительских установок в социальном действе. Личность императрицы может служить объединяющим началом, интегрирует различные подходы, взгляды, исследовательские мето- 168 ды специалистов, работающих в разных областях. Эта позиция помогает представить социальный Космос антропоцентричным, она помещает в центр мироздания Человека, который становится героем исторических событий и мерилом их оценки. В своих «Записках» императрица как положительное качество отмечала в себе «философское расположение ума», проявившееся в ранней юности. Это выражалось в том, что она «покупала себе книг; и в 15 лет вела уединенную жизнь, и была довольно углублена в себя» 1. В юности Екатерина составила небольшую автобиографическую записку, назвав ее «Изображение Философа в 15 лет». Философская литература формировала ее вкус и мировоззрение. «...Мне подвернулись под руку сочинения Вольтера, и после них я стала разборчивее в моем чтении», 2 — пишет она. Екатерина делает философов не только своими учителями, но собеседниками и корреспондентами. Она переписывается с виднейшими интеллектуалами Европы — Д. Дидро, Вольтером, Ж. Д’Аламбером, М. Гриммом и др., причем эта переписка носит «философический» характер, что отражено в названии публикаций. И действительно, для нее имеет большое значение мнение философских авторитетов. Когда Д’Аламбер просил ее об освобождении французских пленных, он заклинал ее «именем Философов и Философии», о чем она пишет Вольтеру 3. Представление о философствовании и философском складе ума тесно соприкасалось с представлениями о политических свободах. Так, Екатерина пишет И.-Г. Циммерману: «Я уважала философию, потому что в душе моей была всегда отменною республиканкою» 4. Та оценка, которую дает Екатерина философии и та высокая социальная планка, на которую были подняты занятия философией в ее царствование, не могли не спровоцировать дополнительного интереса к философии. Следует отметить, что это не была та философия, которая преподавалась в высших учебных заведениях, как церковных, так и светских. Это была «философия как образ жизни», предполагавшая не только иную проблематику, но и иного субъекта философствования. 1 Е к а т е р и н а II. Записки императрицы Екатерины II. М., 1990. С. 20. Там же. С. 108. 3 Ф и л о с о ф и ч е с к а я и политическая переписка Екатерины Вторыя с г. Вольтером... М., 1802. С. 137. 4 Ф и л о с о ф и ч е с к а я и политическая переписка Екатерины II с Доктором Циммерманом. СПб., 1803. С. 149. 2 169 Вероятно, наиболее адекватная характеристика Екатерины II, далекая от льстивого панегиризма, «классового» неприятия или ханжеского осуждения, принадлежит ей самой. В письме к доктору Циммерману от 29 января 1789 г. она пишет: «Мой век напрасно меня боялся; я никогда не хотела кого-либо пугать, а желала быть любимою и почитаемою, естьли того стою, и больше ничего. Всегда я думала, что все клеветы на меня происходят от того, что меня не понимали. Я знала весьма многих людей, кои были гораздо меня умнее; но никогда ни против кого не имела злобы и никому не завидовала. Мое желание и удовольствие состояло в том, чтобы делать всех счастливыми; но как всякий хочет быть счастлив по своим способностям, то желания мои часто находили в том препятствия, в коих я ничего не понимала. Конечно, не было злости в моем славолюбии, но может быть, что я слишком много предпринимала, полагая, что люди способны сделаться рассудительными, справедливыми и счастливыми. Род человеческий вообще наклонен к безрассудству и несправедливости, с коими никак не можно быть счастливым. Естьли бы он слушался рассудка и справедливости, тогда бы и в нас нужды не было; что же касается до счастия, то всякой, так как я выше сказала, понимает его по-своему…» 5 В историко-философской науке существуют различные методологические подходы, позволяющие выявить закономерности и особенности общественного развития, от пресловутого «формационного», обращенного к социально-экономическим «основаниям», до «эстетико-художественного», ориентирующегося на «вершины» стилистического своеобразия в развитии искусства. Каждый из этих подходов, позволяющий увидеть эпоху под определенным углом, тем не менее не дает общего впечатления, ибо историческое целое всегда противоречиво, непоследовательно, нерационально, как и сама жизнь. Обращение к прошлому через призму личности позволяет сохранить определенную цельность и гуманистический, характер такого восприятия, когда познающий субъект не расчленяет свою эпистемологическую природу, пытаясь увидеть в прошлом действие одной силы — божественной, природной, экономической, классовой или какой-либо иной, не объясняет исторические события однозначно и одномерно, но обозначает полифонизм и сложность проблем, для решения которых необходимы не только совре- 5 Там же. С.146–147. 170 менные методы исторического исследования, но и объединение специалистов различных направлений. Екатерина II когда-то сочинила для себя надгробную надпись следующего содержания: «Здесь лежит Екатерина Вторая, родившаяся в Штетине 21 апреля (2 мая) 1729 года. Она прибыла в Россию в 1744 г. чтобы выйти замуж за Петра III. Четырнадцати лет от роду она возымела тройное намерение — понравится своему мужу, Елизавете и народу. Она ничего не забывала, чтобы успеть в этом. В течении 18 лет скуки и уединения она поневоле прочла много книг. Вступив на российский престол, она желала добра и старалась доставить своим подданным счастье, свободу и собственность. Она легко прощала и не питала ни к кому ненависти. Пощадливая, обходительная, от природы веселонравная, с душой республиканской и с добрым сердцем, она имела друзей. Работа ей давалась легко, она любила искусства и быть на людях…» 6 В данной автоэпитафии нет метафизического трагизма, как не было его в этой многогранной и противоречивой личности, символизирующей для нас многогранную, сложную, но необычайно интересную эпоху российской истории. Императрица была творческой личностью и оставила довольно объемное литературное и публицистическое наследие, среди которого выделяются сочинения общественно-политического характера. Историософия Екатерины органично переходит в социальную утопию. Утопические проекты являются необходимым компонентом социальной философии, составляя область умозрительных и гипотетических предположений. Их принципиальная нереализованность связана прежде всего с попыткой представить себе сложный общественный механизм идеально, как нечто поддающееся выражению в едином акте мышления или описания. В зависимости от типа рациональности, свойственного эпохе, они могут выражаться в виде мифологических представлений («золотой век»), теологических конструкций («град Божий»), социально-политических построений или технико-технологических проектов. Если мифологический утопизм присущ Древнему миру, теологический — Средним векам, а технический Новейшему времени с его промышленными революциями, то эпоха Просвещения неразрывно связана с утопизмом социально-политическим. Политическая ориентированность социальной утопии ставила на первое место общественное и государственное устройство. Обще6 Цит. по: Б р и к н е р А. Г. История Екатерины Второй: В 3 т. Т.3. М., 1996. С. 226. 171 ство — это прежде всего связь между людьми. От характера, направленности, силы и постоянства этой связи зависит в конечном счете способ государственного устройства, тип политического режима, его стабильность. Сами же эти связи формируются людьми в соответствии с их моральными и мировоззренческими установками. Поэтому главное направление социального конструирования виделось в создании совершенного, разумного законодательства и воздействии на поведение человека с помощью воспитания. При этом никто не считал, что должна быть изменена натура человека, его естество. Оно-то как раз и является результатом Божественного творения, а потому изначально совершенно. Следует лишь использовать положительные задатки для моделирования социального поведения, вплоть до формирования новых социальных групп с предзаданными качествами. Кажущаяся легкость реализации такого рода проектов, вера в торжество разума и добродетели, характерная для эпохи Просвещения, сделали это время эпохой торжества утопизма в социальной теории. В России своеобразный «всплеск» социального утопизма приходится на последнюю треть XVIII в. и совпадает с годами правления Екатерины. Утопии выражаются не только в «классической» форме «путешествия в неведомую страну», как в сочинениях В. А. Левшина, А. П. Сумарокова, М. М. Щербатова и др., а в самых разнообразных формах и жанрах. Это «политические романы» П. М. Захарьина, М. М. Хераскова, Ф. А. Эмина, анонимные «восточные повести», поэзия Г. Р. Державина, В. К. Тредиаковского, архитектурные проекты Кремлевского дворца В. И. Баженова, уподобленные Н. М. Карамзиным утопическим республикам Платона и Т. Мора, научные трактаты Я. П. Козельского, живописные полотна, исторические сочинения, правительственные манифесты и государственные акты, публицистика, программы масонских обществ. Безусловно, такая ситуация провоцировалась как интеллектуальной атмосферой, созданной и постоянно поддерживающейся Екатериной в обществе, так и отчетливо выраженном уже в первом манифесте, сопровождавшем ее вступление на престол в 1762 г., желанием возвести народ на «высшую степень благосостояния». Екатерина вошла в систему мифологизированного социальнополитического пантеона под именем Минервы. Этот своеобразный титул был заявлен во время ее коронации, сопровождающейся символическим действом — театрализованным представлением «Тор- 172 жествующая Минерва», состоявшегося летом 1762 г. на улицах Москвы и обозначающем не просто начала нового царствования, но новый, просвещенный, а потому «совершенный» тип правления. Торжество Минервы— это торжество добродетели над пороками, благополучия над прозябанием, но прежде всего знания над невежеством. Не случайно одним из центральных символов маскарада была Астрея — богиня справедливости, дочь Зевса и Фемиды, управляющая миром во время золотого века. Мифологема «золотого века», с которым сравнивалось время правления Екатерины, была чрезвычайно распространена в то время. Она воспроизводилась в разных формах и видах — изобразительных, поэтических, риторических, теоретических и т. д., являя собой как бы узаконенный идеологический архетип социального устройства. Можно вспомнить достаточно характерное название исторического исследования Федора Эмина «Российская история жизни всех древних от самого начала государей все великия и вечной достойныя памяти ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО действия, его наследниц и наследников ему последование и описание в Севере ЗЛАТАГО ВЕКА во время царствования ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ в себе заключающая» (СПб, 1767–1769). Именно этот образ определил ориентацию на некоторую идеализацию реальности, подгонку ее под идеальный образец, что породило позже феномен «потемкинских деревень», описание Российской жизни в «Антидоте» или знаменитую курицу в крестьянской похлебке, о которой писала Екатерина Вольтеру. Вероятно, Екатерина полагала, что имеет моральное право принимать желательное за действительное, ибо в своей внутренней политике она предприняла ряд шагов именно в сторону «царства Астреи». По ее инициативе Вольное Экономическое общество в 1766 г. провело конкурс на лучший проект освобождения крестьян, а через год, в 1767 г. был опубликован «Наказ», обращенный к Комиссии по составлению Нового уложения, содержащий разумные, основанные на последних достижениях политической мысли, непротиворечивые, но крайне абстрактные (а потому утопические) принципы организации государственной власти. Традиции изучения «Наказа», идущие от М. М. Щербатова, обычно ориентированы на исчерпывающее выявление и тщательное исчисление источников, которыми пользовалась Екатерина. Демонстрируя книжную эрудицию, исследователи часто не принимали во внимание исторического значения этого памятника право-полити- 173 ческой мысли. Абстрагируясь от выяснения того, кто первый сформулировал политические архетипы, легшие в основания философии права Екатерины II — Монтескье, Беккариа, Юсти или Зонненфельс, следует отметить, что этот текст является не столько компиляцией, сколько творческим развитием популярных в XVIII в. идей и применением их к российской действительности. Ориентация программного документа, составленного главой крупнейшей империи, на идеологию ведущих европейских мыслителей сделала его появление значимым не только для практики политических преобразований (для которой он собственно и не предназначался) для теории социально-политической мысли как уникальная форма выражения утопизма в виде государственно-правового документа. Значимость «Наказа» для практической философии была отмечена избранием императрицы членом Берлинской Академии наук и высокой оценкой этого документа еще одним просвещенным монархом — Фридрихом II, а также запрещением во Франции сразу после опубликования по распоряжению министра Шуазеля. Характерно, что запрещению подверглась именно екатерининская «компиляция», в то время как сочинения, послужившие его источниками, такая участь не постигла. В «Наказе» Екатерина пытается определить «естественное» право-политическое состояние России, соответствующее природному, моральному и культурному уровню народа. Она полагает, что новое законодательство должно соответствовать традиционному ходу вещей, иными словами, «законы» должны органически вытекать из устоявшихся «нравов», соответствовать вере и национальному характеру. Интересно, что программные заявления Екатерины во многом соответствовали законам, действующим в утопическом государстве, описанном М. М. Щербатовым в «Путешествии в землю Офирскую». М. М. Щербатов был внимательным и весьма критически настроенным читателем «Наказа», кроме того, он был депутатом уложенной комиссии от ярославского дворянства, а потому обсуждал сюжеты, связанные с совершенствованием право-политического устройства не только ex cathedra, но и ex populus. Конечно, утопия Щербатова, написанная гораздо позже, суммировавшая и резюмировавшая его представления о государственном устройстве, не могла явным или косвенным образом не отразить его мнения по поводу этого документа. Такой рефлексией стало как описание законодательной власти Офира, так и приведенный в утопии цен- 174 тральный морально-правовой документ «Катехизм нравственный Офирской империи». Щербатов ревниво следил за законодательными актами, выходящими из-под пера императрицы, противопоставляя им свои соображения в статьях, которые как бы «улучшали» и «совершенствовали» государственные документы. В определенном смысле они были спровоцированы деятельностью императрицы, являлись ее своеобразной спекулятивной «тенью», умозрительным «зазеркальем» ее внешней и внутренней политики. Статьи Щербатова не предназначались для печати, они были опубликованы только в начале XX столетия, пребывая «скрытыми в фамилии» на протяжении полутора веков. Если правовые документы Екатерины и Щербатова находятся как бы по разные стороны «исправляющего» и «совершенствующего» зеркала, то там, где императрица обращается к метафорикоаллегорическим формам выражения, мы не видим такого противопоставления. Достаточно сравнить сочинение Екатерины «Сказка о царевиче Хлоре» с неопубликованной аллегорией М. М. Щербатова «Путешествие в страны истинных наук и тщетного учения», хранящейся ныне в Отделе письменных источников Государственного Исторического музея в Москве. В обоих произведениях показан тернистый путь к добродетели, который преодолевает герой. В них подчеркнуто, что дорога к ней может быть только прямой. Проводником на этом пути становится Рассудок, посланный на помощь центральной женской героиней обеих повестей — царицей Страны истинных наук (Щербатов) или царевной Фелицей, матерью Рассудка (Екатерина). Положительные герои обеих аллегорий одеты в одинаковое белое платье. И в том, и в другом сочинении описаны опасности, подстерегающие путников, если они уклонятся от истинного пути — лень, пороки, «развлечения» и т. д. Моральнопросветительское совершенствование показано в форме восхождения, т. е. пространственного передвижения. Оба автора используют укорененные в европейской культуре метафоры. Конечно, близость сочинений Екатерины и Щербатова носит не генетический, а жанровый характер. В этом смысле интересно не столько общность их черт, сколько различие. Интересно, в частности, то, что императрица переносит место действия из мифологического, но явно европейского пространства в Азию — в Киргизию и делает одним из главных действующих лиц себя — под именем Фелица. Это было отмечено Г. Р. Державиным, прославившим годом 175 позже (1782) это имя в знаменитой оде. Екатерина косвенно использует и свой культурный псевдоним Минервы, хотя в аллегории она является скорей «просветительской Венерой», посылающей в мир своего маленького сына и снабжающей его грозным оружием. В отличие от однозначности поучающего дискурса Щербатова, весь аллегорический строй «Сказки о царевиче Хлоре» построен на амбивалентных образах. Тонко чувствующая женщина понимала, что именно розы должны цвести в утопическом парадизе. С центральным символом сказки — розой связано множество культурных значений, которые обогащают образный строй повествования, дополняя его смыслами, находящимися за пределами целей Екатерины, но могущими быть прочитанными в избранном ей образе. Роза — райский цветок, символ чистоты и святости, красные розы — символ крови Иисуса Христа и вместе с тем символ земной любви. С древности роза — символ женственности, цветок Венеры. С Венерой розу связывала и алхимия. Тело богини, покрытое красными розами (красный цвет — цвет философского камня), указывает на ее близкую золотоносную трансмутацию. Эзотерическая традиция связывала розу и крест, что отразилось в названии тайного общества розенкрейцеров, и что, возможно, сделало позже розу символом партии социалистов. Еще одно значение розы связано с тайной. Изображение розы над столом или на бокале означало призыв сохранить в тайне то, что говорилось «под розой» («sub rosa», «unter der rosen»). Уточняющее определение, данное Екатериной — «роза без шипов», направляет нас к христианской традиции. «Rosa sine spina» — «роза без шипов» — так называл Деву Марию серафический доктор Бонавентура, прибавляя это определение к известным «rosa delicata», «rosa spatiosa», «la grande rose», etc. Однако, скорее всего, данный образ возник у Екатерины не через изучение символологии этого понятия, а как оппозиция известной французской пословице «Il n’y a pas de roses sans épines» («Нет розы без шипов»). В отличие от «Путешествия» Щербатова — отстраненного от современности условным пространством и условным временем, события сказки происходят в реальном пространстве, одной из частей Российской империи и связаны с реальными персонажами — самой Екатериной (Фелица), ее внуком Александром (царевич Хлор), его наставником Н. И. Салтыковым (воспитатель юношей, открывшим Хлору истинное значение того, что он искал). Более того, Екатери- 176 на смогла воссоздать утопическое пространство, в котором совершалось действие в виде прекрасной усадьбы — Александровой дачи недалеко от Павловска, построенной по проекту Н. А. Львова и воссоздающей топографию сказки. В настоящее время из всех построек сохранилась лишь руина «Храма Флоры и Помоны». Именно возможностью, хотя бы отчасти, реализовать свои теоретические построения и отличаются утопические миры Екатерины от построений Щербатова или других утопистов того времени. Если для Щербатова его утопические проекты являются своеобразной «сублимацией» практической деятельности — он пишет «в стол», потому что не может реализовать свои идеи, то для Екатерины дело обстоит совершенно иначе. Более того, ее самоидентификация связана с утопическими образами «философа на троне», «идеального государя». Не случайно в 1767–1768 гг. она организует перевод и издание знаменитого романа Мармонтеля «Велизарий», который был запрещен во Франции после того, как против него выступил с пастырским посланием парижский архиепископ. Екатерина разделила главы романа для перевода между придворными, причем сама взялась переводить наиболее «теоретическую» IX главу, посвященную описанию идеального способа правления, основанного на «здравом рассуждении», «чистом уме» и «добром сердце». В определенном смысле она и являла собой идеального субъекта утопической деятельности, ибо совмещала «просвещенность» и «власть». Это была уникальная ситуация, обеспечивающая особый тип политического режима — «просвещенную монархию», требующую не только определенных историко-культурных обстоятельств, но и наличие личности, наделенной определенными качествами. Правда, императрица была далека от стремления буквального и немедленного воплощения проектов, даже тех, реализация которых сулила значительные позитивные изменения. Обладание реальной властью давало ей понимание того, как далеки результаты от первоначальных замыслов, а потому удерживало от радикальных и необратимых решений. Единственная сфера, в которой она позволила себе последовательную (хотя и осторожную) реализацию своих взглядов, была сфера педагогики. Наиболее ярко утопические тенденции проявились в создании Императорского воспитательного общества благородных девиц (Смольного института), где в условии тотальной изоляции от всех вредных влияний (в том числе и собст- 177 венных родителей) воспитывались будущие «идеальные» невесты, жены и матери семейств. Екатерина полагала, что именно воспитание лежит в основании совершенствования общества. С помощью воспитательных институтов можно не только создать «идеального человека» и «идеального гражданина», но даже и «идеального правителя». Она уделяет самое тщательное внимание воспитанию своих внуков, прежде всего старших, тех, с которыми связывала будущее процветание России и утопический Греческий проект — Александра и Константина. Основные положения системы их воспитания она сформулирует в «Инструкции князю Николаю Ивановичу Салтыкову при назначению его к воспитанию Великих князей». Интересно, что этот документ очень близок по идейному содержанию тому, на основании которого происходило воспитание царских наследников в утопическом государстве Щербатова, что свидетельствует, конечно, не о их взаимовлиянии, а о пребывании авторов в одних и тех же пространствах утопической мысли. Таким образом, трезвость во взгляде на соотношение умозрительного проектирования и реального воплощения не вывели Екатерину за пределы утопических парадигм. Если для ее сочинений и нехарактерен жанр «литературной утопии», то утопическое умонастроение пронизывало не только все направления ее творчества или политической деятельности, но и способствовало созданию особой интеллектуальной и эмоциональной атмосферы, предполагавшей гордость за «славное прошлое», ответственность за настоящее и веру в «светлое будущее». 178 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Р оссийская история переписывалась не один раз. Герои становились врагами, победы трактовались как поражения, и наоборот. Время от времени историки принимались закрашивать «белые пятна» или заполнять «черные дыры», которые «вдруг» обнаруживались в пестрой ткани исторического процесса. Обыденное сознание, зафиксировав этот факт, видело здесь исключительно идеологическую диктатуру правящих структур. Однако анализ историографии показывает, что российская Клио неоднократно меняла свои одежды, следуя очередной идеологической «моде». Вместе с тем, несмотря на многообразие подходов и порой взаимоисключающий характер выводов, историческое сознание всегда хранило некий набор устойчивых базисных позиций, которые не обсуждались и не оспаривались. Разумеется, они далеко не всегда (а некоторые — и вовсе никогда) выражались в явной, отрефлексированной форме, хотя пребывали в основании теоретических построений и исследовательских стратегиях. Историософские архетипы заключались в следующих положениях: • Россия является «европейской страной», поэтому описание и осмысление происходящих в ней событий следует соотносить с историей Западной Европы 179 • История России — это прежде всего «история государства» (абсолютистского, «народного», советского и т. п.), а не «история народа» • История России предполагает некую первоначальную «точку отсчета», «начало». Таким «началом» чаще всего являлась смена политического режима и связанные с этим изменения в обществе и государстве • Пройдя эту «точку отсчета», Россия утрачивает (порывает) связи с предшествующим и начинает формирование всех своих государственных институтов «с начала». Она становится «иной» — «молодой» или «новой», а отсчет исторического времени начинается сначала • Для России прошлое и настоящее — это лишь приготовление к «славному будущему». Поэтому имеет смысл выявлять в истории только те процессы и явления, которые это будущее детерминирует. Таким образом, утопическое является предпосылкой исторического. • Россия имеет особую духовную миссию, ей предназначено особое (исключительное) место в мировой истории. Эти архетипические установки были сформулированы историками эпохи Просвещения в период становления нового исторического знания. Особенно яркую форму это приняло во второй половине XVIII в., которая стала поистине эпохой исторического фундаментализма. Это было время перехода от летописи к истории, концептуализации исторического повествования, создания архетипических конструкций и теоретического обоснования базиса социальной мифологии. Парадигмы, сформулированные тогда, используются и в настоящее время, что может искажать адекватное понимание современных социальных и духовных процессов и исторических прогнозов. Вот почему данный этап формирования исторического знания является не просто чрезвычайно важным, но в определенном смысле «ключевым». ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ И КОММЕНТАРИИ 183 А. И. Манкиев Манкиев Алексей Ильич (?–1723). Русский дипломат. Служил секретарем посольства в Швеции князя А. Я. Хилкова (1700–1718), с которым пробыл в шведском плену 18 лет. После возвращения в Россию был переводчиком Коллегии иностранных дел. В 1721 г. участвовал в заключении Ништадского мира, в 1722–1723 гг. в установлении российско-шведской границы. Во время пребывания в Швеции в 1715 г. написал сочинение «Ядро российской истории», которое впервые было опубликовано только в 1770, а затем переиздавалось в 1784, 1791, 1799 г. Первый публикатор «Ядра…» историк Г.-Ф. Миллер приписал авторство непосредственному начальнику Манкиева князю А. Я. Хилкову, под чьим именем и осуществлялись эти издания. По своему теоретическому значению для понимания российской истории находится на более высоком уровне, чем «Синопсис» Иннокентия Гизеля. В отличие от последнего, использовавшего преимущественно иностранные, иногда искаженные источники, Манкиев ориентируется на русские летописи. Сочинение Манкиева отличают обстоятельность, рациональное и критическое отношение к источникам, попытки аналитической интерпретации описываемых событий. Библейская генеалогия, которой он следует, свидетельствует скорее о попытке рациональной интерпретации «Священной истории», нежели мифологизации «истории российской». Особенностью «Ядра российской истории», отличающего его от большинства фундаментальных исторических сочинений XVIII в., является то, что оно вплотную приближено к современности и доведено до 1712 г. Это позволило историческому сочинению Манкиева долгое время оставаться, по выражению С. М. Соловьева, «самым полным руководством к изучению русской истории». 184 ЯДРО РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ∗ Книга I Глава I. О произведении народа русского Что Бог всемогущий мир весь и человека Адама, от которого произошли все народы, даже доныне под солнцем обретающиеся, из ничего своим только всесильным словом создал, то мы все христоименитые люди из Святого писания, как Ветхого, так и Нового завета, веденей благоразумных источника и правителя, а особно из книг Моисеевых первых знаем и верим, но не думаю, чтоб кто толь мало в христианстве был наказан, дабы того не наслышался или из тех же Моисеевых книг не начитался. А как от Адама и его сыновей Каина и Сифа. Зане, средний сих брат от Каина, из зависти убит, плод и семя велось даже до времен и жития патриарха Ноя, то всяк довольно из Библии вычерпать, и что за грешное бытие наследия и семени Каинова Бог на сей мир или свет попустил первую казнь свою [зане Бог Адаму обещал мир за скверное бытие казнить двумя вещьми: водою и огнем, си есть: потопом и Страшным огненным судом] и послал всемирный потоп в лето от создания мира 1557, апреля в 17 день, уведать может, но дабы все семя Адамово, а особно пошедшее от сына его Сифа, весьма не выкоренилось чрез потоп, изволил Бог свой яростный на человечий грешный род совет открыть Ноеви, и для взбережения и пробавления наследия Сифова, скотов и зверей земных и птиц, велел Ноеви строить великий ковчег, в котором бы люди, звери и птицы, по повелению Божию от Ноя туда введенные, спаслись от потопа. Потом как со всеми теми животными Ноев ковчег убравшись затворился, Бог праведным своим судом наводнил всю землю так, что вода все высочайшие горы покрыла, и от того потопа, который тогда по всему лицу земному, как некоторые рассуждают, 150 дней в равной мере воды стоял, всяк человек, звери, скоты и птицы померли, кроме тех, которые с Ноем заперты были в ковчеге<…> От сих трех сыновей Ноевых — Сима, Хама и Яфета — народ в великое и неиссчетное число умножился, Ное, взяв с собою сынов и множество людей, пошел к морю Средиземному и, пересмотрев все того моря берега и показав селение трех мира частей, землю множеству такому разделить умыслил. Итак, первому сыну своему, Симу, Азию всю большую от Нила ∗ Воспроизводится по изданию: [А. И. М а н к и е в ]. Ядро российской истории. М., 1770. 185 реки даже до восточных Индии концов стяжание дал. Другому сыну, Хаму, Африку со всеми странами от реки Нила даже до теснот Кадикских, или Гибралтарских, и Океана поддал. Третьему, Яфету, меньшему сыну, всю Европу от Гадес или Кадикса, сие есть последних Гишпании пределов к западу и даже до реки Дона и северных Азии Европейской частей с меньшою Азией и островами Междуземного моря [дал] <…>. Как в провинции мир или свет весь разделен стал, всякая семья к нареченному себе уделу идти готовилась, и как от гор Армянских, или Араратских, где ковчег по потопе осел, пошли, обрели страну между реками Ефратом и тигром, которую называли Синар, равную и всякого рода сластьми изобилующую, которой веселостию уловлены, там замешкались, но как излишним людей множеством и умноженными [зане тогда каждая жена двойни рожала и дети прежде родителей не умирали] детьми место наполнилось и надобно было, чтоб друг от друга разделились, за великое и дерзновенное дело принялись, сие есть: начали строить по приводительству Немврода, который там тогда мучительствовать и царствовать начал, столп и город, которого бы дела пространство по всем пределам земным у наследников их хвалимо было. Итак, пропустив славить Бога и славу свою и имя бессмертное злочестивыми делами распространить тщавшись, столп некий высоты дивной, который бы даже до неба достал на том месте в году 131 по потопе строить начали. Для того Бог тою их дерзостию и буйством к праведной ярости позван, язык и речь, которая тогда проста и одна была у всех: сие есть еврейская, в различные рассеял свойства, так что как всех языки смесились, один другого разуметь не мог. Напоследок такой нуждой принуждены к уреченным себе от Ноя странами с семьями своими пошли. Из тех новосмешанных языков начальственные были: первый язык еврейский и халдейский, потом скифский или татарский, так же египетский, ефиопский и индийский, потом греческий, латинский, славенский, напоследок немецкий от Туискона и прочие языки, иные от иных народных вождей, а от которого сына и внука Ноева, которые народы пошли, последует. У первого сына Ноева, Сима, было пять сынов, от которых пошли народы: от первого Елама Симовича пошли еламиты и персы; от второго Ассура — ассирияне; от третьего Арама — сирияне и дамаскиняне; от четвертого Арфаксада — халдеи и евреи; от пятого Люда — народи лидийские в Азии. Хам, средний сын Ноев, имел два сына: первый — Хуз, от которого пошел народ ефиопский и прочие африканские народы, поселившиеся около верховья реки Нила; Мисраим, второй сын Хамов, от которого пошли египтяне, жившие около устья реки Нила, и проч. 186 У Яфета было седмь сынов, которых имена: Гомер, от него кимвриане; Магог, от него готфы, или готы и шведы; Мадаин, от него мидяне; Яван, или Ионан, от него греки и ионии; Фовел, от него халивияне в Малой Азии, которая нынче Натолия называется. От сих же пошли ивериане и прочие славные народы. Мосох, или Месех, был патриарх и родоначальник народов московских, руских, польских, волынских, ческих, мазоветских, болгарских, сербских, кроатских и проч., всех, которые обще славенский язык употребляют. Фирас, родоначальник фракийского народа, которая земля Фракия называется, не далече от Константинополя, ныне под турком. Посему нам явственно и несомнительно познать можно, что народ руской начаток свой производит от Мосоха Яфетовича, шестого сына Яфетова, внука Ноева <…> Здесь видишь, читателю благоволительный, кроткий, а явственный довод произведения народа русского, который начало свое ведет непрерывным порядком от Мосоха человека, а не от притворных богов, как греки, персы и проч. римляне от пастырей, от разбойников и беглецов в великую силу выросши, стыдились простого своего начатка и для того притворились, будто их народ от Ромула, сына бога войны Марса и черницы Реги Сильвии, произошел, который Ромулус с братом своим Ремом будто от волчицы воспитаны. Египтяне сказывают, будто они сами из земли родились. Англичане и шкоты, от лживой Альвины, царевны сирийской, рода своего умножение произодят, такожде и от Энея Троянского. Французы от сикамвров, венгры от Магера или Магора и Гуннора, сынов Немврода Вавилонского, хотя по истине от реки Угры из русского государства и княжества Югоры произошли. Шлейзчане, подданные польские бывшие, а ныне кесарские подданные — от райских огородов. А наши русские, славяне и прочие народы сарматские, не летают по поднебесью для произведения предков своих, но истиною своею добродетелью не от богов, но от человека явно свое начало производят. Глава II. О именовании, возвращении, поселении, языке и доблестях народа российского Руские народы сперва не назывались роксоляне, роксане, россияне, или, как нынче, просто руские, но от имени родоначальника своего Мосоха Яфетовича — мосхи, мосохи, месехи, модоки, моссены, мосхоикоики <…> Но по времени сии народы, происшедшие от Мосоха, ради смешения иных народов и порубежности или для различных туда и инде походов и войн, 187 старое свое прозвание пренибрегше, званы и писаны были от князя своего Русса, который от Мосоха произведение свое вел — россианы, роксоляны, роксаны, руфаны, россианы и держава их Россия <…>. <…> Российский народ изстари в великом умножении и силе людей, изобилии и славе был, когда начав от Колхийской страны и протока, текущего из Черного моря в Средиземное море, берега реки Дона, Оки, Волги, Камы, Днепра, Буга, Десны, Днестра, Дуная, даже до Двины и Немна, к западу и на севере овладели, а потом от Хвалынского Черного и Средиземного моря имя, силу и власть свою распространили. От той великой славы сии Мосоховы наследницы, которую себе воинскою храбростию и мужеством заслужили, славянами и славаками прозваны были: от чего и язык, которого, как вышепомянуто, те народы употребляют, славенский называется. Князи такожде и вожди тех народов имели себе имена от славы, как-то: Святослав, Ярослав, Метислав, Мечислав, Судислав, Станислав и прочая <…>. 188 В. Н. Татищев Татищев Василий Никитич (1686–1750). Выдающийся русский государственный деятель и ученый. Окончил в Москве Инженерную и артиллерийскую школу. В 1713–1714 гг. продолжил образование за границей. Участвовал в Северной войне (1700–1721 гг.), выполняя различные военно-дипломатические поручения Петра I. Много сделал для развития сибирской промышленности, «размножения заводов» в этом регионе. Основал город Екатеринбург. Татищев, член петровской Ученой дружины, по своему мироощущению был типичным представителем эпохи Просвещения. Свои мировоззренческие взгляды он выразил в «Разговоре двух приятелей о пользе наук и училищ» (М., 1887). Приступив, по заданию Петра I, к составлению географического описания России, почувствовал потребность в исторических сведениях. Татищев был автором первого обобщающего труда по истории. Рукопись «Истории российской с самых древнейших времен» была предоставлена в Академию наук в 1739 г., однако публикация ее началась только в1768 г. В этой работе Татищев предпринял попытку найти закономерности в развитии общества, выявить причины возникновения государственной власти, зависимость социального прогресса от «умопросвящения». 189 ИСТОРИЯ РОССИЙСКАЯ∗ Предызвещение о истории общественное и собственно о руской I. История есть слово греческое, то самое значит, что у нас деи, или деяния; и хотя некоторые мнят, ежели деи, или деяния единственно дела, учиненные людьми, значит, а приключения естественные или чрезъестественные выключаются, но, внятно рассмотря, всяк познает, что нет никоего приключения, чтоб не могло деянием назваться, ибо ничто само собою и без причины или внешнего действа приключиться не может. Причины же всякому приключению разные, или от Бога или от человек, что здесь, яко довольно сказанное, пространнее толковать оставлю. Но любопытному ко изъяснению сего Физика и Мораль господина Вольфа могут достаточное изъяснение подать. Что же история в себе заключает, то кратко сказать не можно, ибо обстоятельства и намерения писателей разнствуют, яко в обстоятельствах: 1) История сакра или святая, но лучше сказать божественная; 2) Екклезиастика или церковная; 3) Политика или гражданская, но у нас более обыкли именовать светская; 4) Наук и ученых. И прочие некоторые не так знатные. Из сих первая представляет дела божеские, как Моисей и другие пророки и апостолы описали. К тому же принадлежит история натуралис, или естественная, вложенною при сотворении от Бога силою производящаяся. В естественной все приключения в стихиях, яко огне, воздухе, воде и земле, яко же на земли — в животных, растениях и подземностях. В церковной — о догматах, уставах, порядках, пременениях каких-либо обстоятельств в церкви, яко же о ересях, прениях, утверждениях правостей в вере и опровержения неправых еретических или раскольнических мнений и доводов, а к тому чины церковные и порядки в богослужении. В светской весьма много включается, но, единственно сказать, все деяния человеческие, благие и достохвальные или порочные и злые. В четвертой о начале и происхождении разных званий училищ, наук и ученых людей, яко же от них изданных книгах и пр., из которой польза всеобщая происходит. II. О пользе истории не потребно бы толковать, которое всяк видит и ощущать может. Однако ж, как некоторые не обыкли о вещах внятно и подробно рассматривать и рассуждать, многократно от повреждения их ∗ Воспроизводится по изданию: Т а т и щ е в В. Н. История Российская: В 7 т. Т.1. М.; Л., 1962 (Замечания на полях опущены). 190 смысла полезное вредным, а вредное полезным поставляют, следственно, в поступках и делах погрешают, как то мне таких о бесполезности истории не без прискорбности рассуждения слыхать случалось, и для того я за полезно рассудил о том кратко изъяснить. Вначале рассудя то, что история не иное есть, как воспоминовение бывших деяний и приключений добрых и злых, потому все то, что мы пред давним и недавним временем чрез слышание, видение или ощущение искусились и вспоминаем, есть сущая история, которая нас ово от своих собственных, ово от других людей дел учит о добре прилежать, а зла остерегаться. Например, как я вспомню, что я вчера видел рыбака, рыбу ловяща и немалую себе тем пользу приобретша, то я, конечно, имею в мысли некоторое понуждение равномерно о таком же приобретении прилежать; или как я видел вчера татя или другого злодея, осужденному тяжкому наказанию или смерти, то меня, конечно, страх от такого дела, подверженного погибели, удерживать будет. Равномерно все читаемые нами истории так дела древние иногда так чувствительно нам воображаются, как бы мы собственно то видели и ощущали. Посему можно кратко сказать, что никаков человек, ни един стан, промысл, наука, ниже какое-либо правительство, меньше человек единственные без знания оной совершен, мудр и полезен быть не может. Например, о науках взяв. Первая и высшая есть богословия, т. е. знание о Боге, его премудрости, всемощности, еже единственно к будущему блаженству нас ведет и пр. Но не может никакой богослов мудрым назваться, ежели он не знает древних дел Божеских, объявленных нам в письме святом, яко же когда, с кем, о чем в догматах или исповедании прение было, чем что утверждено или опровергнуто, для чего древней церкви некоторые уставы или порядки пременены, отставлены и новые введены. Следственно, им история божественная и церковная, а к тому же и гражданская необходимо нужны, о чем Гуеций, славный французский богослов, достаточно показал. Вторая наука юриспруденция, которая учит благонравию и должности каждого к Богу, к себе самому и другим, следственно, к приобретению спокойности души и тела. Не может никаков юрист мудрым назван быть, если не знает прежних толкований и прений о законах естественном и гражданском. И как может судья право дела судить, если древних и новых законов и причин применениям неизвестен, для того ему нужно историю о законах знать. Третья — медицина, или врачевство, которая в том состоит, чтоб здравие человека сохранить, а утраченное возвратить или по малой мере бо- 191 лезни умножаться не допустить. Сия вся зависит от истории, ибо должно ему от древних знание получить, от чего какая болезнь приключается, какими лекарствы и как пользовано, какое лекарство какую силу и действо имеет, чего собственным испытанием и дознанием никто б ни во сто лет познать не мог, а опыты над больными делать есть такая опасность, что может душею и телом погибнуть, хотя того у некоторых невежд случается. О прочих многих частях филозофии не упоминаю, но кратко можно сказать, что вся филозофия на истории основана и оною подпираема, ибо все, что мы у древних, правые или погрешные и порочные мнения находим, суть истории к нашему знанию и причина ко исправлению. Политика же в трех разных качествах состоит, яко в правительстве внутреннем или економии, рассуждениях внешних и действах воинских. Все сии три не меньше истории требуют и без нее быть совершенны не могут, яко в економическом правительстве нужно знать, какие от чего прежде вреды приключились, каким способом отвращены или уменьшены, какие пользы и через что приобретены и сохранены, по которому о настоящем и будущем мудро рассуждать может. Для сей-то мудрости древние латины короля их Януса с двумя лицами изобразили, понеже о прешедшем обстоятельно знал и о будущем из примеров мудро рассуждал. Иностранных дел правительству необходимо нужно знать не токмо о своем, но и о других государствах, в каком прежде состоянии было, от чего в какую премену пришло и в каком состоянии находится, с кем когда какое прение или войну о чем имело, какими договоры о чем поставлено и утверждено, и потому благоразумно могут в настоящих свои поступки учредить. Военным вождям весьма нужно знать, каким кто устроением или ухищрением великую неприятельскую силу победил, или от победы отвратил и пр. Как то видим, Александр Великий книги Омеровы о войне Троянской в великом почтении имел и от них поучался. Для сего многие великие воеводы дела свои и других описали. Между всеми знатнейший приклад Иулий Цезарь, свои войны описав, оставил, дабы по нем будущие воеводы могли его поступки военные в пример употреблять, о чем многие сухопутные и морские знатные воеводы писанием их дел последовали. Многие великие государи, если не сами, то людей искусных к писанию их дел употребляли, не токмо для того, чтоб их память со славой осталась, но паче для прикладов наследником своим показать прилежали. Что собственно о пользе русской истории принадлежит, то равно как о всех прочих, разуметь должно, и всякому народу и области знание своей собственной истории и географии весьма нуждняе, нежели посторонних. Однако ж должно и то за верно почитать, что без знания иностранных своя 192 не будет ясна и достаточна: 1) что пишущему свою историю в те времена, как и что делалось, все помогающее или препятствующее от посторонних известно быть не могло; 2) писатели за страх некоторые весьма нуждные обстоятельства настоящих времен принуждены умолчать или пременить и другим видом изобразить; 3) по страсти, любви или ненависти весьма иначей, нежели суще делалось описывают, а у посторонних многократно правильнее и достаточнее находится. Как здесь о древности русской, за недостатком тех времен писателей, сия первая часть из иностранных большею частию сочинена, а в прочих частях неясности и недостатки тако ж от иностранных изъяснены и дополнены. И хотя нас европейские истории тем порицают, якобы мы историй древних не имели и о древности своей не знали для того, что они о том, какие мы истории имеем, неизвестны. А хотя некоторые, сочиня выписки краткие, или какое-либо обстоятельство, перевели, то другие, думая, что мы лучше оных не имеем, и для того оную презирают. Сему некоторые наши несведущие согласуют, а некоторые, не хотя в древности потрудиться и не разумея подлинного сказания, якобы для лучшего изъяснения, но паче для потемнения истины басни сложа, внесли и сущую правость сказания древних закрыли, как то о построении Киева, о проповеди Андрея апостола, о строении Новаграда Славеном и пр. Но я еще точно и ясно скажу, что все европейские прославленные историки, сколько бы о русской истории ни трудились, о многих древностях правильно знать и сказать без чтения наших не могут; например, о прославившихся в здешних странах в древности народах<…> Наипаче же нужна сия история не токмо нам, но и всему ученому миру, что чрез нее неприятелей наших, яко польских и других, басни и сущие лжи, к поношению наших предков вымышленные, обличатся и опровергнутся. Сии есть потребность истории. Но что всякому человеку нужно знать, то можно легко уразуметь, что в истории не токмо нравы, поступки и дела, но из того происходящие приключения описуются, яко мудрым, правосудным, милостивым, храбрым, постоянным и верным честь, слава и благополучие, а порочным, несмышленым лихоимцам, скупым, робким, превратным и неверным бесчестие, поношение и оскорбление вечное последуют, из которого всяк обучаться может, чтоб первое, колико возможно приобрести, а другого избежать. Сие токмо о истории, но к тому нужно принадлежащее ко оной обстоятельства знать, бес которых история ясною и внятною быть не может, яко хронология, география и генеалогия. Хронология, или летосказание, есть весьма нужно знать, когда что делалось. География показует положение мест, где что прежде было и ныне есть. Генеалогия, или родословие, государей нужно знать, кто от кого ро- 193 дился, кого детей имел, с кем браками обязан был, из чего можно уразуметь правильные наследства и домогательства. III. О разделении истории по свойствам дел я выше показал, что всякая должна собственное свойство хранить. Однако ж невозможно некоторой, чтоб других не присовокупилось, яко видим Моисей и прочие пророки единственно о делах Божеских и его узаконениях писать прилежали, но по порядку, касающемуся много естественных, гражданских и прочих, миновать не могли. Тако в истории гражданской невозможно иногда обойти надлежащего до божественной, естественной, церковной и пр., ибо без того были бы обстоятельства неполны и неясны. Но, кроме оного, история гражданская многими разными звании по намерениям писателей ово в обстоятельстве, ово в порядке разнятся, ибо некоторые сочиняют великие и пространные, другие — малое время или многое, да сократительно; иной тем или иным порядком ведет, яко именуются латинскими звании: генеральные, универсальные, партикулярные и специальные, т. е. общие, пространные, участные и особенные. Генеральные и универсальные почитай едино есть и суще те, которые о всех областях и качествах, где что приключилось, в одно время сносят, другие берут о неколиких, другие хотя токмо о единой области, да со всеми обстоятельствы, третьи о едином пределе или человеке, последние же о едином приключении. Другое различение по временам, яко одни начинают от сотворения мира, как здесь первая часть, другие от некоторой знатной премены, как часть 2, 3 и 4 сея истории, иные пишут токмо настоящих времен. И потому именуются оные древние, средние и новые. Третье разделение от порядка, яко некоторые ведут дела одной области по другой, хотя дела иногда общие в них и пресекают периодами или различием времен, и сии точно деи именуются. Другие, описуя какую-либо область, по владетелям ведут, сии гречески архонтология, или о государях сказание. Третьи — по годам, мешая в одно время или год деяния всех областей и государей; сие называется хронограф или летопись, а Нестор именует временник, как то здесь вторая и прочие части сей Истории представляют. IV. Что до потребности историописателю принадлежит, то разных разное есть рассуждение, Одни мнят, что не потребно более, как довольное читание и твердая память, а к тому внятный склад. Другие мнят, что невозможно не во всей филозофии обученному истории писать. Но я мню, сколько первое скудно, столько другое избыточественно; однако ж обоих кратко отвергнуть нельзя, понеже подлинно писателю много книг как сво- 194 их, так иностранных читать и что читал, то памятовать нужно. Но сие еще недостаточно, властно как человек домовитый к строению дома множество потребных припасов соберет и в твердом хранилище содержит, дабы, когда что потребно, мог взять и употребить; но к тому потребно смысл, чтоб прежде начатия определение о распорядке строения и употребления по местам пристойных припасов положить, а без того строение его будет или нетвердо, нехорошо и неспокойно. Тако к писанию истории весьма нужно свободный смысл, к чему наука логики много пользует. Другое суждение, чтоб, яко строитель, мог разобрать припасы годные от негодных, гнилые от здоровых, тако писателю истории нужно с прилежанием рассмотреть, чтоб басен за истину и неудобных за бытия не принять, а паче беречься предосуждения и о лучшем древнем писателе, для которого наука критики знать не безнужно. Третье, как всякое строение требует украшения, так всякое сказание красноречия и внятного в сем сложения, которому наука риторика наставляет. Все сии науки, как выше сказал, хотя многополезны, однако ж иногда на все те науки надеяться, ни неученых презирать не должно. Ибо видим, что преславные филозофы, писав истории погрешили, яко приклад имеем о Самуиле Пуфендорфе, Роберте Байле, Витсене, бургомистре амстердамском и других, что первые свои издания принуждены пременить и не одного. Противно же тому некие жены, в училищах не сидевшие, многократно весьма полезное сочинили и многой хвалы удостоились. Обаче сие не за правило непоколебимое, но за приключение чрезвычайное почитаю, понеже, как то всем известно, что наука не что иное, как достаточное ума нашего искусство, и чтим кто более искусился или научился, тем ближе к мудрости и совершенству, и что многие невежды к изъяснению истины и общей пользы способы подают. Сверх сего, что о историописателях рассуждать надлежит, то, во-первых, верность сказания за главное почесться, оное же на многие степени разделяется: 1. Если такой писал, который сам в тех делах был участник деяния, яко министры или знатные правители, генералы и пр., сочиняющие и отправляющие определения и получающие о всем обстоятельные известия, лучше всех могут показать. 2. Если в те времена жил, сам много мог знать и от других достаточное известие слышать. 3. Если вскоре из архив договоров, уставов или учреждений, письменных и подлинных записок, яко же от людей, в те времена и делах участных или довольно сведущих сочинил. 4. Хотя и долгое время после от разных своих и иностранных народов, имеющих участие или вероятное известие, из их история собирал. 5. О своем отечестве, если страстию самолюбия или самохвальства не побежден, всегда более способа имеет правую написать, нежели иноземец, как то выше показано, паче же иноязыч- 195 ный, которому язык великим препятствием есть, понеже многих обстоятельств иногда не выразумев, и без пристрастия легко погрешить может, а паче имена людей, мест и пр. трудно на другом языке от недостатка букв точно положить<…> Сие наипаче и в географии, где необходимо нужно знаменование имен изъяснить, яко к нашей истории и географии весьма для сего 3 языка — татарский, сарматский и славенский — достаточно знать нужно, а по малой мере лексиконы полные или переводчики для помощи искусные иметь. Противно тому, как историописатель невероятным является, когда дела с обстоятельствы и древних сказаний несогласные внесет, когда дела чрезъестественные сказует и многими баснями и суеверными чудесами наполнил, чего у древних весьма между правыми сказаниями находится, и для того сущим деяниям у такого без доказательства постороннего верить неможно. Следственно, такие истории за басни почитаются, в которых читающему достаточное рассуждение потребно, как выше показано <…> VIII. Оную для удобнейшего сочинения рассудил я разделить на четыре части. В первой объявить о писателях и описать древние, касающиеся отечества нашего, три главные от них происшедшия народы, яко скифы, сарматы и славяне, каждого обиталища, войны, преселения и званий пременения, колико о них нам древние предали и сия до начала обстоятельной русской истории по 860 год по Христе. 2-я часть — от начала русских летописей, яко известнейшее и сущее от владения Рюрика или смерти Гостомысла, последнего владетеля от рода славян, т. е. от 860-го до нашествия татар в 1238-м году, итого чрез 378 лет. 3-я [часть] — от пришествия татар до опровержения власти их и восстановления древней монархии первым царем Иоанном Великим, в великих князех сего имени III-м, а в царех первого, т. е. от 1238 по 1462 год, и тако оная заключает время 224 года. 4-я [часть]— от возобновления монархии до восшествия на престол царя Михаила Федоровича рода Юрьевых-Романовых, т. е. от 1462 до 1613, итого чрез 151 лето. А затем, яко более известий сохраненных остается и не только многотрудное продолжение всякому к сочинению удобное, а наипаче, что в настоящей истории явятся многих знатных родов великие пороки, которые если писать, то их самих или их наследников подвигнут на злобу, а обойти оные — погубить истину и ясность истории или вину ту на судивших обратить, еже было с совестью не согласно, того ради оное оставляю иным для сочинения <…> X. Прежде же нежели я к сказанию приключений и деяний приступлю, нужно показать о том, отчего оные происходят. Выше я показал, что все деяния от ума или глупости происходят. Однако же я глупость не постав- 196 ляю за особое существо, но оное слово токмо недостаток или оскудение ума, властно как стужа оскудение теплоты, а не есть особое существо или материя. Ум же разумеем главное природное действо или сила души, а когда ум просветится, тогда именуется разум. Освещение же ума, равно как и свет видимый, от огня небесного или земного происходящий, освещает все телеса и видимы нам творит, тако учение и прилежное вещей испытание нам все в мыслях воображенные свойства к понятию и рассуждению мысленным очам просвещает. Не говорю о божественном и чрезъестественном просвещении ума, которое в письме святом нам объявлены, но токмо об естественном или природном просвещении, которые нам разными способами подаются, ово единственно или особно, вообще и всемирно. Способы всемирного умопросвещения разумею три величайшие: яко первое — обретение букв, чрез которые возымели способ вечно написанное в память сохранить и далеко отлучным наше мнение изъявить. Второе — Христа-Спасителя на землю пришествие, которым совершенно открылось познание Творца и должность твари к Богу, себе и ближнему. Третье — через обретение тиснения книг и вольное всем употребление, чрез которое весьма великое просвещение мир получил, ибо через то науки вольные возросли и книг полезных умножилось. О изобретении букв нет нужды, когда и кем первые обретены, изъяснить, которое чрез многие прения ученых до днесь не доказано <…>. 197 М. В. Ломоносов Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765). Выдающийся ученый-энциклопедист. Историческими исследованиями начал систематически заниматься с 1751 г., прежде всего в связи с обсуждением так называемого «варяжского вопроса». В 1749 г. он представил в Канцелярию Академии наук свои замечания на диссертацию Г.-Ф. Миллера «Происхождение имени и народа российского», где высказывал свои критические соображения по поводу миллеровской концепции происхождения Российского государства. Когда по просьбе российского правительства Вольтер приступил к написанию «Истории Российской империи при Петре Великом», принимал участие в подготовке документов, пересылаемых Вольтеру, а также был одним из первых рецензентов рукописи. Критические замечания Ломоносова были учтены Вольтером при окончательной редакции сочинения. Результатом работы Ломоносова с историческими сочинениями стал небольшой очерк «Описание стрелецких бунтов и правления царевны Софьи» (1757), который тоже был использован Вольтером для написания своей книги. В 1760 г. Ломоносов издает «Краткий Российский летописец с родословием», в 1766, через год после его смерти выходит первый том «Древней Российской истории от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года…». В 17601770-х гг. историческое сочинение Ломоносова было издано в странах Европы на немецком, французском, итальянском языках, оказав значительное влияние на развитие не только русской, но и западноевропейской историографии. 198 ДРЕВНЯЯ РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ∗ Вступление Народ российский от времен, глубокою древностию сокровенных, до нынешнего веку толь многие видел в счастии своем перемены, что ежели кто междуусобные и отвне нанесенные войны рассудит, в великое удивление придет, что по толь многих разделениях, утеснениях и нестроениях не токмо не расточился, но и на высочайший степень величества, могущества и славы достигнул. Извне угры, печенеги, половцы, татарские орды, поляки, шведы, турки, извнутрь домашние несогласия не могли так утомить России, чтобы сил своих не возобновила. Каждому несчастию последовало благополучие больше прежнего, каждому упадку высшее восстановление; и к ободрению утомленного народа некоторым божественным промыслом воздвигнуты были бодрые государи. Толикие перемены в деяниях российских: соединение разных племен под самодержавством первых князей варяжских, внутренние потом несогласия, ослабившие наше отечество, наконец, новое совокупление под единоначальство и приобщение сильных народов на востоке и на западе рассуждая, порядок оных подобен течению великия реки представляю, которая от источников своих по широким полям распростираясь, иногда в малые потоки разделяется и между многими островами теряет глубину и стремление; но паки соединяясь в одни береги, вящую быстрину и великость приобретает; потом, присовокупив в себя иные великие от сторон реки, чем далее протекает, тем обильнейшими водами разливается и течением умножает свои силы. Возрастая до толикого величества Россия и восходя чрез сильные и многообразные препятства, коль многие деяния и приключения дать могла писателям, о том удобно рассудить можно. Из великого их множества немало по общей судьбине во мраке забвения покрыто. Однако противу нашего мнения и чаяния многих, толь довольно предки наши оставили на память, что, применять к летописателям других народов, на своих жаловаться не найдем причины. Немало имеем свидетельств, что в России толь великой тьмы невежества не было, какую представляют многие внешние писатели. Инако рассуждать принуждены будут, снесши своих и наших ∗ Воспроизводится по изданию: Л о м о н о с о в М. В. Полн. собр. соч.: В 11 т. Т. 6. М.; Л., 1950-1983. 199 предков, сличив происхождение, поступки, обычаи и склонности народов между собою. Большая одних древность не отъемлет славы у других, которых имя позже в свете распространилось. Деяние древних греков не помрачают римских, как римские не могут унизить тех, которые по долгом времени приняли начало своея славы. Начинаются народы, когда другие рассыпаются: одного разрушение дает происхождение другому. Не время, но великие дела приносят преимущество. Посему всяк, кто увидит в российских преданиях равные дела и героев, греческим и римским подобных, унижать нас пред оными причины иметь не будет, но только вину полагать должен на бывший наш недостаток в искусстве, каковым греческие и латинские писатели своих героев в полной славе предали вечности. Сие уравнение предлагаю по причине некоторого общего подобия в порядке деяний российских с римскими, где нахожу владения первых королей, соответствующее числом лет и государей самодержавству первых самовластных великих князей российских; гражданское в Риме правление подобно разделению нашему на равные княжения и на вольные городы, некоторым образом гражданскую власть составляющему; потом единоначальство кесарей представлю согласным самодержавству государей московских. Одно примечаю несходство, что Римское государство гражданским владением возвысилось, самодержавством пришло в упадок. Напротив того, разномысленною вольностию Россия едва не дошла до крайнего разрушения; самодержством как сначала усилилась, так и после несчастливых времен умножилась, укрепилась, прославилась. Благонадежное имеем уверение о благосостоянии нашего отечества, видя в единоначальном владении залог нашего блаженства, доказанного толь многими и толь великими примерами. Едино сие рассуждение довольно являет, коль полезные к сохранению целости государств правила из примеров, историею преданных, изыскать можно. Велико есть дело смертными и преходящими трудами дать бессмертие множеству народа, соблюсти похвальных дел должную славу и, пренося минувшие деяния в потомство и в глубокую вечность, соединить тех, которых натура долготою времени разделила. Мрамор и металл, коими вид и дела великих людей изображенные всенародно возвышаются, стоят на одном месте неподвижно и ветхостию разрушаются. История, повсюду распростираясь и обращаясь в руках человеческого рода, стихии строгость и грызение древности презирает, Наконец, она дает государям примеры правления, подданным — повиновения, воинам — мужества, судиям — правосудия, младым — старых разум, престарелым — сугубую твердость в 200 советах, каждому незлобливое увеселение, с несказанною пользою соединенное. Когда вымышленные повествования производят движения в сердцах человеческих, то правдивая ли история побуждать к похвальным делам не имеет силы, особливо ж та, которая изображает дела праотцев наших? Предпринимая тех описание, твердо намеряюсь держаться истины и употреблять на то целую сил возможность. Великостию сего дела закрыться должно все, что разум от правды отвратить может. Обстоятельства, до особенных людей надлежащие, не должны здесь ожидать похлебства, где весь разум повинен внимать и наблюдать праведную славу целого отечества: дабы пропущением надлежащия похвалы — негодования, приписанием ложныя — презрения не произвести в благорассудном и справедливом читателе. 201 Ф. А. Эмин Эмин Федор Александрович (1735–1770). Родился в Константинополе. Образование получил в Италии и Португалии. В 1761 г. приехал в Россию, служил переводчиком в Коллегии иностранных дел, был учителем итальянского языка в Академии художеств и Сухопутном шляхетном кадетском корпусе. Эмин не только быстро освоил русский язык, но и стал известным писателем, первым русским романистом. Его философские романы «Приключения Фемистокла и разныя политическия, гражданския, философическия, физическия и военные его с сыном разговоры» (СПб., 1763), «Непостоянная фортуна, или Похождения Мирамонда» (СПб., 1763) содержат социально-утопические модели государств Фракии, Эолии, Тефилита и Нисефы, рассуждения об идеальном обществе, основанном на принципах «естественного права». По Эмину, идеальное состояние может иметь общество, основанное на «естественном законе» и натуральном хозяйстве. Эмин испытал сильное влияние Руссо не только как философа, но и как писателя, свидетельством чего являются его «Письма Эрнеста и Доравры» (СПб.,1766). В издаваемом им журнале «Адская почта» Эмин достаточно критически высказывается против пороков современного ему общества и церкви. В 1766 г. пишет религиозно-философское сочинение «Путь ко спасению» (СПб., 1819), в котором рассуждает о смысле жизни, грехе и раскаянии. Историческое сочинение Эмина «Российская история жизни всех древних от самого начала государей все великия и вечной достойныя памяти ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО действия, его наследниц и наследников ему последование и описание в Севере ЗЛАТАГО ВЕКА во время царствования ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ в себе заключающая» представляет собой своеобразный «исторический роман», написанный в форме наукообразного изложения фактов. Эмин не только не скрывает, но, напротив, подчеркивает «художественный» характер этого произведения, ставящего прежде всего воспитательные, а не образовательные задачи. 202 РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ВСЕХ ДРЕВНИХ ОТ САМОГО НАЧАЛА ГОСУДАРЕЙ∗ Предисловие Каждому просвещенному человеку известно, что знать самого себя есть первая и нужнейшая наука. А показать каждому гражданину начало его отечества, оного свойства, различность народов, оных происхождения, действия, склонности, нравы, разные перемены и разные приключения, из которых произойти может прямое наставление, чему следовать и чего убегать должно, есть дело, в котором многие просвещенные общественной пользы желатели давно упражняются, и коего совершения не только каждое государство, но и весь просвещенный свет давно желает; ибо ныне все христианские во всей Европе монархии подобны искусно заведенным часам, составленным из многих пружин и тончайших частиц, одна другой соответствующих, от исправности которых благосостояние целого корпуса зависит. По той причине многие государства не только тщатся иметь исправную своего отечества историю, но и чужие, переведши на свой язык, заставляют искусных и трудолюбивых мужей общую из них составить систему. Одни только мы поныне не следовали сему общему предприятию; хотя, впрочем, больше имеем средств для сочинения истории нашего отечества, нежели прочие чужестранные народы: ибо смело сказать можно, что ни одно государство таких верных не имело записок, какими не только наша Академическая библиотека, но и многие партикулярные дома обогащены. Многие народы принуждены были из баснословия первоначальные исторические выводить действия. Они умствованием и разными догадками из басен нравоучения, из нравоучений прошедшие действия, из действий паки нравоучения производить старались и таким образом связывали свою историю. Но мы имеем толь много драгоценнейших и вернейших записок, немало искусно собранных летописей, множество подлинников, древность изображающих, что из оных без всякого умствования, которое не столько изъясняет, сколько затмевает истину, можем собрать справедливую отечества нашего историю. При таком драгоценнейшем изобилии для чего не воспылаем искренним желанием к исполнению воли монаршей, желания отечества и своей должности? Премудрая наша МОНАРХИНЯ сама в со∗ Воспроизводится по изданию: Э м и н Ф. А. Российская история…: В 3 ч. Ч. 1. СПб., 1767. 203 чинениях к пользе и славе вечной нашего отечества служащих беспрестанно трудится; и я смело сказать могу, не подданного, но философским языком, что наставления ЕЕ, для Уложения данное, для меня превосходнее всех греческих мудрецов узаконений, в которых строгость с милосердием смешаны, невзирая на то, что вода с огнем весьма несогласны<…>. От Аристотеля времен по нынешние дни многие умствующие законописатели неисчисленные написали тома о разном свойстве владений. Иные из них республиканскую вольность, а иные самодержавное правление прославляли. Но естьли их писания здравым разобрать рассуждением, то в каждом их оных явное найти можно пристрастие, ибо обыкновенно республиканцы хвалят свою вольность, а подданные — самодержавство. Но все их долговременные и неисчислимые ссоры пятью словами премудрая решит МОНАРХИНЯ. Тонко вопрошает: «В чем состоит вольность и какие быть должны следствия оной?» Нет такого малорассудного человека, который бы того не знал, что свойство вольности должно споспешествовать к благополучию общественному и что следствия оной должны быть истина и добродетель: ибо ни в одной республике творения зла не дозволяется. Когда же вольность состоит в делании добра, то сия златая вольность нигде толь свободного, как в России, не имеет пристанища. Никто оную столь не защищает, как наша МОНАРХИНЯ, которая даже до матернего увещевания снисходит, дабы мы оную наблюдали. Что ж касается до анархического правления, многими пристрастными писателями прославляемого, то можно бы несколько томов наполнить важными доводами, оного бесполезность доказать могущими; но довольно сказать, что естества порядок доказывает нам, что власть самодержавная полезнее общественного правления. Мы видим, что и в республиках отец имеет главную власть над всеми своими детьми, следовательно (и по их рассуждая мнению), хотя может иной сын быть рассудительнее отца, однако ж ни одно республиканское право не дозволяет сыну повелевать своим отцом. Хозяин и в республике повелевает всеми домашними. Таким порядком будучи управляемы человеки, составляют общественное согласие. Когда же бы с отцом равны были дети, а с хозяином слуги, то многие бы от того произошли помешательства. Государь самовластный равным образом есть отец своих подданных, и хозяин в своем государстве; следовательно, должно ему и по естественному праву рассуждая, главно повелевать своими детьми и самовластно господствовать в своем доме, дабы оный в добром содержать порядке; из чего следует, что самодержавное правление полезнее анархического<…>. 204 <…> Ни одно почти сочинение толь великого труда и терпения не требует как история. Ибо собрать множество разных списков, не исключая и площадных, в которых часто, ежели не очевидная вещь, то по крайней мере тень оной обрящется, кою здравым рассуждением расчистя, можно будет и важность дела увидеть; потом оные множественные списки сличать, праведные повествования отделять от неосновательных, а что и за правду почтется, не полагаясь на том, всему доискиваться подтверждения у чужестранных авторов, у каждого историка счислять летописание, несогласия их уравнивать, находить оных причины и из оных выводить истину, писателей разбирать свойства, время, в которое они писали и многие иные тончайшие наблюдать околичности, есть дело долгого времени, великого труда, постоянства и великой к собиранию истории склонности требующее <…>. Я давно, усердное имея желание исполнить волю нашей премудрой МОНАРХИНИ, принялся к сему сочинению. Правда, что в начале оного великие имел я трудности, так, что едва имел надежду в моем успеть желании. Хотя я и собрал до сорока разных книг, о России упоминающих, но недоставало мне многих древних иностранных авторов, на мнении которых, согласном с писанием наших летописцев, хотел я утвердить историю. В сем случае принял я прибежище к Императорской библиотеке. Выпросил у надзирателя оной, что мне дозволил туда приезжать и всего потребного в тамошних книгах доискиваться <…> Прежде всех попалась мне в руки История тайного советника Татищева, или, лучше сказать, к оной предисловие, ибо История, им писанная, та же, что и в Несторе, разве несколько из оной потребных вещей пропущено. Правда, что труд сего мужа вечной похвалы достоин, ибо он больше десяти лет, как говорят, в сочинении своем трудился, однако ж удача желаниям его не совсем соответствовала. Он, собрав до тысячи книг, как сам пишет, так в несогласиях оных запутался, что в своем предисловии пишет вещи совсем с правдою несходные. Часто теми, на которых ссылается, опровергает свое мнение, а изъясняя иных мнения, нередко оные затмевает <…>. Все наши о древности писания очевидных доказательств не имеют, но должно верить тем, которые нам разных времен действия писанием своим предали. Начало историй всего света по большей части двумя текло источниками. Многие произвели начальные исторические действия от баснословия, а прочие поверили писаниям Моисея, которого повествования человеческому разуму внятнее всех тех, коими разные баснословные и древнейшие историки и философы заполнили свои книги. Есть такие, кои и поныне мнения Пармения, Эмпедокла, Анаксагора и иных, утверждающих, 205 что как только начался свет, то мы уже в нем были, почитают за справедливые. Естли им угодно, они могут поверить японским учителям и некоторым эгоистам, утверждающим, что нас и теперь нет. Напротив того, Моисеевы писания с человеческим разумом сходны и ничего в себе темнометафизического не имеют. Можно и его описания опровергать и находить в них несходство с нынешними нашими мыслями, но какая из того прибыль? Что до темной древности касается, то я, последуя лучшим древним авторам, связываю из оных мое о древности России повествование. Большинство голосов для меня не важно. Я последую тому, который сходнее с правдою пишет. Может статься, что и мое описание древности многим покажется сомнительным. Каждый волен прилепляться к такому автору, который ему нравится. О древности же писали около 1000 человек, но почти всегда несогласно. Во всем надобно иметь счастие, и автор по большей части тот хорош, который кому нравится. Например, некоторым Никонов список весьма понравился, и издатель оного в своем к оному списку предисловии утверждает, что оный писан обстоятельнее и с правдою сходнее всех прочих российских летописей. А мне кажется, что ни в одной почти российской летописи, которые я в Академической библиотеке читал, нет столько забобонов, сколько в оном списке <…> Напротив того, я не только в наших, но и во внешних летописцах такого беспристрастия и точности не нахожу, какою наполнен Нестор, ибо сей историк меньше других древних писателей баснословен, а я по большей части верил тем древность описующим авторам, которые с правдою сходнее писали. Особливо я боялся наполнить историю мою странными чудесами и многими баснями, дабы вместо исторических описаний не набаять тьму сказок. Не старался я праотцев наших производить от аргонавтов, так как богемцы, ниже наших героев кормить волчьим молоком, которым римские историки прежних своих государей воспитали. Не выводил я древних наших предков от богов, так как древний летописец французский Гунебалд де Фредегер, утверждающий, что прежний король французский был внук Приама и что другой его наследник произошел от Нептуна, водяного бога, ночью из волнистого своего царства вышедшего, и королевой, его матерью, соединившегося; а Еразм монах написал, что Еней, основавший в Италии царство и в Капуе город, тогда столицу имеющий, платил королю французскому дань, чему Дон Бавды, ишпанский автор, смеется, на то не взирая, что ежели французская древняя история наполнена баснословных богов действиями, то вместо того ишпанские летописи кругом почти записаны действиями небесными, так что почти с каждым их полководцем вместе воевали противу неприятеля святые или ангелы с воздуха, как пишет Браядо, бросая 206 вниз он сам не знает что. А Диего и Кольменар и то приписали чудотворению, что ишпанцы до семи миллионов бедных американцев замучили, как видно о том в критике Иоанна Брута. Не будет у меня таких сказок, какими историю свою наполнил славный итальянский автор Ариост, написав, что кавалеры Карла Великого долгое время воевали, споря о шлеме, который Гектор носил в Трое <…> Правда, что очень много найдется в свете людей, робяческие мысли имеющих, которым великолепно рассказанные басни нравятся. Таковым лучше покажется прочесть сказки о Озирисе, о Бахусе, о Геркулесе, о Тезее, нежели простым слогом описанные истинные исторические действия, для того, что слабые воображения и малые мысли больше пленяют повествования о разодрании живых львов, о побитии многих великанов, нежели описание действий всякому внятных и обществу полезных<…>. Я от таких странных повествований убегать старался, и естьли у меня написано, что наши предки произошли от Мосоха, то в том я последовал многим летописцам, так утверждающим. Хотя такие сомнительные описания ныне по большей части почитаются за не важные, однако совсем их бесполезными назвать нельзя для того, что чрез оные сохранится память о том, чего мы и ныне ясно не зная при случаях доискиваться можем <…> Итак, если я сию Историю, древними и новыми нашими летописцами писанную, стараюсь несколько от разных, несходных с правдою повествований и от многих суеверий очистить, то думаю сделать услугу тем, которые прежде меня писали, да и сам почту тех за благодетелей, которые, и мои нашед ошибки, оные исправить постараются. В том наша общая состоит польза, дабы наша история была исправна, о чем каждый по своей возможности стараться должен <…> Я <…> начал собирать разные списки, сличал оные и думал решить дела по большинству голосов. Так почти все ученые люди в чужих государствах к историческим сочинениям приступали. Но с крайним моим удивлением я нашел в них великое согласие, так что с двенадцати летописей почти все списаны с Нестора, и, естьли в них что прибавлено, то до российской истории не столько, сколько до чужестранной принадлежит. Иной бы такому согласию радовался, но оно меня весьма опечалило, потому что они Нестору и в повествованиях, с правдой несходных, последовали и оные крепко утверждали. Причину такого странного согласия я тотчас нашел, рассудя о древней политике, или, лучше сказать, о древних нашей земли обыкновениях и о свойстве, качествах и силе наших писателей. В иностранных землях, естьли кто сочинит историю, то наследник его, или еще современщик будучи ученый, а часто при учености и тщеславный че- 207 ловек, читает издание историческое своего предка глазами чрезмерно критическими. Ежели найдет в нем какую малейшую ошибку или какую-либо двойного знаменования речь, то, привязавшись к оной, пишет целый том, и вместо изъяснения больше прежнее повествование затмевает. Сие происходит от вольности в писании и от самолюбия человека ученого, который не погрешности других исправляет, но себя свету человеком ученым показать желает. От того в чужестранных исторических писаниях великое находится несогласие. Напротив того, наши летописцы совсем другого рода. Наши историки ученой гордости не знали; они же взрасли в такой земле, где ничего в древние времена без воли государей ни сделать, ни написать было не можно. Многие из них препровели жизнь свою в монастырях, где, привыкши к монастырской строгой жизни, о делах общественных вольно рассуждать не смели. При том Нестор, первый летописец российский, после смерти в число святых включен. Тогда уже и помыслить о том наши летописцы боялись, чтобы Нестор мог ошибиться: ибо в то время не рассуждали, что святость чрез угождение Богу, а не через знание истории или иных наук приобреталась. Итак, и на согласие наших летописцев положиться не можно, следовательно, должно всему ими писанному доискиваться в чужестранных беспристрастных писателях подтверждения. Известно, что история для того сочиняется, чтобы и другие государства могли иметь точное понятие о древнем и нынешнем состоянии нашего отечества, потому что теперь всех почти европейских государей польза несколько соединена, хотя впрочем, многие из оных едва разорения другого не желают. Когда же нашу историю чужестранные государства прочетши на своем языке, найдут оную основанную на одних только наших летописцов мнениях, и то часто с правдою несходных, то почтут оную за пространную баснь от нашего самолюбия, либо от невежества произшедшую. Сие рассуждение заставило меня делать примечания на найденные мною во многих наших летописцах погрешности и вместо оных включать новоизобретенные действия, к истории нашей принадлежащие и повествованием древних, веры достойных историков утвержденные <…> Историку неотменно потребно вникать в политические дела, однако ж должно ему быть и философу, и описывать истину ясно и доказательно. Не говорю я, что историку должно быть Диогеном, в чужих делах малейшую крапинку зрящим, каждого разными пороками укоряющим и к деланию пользы другому призывающим, ибо сей философ меньше всех был добродетелен и полезен обществу. Добродетель состоит в том, чтоб делать людям добро. Но Диоген жил почти в лесу и с людьми никакого не имел сообщения. Пользы от него больше имели звери, которых он оставшеюся от 208 него пищею кармливал, нежели люди, которых общества он бегал. Историческому философу должно быть совсем другого рода. Ему надобно иметь дело с обществом и уведомлять оное своим описанием о том, что к пользе целого общества касается. Добродетели, которым должно следовать, а пороки, от которых обществу было или быть могло разорение, неотменно ему должно описывать ясно и поучительно. Что ж касается до таких пристрастий, которые обществу никакого вреда не делают, и произошли от слабости человеческой, то оные в истории описывающий больше сатириком, нежели историком назваться может <…> Разделению г. Шлецера я для того не последовал, что оно мне показалось не одной Российской, но и Универсальной истории принадлежать могущим. Нет почти такого государства, которого бы история подобным сему образом разделена быть не могла. Каждое владение сначала рождалось, потом в оном бывали разные разделения, во время оных были утеснения, потом — победы, цветы и плоды оных. По моему мнению, российская история от прочих сими следующими тремя может отличаться периодами, то есть: временами княжений, царствий и империи. Что ни одного государства история точно сим подобных в себе периодов не заключает, то знателям Универсальной истории известно без дальнего о том изъяснения. Но должен всех я уведомить, что многие речи, которые в сей истории разные говорят лица, выдуманы, например: речь, которую говорит Гостомысл к мятущемуся народу, уговаривая оный, дабы призвать Рюрика на владение, ни в одном нашем летописце не обрящется. Но естьли Гостомысл оной не говорил, то по малой мере должен был говорить что-нибудь тому подобное, чтобы взволновавшийся, гордый и ничего не рассуждающий народ мог усмирить и привести к здравому рассуждению <…> Может статься, Гостомыслова речь была важнее и гораздо трогательнее той, которая в сей книге изображена; но я, сообразуясь с тогдашним временем, в которое красноречия, или, лучше сказать, протяженного и пухлого штиля не знали, старался говорить языком каждого человека состоянию сродним, составляя разные речи по большей части со всевозможной важности причин и обстоятельств. такую вольность простит мне каждый, когда я скажу, что все историки думали, что им оная не только дозволительна, но и необходимо нужна для того, чтоб можно было историю различить от сказки. Многие сказки имеют в себе много правды, но историей их назвать нельзя, которой свойство состоит в том, дабы не только человеческое любопытство уведомлять о прошедших делах, но и важностию речей и разными полезными рассуждениями научать тех, кои довольного просвещения не имеют. Когда ж бы только просто безо всяких поучительных рассуждений 209 исторические действия были описаны, то многие, естьли бы им в подобные обстоятельства впасть случилось, не знали бы, как себе или другому помочь и от оных или освободиться, когда они вредные, или оным следовать, когда полезны. Для историка не довольно собрать множество повествований и о делах прошедших уведомить общество оных собранием, ему надобно каждое минувшее действие описывать обстоятельно, находить оного причины и изъяснять следствия, которые, хотя, может статься, по случаю и не были, однако легко бы быть могли. В противном случае он будет подобен живописцу, черты какого-нибудь лица верно собравшему, но соединить и оных привести в согласие не умеющему. Однако потребно, дабы описуемая история была изображена красками непритворными, и от одного только умствования и несправедливых воображений происходящими, но такими, которые лицу ее приличны, так, чтобы оного ни с излишеством украсить, ниже обезобразить могли. Может статься те, которые прежде меня нашу историю писали, инако о том думали. Для того многие из них написали разные книги многими повествованиями безразборно наполненные отчего и истина затмена, и книги их читать несколько скучно. Но ежели случится, что мною описуемые действия будут обстоятельнее изображены, то тем я никакого пред прочими преимущества не заслуживаю, ибо дело по большей части зависит от случая. Им толь верные записки, какими я обогащен, может статься в руки не попали. Столько же им трудиться, как мне, может быть время не дозволило. Многим языкам, которые я знаю и на которых много есть книг о России упоминающих, они обучиться случая не имели <…> 210 Екатерина II Екатерина II (1729–1796). По происхождению принадлежала к дому немецких князей Ангальт-Цербстских. Более трети столетия (1762–1796) занимала престол Российского государства. Литературное наследство Екатерины достаточно объемно и многообразно (ее «Сочинения», изданные А. Н. Пыпиным в 1901–1907 гг., составляют 12 томов, не считая переписки). Она писала пьесы, аллегории, публистические эссе, мемуары. Уже в своих драматических произведениях, прежде всего в «исторических представлениях» («Из жизни Рюрика», «Начальное управление Олега», незавершенной пьесе «Игорь») Екатерина ставила задачи политического характера, рассматривая прошлое, как оправдание настоящего. Интерпретация российской истории предполагала подтверждение того, что Россия является «европейской страной», а потому развивается по таким же законам, как и другие государства Западной Европы, что «естественным» для России политическим режимом, во всяком случае, начиная с Рюрика, является абсолютная монархия. Исторические сочинения Екатерины отличает специфический «монархический персонализм», предполагающий отношение к монарху как творцу исторического процесса, придающему последнему импульс и направленность. Идея «Записок, касательно российской истории» возникла из замысла написать учебное руководство для внуков. Они печатались в «Собеседнике любителей российского слова» начиная с 1783 г. Над их завершением Екатерина работала до самой смерти. В работе над «Записками» она пользовалась услугами своеобразных «референтов» — А. П. Шувалова, Платона (П. Е. Левшина), И. П. Елагина, А. И. Мусина-Пушкина, И. Н. Болтина, А. А. Барсова, Х. А. Чеботарева, которые помогали ей в исторических разысканиях, подборе материала, однако концептуальная схема вырабатывалась ею самостоятельно. 211 ЗАПИСКИ, КАСАТЕЛЬНО РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ∗ Предисловие Сии «Записки, касательно Российской истории» сочинены для юношества в такое время, когда выходят на чужестранных языках книга под именем Истории Российской, кои скорее именовать можно сотворениями пристрастными; ибо каждый лист свидетельством служит, с каковою ненавистью писан, каждое обстоятельство в превратном виде не токмо представлено, но к оным не стыдилися прибавить злобные толки. Писатели те хотя сказывают, что имели Российских летописцев и историков перед глазами, но или оных не читали, или язык руской худо знали, или же перо их слепою страстию водимо было. Беспристрастный читатель да возмет труд сравнить Эпоху Российской истории со историями современников великих князей российских каждого века, усмотрит ясно умоначертания всякого века, и что род человеческий везде и по Вселенной единакие имеет страсти, желания, намерения и к достижению употреблял нередко единакие способы. Все европейские народы до святого крещения, быв погружены в суеверие, в идолопоклонство, имели правила и права иные; получив просвещение евангельское, получили правила до того им неизвестные, кои не инако могли переменить обычай, мнения и мысли людей стариной занятые, как мало-помалу<…>. Первая эпоха 1 История есть слово греческое; оно означает деи, или деяния. 2 История есть описание дей, или деяний, она учит добро творить и от дурного остерегаться. ∗ Воспроизводится по изданию: С о ч и н е н и я Императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей и с объяснительными прим. академика А. Н. Пыпина. Т. 8. СПб., 1901. 212 3 Описанием дела или деяния, бывые нам представляются так, как будто мы сами то видели. 4 Всякому народу знание своей собственной истории и географии нужнее, нежели посторонних; однако же без знания иностранных народов истории, наипаче же соседственных дей и деяний, своя не будет ясна и достаточна. 5 В истории не токмо нравы, поступки и дела описуются, но еще мудрым, правосудным, милостивым, храбрым, постоянным, твердым и верным — честь и слава, а неосмысленым, несправедливым, грубым, робким, легкомысленным и неверным бесчестие и поношение в людях воспоследует. 6 История вообще разделяется на Священное писание и на светское описание деяний тех, кои в Священное писание не вмещены. 7 Российскую историю разделить можно на пять эпох или времен: Первая эпоха до великого князя Рюрика, или 862 года по Рождестве Христове; Вторая эпоха от великого князя Рюрика до пришествия татар, или от 862 года до 1224 года; Третья эпоха от пришествия татар до изгнания татар, или от 1224 года до 1462 года; Четвертая эпоха от изгнания татар до восшествия на российский престол царя Михаила Федоровича, или от 1462 года до 1613 года; Пятая эпоха от восшествия на российский престол царя Михаила Федоровича до днесь, или от 1613 до днесь. 8 Первую эпоху российской истории паки разделить можно на три времени: Первое время то, о котором окроме Святого писания известия не имеется, то есть от сотворения мира до потопа; 213 Второе время то, после потопа, о котором окроме Святого писания известия не имеется; Третье время то, о котором известия до нас дошли, но в Святом писании не находятся. Касательно первого и второго времен, тех о которых окроме Святого писания известия не имеется, то есть от сотворения мира до потопа и после потопа, о тех первые книги Моисеевы Бытия повествуют. 9 Касательно третьего времени, того, о котором известия до нас дошли, но в Священном писании не упоминаются, сии известия суть трех родов: Первые известия баснословные; Вторые известия баснословные, но смешанные с истиною; Третьи известия сомнению не подверженные<…>. 214 Х. А. Чеботарев Чеботарев Харитон Андреевич (1746–1815). Русский историк и географ. В 1764 г. окончил Московский университет. В 1765–1776 гг. работал библиотекарем, редактором газеты «Московские ведомости», переводчиком, преподавателем истории, географии и русской словесности в гимназии и университете. С 1776 г. — профессор, а с 1804 г. — ректор Московского университета. В 1804–1810 гг. был председателем Московского общества истории и древностей российских. Автор первого русского учебника географии России («Географическое и методическое описания Российской империи». М., 1776), в котором предпринял попытку географического районирования страны. Х. А. Чеботарев был авторитетным специалистом в области русской истории. Он помогал Екатерине II в ее работе над «Записками, касательно Российской истории», делая выборки из русских летописей. Историк А.-Л. Шлецер называл его своим «руководителем по Российской истории». Ему так же принадлежат слова «О изобретении искусства письма и о том, не послужило ли оно во вред уму человеческому и благонравию» (1776), «О способах и путях, ведущих к просвещению» (1779). В 1803 г. выходит из печати «Четвероевангелие, или Свод воедино всех четырех евангелий», к которому автор хотел присовокупить «Географическое и Политическое описание Палестины». Вероятно, эти сочинения отражали духовный кризис, переживаемый Чеботаревым, так как известно о его намерении в это время постричься в монахи. «Вступление в настоящую историю о России» написано в 80-х гг. XVIII в., а впервые опубликовано только в середине XIX столетия. Оно представляет собой фрагмент произведения, задачей которого было осмысление роли России в мировой истории. Безусловно, Чеботарев собирался писать «политическую историю». Не случайно в основе периодизации лежат этапы развития государственности и политические успехи. Очевидно, что для Чеботарева эволюция «славян» в «россиян» связана со становлением и развитием самодержавной монархии. Для Чеботарева характерен некоторый «рационалистический провиденциализм», предполагающий возможность умозрительного постижения особой миссии России в мировой истории, что нашло отражение в торжественной речи, произнесенной в Московском университете 30 июня 1795 г. «Величие, могущество и слава России». 215 ВСТУПЛЕНИЕ В НАСТОЯЩУЮ ИСТОРИЮ О РОССИИ∗ §1 Писать Российскую историю — какое смелое предприятие! почти теряюсь в великости оной. Писать историю такого государства, которое составляет девятую часть всего обитаемого земного шара и вдвое больше целой Европы, такого государства, которое вдвое обширнее самого Древнего Рима, бывшего обладателем целого мира; писать историю такого народа, который уже более девяти сот лет на театре мира играет большую роль и который в наши времена господствует с севера на юг от Ледовитого и Балтийского моря до Черного, Каспийского и Байкала, а с запада на восток от реки Кименя, Вислы и Днестра до Анадыра и Авачи, яко дальнейших пределов багряной зари, — писать историю такого государства, которое под скипетром своим соединяет славян, немцов, финнов, татар, самоедов, калмыков, тунгусов и курильцев, народов совсем различного языка и различного происхождения, и которое граничит со шведами, пруссаками, турками, персами, бухарцами, китайцами, японцами и гуронами; словом, писать историю России, сей, так сказать, великой колыбели, из которой вышли толь многие народы, разрушившие в Европе и вновь основавшие многие знаменитые государства! Раскройте летописи всех времен и народов и покажите мне такую историю, которая была бы пространством своим не обширнее, но только б равна была российской. Она не история земли какой простой, но знаменитой части света; она не история одного какого народа, но множества народов, которые все и языком, и нравами, и происхождением своим различны, но завоеваниями, неисповедимою судьбою и счастием россов соединены в одно государство. §2 Смотря с такой точки зрения на российскую историю, всяк увидит, что она бесконечно обширна, чрезвычайно важна, и притом можно сказать предварительно, что она в своем роде весьма достоверна. Российская история обширна по великому множеству народов, которые или совсем не ∗ Воспроизводится по изданию: О т р ы в о к из Записок профессора Чеботарева… М., 1847. 216 описаны, или весьма недостаточно, которые, однако ж, принадлежат к ней яко части великого сего целого и яко члены политического сего исполинского тела; она важна по непосредственному влиянию, какое имеет она на всю прочую историю, как европейскую, так и азиатскую, как древнюю, так и особенно среднюю; она достоверна по изобилию в подлинных летописях и других исторических источниках. §3 Но прежде нежели вступим мы в подробное рассмотрение сказанного нами здесь, за нужное считаем предположить следующее: а именно, что вся российская история представляет нам в себе только две главные эпохи, одну древнюю, а другую новую. Первая из них начинается Руриком, который почти в половине IX века основал российскую монархию, и продолжается до конца XVI века, в которое время совершенно угас или пресекся владевший Россиею Руриков корень. Рурик начал владеть в 862 году: нет ничего натуральнее, как начинать историю русскую с того времени, с которого народ делается порядочным государственным корпусом, и с того которого времени точно начинаются российские летописцы. Следовательно, российская история, какое счастье для историка! не имеет баснословного времени, т. е. она не подвержена ни басням, ни преданиям, ни мифологическому хаосу. Первая эпоха российской истории оканчивается пресечением Рурикова поколения: сама натура рассекает тут древнюю историю от новой. Совсем новое владетельствующее поколение восходит на российский трон: большая часть летописцев, писанных монахами, останавливается здесь; история оставляет монастыри, прежнее свое пребывание и переходит в государственную архиву, лучшее для нее жилище; здесь кончил Татищев свою древнюю историю и здесь начал Миллер похвальный опыт новейшей своей российской истории. §4 а. Итак, история Россов имеет известное и определенное свое начало и продолжается непрерывно по всем следующим векам до наших времен. Яко Россы являются они на театр мира не прежде IX века по Р. Х. и первое их явление на оном так блистательно, что лучи его простираются до самой Византии и дела их возносятся в летописи самых иностранных народов. 217 Но история их яко славян теряется в непроницаемой ночи древности. Само имя славян появляется у историков не прежде VI века, т. е. при начале владения императора Юстиниана <…> б. Славяне сами утесняемы будучи, наконец от римлян, т. е. греков, а вероятнее от аваров, покоривших себе в половине VI века однородцев с славянами, антов, с прежнего своего жилища на Дунае обратились на север и, по временам подвигаясь дальше, дошли до самого Балтийского моря. Но некоторая часть или колено из них, остановясь на полях при Днепре, построило город Киев; другие же, подаваясь выше при Волхове, истекающем из Ильменя, положили основание Новугороду, как то о сем упоминает и сам Нестор <…> Новогородские славяне при Волхове возвысились со временем перед своими однородцами. Они, удалены будучи от южных стран, прежнего своего жилища, которое подвержено было тогда беспрестанным разорительным нашествиям от варваров, возрастали в счастливом спокойствии и приуготовляли себя в тишине к великим и знаменитым делам, какие по произволу судеб со временем должны были произвести в Севере. Но в исходе VIII и в начале IX века к утеснению российских славян появились два неприязненные народа, казары с Черного и варяги или норманны с Балтийского моря: первые покорили Киев под свое иго, а последние принудили новогородцев платить себе дань. Однако ж сие продолжалось не долго: новогородцы, соединясь с финскими своими соседями, выгнали из своей области незванных сих обладателей и избрали над собою начальство из своих сограждан, и сим образом Новгород на некоторое время учинил себе вольность. Но не долго продолжалось счастливое сие состояние; вскоре возродились в нем внутренние беспокойства и мятежи яко натуральные пагубные следствия демократического государства; и новогородское общенародное правление, наконец, не сильно было удержать и защитить вольность и права своих сограждан. Тогда Гостомысл, новогородский старшина и патриот ,советовал своим согражданам избрать владетелями над собой кого-нибудь из иностранных государей: как некогда Вортингер утесненным британцам предложил саксонов, так Гостомысл новогородцам представил владетелей над ними казаров и норманнов, давнишних их неприятелей; из коих на последних пал единодушный выбор всего народа. Вследствие чего и отправлено было торжественное посольство к варягам для приглашения трех их князей в Новгород; почему Рурик, Синав и Трувор, трое братьев, в 862 году и прибыли к новгородским славянам. Рурик остановился в близости Новгорода, при Ладожском озере; Синав резиденцию себе избрал на Беле озере; а Трувор в Изборске, близ Чудского 218 озера. Сим образом в северной России основано порядочное государственное правление; а как два года спустя умерли оба Руриковы братья, Синав и Трувор, то оставшийся после них один Рурик в 864 году присоединил к себе области своих братьев и сим образом положил настоящее начало российской монархии. §5 Казалось бы, что предложенное доселе довольно ясно и никаким сомнениям не подвержено, то есть, что история россов начинается основанием их монархии и введением у них Руриком самодержавным правлением. Коль чисто сие начало коль натурально и коль не подвержено и не затемнено неистовыми баснями, какими обезображена польская и шведская истории! Однако ж ниже, т. е. прежде сего времени, история не ниспускается; нить ее прерывается, но любопытство наше на том не останавливается, и с чистых областей истины спускается онов мутные ручьи вероятности, догадок и заблуждений. Представляются нам здесь следующие четыре вопроса, которые без всякого вреда российской истории могли бы остаться навсегда нерешимыми, которые, однако ж, для удовольствия любопытства некоторых решить мы обязаны. Сии вопросы суть следующие: I. Кто именно были славяне? II. Кто именно жили в России прежде славян? III. Кто такие были варяги, от которых россияне получили первых своих владетелей? IV. Кто были руссы?.. § 11 <…> Разделения, какие мы намерены сделать всей российской истории, суть не произвольные, т. е. не вымышленные, но существенные, стоит только взглянуть на различные состояния оной, в каких она была от ее начала до нынешних времен, то само по себе покажется, что российская история представляет нам: I. Россию в ее началах и как бы рождении, с 862 до 1015 года, что и составит около 150 лет; 219 II. Россию в ее раздроблении, с 1015-го до 1223 года, что составит не с большим 200 лет; III. Россию в ее порабощении, с 1223-го до 1462-го, что и составит с лишком 200 лет; IV. Россию в ее победах с 1462-го до 1725 года, что составит более 250 лет; и, наконец, V. Россию в цветущем ее состоянии, с 1725-го до наших времен <…> 220 М. М. Щербатов Щербатов Михаил Михайлович (1733–1790). Государственный и общественный деятель, историк, философ. Получил хорошее домашнее образование. В 1746–1762 гг. служил в престижном гвардейском Семеновском полку. Сразу после выхода Манифеста о вольности дворянства ушел в отставку в чине капитана, совмещая гражданскую службу с «учеными занятиями».В 1767 г. был избран в Комиссию по составлению нового уложения от Ярославской губернии. На ее заседаниях он защищает права знатного дворянства, имеющего, по его мнению, «естественное» право «старших» по рождению на управление государством. Критике современного ему общества посвящен памфлет «О повреждении нравов в России» (1786– 1787), напечатанный лишь много лет спустя в Вольной русской типографии А. И. Герцена. С 1768 г. Щербатов служит в Комиссии по коммерции, в 1771 г. становится герольдмейстером, с 1775 г. — заведует секретным делопроизводством по военным делам, с 1778 — президент Камер-коллегии, в 1779 г. — сенатор. Однако, сам он пытался говорить и мыслить от имени «гражданина мира», что заставило его обратиться к поискам общих закономерностей в развитии общества. С 1770 г. начинает выходить его многотомная «История российская от древнейших времен» (доведена до 1610 г.). Вместе с этим он пишет ряд теоретических сочинений, посвященных выявлению тенденций общественного развития и факторов, его определяющих. Взгляды на возможное развитие общества выражены им в социально-политической утопии «Путешествие в землю Офирскую господина С. … шведского дворянина» (1786). Щербатов полагал, что в идеальном обществе право совпадает с моралью, воплощая «естественный» закон, установленный Богом. Таким образом, начала социальных проблем лежат в личностных качествах отдельных людей. Отсюда проистекает интерес Щербатова к проблемам смысла жизни и природы души — они органично вписываются в его историософскую концепцию. Этому посвящены его небольшие эссе «Размышления о смертном часе» (1788), «Разговор о бессмертии души» (1788). 221 ИСТОРИЯ РОССИЙСКАЯ ОТ ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН∗ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ! История разума человеческого нас уверяет, что везде науки последовали успехам благополучия и силе государств. Когда греческое оружие устрашало сильнейшую тогда монархию в свете, когда у них были славные вожди — Милкиады, Фемистоклы, Аристиды, Кононы, и Алкивиады, то в то же время у них процветали Анаксимандры, Анаксагоры, Архиты, Сократы и Платоны. И Август, когда Вселенну покорив, врата Янусовы затворил, когда под благополучной его державою гордые римляне свою вольность забывали, тогда Тит Ливий, Саллустий, Виргилий и Гораций славу владычества его умножали <…> Предисловие Все народы света лишь зачали иметь некое просвещение, то первое их попечение состояло — случившиеся у них деяния потомству прелагать. Разными образами таковое свое намерение разные народы исполняли: единые в память примечательных бывших у них случаев поставляли столпы, воздвигали жертвенники, установляли праздники и строили града, чему изустное преложение истолкователем было, другие же, знатные случившиеся у них дела к законным их пениям приобщая, чрез сочиненные песни память своих героев и знатных дел сохраняли; коим образом такого преложения обретаем ясные знаки, — первым в Иудейской истории, а вторым в Галических обычаях. Понеже таковы способы к сохранении в памяти дел недостаточны были, то тщились сыскать какой другой, удобнейший для сего намерения. Вскоре полезнейшее изобретение для распространения разума человеческого, способ самые свои мысли начертывать и невещество их вещественным творить — я разумею изобретение письмен — новый и достаточный способ к сохранению в памяти вещей подало. Тогда многие зачали случившиеся во время их дела описывать и древнейшие памяти прилагать. Но как изобретению сего полезнейшего способа суеверие и самовластие предшествовали, то многие прежде сего жившие герои уже почесть божественную прияли: и тако оставалось токмо дела их ∗ Воспроизводится по: Щербатов М. М. История российская от древнейших времен: В 7 т. Т. 1. СПб., 1770–1791. 222 увеличить и скрытой темнотою времен им знатный или божественный род дать, отчего родились все сии дети богов. По сем, лесть ко владычествующим над народами не устыдилась самым живущим между ими и чувствующим все немощи человеческого естества приписать божественное начало; а сами оные, видя, что сие преумножает к ним почтение народа и паче утверждает их власть, таковые приписания охотно прияли. Такие были темные начатки мирской истории, и надлежало протечи многим векам прежде, нежели естество произвело довольно просвещенных людей, дабы порядочное повествование потомству оставить. И действительно, много уже веков протекло, много знатных дел в Греции было прежде, нежели Иродот писать начал. Такие можно предложить рассуждения о начатках истории каждого народа и, конечно бы, и Российская история из сего правила не вышла, естьли бы древние ее преложения были у нас сохранены, ибо несумнительно есть, что Скифы и Словены, первые обладатели России, естьли не письменами, ибо они их не имели, то по крайней мере песнями, изустными преложениями и другими подобными способами память знатных дел сохраняли, как в знак благодарности к прежним своим благодетелям, так и для побуждения к добродетели народа <…> Предстает на сие вопрос: чего же ради в Российских летописцах таковых басен не находится, которые бы по крайней мере могли многие древности объяснить? Сие произошло от того, что Россия не так, как другие страны, которые по степеням из грубейшего невежества выходили, но можно сказать, что вдруг сделала один шаг из самой грубости, каковую кочевой народ может иметь гораздо к великому просвещению, то есть, что, принявши вдруг Христианский закон, обще с ним приобретал смягчение своих суровых нравов и письмены, которых, конечно, прежде не имел, и тогда восставшие писатели, яко первой у нас был преподобный Нестор, не токмо не тщились сохранить баснословные древние идолопоклоннические преложения, но паче у неутвержденного в Христианском законе народа старались их совсем из памяти изгнать. Вот причина, чего ради оных совсем у нас в памяти не осталось и Российская история, хотя поздно, но уже освобожденная от всех баснословий начинается. Но понеже наше любопытство не может в толь узких пределах быть вмещено, то для удовольствия читателей я за полезное рассудил начать мой труд повествованием о старобытном состоянии обладателей России, когда еще они под именем скифов, сарматов и других, под общими сими именами знаемы были. Но как мы ничего в древнейших наших летописцах не находим касающе до сих отдаленных времен, за вышепомянутыми мною причинами, то все должен был почерпнуть из иностранных писате- 223 лей, из чего введение мое и сочинил. По сем потщился, сколько силы моей доставало, изыскать о роде и о языке первенствующих князей Российских, Кие, Щеке и Хореве и, наконец, по причине соседства России с Швецией и с Польшею, также по древнепростирающейся власти Дацкой на брега Финляндского залива, я не оставил и то, что до сведения моего дошло из историй сих народов почерпнуть. 224 И. П. Елагин Елагин Иван Перфильевич (1725–1794). Крупный государственный деятель. В 1743 г. был выпущен из Сухопутного кадетского корпуса с чином прапорщика. Являлся сторонником Екатерины II еще в бытность ее великой княгиней, за что в 1758 г. сослан в Казанскую губернию. После воцарения Екатерины II был возвращен из ссылки и играл важную роль при дворе. И. П. Елагин занимался литературной и переводческой деятельностью, считается признанным стилистом своего времени (имеются сведения о том, что он правил стиль сочинений императрицы и сочинял стихи для ее комедий). Елагин — одна из ключевых фигур русского масонства. С 70-х годов XVIII в. он возглавлял так называемую «елагинскую систему» масонства, в 1787 г. получает звание гроссмейстера «Высокого Капитула». В масонстве Елагин, как и Н. И. Новиков, видел разумный компромисс «между вольтерьянством и религией». В «тайной мудрости» масонства, масонских «работах» он нашел теоретическую схему неоплатонизма, которая легла в основания его историософских взглядов. Яркое отражение елагинская философия истории нашла в «Опыте повествования о России», работу над которым Елагин начал в 1789 г., продолжая до самой смерти. После смерти Елагина был издан только один том его сочинений, остальные материалы хранятся в рукописном отделе Российской национальной библиотеки. (РО РНБ ОСРК F. IV. 651/ 1–5; РО РНБ ОСРК F. IV. 34/ 1–6). Попытки А. В. Казадаева полностью издать труд Елагина не увенчались успехом∗. Рукописные варианты содержат большие фрагменты, посвященные проблемам философии религии с надписью, вероятно самого Елагина, «не печатать». ∗ См.: С т е п а н о в В. П. Елагин Иван Перфильевич // Словарь русских писателей XVIII века. Вып 1. Л., 1988. С. 305. 225 ОПЫТ ПОВЕСТВОВАНИЯ О РОССИИ∗ ПРИНОШЕНИЕ ПРЕМУДРОСТИ Твоему, божественная София, предвечная Всемогущему неба и земли Зиждителю присущность, внушению повинуясь, восприял я труд повествования об отечестве нашем; да под руководством Твоим изображу деяния государей и героев наших, представя потомству в истинном их житии и виде, лестию не украшенном и злобою не обезображенном, и Тебе труд мой посвящаю. Ты будь ему покровительница; Ты приосени его страшным щитом своим, когда единая ненависть, злобная зависть и неправосудная жестокость отрыгнут противу трудившегося зловредные, правду гонящие козни. Не попусти яду их умерщвлять его совесть и злобно исторгать его из числа писателей бесстрастных и бескорыстных. Ты святым своим учением награди знания моего недостатки; украси слог мой священною своею важностию и увенчай цветами красноречия Твоего жертву, Тебе приносимую. Ты влей в читающих вещание мое кроткого снисхождения благоприятность, да при строгом опыта моего разборе простят могущие быть в мыслях и сказаниях моих погрешности, да припишут хлад слога моего зиме лет согбенного старца; а усердие его, занять пользою праздное их время, да воспримут вместо дара совершенного и подносящему да воздадут благосклонностию! Предуведомление читателю Не тщеславие, но непривычка к праздности и времени избыток суть виною сего сочинения. Они возобновили во мне бывшую в молодости моей ко чтению всемирного повествования охоту, которая отправлением разных в отечестве нашем должностей прервана была... Читая повествования мира сего, в размышлениях забываю естественные скорби расслабленного моего тела и ими единственно услаждаю горесть души, в бренной сей темнице заключенной... Но какое чтение может быть к сему полезнейшее и какое приятнейшее упражнение может заменить веселия мирские, как токмо созерцание прошедших веков, живописи деяния человеческие и суету мира нам изобразующие. А притом какое может быть и созерцание очам нашим ∗ Воспроизводится по изданию: Е л а г и н И. [П.] Опыт повествования о России. М., 1803. (Замечания на полях опущены). 226 прелестнейшее, как картина деяний собственного своего Отечества? Правда, вкусы человеческие во всех видах своенравны суть; но вкус чтения любителей, в некоторые жития их время, едва ли не общественно к роду повествования обращается; ибо в нем находятся и добродетели, и пороки в высочайших степенях; и читатель, чудясь первым и о гнусности последних жалея, принуждается исследовать самого себя и мысленно делами своими или веселится, или гнушается, снося их со изображенными в повествовании... <…> Я <…> прочел со вниманием многих древних и новых, и внешних, и своих о России писателей, ища в них того, что может удовлетворить и желанию и любопытству читателей, но не нашел в чужестранных, кроме незнания или завистливой ненависти, и редко правду, на презрении, однако ж, всегда основанную, а в наших ничего деяниями достойного; нет в них ни слога приличного, ни описаний важности, ни верви, повествованию свойственной, ниже внимательного к разбору дел и к услаждению читателя старания. Слабое в летописях изображение лиц действующих весьма недостаточно к возбуждению страстей правилами витийства, от писателей требуемого; и самые предлагаемые без причин и порядка действия не довольны к удовлетворению любопытства... Они, хотя и похвальным рвением раскаленные, стараются внесть дела и жития героев наших во храм незабвенной памяти, как ежели они без разбора и Владимира Первого, и Грозного Иоанна одинакими венчают лаврами; как ежели они и мятежного Хованского, и поборствовавшего по Новгородской вольности Борецкого едиными изобразуют красками; и наконец, как ежели они ни деяниям народным, ни действиям государским достаточных причин не предлагают, ниже к исследованию и открытию оных касаются... Бесполезно тратить время, когда читаем мы во многих разнолетних списках повторения из того ж Нестора, из того ж Никона, и в одном порядке, и в малом слоге разнствии. Дворские прошедших времен ведомости, обыкновенно повседневными записками издаванные, услаждают ли сердца наши? и преклоняют ли наше внимание обнародованные по тогдашним обстоятельствам указы, учреждения и постановления, древностью поглощенные? Корыстны ли любопытству нашему грамоты посольские и союзы, в веках отдаленных заключавшиеся, естли все сие не сопряжено с побудительными причинами, с нравами, обычаями и другими многими вещьми, или к расширению, или к обогащению, или к просвещению государства служащими? Все сие ни что иное есть, как бесполезное суесловие. Такое нерастворенное убедительными деяний причинами, любомудрыми и политическими рассуждениями, законов и прав естественных и гражданских приводами, и не ут- 227 вержденное притом неоспоримыми умозаключениями, и солью приятного красноречия не уваженное повествование есть скука читателю и самому повествователю посрамление. Еще и при наблюдении вышереченного великие требуются осторожности в отношении к верви повествования; ибо не терпит оно запутанности приключений, желая, чтоб единое из другого по летам и порядку истекло и чтоб сторонние вмешения, подобно малым ручьям, великую реку наполняющим, втекая в главное, от памяти самую реку не удалили; а притом несносно ему о предлагаемых вещах рассуждений хладных излишество; оно желает огня и важности, соразмерных бытию предлагаемому; требует пылкого, но краткого к объяснению рассуждения и острых умозаключений; ибо повествователь занимает кратостию наше соображение и остротою рассудок. Он учит нас любомудрию и политике, но не вводит в скучное училищ преподаяние. Се есть существенная его должность, ибо подобает ему, исследуя бытию причины, извлекать вредные или полезные следствия, и, отверзая душу и сердце действующих лиц, открывать добродетель к подражанию и порок к отвращению; его легкий и приятный слог заменяет тягостные долговременного учения труды, и, услаждая читателя, впечатлевает в чувствования его нравственных строгих правил. Он не берет ничего из древних летописей, как токмо летоисчисления, деяния и состояние государства в том времени, о котором он предлагает, и из него выбирает тогдашние законы, нравы и характеры действующих лиц и достойные к представлению приключения. Все сие вносит он в свое совоображение, разбирает, весит и, оправдав или обвинив доказательств приводами, потомству предлагает. Таковы суть древние повествователи, коих новые в образец себе принимать долженствуют. Плутарх насильно любить добродетель принуждает. Тит Ливий восхищает объятием и приведением в единство рассеянных предметов. Саллустий краткостью выборных изречений и остротою удивляет; а Тацит, испытуя глубину политики, отверзает тайные тиранства, козни и гнусность их потомству обнажая, жалеет о человечестве, кровопролитные брани властолюбивых римлян повествуя. Иродот, хладность землеописания распаляя жаром сказаний о разнородных нравах и обычаях, нудит забыть его путешествие и басни и прилепиться к истине вещаний. Таковым совокупно образцам следуя, надлежало бы и нашему повествованию быть сочиненну; но трудность предлежит едва ли преодолимая. Великие люди редко подражаемы бывают. А сверх того, в нашем едином о единой монархии повествовании долженствует сочинитель заниматься сказанием многочисленных дробных монархии деяний; ибо все удельные княжества собственною политикой и властолюбием от средоточия или великого княжения отдаленные, в том же и 228 едином круге вмещенные суть и в отношении к средоточию единое политическое тело России составляют тело, подобно Германии, когда она на феодальные правления была раздроблена. Притом нашему писателю подобает начать труд свой победою суеверия и страха, сих двух издревле в нас впечатленных страшилищ. Не легкая, однако ж, победа толь сильных исполинов, которые многие веки всех дееписателей наших в узах рабства содержали! За сим обязуется принимающийся за сочинение прямого повествования нашего дать источникам, из которых их почерпать будет, на место излишней их протяженности, краткость нужную и баснословие заменить истиной; усладить суровость их слога красноречием и беспорядок наградить единством и простотой сказания. Подобает ему спомоществовать невежеству и предубеждениям любомудрия рассуждением, которое, объемля все части начертаемой картины, свойственные растворить ей краски и неискусство древней кисти исправить лепотою новейших живописцев. К подражанию великим писателям не довлеет, однако ж, единого природного рассудка, но потребно и учения, и опытности. Я прейду молчанием дар убедительного красноречия, дар, в училищах не приобретаемый, но щедротою естества в человека внедряющийся. Витийства правил и цветов словесных удобь возможно научиться, но природного сладкоглаголания, приятного для слуха, ударения и сложения речей и прелестного воображения никакое училище преподать не может, равно как и мыслей, и изобилия. Потому видим мы многих писателей, учеными красотами сияющих, но принужденно ученый их слог есть мука читателю и поношение учености, а украшение не к месту славянчизною есть зараза творцов несмысленных. Мы вкратце рассмотрим здесь, каких наук и знаний требуется от повествователя и какие особенно предписует искусный Мабли в своем наставлении. Он предполагает, во-первых, любомудрие яко основание всем рассуждениям нашим, а к предложению рассуждений доказательства необходимы суть; следовательно, порядок предлагаемых вещей, верность доказательств и точность мыслей не меньше нужны, как и само любомудрие, чего без знания умозаключительных правил, которые при самом начале всех любомудрия частей учащимся под именем логики преподаются и без грамматики яко первого в словесности каждого языка основания никак достигнуть не можно; а потому логика и грамматика суть столь необходимые всяческому писателю знания, сколь и самая языка азбука. Чрез них бо непосредственно увидит сам повествователь, сколь нужно ему учение прав естественных и народных, ибо не знающий первоначальных законодательной власти уставов не знает долга человека и судии, повелителя и исполнителей, а не знающий прав народных, относительно одного народа к дру- 229 гому, не может никоим образом рассуждать о справедливости и несправедливости предприятий и деяний, им повествуемых. Кто ж не ведает пределов, как далеко законодательная и исполнительная простирается власть, тот отнюдь не удобен при внутреннем между владетеля и подданных несогласии решить их раздоры, а тем меньше может определить достойное достойному осуждение. Мнимые в науке сей знатоки часто по самомыслию в крайнее впадают заблуждение. Пример нынешних новых во Франции любомудрцев доказал незнание их полезной сей науки потрясением законных монархии оснований. Пример гибельный Франции и зловредный человечеству! Для того истинный и прямо просвещенный писатель яда сего убегать должен и уйдет, когда ради совершенного и беспристрастного в таковых нежных разбирательствах определения станет утверждаться более на основаниях введенной уже политики, нежели на своенравии и своемыслии, и покорит ум свой не блестящему, но существенному учению. Великий Лейбниц, Гроциус и Пуфендорф покажут ему путь, по которому рассуждения его простираться долженствуют. Сии учители не столь блестящие, как Вольтер, Жан Жак Руссо, Даламберт и прочие, но в учении и в знании прав и законов государственных столько превосходны, сколько те дерзки, безбожны, своевольны; ибо первые столько глубиною премудрости нравы и сердца общежительствующих людей к благоденствию приуготовляют, сколько последние природного сладкоречия ядом общества под личиною самохвальных добродетелей развращают. Естественных и гражданских прав к знанию присовокупляется учение благочиния государственного, или политика: наука весьма глубокая, размыслительная; ибо она сугуба по действию и одинака по существу. Заключая в себе и Божество, и человечество, она имеет основание на непременных естества законах, ради блаженства рода человеческого на сердцах человеческих начертанных. Сии законы во все времена отрадою человека были и до конца веков пребудут. Они просты и кратки, понятны, следовательно, никому в обществе к выполнению не трудны суть. В них видим врожденный в первородного человека и равенству сынов его преданный завет Божий, велящий каждому человеку «любить Бога паче всего, почитать Его яко сотворившего нас Отца и для того не забывать, что мы равно, а не исключительно его чада есьмы, а потому обязаны любить ближнего, яко брата, или паче, яко самого себя». В сих двух заповедях содержится божественная и непреложная политика, неразрывный в общежитии союз составляющая и утверждающая. Она есть тот естественный во всех обществах закон, который неколебимое блаженство их устроевает. Если бы лю- 230 ди по разности их состояний не нарушали никогда сего святого закона, то всякое бы зло удалено было от человека. Другая политика, не меньше для государства необходимая, есть творение ума человеческого. Она извлечена из опытов и искусства по долговременному сожитию. Первое ее правило есть обязательство всех и каждого повиноваться властям предержащим. Она помрачает иногда рассудок человеческий и тем самым обуздывает своевольство человека. Она, хотя отступает иногда от божественныя воли, но всегда ею ограждается; ибо установление и содержание веры ублажает она, собственным своим основанием почитая. Иногда старается она угождать прихотям нашим, снисходя на изобретение мечтательных нам выгод для твердости обуздания нашего, ко блаженству общества нужного. Но рассудительные политики никогда до крайности мечты сея не простирают, ибо излишнее народа ослепление при открытии глаз его часто неприятный самой политике производят оборот. Подверженное ею в управлении человеку подобное человечество, при неумеренности коварства ее, может от дремоты своей возбудиться и явить силу естественных стремлений к расторжению всяческих связей, природою в душе нашей не утвержденных, от чего неминуемые в политическом теле происходят волнения, бурею мятежей угрожаемые, а возрождаются своевольства и бешенства народа: две такие гибели, которые надолго несчастные по себе оставляют знаки. Чего ради при разборе таких пагубных обществам приключений надлежит повествователю тонким ограждаться искусством, чтоб, защищая иногда прошедших веков истину, не дать развратному своевольству оружия против истины господствующей. В сохранение сего правила надлежит ему политические ошибки и народное буйство исправлять больше божественной политикой, нежели обнажать пружины, политики ухищренные. Нагота сих пружин, устроенных от начала обществ к приведению в движение и обуздание политического тела, удобна иногда и самый кроткий народ в плотоядную обратить гидру, ему самому смертоносную. Народ повсюду несмыслен, а потому не любомудрием приводится он к желанным устройства его понятиям, ниже глубоким учением исцеляются его язвы, но святостью веры и твердостью законов гражданских неистовство его связуется. Итак, при познании, для чего законодатели правила ухищренной политики к сохранению блаженства народного поставляют необходимостью, надлежит повествователю знать совершенно душу и сердце человеческое, которые от врожденных в человека чувствований свободы никогда не заблужаются. Нежное ж сердца человеческого познание не инако приобретается, как чрез долговременное действий человеческих примечание и чрез 231 непрерывное чтение славных любомудрецов, пред нами бывших и великие в нравственной науке успехи показавших. Продолжительное с людьми обхождение научает нас познавать наклонение сердец ко благим и злым покушениям, а из писаний мудрецов поучиться тем их стремлениям, которые они к блаженству общему употребляли. В них находим, какими уставами великие политики и законодавцы и самые проповедники старались исправлять нравы и утверждать оное блаженство, приводя людей к тихому и спокойному житию, как в свобододержавных обществах или республиках, так и в монархиях, и как они учили повиноваться властям предержащим. По таковым познаниям удобь возможно учиниться ему судиею предлагаемых им деяний, ибо ясно будет он видеть для чего так, а не инако делалось, и кто из действующих погрешил лиц. Паче всего подобает повествователю быть чужду и слепого суеверия, и дерзкого неверия. Суеверие бо творит из него слабого о мятежных народах предприятиях судию, ибо опытности доказывают, что народные возмущения часто пустосвятством и мечтательным веры оскорблением возрождаются, а, следовательно, его суеверие и праведное мятежникам наказание почтить и проповедовать будут тиранством и церкви унижением; напротив того, неверие, и самую святую истину отвергая, заразит ядом своим его благонравие и позволит ему, ругаясь верою, связуемому повиновению противопоставлять распутство и приводить в своевольство народ. Наконец, и самая справедливейшая власть в мозгу такого безбожного писателя может обратиться в неправосудие и мучительство... Тацитова летопись и сочиненные им некоторых римских тиранов частные жития будут мне предначертанием, которого в Опыте моем предпочтительнее держаться намерен. Тацит пленяет меня своим сказанием, когда в летописи бытие и воинские народа римского предлагает подвиги, и прельщает сердце мое своим беспристрастием, когда повествует о кесарях и их царствовании, самое то же и мне предлежит. Непрерывная римлян война, яко в зерцале, наши кровопролитные представляет мне брани, а неистовство кесарей яко бы нарочно многих наших изображает владетелей. Равных с Тацитом красок, к различным токмо картинам, мне потребно. Итак, занимая у него, могу я с успехом пользоваться, подобно слабому ученику, списующу с подлинника великого живописца, или подобно робкому Рафаеловой кисти подражателю. Имея сего великого повествователя в образец, стараться я стану, сколько силы мои дозволят, недостаток искусства и способностей моих награждать правдолюбия и искренности духом. Сие сугубое души моей свойство, не обинуясь, открываю я в объявлении пособий, кои удобными к поспешествованию труда моего почитаю. 232 Искушенный летами и долговременным отечеству при трех разных царствованиях и, наконец, в важнейших внутренних должностях служением наставленный, ласкаюсь я быть удобным к исследованию прошедшего времени деяний, уподобляя оныя приключениям, в глазах моих происходившим. Тогдашние учреждения и положения государства, снося с настоящими, кажется, не заблуждуся в определении причин действиям и в цене полагаемым причинам великой ошибки сделать не уповаю. Известно мне, что сердце человеческое всегда одинако и то же ныне, каково было от самого веков начала. Я ведаю, что те же добродетели и те же пороки и страсти присущны и ныне в Петербурге и в Москве, какие в Афинах и Риме существовали. Не изменение сердец, но больше и меньше просвещения и невежества творят нравов разновидность, а природа та ж всегда пребывает. Иоанн в Москве таков же тиран, каков и Нерон был в Риме. Каков там возмутительный Катилина и мятежны трибуны, таков и у нас Хованский и головы стрелецкие. Как безрассудна и буйственна необузданная чернь в ветхой Италии, так равно и в Руси возмущенный народ слеп и кровожаждущ. Каковы чувствования властолюбия находим в Англии в герцоге Глочестерском или Ричарде III, лицемерно от престола отрицавшемся, такие точно видим в притворном Бориса Федоровича Годунова сердце; и сколько тамо при Генрихе VII обретаем бесстыдных самозванцев, гораздо еще более таковых исчислим при Василии Иоанновиче Шуйском. Сего естественного в человеке сходства познание много, кажется, может вспомоществать к справедливым умозаключениям и в самых запущенных между человеки делах. Притом истину любящему с примечанием в общежитии долго обращавшемуся в обхождении разного состояния людей многолетно бывшему, прилежным чтением законодавцев, политиков, любомудрцев и разнонародных нравов описателей запасшемуся, конечно, удобь возможно проникать и в самую глубину сердечных сгибов лиц действующих. Естества позорище то ж и те ж добродетели и пороки на нем представляются, следовательно, разность токмо в премене одежд и явлений, кои иногда смех, иногда слезы в зрителях производят... Я, наблюдая строго все дееписателями нашими оставленное, стараться стану, поелику возможно, представлять во всеобщей картине разность частных деяний, до целого государства нашего тела касающихся, и краткости ради, хотя подробностью удельных княжений не обременю читателя, однако ж не оставлю его несведуща политические связи, чтоб смешанные на одной картине изображения внимания его яко зрителя не рассеяли. Все вышереченное, в единую собирая точку, стану я разбирать и, достойное из целого и частного повествуя, не дозволю себе ни боязни, ни любви ради 233 утверждать писателей наших ласкательство или невежество, ниже злобе их или суеверию следовать, и происходящую из их предубеждений ложь не восприму за истину. Мысль моя не будет лицеприимством управляема, ни рука страхом водима, ниже перо в желчи омочено. Искание правды и беспристрастное оной представление суть правила, которых я во всем моем Опыте держаться стану. Все силы мои устремлю на омерзение пороков; всю возможность приложу ко приведению в любовь добродетели. Ободренный человеколюбивым Великия ЕКАТЕРИНЫ II гласом, потщуся низложить жестокость и, ее божественными огражденный законами, постараюсь человечеству доставить торжество. Небрежение и недостатки дееписателей наших намерению моему не препятствуют, я стараться стану наполнять находящуюся в них пустоту внешних творцов достоверными свидетельствами, и разборчивым их с нашим сношением не оставлю проникать до побудивший последних к молчанию вины. Иногда, довольствуясь единой вероятностью, стану полагать мои заключения, подобно химику, металлы добрые от негодной нечистоты пособием сторонних примесов отделяющему. Притом и собранное трудами новых писателей наших великое преданий количество послужит мне ко многому моего труда облегчению, когда из ветхия неутомленным трудом исторгнусь древности и вниду в новое политическое отечества нашего устройство. Я, похвальными собраниями их воспользуясь, не премину прилагать к ним всего моего внимания, и, в насажденной ими роще прогуливаясь, потщусь с размышлением пожинать и терние, и зелие к отвращению, а цветы и плоды ко услаждению читателя. Пожатые с их тучных нив плоды стану возлагать на весы справедливости и рассудка здравого, да несомненное равновесие откроет мне пороки правительства и страсти владетелей и вскроет завесу заблуждений подданных и своевольства мятежников. Тогда извлеченная из мрака истина сама о себе поведывать и верное предлагать будет заключение. Тогда очищенная сомнительством вероятность, вспомоществуемая непреложными естественного и гражданского закона доказательствами, ежели не явит справедливости, то, по крайней мере, заступит ее место. Тогда покоящаяся на общественных политических основаниях взаимность членов государственных отверзнет мне источник и дерзкого непостоянной черни возмущения, и вредные самовластия оплошности; да всех состояний люди, с полезным должностей своих напоминанием, читают Опыт повествования моего; да научится народ, что без законов и строгого оных наблюдения блаженство его в безначальстве существовать не может; да узнают и власти земные, что в беспредельном насилии и неправосудии кроются собственные их беспокойства, опасность и бедствия, иногда неисцельные, чему 234 в обоих случаях несчастная Франция кровавые примеры ныне показала. Я ведаю, что зловредное ласкательство бесстыдно творит государей богами, уставы естества побеждающими, следовательно, и разумными и ученейшими паче всех смертных. Я ведаю, что по таковому их предубеждению и дерзко, и тщетно предлагать им правила о правлении писавших творцов, дерзко, понеже редкие из них хладнокровно взирают на осуждение пороков; тщетно, понеже редко достает им времени на чтение нравственных писаний. Но сие, однако ж, не должно ни любомудрца от нравоучительныя удерживать проповеди, ниже дееписателя принудить к промолчанию пороков их прародителей. Ежели к просвещению государей и не служат такие писания, по крайней мере, гнусность ласкательства в читающих омерзить они удобны. Иногда новость книги и государево побудит любопытство, естьли не к прочтению, то к просмотрению некоторых листов; а сего и довлеет благоразумному государю, довлеет ему, когда нечаянно узрит он мерзость живого и ласкательству изображения. Тогда, яко в волшебном ренальдовом зеркале, откроется ему, что ласкательство есть смертная отрава самым добродетельнейшим и самым разумнейшим государям, добродетель и разум их умерщвляющая. Ласкательство бо приемлет разные, по разности характеров государских личины, и под ними тайные свои виды скрывая, обращает их в виды государевы. Оно твердит повсечасно, что нет ему иной укоризны, кроме суда Божия, а иногда в бесстыдном стремлении и непреложность его отрицать дерзает. Оно гонит от государя и погубляет истины вещателей. Оно занимает часы его забавами и время, иногда на правосудие определенное тщеславием, как некогда юного Нерона в дурного стихотворца и мерзкого гаера неумеренная похвала и рукоплескание его из кесаря обратили. Оно отвращает его от полезного обозрения пружин правления, которых он есть двигатель и исправник и которыми он всю политическую махину в движении содержит. Оно разнообразным кощунством пресекает его размышления и, почерпаемую из книжного источника целительных врачевства воду, шутственно в питие бесплодное обращает и самые душеспасительные источника сего струи ядоносным глумлением в отраву претворяет. Сим лишает государя единственного к уврачеванию иногда скорбящей его души пособия. А понеже в роде человеческом никто не изъят от больших или малых нравственных слабостей и пороков, подобно как и от телесных болезней; то никому никто и от врачевства в обоих случаях не исключается. Подданные имеют над собою власть, законы, уставы и силою оных врачуются, а государь имеет совесть и, оную обновляя чтением, сам себя врачует. И к сему точно нужно есть государям познание 235 предков их пороков, да оное подает врожденной совести их душеспасательное врачевание; но казни достойное ласкательство и сея цельбы часто их лишает, погружая в дремоту праздности и недеятельности... ОПЫТ ПОВЕСТВОВАНИЯ О РОССИИ (неопубликованные фрагменты∗) О непорочном источнике многобожия <…> Искусство показует нам, что точка и единица суть единознаменующие математические в мыслях предположения, и как точка без черты, так и единица без последующих чисел не могут быть делимы, но оба знака производят от себя вещества и постижимые, и многоразделенные, яко точка, черта, окружение и все геометрические виды и тела, а единица числа до бесконечности. А понеже все видимое состоит из меры, века и чисел, то и предположенная, в воображении любомудрецов, единица есть самая творению вина, ибо, как вышесказано, пред нею нет никаких, а из нее истекают все последующие числа. Так равно и пред существом первоначальные вины, ничего впереди быть, ни вообразить неудобвозможно, следовательно, из сего существа всему естества творению и в нем движущимся телам, меру вес и числа в недрах их содержащим, яко числам из единицы произойти беспрекословно подобало. ∗ Публикация осуществляется по рукописи, представляющей собой переплетенную писарскую копию с обширными правками самого Елагина (РО РНБ ОСРК F. IV. 651/ 1). На титульном листе рукописи имеется дарственная надпись А. И. Мусину-Пушкину: «Список сей, хотя несовершенен, но мною немного поправленный, предаю я другу моему Алексею Ивановичу Пушкину яко охотнику и достаточному в повествовании Русском знатоку. Желая, чтобы сочинение оное послужило ему навсегда залогом дружбы и почтения, с которым я был и буду до конца моей жизни, взамен того прошу содержать сей труд мой, не только не совершенный, но и неисправный, в таинстве от любопытства по предписании в предуведомлении». Данные фрагменты (Лл. 53 об.- 84) — часть введения, посвященного проблемам философии религии. Елагин не собирался его печатать, о чем свидетельствует соответствующая надпись, сделанная его рукой. Во второй, отредактированный вариант рукописи (РО РНБ ОСРК F. IV. 34/ 1), а тем более в издание «Опыта…» эти фрагменты уже не попали. Ряд сокращений текста отмечен <…>. Иногда выделены абзацы. Опущено деление на параграфы и «отделения» воспроизводятся лишь названия разделов. Не представлены замечания на полях. 236 Любомудрцы, признав умозаключение сие сколько справедливым, столько и неоспоримым, приступили к исследованию изобретенных в глубокой древности иероглифов, божницы идолопоклонников украшающих, и вдруг узрели, что понятие о вечности, яко первого первоначальной вины свойства, изображалось светозарным кругом, точку или единицу в средине имеющем; и, действительно, сей есть первый иероглиф существа всех существ, по чувствованиям телесным, который должен был Ермию Трисмегисту1 к представлению Бога, удобовозможнейшим и приличнейшим показаться, ибо и Моисей в откровениях Бога истинным сказанием утвердил его, показав вечное Божество в купели несгораемой. Естество не может нам ничего тончайшего явить, как пламя и от него происходящий свет, и потому образ сей представлялся шаром пламенным светозарным, окруженным лучами. Мы и в христианстве видим его в том же вечности знаменовании, главы праведных окружающим. Заметив сие толкование, обратили любомудрецы внимание свое на другой предмет, не меньше повсюду зримый. Оный был равносторонний и равноугольный треугольник, украшение общее божниц и капищ предверий. Все народы, без исключения, к изображению сему отменное являли почтение, но что оно знаменовало, того никакое умствование без откровения постигнуть бы не могло. Моисей Боговидец открыл, однако, смысл его любомудрию. Он обнажил сие таинство сокровенное в богословии Ермиевой, сказанием о Авраме, когда предвечная Троица — Отец и Сын, и Святой Дух, — в трех лицах под Маврикским дубом2 сему праотцу рода человеческого явилась. Толкование сего смысла, к треугольнику любомудрцами привмещенное, утвердилось воплощением Сына Божия и проповеди евангелистов. Сего ради видим мы изображение того ж треугольника, который украшал капищи идольские, не только в предверии церквей христианских, но и на главе Господа Саваофа, яко Ветхого Деньми и Отца единородному Сыну и Слову, по изречению Иоанна Евангелиста, «яко без него ни что же бысть, еже бысть». 1 Гермес Трисмегист (Трижды Величайший) (V–IV в. до н. э.) — легендарный основатель алхимии и тайного (герметического) знания. Согласно преданию, по приказанию Александра Македонского на его могиле были начертаны тринадцать заповедей «Изумрудной скрижали» (Прим. — Т. А. ). 2 Быт. 18 (1–33) (Прим. — Т. А. ). 237 О начале идолопоклонства и жертвоприношений Но как толь глубокие божественные премудрости смысла и из самых великих еллинских любомудрецов, кроме богодухновенных, немногие участники были и из почтения в крайней содержали тайности, то испытатели чувственного естества потщили искать иероглифу сему толкования в самом телесном естестве. Умствование их к сложности вещей прибегло и помощию опытной физики открыло в нем смысл второй, то есть не предвечного таинства, но порядка стихий вещественных. «Понеже, — рассуждали они, — изображение сего треугольника непосредственно во многобожеском почитании следует за изображением огневидного шара, бездну вечности знаменующего, то надлежит самому ему быть непосредственным следствием, от сего вечного огня исходящим». Сие предложение в опытах естества нашли они беспрекословною истиной, ибо физика открыла им, что в веществе огня находится и вода, и земля, но, будучи им поглощены, суть невидимы, так как и он сам и воде, и земле невидимо присущен, когда превосходным последних количеством погашается. Испытатели, поступив далее, увидели, что в непрестанном сих стихий противуборстве состоит все видимое естество; итак, изображение естества и вид сего треугольника быть определили. Окружающие его лучи признали они воздухом яко четвертою стихией, прочие три в равновесии содержащую, в движение их приводящую и тем своим действием жизнь целому естеству дающую. Тако, познав любомудрие таинственный смысл треугольника, соединило его с естественным о пламенном шаре понятием и преодолении невидимого Божества в представления видимого вещества обратило. Сие самое физическое учение много способствовало жрецам к сокрытию единства Бога, ибо, оградясь они непрекословными опытам, нашли способ всемогущество единого творца на разновидные поделить твари. Се корень многобожия, при котором надолго Вселенная оставалась. Род смертных по внушениям духовенства преклонил пред Солнцем и Луною раболепные колена и к ним в самом начале многобожия первые простер о плодородии земном и о продолжении жизни своей молитвы. Учители ложные говорили ему, что жизнь своечастного творения от них зависит, ибо они — суть боги1 бессмертные, боги небесные. В дейст1 Елагин везде пишет слово «Бог» с заглавной буквы, даже в тех случаях, когда речь идет о языческих богах, сложных словах, типа «многоБожие», «много-Божие», «много Божие», «единоБожие», «полуБог», а также «Богослужение», «Богомудрие» и т.п. Это отступление от обычной орфографической традиции XVIII в. показывает принципиальные установки Елаги- 238 вия Солнца являли они ощутительное учению своему доказательство. «Не видите ли, — говорили они, — что в отсутствие светила сего вся тварь предается смерти, подобной сну, и в осень умерщвляется всяческое растение и летнего лишается многообразия. При восхождении ж Божества сего силою светозарных его лучей оживляется вся плоть. Земнородные земным светом ободрены, пробуждаются от сна, и ветви древес животворного лучей его теплотою обновляются. Тако живет и умерщвляет оно живущих на земли. Не видите ли, что супруга его, заимствующая от него свет, Луна, знойную его ярость прохлаждением растворяет, и оба вкупе дают пособием воздуха, яко единородного сына их, богатую жатву и плодородие». Сим учением поместив в треугольнике три Божества, наименовали их жрецы египетские, первыя кумиров зиждители, Озирием, Изидою и Гором. Умножение кумиров От сего мечтательного, но на действиях естества основанного рода богов произошло все зримое в идолопоклонстве количество кумиров и потом умножено истуканами героев, победителей и государей, как добрых, так и злых, с привмещением первых в число полубогов, а других в ужас жестокостью управляемым обществом. Из первейшего в образ пламенного Шара, божественного представления, не видим уже в повествовании мира, не говоря о европейском народе, ни малейшего нигде последствия, кроме единого в Афинах храма, неизвестному богу посвященного. В нем едином не было ни кумиров, ниже каких-либо идоложертвенных украшений. Прочие же во всей Вселенной храмы или частно единому, или множеству кумиров посвящались. Четыре естества стихий дали зодчим общие почти правила, создать капища четырехугольниками во знамение, что телесное естество из четырех состоит стихий и что каждая из них четверочисленна, ибо одна без трех существовать не может, будучи совокупным смешением и непрестанным противуборством, в животворном содержимы движением. Времена и дальние естества исследования явили, наконец, любопытному учению, что все кумиры, многобожие составлявшие и наименование оным, [не] что иное суть, как представления свойств и действий естества, и хотя они в разнородных баснословиях различны и разноимянны, но в существе одни и те же. Снесение с народною египетскою верою, которой ни многобожие ни древнее не обретало, с протчими народов верами, потщусь я пона — видеть в любых упоминаниях божественных сущностей проблески постижения единого христианского Бога. (Прим. — Т. А. ). 239 казать, что первобытные верные обитатели и пришедшие к ним наши праотцы, подобно всем шара земного и просвещенным и в невежестве бывшим обитателям, туда веру, под разными токмо видами не поведали, то же богослужение и те же обряды в жертвоприношении наблюдали: одно и то же по виду было суеверие, но инде больше, инде меньше знаменования кумиров известны были. О многобожии повсюду равном Рассеявшееся по земле от Египта многобожие и в Севере то же самое Я для того необходимым себе долгом поставил распространиться в повествовании суеверия, что оно есть противуборное постановление веры, на которой всяческая в обществах политическая власть твердость свою полагает и от которой большей частию нравы и обычаи народные истекают. Важность предложения сего есть существенная повествователя должность, особливо когда он из тьмы баснословного первоначалия хочет извести деяния описуемого им народа и отчасти его дикость в политическом показать благонравии. В сем точно обстоятельстве находясь, обращусь я к источнику идолопоклонного суеверия. Объявил уже я, каких ради причин и когда самовластие возродило нелепого многобожия почитание. Оно на Востоке вдруг с монархами открылось и первое известное нам гнездо свое в Египте основало. Здесь находим мы начальное богов родословие, ветви которого распространились по всей Азии, Африке и Европе с преселением народов. Фивы, Эфиопия, Аравия, Нубия, Сирия, Халдея, Вавилония, Персия, Мидия, Индия, Греция, Италия и все народы, в древней Германии обитавшие, восприяли от египтян и многобожие, и уставы идолослужения, и самое идолов изображение. Хотя по отдаленности времян и начал по забвению некоторых в наружностях премены и находим, но в существе одно и то же суеверие быть уразумевает, и, по мере познания сей баснословной веры и ее иероглифов, видим и суровость и мягкость народных нравов. Египет, от неведомых веков учением славящийся, для укрощения варварства поставил первый политический род правления, поделив законодательную власть между монарха и духовенства. Жрецы его, став полезными для непросвещенного народа, ремесел и художеств учителями, стали быть и государей на престол возводили, содержа и воспитывая наследника в училищах своих. В самом начале вводимого ими многобожия погрузили они в непроницаемое таинство книги Ермия Трисмегиста, основания всего Египетского учения, однако же преподавания свои по его предписанию на 240 две части и на сугубое училище разделили, назвав их высшими и низшими в таинства посвященном. В последнем преподавалось словесное, нравственное, политическое и естественное учение, а в первом — богомудрие и объяснение всех иероглифов и толкование всех знаменований, кумирами представляемых, с истинным идолов родословием открывалось. Все таинства их посвященные в низшем училище нравы и сердце свое просвещали, творясь к правлению государством удобными, и сам наследник престола при воспитании его во оное посвящался, но как он, так и прочие вельможи редко до познания высшего допускаемы были. Сия часть любомудрия египетского следующее толкование нам оставила чрез многих своих любомудров. Первый и самый древнейший иероглиф, как уже выше объявлено, виден был повсюду в образе огненного круга, животного света лучи испускающего. В нем почитали мудрые жрецы истинного Бога, творца Вселенной, и изображение, подражая Ермию, утверждает Псаломник, вопия: «Одеяйся светом, яко ризою». Толкование ему было простое, но сильное. Называли они его «беспредельность», «безначальность», «бесконечность», «вечность», ибо никаким иным понятием величества Божия изобразить сим не находили. В объяснениях таинственные их премудрости прилагали они без наименования Богом все качества, единому Богу соответственные, и сие предвечное пламенем и светом изобразуемое существо называли Единым, несотворенным, вечно живущим, все сотворившим, жизнь дарующим, неведомым, неизреченным, духом и отцом богов и человеков, как согласно с ним и Моисей его описует. По таковому объяснению всяческое почитание и богослужение недостойным величества его почитали. Но финикияне, однако ж, примыслили ему изображение в неугасимом огне под именем и образом Вулкана, и сие имя по истолкованию их знаменует чистейший, тончайший и первоначальный огнь огня телесного. Отсюда произошла у них Веста — матерь всему видимому, ибо огнь есть вина, или начало, стихий, отсюда и устав неугасимого огня пришел во все концы земли. Понравилось сие телесному естеству подражательное изображение любомудрствующему сонму жрецов египетских, и, может быть, еще первейшему их законному Трисмегисту, чего ради, по свидетельству всех о Египте повествователей, первый в Египетском царстве храм создан был Вулкану. Объяснение идолу сему, яко важнейшее таинство, погребли они в учрежденном при храме сем высшем училище, где в первоначалии и Ермиевы священные хранились книги. От сего изобильного источника пролилось многочислие богов на землю; подобно сильному наводнению, разнообразными представлениями покрыло. Египет первых и уже из памяти народной изшедших царей своих, благо- 241 творивших обществу, увидел выставленное на зрелище изображение, и Вулкан из тончайшего и невидимого огня волею жрецов преобразился в очень видимый, уступая таинственное свое знаменование Солнцу яко чувственному шару огненному, вещество которого образ Озириев представлял и наименовался Отцом богов и человеков. Но как единое рода мужеское вещество к производству подобных себе недостаточно, то сочетали Озириса с Изидою, его сестрою, стихию воды изобразующую. Естественно, таковое сочетание примышлено. Огнь есть вещество, все пожирающее; стихия, все в пепел и прах обращающая, и токмо единою водою ярость его укротила, а потому и подобало прохладительного к нему тела небесного присоединения, да противуборством оного приведется он в равновесие земли благотворное. Сего ради росодательную Луну, в образе Изиды представив, наименовали сестрою Озирию, богинею небесною и матерью всяческого рождения. Землю яко третью ближайшую им стихию, известную по опытности, что она и огнь, и воду пожирает и от них тягостию своею отделяется, изобразили жестоковыйным Тифоном, не терпящим благотворства брата и сестры. Толкование изображению сему естественное приложили, сказуя в таинственных преданиях, «что земля, или свирепство Тифона, содержа в бездну средоточия огнь неугасимый, есть смерть и могила всяческой жизни, от Солнца и Луны производимые и посредством или действием питательного воздуха содержимые». В таком рассуждении воздух яко четвертую стихию представили они в образе юного Горуса, сидящего на лоне Изиды, матери его, яко посредника между Тифоном, убийцей отца его, и Изидой, мстящей Тифону смерть Озирия, ее супруга. Прекрасная баснь, объясняющая все действия телесного естества и самое естество, в четырех лицах сил кумиров предуставляющая, ибо в деяниях естества по свидетельству вседневного искусства видим мы, что Тифон, стихию земли изобразующий, умерщвляет животворное действие Солнца, пожирая его лучи и производя неумеренную сушу, тогда Изида, или стихия воды, сушью притягиваемая, порывистым стремлением дождя заливает иногда иссохшие места, толь сильно, что и о собственном своем небрежет плодородии. Сего мщения алчбою не умерщвлением жизни виновника яростию отмщает, но и утробу собственных семян своих губит и в гнилость бесплодную обращает порождения. Однако же Горус, супружества ее чадо, яко посредник, стихию воздуха представляющий, умеренностью своей спешит отнять у борющихся излишество сил и благоразумною своею силою одного жестокость прохлаждает, другого лютость в коловратном чрез пары движении, уносит в ее и свои обители, то есть в атмосферу Луны и Земли, между которыми, яко на лоне Изидином, сам он распростра- 242 няется. Таким образом, естественные четыре стихии учинились главнейшими четырьмя божествами в Египте, но смысл, в представлениях их погруженный, в тайном токмо учении остался. Озирис, Изида и Горус яко благотворители роду человеческому милосердия надеждою ласкали, а смертоносец Тифона страхом мщения обуздывал народы. В Мемфисе созданный великий храм, поместив их в великолепных стенах своих, трем первым открыл идоложертвенное собрание, поставив истуканы их на зрелище народу, а четвертого, в особенном мрачном месте, учинил страшилищем. Были потом и каждому из них особенные посвящены капища и целые грады, как, например, греками называемый Илиополис, или Град Солнцов, единому Озирия тезоименитым был. От сих богов, или, паче сказать, от стихий, ими представляемых, произошло все родословие языческих богов. Разнообразные свойства и действия, в естестве ими производимые, умножили потом многобожия число. Египет паче всех изобиловал представлениями рукотворными и, наконец, под символическим смыслом распространил суеверие в почитании животных и самых растений. Иждивение великое употреблялось тамо на прокормление и содержание боготворимых жрецами скотов. Апис, или вол, представлял Озирия, или Солнце. В отношении к действиям знаменовал хлебопашество, по объяснению жрецов. Они символ сей употребительно толковали, поучая, «что как Солнце благотворно своею теплотою оживляет семена, в землю кинутые, так вол, подъемля и раздирая бразды, плодородию земли споспешествует». Подобное толкование и обожаемой реке Нилу прилагали, что как Изида «яко от воды растворяет сухость земную и в согнитии семян растительную отвердевает жизнь, так и Нил годичным наводнением обогащает растениями жит землю Египетскую, и как Тифон лютостию смерти пожирает земнородных, так представляющий сего крокодил глотает встречающегося ему человека. И как в изображении Горуса стихия воздуха, окружающего шар земной и равновесие других стихий наблюдающего, почиталась, так бдительный журавль или грач боготворился в сонме питаемых животных, и сама стихия земли то зверками, в недрах ее живущими, то насекомыми, то растениями вредными или спасительными представлялась, смысл и знаменование по природам и свойствам своим относительно к стихиям имея». Священные египетские письмена, или иероглифы, состоят из сих животных и иных некиих изображений, таинственный смысл в себе заключающих. Сходство сему скотов почитанию находим мы в Моисеевых книгах, когда он чистых и нечистых животных разбирал, одних приносить в жертву Богу повелевает и других возбраняет. 243 Итак, Египет был первою утробою многобожие породившего, из его чресел прешло оно в недра Греции и еллинским баснословием размноженное всеобщею на шаре земном учинилось верою. Повествование свидетельствует нам, что египтяне были первые, кои храмы и алтари созидать начали, и Геродот особенно объявляет, что они и двенадцать главных богов имена Греции предали, которые, в родословии греческом по свойству языка, сходно с их знаменованием остались. Седьмь небесных по звездочетству планет прозвали первейших божеств именами, четыре дали четырем стихиям название, остальное целому вообще естеству телесному, и из священных иероглифов, с присовокуплением полубогов и героев, дали имена как двенадцати знакам небесных в коловратном солнечном круге, так и многочислию звезд. Отсюда явились в самом начале греческих обществ и Сатурн, и Рея, то есть небо и земля яко первые в видимом мире к творению начала, света и мрака, в хаосе или смешении стихий знаменующие. От них на место Озирия и Изиды видим уже рожденных Зевса и Юнону, брата и сестру, или Солнце и Луну, которые рождают вместо Горуса Египетского Вулкана Греческого. Баснь сию вывели греки из объявленного прежде финикийского вулкана, или, паче сказать, из коренного телесному огню начала, которого существо, то есть безначальный свет, отнесли к лицу ветхого Сатурна; а действие его в вечном естестве его, Вестою или неугасимым огнем изобразуемое, к Рее, богов прародительнице. Озирия же изменили они на Зевса, предположили в нем, уподобительно телесному Солнцу, все оживотворяющему, существо животворящее, и потому сочетающего вместо Изиды или Луны, со Юноною, то есть с мыслию, единственного Бога, ибо речение гражданское ноос1 заключает в себе мысль одинакого, или Единицы. Сего ради, по их попечениям, необходимо надлежало от четы сей родиться Вулкану, яко существенного огня вещество знаменующему, и, следственно, подобало Вулкану жениться на Венере или Весте, то есть не на непрерывном, к оживотворению естества огневодном движении, ибо Венера есть порождение Океана, а Веста — огня знаменование. От сих произошел Купидон, или Любовь, яко брак и согласие между стихий содержащее свойство, или просто называемый воздух. Сопряжение или взаимное противуборных стихий совместие, могущее и доброе и злое производить в естестве действие, ознаменовали они прелюбодеянием Венеры с Марсом, то есть совокуплением воды с огнем молниеносным в атмосфере, при мрачных тучах соединяющихся пособием 1 Ноос — нус (νους), ум, древнегреческое представление о том, что начало сознания обладает некоей онтологической сущностью, является первым звеном системы каузальных связей и пребывает во главе иерархии универсума (Прим. — Т. А. ). 244 воздуха, или Любви, сына Венерина. Вулкана учинили они ковачем громовых Юпитеровых стрел в рассуждении естественной свирепости средоточного в недрах земли огня в лице его представляемого и Етну, огнедышащую кузницу, ему определили, чего ради многие впоследствии времен народы его и Плутоном, или богом подземных сокровищ хранителем, нарицали. Баснословие сие, среди кажущегося вздора, подает, однако, иносказательное любомудрия учение. Оно показует мыслящим, что хотя существо существ есть единственный источник и вина всяческого бытия и всех веществ жизни, но что, однако ж, дух его, оживотворяющий душу человека, не может инако [к] телу нашему прилепиться, как разве пособием стихий в тонкое телесное естество облеченный, как о том говорит Писание, «что дух, душа и тело составляют человека и что потому он есть образ и подобие Бога, творца его». Вышереченное ж баснословное учение в премудрости еллинской открыло Пифагору, Сократу и Платону тревещественного человека и показало, откуда происходят в нем мысли, понятия, рассуждение и самые божественные в душе его начертания. О изображении кумиров Древнее кумиров изображение Излишне уже дале распространяться в продолжении богов родословия, и много бы погубил я времени в тщетных баснословных предложениях и в сумнительных иносказания преданиях, коими древние писатели, касательно египетских и греческих богов, изобилуют. Нам довлеет показать теперь наружные кумиров изображения, да в отношении их откроется нам желанное сходство с принесенным в ветхость нашего отечества идолопочитанием. Описание сего начнем с употреблений египетских, сравнивая оные с греческими, римскими и повсеместными. Монфокон1, искусный древностей объяснитель, будет руководствовать и мыслями, и пером моим. Изида и Озирий суть два первенствующие божества, на которых, как выше объявлено, основывается все идолопоклонное египетское богословие, многими язычниками собранное. И понеже древо многобожия от них распространилось, то почитают все писатели, что Изида есть единая и та же бо1 Монфокон (Mountfaucon) Бернард (1655–1741) — ученый бенедиктинец. Главная работа «Analecta graeca sive varia opuscula graeca inedita» (1688), издания И. Златоуста, исследования рукописей и шрифтов, например знаменитая «Paleographia graeca» (1708) (Прим. — Т. А. ). 245 гиня, которая под разными именами и знаменованиями повсюду обожалась, что она есть Церера, Юнона, Луна, Земля, Вода, или естество телесное, она есть Минерва, Прозерпина, Фемида, Сивилла или матерь богов, Венера, дивная Беллона, Геката, Рамнусия, Астарта, Веста, словом, все богини есть едина она. В Египте представлялась она иногда стоящею, имея на главе листья от древа лотоса, с шаром земным и вместо одежды спелененого, подобно мумиям или умершим телам, и исписанного иероглифами, таинственный смысл божества ее изъясняющим, иногда сидящею в таковом же изображении и держащую посох или на конце висящий крест. Сии последние два ее признака почитались некоторыми толкователями весьма примечания достойными, ибо они и при многих египетских кумирах часто суть зримы. Византийский поздний уже повествователь Сократ1 объявляет якобы во время Феодосия императора при разорении славного Сераписова храма в подземных его сводах найдено начертание сих знаков на стене, между многими священными символами, с иероглифическою древнейшею надписью, по разборе которой открылось в них пророчество, обещающее знаком Креста победу над всею Вселенною, в круг ознаменованную. Из сего повествования почерпнув, христиане предали сие пророчеством пришествию в мир и распятию Христа-Спасителя. Но древние весьма иной смысл к признакам сим относили. В изображении круга, или кольца, разумели подлинно мудрецы египетские очертание телесного круга, но крест почитали сугубым диаметром, крестообразно в средоточии секущимся и разделяющим круг на четыре части ради указания четырех астрономических точек солнечного течения, яко то: востока, полдня, запада и полунощи. По мнению их, сие толкование было весьма Изиде приличное, ибо она как все целое естество телесное, так и особенно весь шар земной представляла. Посох же ея, сверху цветком лотосовым украшенный, ни что иное значил, как меру реки Нила, свойство воды в богине показующую. Инде представлялась Изида со главою Аписа, между рог которого зрился шар, лотосом венчанный. В сем изображении, держа на лоне своем Горуса, питает его сосца своего млеком, знаменуя тем, что она, яко Луна, вода и земля, с помощию Озирия, или Солнца, или Огня, Аписом изобразуемого, дает пищу воздуху, в Горусе представленному, и через него все творение питается. Оставя притом прочие ее изображения, единый и тот же смысл в подробностях содержащий, обратился к ее брату и супругу и представил Озириевы разные имена и изображения. 1 Сократ Схоластик — греческий церковный историк, живший в Константинополе в V в. Автор сочинения «Церковная история» (439–443 гг.) (Прим. — Т. А. ). 246 Озирий Изиде подобно, едва ли не всех греческих и римских богов в себе едином помещал Озирий. Одни писатели сказуют, что Озирий и Вакх или Бахус един есть, другие почитают его и Сатурном и Зевсом и Аммоном и Паном, а некоторые прибавляют, что он де и Апис или Адонис, в египетском Аписе представляемые. Находим еще и таких писателей, кои признают его Питоном, Аполлоном, Мифром, Океаном, Тифоном1. И потому изображения его во многобожии египетском, греческом и римском весьма суть разнообразны. Когда в Египте представлялся он стоящ в одежде египетской, держащ в деснице висящий на кольце крест и в шуйце длинный посох, увенчанный главою остроносой птицы, и на своей главе имеющ, между двух наподобие Луны возносящихся рог воловьих, шар листвием лотоса украшенный, с начертанными иероглифическими видами и с главою птицы или иногда Аписа, в Египте представлялся и сим дал подражательную грекам причину представлять Зевса или Юпитера, Аммона2 со главою Овна. Подобно и находящееся иногда у ног сего египетского божества козлище сотворило у греков и римлян похотливого Приапа, идола стад и сатиров или леших, как и Изида, имеющая в руках поливальницу признаком реки Нила, стала виной к производству нимф или вещества, в водах обитающих, или русалок, а сам Нил родом обожаемых источников, озер и кладезей. Отсюда произошли сугубо личные, тройственные и четверообразные кумиров представления. Янус, Озирия с Изидой, Солнце с Луною и иногда свирепого Озирия с миролюбивым Горусом в изображении своем являл: в тройственных лицах представлялись вдруг три главные стихии, огнь, вода и земля, неразлучно пребывающие, в четверообразные — все целое, в четырех стихиях естество и четыре годовые иногда времена, тако же и четыре точки света. Увидим мы сии представления [в]последствии повсюду и часто каждого истинный покажем смысл. При сем кажется, что довольно и изображений для сравнения с теми, кои славянорусами в наши полунощные страны были принесены, и сии уже избыточественно показать могут, что они одни и те же и одинакое физическое знаменование содержали. 1 Питон (Пифон) — в греческой мифологии чудовищный змей, сын Геи. Гера поручила ему воспитание Тифона. Аполлон убил Пифона, основал на этом месте храм и учредил Пифийские игры. Мифр, Мифра (Митра) — в древнеиранской мифологии солнечное божество. Тифон — в греческой мифологии стоголовый чудовищный сын Геи и Тартара. 2 Аммон — в египетской мифологии бог Солнца. (Прим. — Т. А. ). 247 Итак, приступим теперь к объяснению обрядов богослужения, одежд священнеческих и празднеств идоложертвенных, да в сношении увидим потом остатки оного в Отечестве нашем. О идоложертвии, праздниках и одежде священников Начало идоложертвенного служения в Египте Сколько таинственный смысл в рукотворных богов видах представляемый от познания народного сокрыт был хитрыми жрецами, столько удаление веков скрывает от нас установленного им богослужения начало. Ниоткуда почерпнуть мы древности сия не можем, разве из преданий божественного Моисея, но и он объявил нам единое токмо, истинному Богу — творцу неба и земли, праведным Ноем по исшествии из ковчега, принесенное благодарение. Потом повествование его об идолопоклонстве халдейском, сирском уже поздовременно. Многие, однако ж, из писателей по великом в исследовании сего труде, с вероятностью предполагают, что, где прежде открылись науки, тут необходимо долженствовало открыться и многобожие, и уставы богослужения, ибо представления иероглифические и истинное богомудрие и физическое действие естества в кумирах изображали, а как Египет преимущество изобретения наук и у самых халдеев, первых звездочетства учителей, отъял, то, следовательно, по их заключению, и колыбель ложного богослужения есть или Фивы, или Мемфис. Потребно был, однако ж, долгого времени к познанию естества и его деяний, а притом не меньше к примышлению приличных видов, по внесению и сокрытию таинственного смысла, науками изобретенного. Но когда духовенство, чрез неутомимые труды, предуспело омрачить народ, распростертою в кумирах таинств завесою, тогда неразумение показуемых в храмах од именем училищ созданных идолов возбудило к познанию народное любопытство, тем паче, что от почтенных старцев некое восхитительное уважение к сим представлениям прилично стало. Страх и надежда будущего священниками, притом твердимые, к зрению народ принуждали, а благоговение проповедников желание его к учению разжигало. Тогда политические сил законники и в любомудрии довольно уже преуспевшие мужи мало-помалу стекающемуся любопытству стали вперять, что в тех священных изображены бессмертные боги, от которых исполнение человеческих желаний и счастливая и несчастливая судьба каждого человека, как здесь, так и в будущем веке, зависит. Ласкать и устрашать будущим было нетрудно, ибо познание о бессмертии души, от сотво- 248 рения мира, во всех народах вяще, может быть, почитаемо было, нежели ныне в сердцах мнимоученых естественников находится. Хитрые священники, истинным познанием сим пользуясь, твердили, что разум мыслящего человека обязует почитать богов и молитвами своими преклонять их к милосердию и благодеяниям. Естественно человеку желать и естественнее еще искать своего благоденствия. Сие врожденное в него побуждение подвигло народ охотнее к божницам, а изученные в астрономии священники неукоснили уловлять его, предсказание погод и паче наводнения плодоносного Нила, сказуя внимающим, что Изида есть то благотворное божество, которое, владычествуя священным Нилом, подает им изобилие плодов земных молитвами, однако ж к тому приклоненная, она же, во гневе своем, может предать ярости всепожирающего Тифона неорошенную Нилом землю и произвесть глад и язву смертоносную. Так хитро представила нам политика два противные божества, злое в Тифоне и благое в Изиде, оба достойные вселять нравственные и физические страха и надежды чувствования. Потом, показуя, с каким благоговейным трепетом и сами они к образу Озирия приступают, дали о идоле сем высокое понятие; яко бы от него настоящая в мире сем и будущая в вечности зависит жизнь <…> Так, обольстив надеждою и поразив страхом жизни вечныя, советовали усердным молением приклонять их к милосердию и благоденства народного к постановлению. Между тем противное и воздержное самих священников поведение и самая одежда, чистоту и непорочность свидетельствующая, присоединили в сообщество их мужей знаменитых в гражданстве; из которых разумом, заслугами и добродетельми отличающих составили они наконец сбор, под названием в таинства премудрости посвященных, да ими наполняются места всего политического в Египте правления, и народ к повиновению уловится, и впоследствие времян все военачальники и градоначальники из сего священного собора исходили. Одежда священников Одежда священников состояла из белой льняной ткани, перевязкою голубого цвета препоясанная, не просто сие промышлено было, но во знамение непорочности и жизни вечной на небесах, ибо белизна естественную чистоту, а цветущий лен синеву небесную изображают. Главы свои брили, ибо сим хотели впечатлеть смирение, умиление, пост и во грехах раскаяние, последуя тому обычаю, который в крайней скорби и печали стрижением влас и пеплом посыпание знаменовал душевные сии чувствования, а в самом деле свидетельствовали тела необходи- 249 мую чистоту, с какою священный на жертвенницу Божества прикасаться должен. Платон, греческий любомудрец, в Египте учивший, говорил в подражание: «да не прикоснется рука скверных ниже вещей нечиста святыни Божества непорочного» <…> Тако мало-помалу собранием народа на молитву во храмы начались все огромные торжества, праздники, жертвоприношения, связанные по стогнам ходы, словом, всяческое богослужение; и оттого сего источника установленные потом обряды и чиноположения совокупно со многобожием разнеслись по пространству всей земли. Политика разнообразных владений по временам и климатам утверждала суеверие то дозволением новых, то исключением старых на заклание приносимых животных, приводя в употребление в пищу первых и объемля других, яко вредоносные, и, к тому приравниваясь, нравственные издавала законы. Законы и обряды в идолослужении Египетских священников, всегда в храмах обитающих, хитрая политика, усмотрев повседневное молебщиков приумножение, распределила прежде дни в молитвенные и учебные. Назначенные в последние часы провождаемы были, по краткой молитве в преподавании нужного народа из священных книг, нравоучения и о утверждении подобающего в законах страха. Закон, до веры касающийся, состоял в слепом почитании и повиновении воли богов предоставленных, не взыскуя милости оный, за сим строгое послушание предержащей власти последовало: государь по божестве был у них существо непосредственное. Любить богов, государя и отечество, — были три закона, казнию здешней и вечною угрожаемы. Нравственное их поучение, ради образования сердца человеческого, было то ж, что каковое преподавалось потом во всех греческих и римских училищах и какое еще и ныне преподается, продолжается и необходимым в проповеди духовной почитается. Они учили мирному житию в обществе и взаимному в гражданстве служению. Сказывали должности человека, да в обстоятельном житии, каждый по силе своей друг другу помогает. Представляли народу в заповедях Божества предписание добродетели, которым следовать, и грехи, коих, гнушаясь, убегать надлежит. Паче всех добродетелей возносили любовь к ближнему, раздробляя ее на многие нравственные степени. Запрещали, например, злопамятство и забвение обид, нанесенных от кого бы то ни было, советовали. Учили обуздывать гнев, в крутом чувствований раскалении, и страданию, зря в напастях себе подобною человека. Кроме сего, Иродот, Плутарх и Диодор 250 свидетельствуют нам, что учили они о милосердии, странноприимстве, благодеянии, вспоможении бедным, подаянии милостыни, словом, о человеколюбии вообще, яко все гражданские добродетели в себе заключающем. Не сие ли есть одно и то же Евангельское учение? Напротив того, у тех же божественных уставов почерпая, отвращали они от пороков, яко адских богов искушений, и гнусными изображали красками гордость, жестокость, зависть, ненасытство, сварливость и скупость, а непочтение к родителям — злейшим преступлением, и, чрезъестественною неблагодарностию описывая, представляли презирающего отца или матерь свою недостойным общества человеческого членом. В назначенные ж к торжественному молению дни приносили они кровавые, в заклании скотов, жертвы. Но чтоб чистота уважала притом благоговение и святость действия, то сего ради, как выше объявлено, и первосвященник, и жрецы носили одежду белую, обувь из листвия некоего растения, библусом зовомого, брили через каждые три дни все свое тело и двоекратно, яко то в день и в нощи, в хладной купаясь воде, очищались. Множество подобных обрядов и чиноположений они наблюдали, и многие затруды сии преимущества и воздаяния имели, кроме десятины от всего народного сбора, которая на храмы и святыню была определена, получали они в изобилии от народа все к трапезе их потребное. Мяса, в пищу им представляемые, были говяжие, и гуси, разнообразно уготовляемые, вина употребляли мало и то туне1 приносимо им было. Рыб не вкушали, и законом заповедано им было воззрение на них <…> так как в иероглифе рыб содержится и изображается любострастие <…> Божество каждое имело в Египте своих особенных священников и великого жреца, или первосвященника. Не все, однако ж, животные достойны были заклания жертвенного. Телец или бык черный нечистым почитался. Сего ради единый из жрецов имел долг избирать жертвы достойные и избирал вола и тельца рыжего, без примет ни черной, ни белой шерсти <…> Во время жертвоприношения действующие священники были наги и токмо по чреслам были белыми кожаными запонами препоясаны, иногда крайнего суеверия в восторге бичевали[сь]. Сие обыкновение, усугубляющее кровь, в жертву проливаемую, наследствовало от сих идолопоклонников едиными токмо папистами, которые и ныне в Риме на Страстной неделе еще бичуются. По такой пустосвятства свирепости, общую имели жрецы трапезу, из печеных идоложертвенных частей состоящую. 1 Туне — даром, бесплатно. (Прим. — Т. А. ). 251 Скоты, приносимые на жертву, были у них следующие: волы, тельцы, овны, козлищи, голуби и изредка свиньи, при жертвах клятву разрешающих во удовлетворений богов адских. Празднества Египетские Праздников имели египтяне великое в году число, и отправлялись они при торжествах великолепных. Количество приносимых на жертву скотов умножалось, притом до крайнего многочислия. В священных по стогнам, а иногда и в [нрзб.]грады ходам предшествовал великий жрец и за ним жрецы, увенчанные иногда миртами, иногда лаврами. Одни несли разных кумиров, другие — сосуды с благовониями и кадильницы курящиеся, а некоторые жертвенные орудия и снадобия, иные ж токмо зеленые пальмовые или акациевые ветви. Шествие, в благочинном устройстве, до назначенного места продолжалось, сам царь, иногда провождаемый всеми государственными чинами за предводимую жрецами и увенчанную пестротою цветов жертвой, непосредственно за первосвященником пеше шествовал. Бесчисленный и род с благоговением провождал в храме назначенный для празднества и тамо до конца жертвоприношений присутствовал. Таковые праздники были у египтян по течению Солнца, во все четыре годовые времена. В равноденствие весеннее праздновали они Озирию яко житворителю естества. Летом в домашний день Изиде плододательнице, а в некоторых градах тогда же реке Нилу или плотоядному крокодилу, ту ж самую реку знаменовавшему. В равноденствие осеннее Горусу, посреднику между стихий, произведшему в готовность к жатве и собрание все плоды земные, или Бакху, насадителю винограда, в Горусе изображаемому. При сем торжестве класы жит, и гроздие и вино между прочими жертвами на всесожжение приносились. Зимою в день кратчайший вообще праздновали Озирию, Изиде, Гору и особенно Тифону. Сим торжеством годично изображалась у них смерть Озирия, Тифоном убиенная, то есть удаление от земного полукружия к противному Солнца или поглощение землею теплоты огня небесного, сысканного паки Изидою, которая, Нил знаменуя, наводнением оного плодородие земли возвращала. Баснь, описуя сие действие естества, уверяла незнание народа, что Озирий явился и вознесся на небеса, то есть, когда лютостию мразов сжатая земля умертвит согревающую света теплоту солнечную, то потребно к растворению ее согрения в атмосфере воды. Изида, яко Луна и Нил, творит сие наводнением и пары земные препоручает воздуху, который противуборство сих стихий в соразмерное равновесие приводит. Горус, воздух и атмосферу знаменующий, 252 берет замерзлые частицы под стражу, содержит хлад до возвращения Солнца, а сие, явившись ему, паки возносится на небеса и живот умерщвленной стихии земной возвращает. Изида, между тем, яко Луна, владычествуя над поверхностью земли, оную освещает до обратного Солнца пришествия, которое сие действие, исканием умерщвленного Озириса тела, в баснословии толковалось. В сем великолепном празднестве, три дни продолжавшемся, участвовали особливо жены и девки египетские, и самые посвященные Изиде, супруги и дщери священника. Они, покровенные завесами богини, присутствовали в ходах и при жертвоприношениях. Три дни в посте, сетованиях и рыданиях весь находился Египет. Жрецы и все посвященные, пеплом главы усыпаны имели. Песни печальные повсюду среди вопля жен раздавались. В ночь на день четвертый следовала радость повсеместная. Дщери священников, лицем откровенным венцы из цветов на главах имея, песньми торжественными возвещают первые народу обретение Озирия и его, паки на небеси, царствование. Тогда во всем народа собрании пременяется вопль и рыдание в песни, радостию преисполненные, а говение и пост в пляску и пиршество. Так подобно при празднествах Венеры в Греции и Риме разделяли жены скорбь и печаль сея богини, оплакивая смерть любимца ее Адония и восстание его песнями и пляской. Сверх вышереченных праздников, были у египтян еще и годичные и чрез некоторые известные лета, подобно как в Греции Олимпиады Зевсу и в Риме сатурналии Сатурну; были у них и новолуния, яко у евреев, и, яко у эллин, Церере деяний, Сивилле, Весте, Прозерпине и всем богиням, Изиду представляемым, торжества у них были ж. Многобожие Скифами приносится с Севера Сии идоложертвенного богослужения обряды, рассеясь по Востоку, прешли через Грецию и на Запад в греческом еще баснословном повествовании видим, что Орфей, сопутный Язону в походе аргонавтов в Малую Азию и занесенный бурею в Самофракию, обрел там у живущего народа, кавиритами1 называемого капища, посвященные Аксиеросу и Аксио за небо и землю представляемым кумирам. Французская подписей академия толкует сии имена: первое — «достоин любви», а второй — «достойная супруга». Кому не приметны здесь Озирий и Изида. 1 Кавириты — кабиры, кавиры — в греческой мифологии демонические существа, дети Гефеста и нимфы Кабиро, дочери Протея. Культ, как их называли «великих богов», носил характер мистерий и сближался с орфическими таинствами (Прим. — Т. А. ). 253 Когда ж присовокупим еще и третье их божество, Аксиоиерз (?) именуемое, то увидим Горуса, и никакого сомнения не остается. Жертвоприношения их с малою в обрядах пременою были точно те же, какие и в Египте. Близ сея Кавиритския божницы находилась обитель иная, дактилическим капищем называемая. Собор священников ее почитая первых суеверами, боготворил в тайне, под названием Рею, матерь богов, которыя кумира со множеством представлял сосцов, а народ показывал двух идолов, называя их Дамнеминиус великий и Акмана могущая1. Речения сии по древнейшему греческому наречию прилагаемы были к Аммону или Небу к Прозерпине и Церере или Земле. В Крите Миносом введенное богослужение отправлялось в освященной кипарисной роще. Там виден был жертвенник четвероугольный, на котором приносилось закланных волов всесожжение, предпоставленными в трех кумирах изображением Урания, или Неба, яко отца или Реи, или Земли, яко матери богов и Зевса от них по времени, то есть через Сатурна произшедшего. Отсюда прешли все обряды и чиноположения во всю Грецию, подобно как из Франции во всю Италию, хотя во многом под разными изображениями, но под одними и теми же знаменованиями, даже и самые идоложертвенные орудия и сосуды, в Египте изобретенные и употребляющиеся, по свидетельству Монфакона, были везде единообразны. Приносители многобожия ни кто иные были, как вожди или князи народные, странствовавшие по земли, ища себе мест к поселению. Они препровождаемы были жрецами таинственного смысла, сокровенного в представлениях кумирных, и понятие о Боге вечном, творце Неба и Земли, равно как и о богах рукотворных телесное естество изобразующих, они совершенное имели и повсюду с собой приносили. Истинное богомудрие, по преданию египетских мудрецов, сохранили они в непроницаемом таинстве, а естественное учение омраченному народу, по политическим каждого видам и обстоятельствам, страха и обуздания ради, самопоизвольно толковали. Так достигло оно до скифов, и от них к сарматам и руссославянам <…> 1 Дамнеминиус (Дамнаменей) — от слова «укрощать», Акмана (Акмон) — от слова «наковальня», в греческой мифологии — демонические существа — дактили. Им приписывалось открытие обработки железа, учреждение Олимпийский игр. Часто отождествляли с другими существами — куретами, корибантами и тельхинами, а через них — с богиней Реей и Зевсом (Прим. — Т. А. ). 254 М. Н. Муравьев Муравьев Михаил Николаевич (1757–1807). Государственный деятель, поэт. Учился в Московском университете. С 1777 г. сотрудник «Вольного собрания любителей российского слова», где и печатались его первые опыты. В 1785 г. был приглашен Екатериной II преподавать русскую словесность, нравственную философию и российскую историю великим князьям Александру и Константину. С 1800 г. — сенатор. В 1801 г. Александр I делает его секретарем собственного кабинета. В 1802 был назначен товарищем министра народного просвещения, а в 1803 г. — еще и попечителем Московского университета, где впервые ввел «курсы для публики», предпринял издание журнала «Московские ученые ведомости». Принял активное участие в разработке Университетского устава 1804 г. Для Муравьева как литература, так и история служит прежде всего воспитанию добродетельного человека, живущего «по совести» и обладающего «чувствительным сердцем». УЧЕНИЕ ИСТОРИИ∗ История не есть бесполезное знание маловажных приключений, которые случились с каким-нибудь частным человеком или обществом и которых влияние не простиралось далее тесных пределов его деятельности. История, заслуживающая сие название, представляет народы, сии великия семейства человеческого рода, проходящие постепенно различные возрасты и состояния, которые находятся между грубости дикого, состоящего в ∗ Воспроизводится по изданию: О п ы т ы истории, словесности и нравоучения. Сочинения Михайла Никитича Муравьева, изданные по его кончине. Ч.1. М., 1810. 255 непосредственном покровительстве природы, и между просвещенного гражданина, который силен соединением своим с тысячами, наслаждается в спокойном обществе возвышеннейшим состоянием благополучия, какое только суждено человечеству. Отдаленная от предрассуждений, от ненависти, от ласкательства, ревностная для единой добродетели, страшная для порока, история обязана истиною человеческому роду. Она представляет будущим поколениям примеры прошедшего. Подобно как зажигают огни на островах и возвышениях посреди моря, усеянного каменьями, для избавления мореплавателя от неминуемого караблекрушения, так история возносит светильник свой над преткновениями, которые угрожают государствам бедствиями и разрушением. Она служит вместо опытности государственному человеку. Никакая опытность не может заменить помощи, доставляемой историей. Правители были бы сожаления достойны, если бы каждое новое поколение, лишенное сведения о предшествовавших делах, должно было запасать само для себя трудную и опасную опытность. История делает нас современниками отдаленнейшей древности. Можно сказать, что мы лучше знаем составление, пособия и несовершенства сих древних правлений, нежели те самые, которые были действователями: не для того, чтоб им недоставало проницания, но затем, что никакие предрассудки времени и народного пристрастия не изменяют в глазах наших настоящего свойства действий, и потому что мы имеем выгоду видеть все происшествия, приведенные к заключению их и составляющие одно целое. Все причины имели полное действие и ничего не оставлено дополнить догадкам. Таким образом можно судить справедливо о Риме и Карфагене; и хотя знаем происшествия сии по одним римским историкам, до нас дошедшим, мы умеем исправлять пристрастные повествования победоносного народа уважением множества побочных обстоятельств, памятью дел и предприятий сей враждебной республики, которой бытие и гибель имели столь великое влияние на безопасность и твердость Рима, и предположением сей общей слабости всем враждующим между собою народам, которою они побуждаются скрывать погрешности свои и увеличивать подвиги. Таким образом, мы чувствуем теперь, каким ударом поразили республику вельможи римские, когда, противясь всеми силами предприятиям Гракхов, они показали явственно народу, что они движимы страстию владычества и разделяют пользы свои с пользами народа. С тех пор чернь римская без пропитания, без пристанища и именем одним владычица Вселенной, видела себя рабствующею вельможам, которые были сильнее царей. Беспрестанные заговоры честолюбивых, уверенных, что дерзость их будет подкреплена скудною чернию; собрания народа, превращенные в явления между- 256 усобия и убийства; новые чиноначальства под предлогом восстановления республики, легионы в полном шествии против Рима, консулы против консулов и орлы, враждебные орлам: таковы были ужасные ступени, по коим республика Римская, потерявшая нравы свои, низвержена была сверху сияния и величия своего. Великие люди, участвовавшие в приготовлении или совершении сих действий, увлекаемые стремлением вещей и собственными страстями, не могли исчислить вреда, который наносили они отечеству. Полезные зрители сего великого и минувшего позорища, мы не имеем нужды в дарованиях Катона и Цицерона, чтоб определить настоящие причины несчастий, коих они не могли предупредить, и чтоб порицать с основанием упрямство одного и ослепление другого. Погрешности великих людей становятся разительным наставлением для нас. Их добродетели, бескорыстная преданность отечеству, отвержение частных выгод, строгая справедливость, возжигая в сердцах наших искру соревнования, возвышают нас к сообществу сих величественных образцов. Их чувствования становятся нашими посредством удивления, которое они внушают, и добродетель в действии принимает для нас живой образ и закомые черты. Благородно то сердце, которое удостаивает сладостными слезами несчастную добродетель и прах героев каждого века и каждой страны! Оно достойно само приобрести бессмертие делами великими и полезными и снискать в потомстве то же сострадание и почтение, которое оно воздавало предшественникам своим. Какие выгоды настоящей жизни могут войти в сравнение с бесподобной честью служить великим примером и жить в истории! Чины и внешние отличия могут быть снискиваемы происками и привлекают одно внимание современников. Слава, истинная слава вписывает имена любимцев своих в летописи Вселенной. Какой народ, какое столетие будут столь несчастливы, чтоб до них не дошли имена Аристида и Эпаминонда, Сципциона и Марка Аврелия, Генриха IV и Сюлли, Тюреня и Густавов, и того, которым Россия приняла новое бытие, ПЕТРА Великого? Неравные обыкновенным людям, они зачинают по смерти другое долгое существование в памяти людей, и смерть лишает их только слабостей человека. Все роды знаменитости исчезают пред славою; и мало быть владетелем Вселенной, ежели владычество сие не снискано достоинством и заслугами. Те, которые не были полезны на престоле, Сарданапалы, Калигулы, живут только для того в истории, чтоб устрашать примером своих последователей. Вот для чего учение истории принадлежит преимущественно к главнейшим учениям государственного человека. Он должен неотменно занять в ней место свое, и ежели не заслужит быть примером подражания, то осужден быть примером отвращения. Он может выбрать в ней 257 по изволению достойный образец, с которым душа его имеет более сродства и с которым более других желал бы он сходствовать. Так как обхождение людей, с коими каждый день обращаемся, неприметно сообщает нам нравы их и обыкновения; так равно и история, доставляя нам обхождения великих людей, которые делали честь векам своим, возвышает души наши к подражанию их делам. Таким образом, Александр Великий имел при себе неотлучно Иллиаду, которой чтение воспламеняло его новым мужеством. Просвещенные и знаменитые римляне делили время свое между службой республике и учением. Юлий Цесарь писал походы свои с неподражаемою красотою слога (великий Конде по них учился). Лукулл, современник Цесарев, победитель Митридата, одного из царей, страшных Риму, одолжен по большей части успехами своими великим сведениям своим и учению истории. Но, ежели великие люди всех народов служат нам примерами, коль несравненно более должны нас возбуждать к похвальным деяниям предки наши, которые имели одно с нами отечество? Какому герою древности уступает сей Пожарский, который, презрев раны свои и силу неприятелей, повинуется призванию отечества и восстановляет его из развалин, везде присутственен, все предвидя и все преодолевая своим благоразумием? Какой гражданин заметнее сего Косьмы Минина, который из неизвестного мещанина становится спасителем отечества? Какой государственный человек был великодушнее в общем несчастии, благоразумнее в правлении, как Филарет Никитич, которого добродетели заслужили роду его царство Российское? Государство, спасенное твердостию и мужеством, возникло и увеличилось при бодром правлении Алексея Михайловича. Но силе нашей недоставало сияния искусств и вежливости нравов, которые сделались отличием Европы. Можно ли одному человеку переродить целый бесчисленный народ? Вот что сделал ПЕТР Великий! Целыми столетиями подвинул он Россию вперед, и что стоило долговременных опытов другим народам, то даровал он, так сказать, в одно мгновение своему. Россиянам запрещало обыкновение преходить пределы своего отечества. Он был первый государь, который оставил престол, чтобы путешествовать и принести своею особою искусства и нравы. Россия не входила в равновесие Европы: царствование его заняло все ее деяния. Нелюбопытные предки наши полагали невежество в числе преимуществ знатности: ПЕТР Великий заседает в Париже между академиками и вводит науки в новую землю. Он сотворил у нас военное искусство, политику, купечество, рукоделия, мореходцев, предводителей, государственных людей. Изображение такого царства, противоположение древних нравов с новыми, исчисление того, что сделал 258 ПЕТР Великий и что после себя делать оставил, заслуживает ли внимание? Последовать стопам его по пространству России представляет ли разуму приятную и полезную пищу? Сии рассуждения подают нам повод заключить не без основания, что, ежели учение истории вообще посвящает нас в таинства сердца человеческого, представляя нам страсти, беспрестанно воюющие против строгих и постоянных истины и благоразумия; то особенная история отечества привязывает нас к нему неразрывными узами собственной нашей пользы, общественной славы, домашних примеров, которые толь часто превращаются в правила поведения и составляют дух народный. 259 Н. М. Карамзин Карамзин Николай Михайлович (1766–1826). Выдающийся русский писатель, историк. Получил образование в частном пансионе Симбирска, затем в московском пансионе И. М. Шадена. Посещал лекции в Московском университете. Литературное, публицистическое наследие Карамзина огромно и многообразно. Первая попытка осмысления недавнего прошлого была сделана Карамзиным в небольшом сочинении «Историческое похвальное слово императрице Екатерине II» (написано в 1801, опубликовано в 1802 г.), представляющее собой своеобразный «наказ» Александру I. В небольших исторических эссе и художественных произведениях, посвященных отечественной истории («О Московском мятеже в царствование Алексея Михайловича» (1803), «Марфа Посадница, или Покорение Новагорода» (1803) и др.) ,Карамзин высказывает историософские взгляды, которые в развитом виде сформулированы им в трактате «О древней и новой России» (написан в 1811, впервые опубликован в России в 1900 г.), фундаментальном сочинении «История государства Российского». В 1803 г. выходит указ о назначении Карамзина историографом. В 1805 г. был закончен первый том «Истории», работа над которой продолжалась до самой смерти писателя. 260 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО∗ Предисловие История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего. Правители, законодатели действуют по указаниям истории и смотрят на ее листы, как мореплаватели на чертежи морей. Мудрость человеческая имеет нужду в опытах, а жизнь кратковременна. Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить выгоды людей и даровать им возможное на земле счастие. Но и простой гражданин должен читать историю. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и государство не разрушалось; она питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие общества. Вот польза: сколько же удовольствий для сердца и разума! Любопытство сродно человеку, и просвещенному и дикому. На славных играх Олимпийских умолкал шум, и толпы безмолвствовали вокруг Геродота, читающего предания веков. Еще не зная употребления букв, народы уже любят историю: старец указывает юноше на высокую могилу и повествует о делах лежащего в ней героя. Первые опыты наших предков в искусстве грамоты были посвящены вере и дееписанию; омраченный густой сению невежества, народ с жадностию внимал сказаниям летописцев. И вымыслы нравятся; но для полного удовольствия должно обманывать себя и думать, что они истина. История, отверзая гробы, поднимая мертвых, влагая им жизнь в сердце и слово в уста, из тления вновь созидая царства и представляя воображению ряд веков с их отличными страстями, нравами, деяниями, расширяет пределы нашего собственного бытия; ее творческою си∗ Воспроизводится по изданию: К а р а м з и н Н. М. История государства Российского. М., 1993. 261 лою мы живем с людьми всех времен, видим и слышим их, любим и ненавидим; еще не думая о пользе, уже наслаждаемся созерцанием многообразных случаев и характеров, которые занимают ум или питают чувствительность. Если всякая история, даже и неискусно писанная, бывает приятна, как говорит Плиний: тем более отечественная. Истинный космополит есть существо метафизическое или столь необыкновенное явление, что нет нужды говорить об нем, ни хвалить, ни осуждать его. Мы все граждане, в Европе и в Индии, в Мексике и в Абиссинии; личность каждого тесно связана с отечеством, любим его, ибо любим себя. Пусть греки, римляне пленяют воображение: они принадлежат к семейству рода человеческого и нам не чужие по своим добродетелям и слабостям, славе и бедствиям; но имя русское имеет для нас особенную прелесть: сердце мое еще сильнее бьется за Пожарского, нежели за Фемистокла или Сципциона. Всемирная история великими воспоминаниями украшает мир для ума, а российская украшает отечество, где живем и чувствуем. Сколь привлекательны берега Волхова, Днепра, Дона, когда знаем, что в глубокой древности на них происходило! Не только Новгород, Киев, Владимир, но и хижины Ельца, Козельска, Галича делаются любопытными памятниками и немые предметы — красноречивыми. Тени минувших столетий везде рисуют картины перед нами. Кроме особенного достоинства для нас, сынов России, ее летописи имеют общее. Взглянем на пространство сей единственной державы: мысль цепенеет; никогда Рим в своем величии не мог равняться с нею, господствуя от Тибра до Кавказа, Эльбы и песков африканских. Не удивительно ли, как земли, разделенные вечными преградами естества, неизмеримыми пустынями и лесами непроходимыми, хладными и жаркими климатами, как Астрахань и Лапландия, Сибирь и Бессарабия, могли составить одну державу с Москвою? Менее ли чудесна и смесь ее жителей, разноплеменных, разновидных и столь удаленных друг от друга в степенях образования? Подобно Америке, Россия имеет своих диких; подобно другим странам Европы, являет плоды долговременной гражданской жизни. Не надобно быть русским, надобно только мыслить, чтобы с любопытством читать предания народа, который смелостию и мужеством снискал господство над девятою частию мира, открыл страны, никому дотоле неизвестные, внес их в общую систему географии, истории и просветил божественною верою, без насилия, без злодейств, употребленных другими ревнителями христианства в Европе и в Америке, но единственно примером лучшего. 262 Согласимся, что деяния, описанные Геродотом, Фукидидом, Ливием, для всякого не русского вообще занимательнее, представляя более душевной силы и живейшую игру страстей: ибо Греция и Рим были народными державами и просвещеннее России; однако ж смело можем сказать, что некоторые случаи, картины нашей истории любопытны не менее древних. Таковы суть подвиги Святослава, гроза Батыева, восстание россиян при Донском, падение Новагорода, взятие Казани, торжество народных добродетелей во время междуцарствия. Великаны сумрака, Олег и сын Игорев; простосердечный витязь, слепец Василько; друг отечества, благолюбивый Мономах; Мстиславы Храбрые, ужасные в битвах и пример незлобия в мире; Михаил Тверской, столь знаменитый великодушною смертию юноша; злополучный, истинно мужественный Александр Невский; герой юноша, победитель Мамаев, в самом легком начертании сильно действуют на воображение и сердце. Одно государствование Иоанна III есть редкое богатство для истории: по крайней мере не знаю монарха достойнейшего жить и сиять в его святилище. Лучи его славы падают на колыбель Петра — и меду сими двумя самодержцами удивительный Иоанн IV, Годунов, достойный своего счастия и несчастия, странный Лжедимитрий, и за сонмом доблестных патриотов, бояр и граждан, наставник трона, первосвятитель Филарет с державным сыном, светоносцем во тьме наших государственных бедствий, и царь Алексий, мудрый отец императора, коего назвала Великим Европа. Или вся новая история должна безмолвствовать, или российская иметь право на внимание. Знаю, что битвы нашего удельного междуусобия, гремящие без умолку в пространстве пяти веков, маловажны для разума; что сей предмет не богат ни мыслями для прагматика, ни красотами для живописца; но история не роман, и мир не сад, где все должно быть приятно: она изображает действительный мир. Видим на земле величественные горы и водопады, цветущие луга и долины; но сколько песков бесплодных и степей унылых! Однако ж путешествие вообще любезно человеку с живым чувством и воображением; в самых пустынях встречаются виды прелестные. Не будем суеверны в нашем высоком понятии о дееписаниях древности. Если исключить из бессмертного творения Фукидидова вымышленные речи, что останется? Голый рассказ о междуусобии греческих городов: толпы злодействуют, режутся за честь Афин или Спарты, как у нас за честь Мономахова или Олегова дома. Не много разности, если забудем, что сии полутигры изъяснялись языком Гомера, имели Софокловы трагедии и статуи Фидиасовы. Глубокомысленный живописец Тацит всегда ли представляет нам великое, разительное? С умилением смотрим на Агриппину, не- 263 сущую пепел Германика; с жалостию на рассеянные в лесу кости и доспехи легиона Варова; с ужасом на кровавый пир неистовых римлян, освещаемых пламенем Капитолия; с омерзением на чудовище тиранства, пожирающее остатки республиканских добродетелей в столице мира: но скучные тяжбы городов о праве иметь жреца в том или другом храме и сухой некролог римских чиновников занимают много листов в Таците. Он завидовал Титу Ливию в богатстве предмета; а Ливий, плавный, красноречивый, иногда целые книги наполняет известиями о сшибках и разбоях, которые едва ли важнее половецких набегов. — Одним словом, чтение всех историй требует некоторого терпения, более или менее награждаемого удовольствием. Историк России мог бы, конечно, сказав несколько слов о происхождении ее главного народа, о составе государства, представить важные, достопамятнейшие черты древности в искусной картине и начать обстоятельное повествование с Иоаннова времени или с XV века, когда совершилось одно из величайших государственных творений в мире: он написал бы легко 200 или 300 красноречивых, приятных страниц, вместо многих книг, трудных для автора, утомительных для читателя. Но сии обозрения, сии картины не заменяют летописей, и кто читал единственно Робертсоново введение в историю Карла V, тот еще не имеет основательного, истинного понятия о Европе средних времен. Мало, что умный человек, окинув глазами памятники веков, скажет нам свои примечания: мы должны сами видеть действия и действующих — тогда знаем историю. Хвастливость авторского красноречия и нега читателей осудят ли на вечное забвение дела и судьбу наших предков? Они страдали и своими бедствиями изготовили наше величие, а мы не захотим и слушать о том, ни знать, кого они любили, кого обвиняли в своих несчастиях? Иноземцы могут пропустить скучное для них в нашей древней истории; но добрые россияне не обязаны ли иметь более терпения, следуя правилу государственной нравственности, которая ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному?.. Так я мыслил и писал об Игорях, о Всеволодах как современник, смотря на них в тусклое зеркало древней летописи с неутомимым вниманием, с искренним почтением; и если, вместо живых, целых образов представлял единственно тени, в отрывках, то не моя вина: я не мог дополнить летописи! Есть три рода истории: первая — современная, например Фукидидова, где очевидный свидетель говорит о происшествиях; вторая, как Тацитова, основывается на свежих словесных преданиях в близкое к описываемым действиям время; третья извлекается только из памятников, как наша до 264 самого XVIII века1. В первой и второй блистает ум, воображение дееписателя, который избирает любопытнейшее, цветит, украшает, иногда творит, не боясь обличения; скажет: я так видел, так слышал — и безмолвная критика не мешает читателю наслаждаться прекрасными описаниями. Третий род есть самый ограниченный для таланта: нельзя прибавить ни одной черты к известному; нельзя вопрошать мертвых; говорим, что предали нам современники; молчим, если они умолчали, — или справедливая критика заградит уста легкомысленному историку, обязанному представить единственно то, что сохранилось от веков в летописях, в архивах. Древние имели право вымышлять речи, согласно с характером людей, с обстоятельствами: право неоцененное для истинных дарований, и Ливий, пользуясь им, обогатил свои книги силою ума, красноречия, мудрых наставлений. Но мы, вопреки мнению аббата Мабли, не можем ныне витийствовать в истории. Новые успехи разума дали нам яснейшее понятие о свойстве и цели ее; здравый вкус уставил неизменные правила и навсегда отлучил дееписание от поэмы, от цветников красноречия, оставив в удел первому быть верным зерцалом минувшего, верным отзывом слов, действительно сказанных героями веков. Самая прекрасная выдуманная речь безобразит историю, посвященную не славе писателя, не удовольствию читателей и даже не мудрости нравоучительной, но только истине, которая уже сама собою делается источником удовольствия и пользы. Как естественная, так и гражданская история не терпит вымыслов, изображая, что есть или было, а не что быть могло. Но история, говорят, наполнена ложью; скажем лучше, что в ней, как в деле человеческом, бывает примесь лжи, однако ж характер истины всегда более или менее сохраняется; и сего довольно для нас, чтобы составить общее понятие о людях и деяниях, тем взыскательнее и строже критика; тем непозволительнее историку, для выгод его дарования, обманывать добросовестных читателей, мыслить и говорить за героев, которые уже давно безмолвствуют в могилах. Что ж остается ему прикованному, так сказать, к сухим хартиям древности? Порядок, ясность, сила, живопись. Он творит из данного вещества: не произведет золота из меди, но должен очистить и медь; должен знать всего цену и свойство; открывать великое, где оно таится, и малому не давать прав великого. Нет предмета столь бедного, чтобы искусство уже не могло в нем ознаменовать себя приятным для ума образом. Доселе древние служат нам образцами. Никто не превзошел Ливия в красоте повествования, Тацита в силе — вот главное! Знание всех прав на 1 Только с Петра Великого начинаются для нас словесные предания: мы слыхали от своих отцов и дедов об нем, о Екатерине I, Петре II, Анне, Елисавете многое, чего нет в книгах. 265 свете, ученость немецкая, остроумие Вольтерово, ни самое глубокомыслие Макиавелево в историке не заменяют таланта изображать действия. Англичане славятся Юмом, немцы Иоанном Мюллером, и справедливо1: оба суть достойные совместники древних, — не подражатели: ибо каждый век, каждый народ дает особенные краски искусному бытописателю. «Не подражай Тациту, но пиши, как писал бы он на твоем месте!» — есть правило гения. Хотел ли Мюллер, часто вставляя в рассказ нравственные апоффегмы, уподобиться Тациту? Не знаю; но сие желание блистать умом, или казаться глубокомысленным, едва ли не противно истинному вкусу. Историк рассуждает только в объяснении дел, там, где мысли его как бы дополняют описание. Заметим, что сии апоффегмы бывают для основательных умов или полуистинами, или весьма обыкновенными истинами, которые не имеют большой цены в истории, где ищем действий и характеров. Искусное повествование есть долг бытописателя, а хорошая отдельная мысль — дар: читатель требует первого и благодарит за второе, когда уже требование его исполнено. Не так ли думал и благоразумный Юм, иногда весьма плодовитый в изъяснении причин, но до скупости умеренный в размышлениях? Историк, коего мы назвали бы совершеннейшим из новых, если бы он не излишно чуждался Англии, не излишно хвалился беспристрастием и тем не охладил своего изящного творения! В Фукидиде видим всегда афинского грека, в Ливии всегда римлянина, и пленяемся ими, и верим им. Чувство: мы, наше оживляет повествование — и как грубое пристрастие, следствие ума слабого или души слабой, несносно в историке, так любовь к отечеству дает его кисти жар, силу, прелесть. Где нет любви, нет и души. Обращаюсь к труду моему. Не дозволяя себе никакого изобретения, я искал выражений в уме своем, а мыслей единственно в памятниках; я искал духа и жизни в тлеющих хартиях; желал преданное нам веками соединить в систему, ясную стройным сближением частей; изображал не только бедствия и славу войны, но все, что входит в состав гражданского бытия людей: успехи разума, искусства, обычаи, законы, промышленность; не боялся с важностию говорить о том, что уважалось предками; хотел, не изменяя своему веку, без гордости и насмешек описывать веки душевного младенчества, легковерия, баснословия; хотел представить и характер времени, и характер летописцев: ибо одно казалось мне нужным для другого. Чем менее находил я известий, тем более дорожил и пользовался на1 Говорю единственно о тех, которые писали целую историю народов. Феррас, Даниель, Масков, Далин, Маллет не равняются с сими двумя историками; но усердно хваля Мюллера (историка Швейцарии), знатоки не хвалят его Вступления, которое можно назвать Геологическою поэмою. 266 ходимыми; тем менее выбирал: ибо не бедные, а богатые избирают. Надлежало или не сказать ничего, или сказать все о таком-то князе, дабы он жил в нашей памяти не одним сухим именем, но с некоторою нравственною физиономиею. Прилежно истощая материалы древнейшей российской истории, я ободрял себя мыслию, что в повествовании о временах отдаленных есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображения: там источники поэзии! Взор наш, в созерцании великого пространства, не стремится ли обыкновенно — мимо всего близкого, ясного к концу горизонта, где густеют, меркнут тени и начинается непроницаемость?.. Муж ученый и славный, Шлецер, сказал, что наша история имеет пять главных периодов; что Россия от 862 года до Святополка должна быть названа рождающеюся (Nascenc), от Ярослава до Моголов разделенною (Divisa), от Батыя до Иоанна III угнетенною (Oppressa), от Иоанна до Петра Великого победоносною (Victrix), от Петра до Екатерины II процветающею. Сия мысль кажется мне более остроумною, нежели основательною. 1. Век св. Владимира был уже веком могущества и славы, а не рождения. 2. Государство делилось и прежде 1015 года. 3. Если по внутреннему состоянию и внешним действиям России надобно означать периоды, то можно ли смешать в один время великого князя Димитрия Александровича и Донского, безмолвное рабство с победою и славою? 4. Век самозванцев ознаменован более злосчастием, нежели победою. Гораздо лучше, истиннее, скромнее история наша делится на древнейшую от Рюрика до Иоанна III, на среднюю от Иоанна до Петра и новую от Петра до Александра. Система уделов была характером первой эпохи, единовластие — второй, изменение гражданских обычаев — третьей. Впрочем, нет нужды ставить грани там, где места служат живым урочищем. С охотою и ревностию посвятив двенадцать лет, и лучшее время моей жизни, на сочинение сих осьми или девяти томов, могу по слабости желать хвалы и бояться осуждения; но смею сказать, что это для меня не главное. Одно славолюбие не могло бы дать мне твердости постоянной, долговременной, необходимой в таком деле, если бы не находил я истинного удовольствия в самом труде и не имел надежды быть полезным, то есть сделать российскую историю известнее для многих, даже и для строгих моих судей. Благодаря всех, и живых и мертвых, коих ум, знания, таланты, искусство служили мне руководством, поручаю себя снисходительности добрых сограждан. Мы одно любим, одного желаем: любим отечество; желаем ему благоденствия еще более, нежели славы; желаем, да не изменится никогда твердое основание нашего величия; да правила мудрого самодержавия и 267 святой веры, более и более укрепляют союз частей; да цветет Россия <…> по крайней мере долго, долго, если на земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой! Декабря 7, 1815.